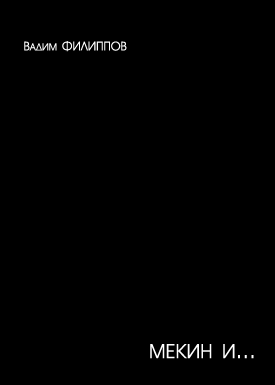 ---------------------------------------------------------------
© Copyright Вадим Филиппов
Email: phil@sandy.ru
Date: 23 Feb 1998
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
© Copyright Вадим Филиппов
Email: phil@sandy.ru
Date: 23 Feb 1998
---------------------------------------------------------------
Часть I. МЕКИН
Снится мне, что я оказался в Севастополе.
В Севастополь я ездил несколько раз, когда был мал (прискорбно мал, как любит
говорить один из моих друзей), и потом еще раз, так сказать, по необходимости,
после тяжелой болезни. Мне повезло с Севастополем в том смысле, что там жил мой
двоюродный дед. Степени родства всегда были не особенно ясны мне, поэтому скажем
проще - там жил родной брат моей бабушки. Когда я был, как уже сказано,
прискорбно мал, он казался мне стариком - высоким осанистым стариком с
артистической гривой седых волос (так мне казалось, и так я запомнил, хотя,
возможно, на самом деле он был маленьким и лысым. Да нет, точно, волосы у него
были по тем временам и для его возраста длиннее положенного). В прошлом военный
строитель, тогда он уже жил один, оставив за плечами как минимум две жены,
насколько я знал, и детей - сколько точно, не знаю. Моя бабушка, его родная
сестра, почему-то не очень охотно рассказывала о нем. Впрочем, она вообще не
очень охотно рассказывала, пока ее не спрашивали. Я и не спрашивал, о чем сейчас
частенько жалею. Как мне иногда кажется, к дяде Мите (мы с моей двоюродной
сестрой - кузиной, как это называлось раньше, но не прижилось это слово у нас, и
правильно - называли его дядей) она относилась со смешанным чувством
неудовольствия и опаски. Не любила она его, по-моему - в смысле, не любила как
уже взрослого человека, а не как брата. Может, она считала его алкоголиком? Он и
правда любил выпить, и привычной дозой, по моим воспоминаниям, было для него не
менее полубутылки в день - но пилось это понемножку, и сильно пьяным не видел я
его никогда. Он жил один, в двухкомнатной квартире на втором этаже двухэтажного
дома - дома такой постройки я видел только в Севастополе, и меня всегда поражало
то, что вход на первый этаж и на второй сделаны с двух разных сторон. Так вот,
несмотря на свое, как, видимо, казалось бабушке, повседневное пьянство, жил он в
полном порядке и даже имел крошечный садик прямо под окном, из которого до его
окон поднималась виноградная лоза, правда, окончательно одичавшая и
производившая только мелкие и абсолютно скуловоротные ягоды. Зато там же росли
какие-то сливы, по-моему, даже персик, а с другой стороны дома, куда выходили
окна кухни, опять-таки прямо под окном, у соседки рос абрикос. С земли созревшие
абрикосы достать было невозможно, и тогда соседка снизу приходила к дяде Мите, и
просила его снять их палкой, что он и делал не без пользы для себя и для нас. Мы
- это я с Ольгой, двоюродной сестрой, пару раз мы были у него вместе, но,
конечно, не сами по себе, тут даже вопроса не было, а только вместе с бабушкой.
Детей (и нас, разумеется) дядя Митя не любил, и терпел нас только по-
родственному.
Как я во сне попал в Севастополь, мне абсолютно не ясно.
Туда и в далекие светлые дни предзастоя-то попасть было достаточно трудно - то
есть, не то чтобы трудно, взял билет и поезжай, но сделано это было, как то у
нас ведется, "через Альпы". В последние годы, когда Севастополь закрыли для
туристов, вообще нужен был специальный вызов. А тогда можно было ехать поездом,
и даже двумя поездами - через Москву с пересадкой до Севастополя прямо, или
прямым поездом. но до Симферополя. Что касается первого способа, то бабушке с
двумя детьми - мне было лет тринадцать, значит, Ольге четыре - он был, мягко
говоря, неудобен. Одной такой поездки хватило, чтобы больше этого не
повторилось. Тогда мы более или менее спокойно доехали до Москвы, у нас
оставалось часов пять (пять!) до симферопольского поезда, и мне взбрело в голову
потащить всю нашу компанию на ВДНХ. Бабушке (мы с сестрой звали ее "бабуля", но
слово это почему-то всегда казалось мне, и сейчас кажется, каким-то
неестественным; очень трудно описать мое отношение к этому слову; я бы скорее
обратился так к незнакомой пожилой женщине; помню, на одном из подарков от нее
мне на день рождения было написано "Димуле от бабули" - вот это вот "-ули",
повторенное два раза, корябнуло ухо; в общем, не люблю я этот суффикс), так вот,
бабушке очень хотелось съездить к родственникам, или знакомым, кто-то был у нее
в Москве, но детям хотелось на ВДНХ. Ничего особенного и не было на этой ВДНХ,
но я в Москве был первый раз в жизни, и, то ли под влиянием абсолютного в
идиотизме своем фильма "Свинарка и пастух", то ли по каким-то другим причинам, я
считал своим долгом там побывать. Бабушка же считала своим долгом откликнуться.
Она мне вообще казалась очень правильной женщиной. Она тоже, как и ее брат, была
строителем; до войны, как отложилось у меня в голове, возможно, что и абсолютно
неправильно, строила знаменитый винсовхоз в Массандре, строила вместе с мужем, и
в оккупацию попала с детьми - с моей матушкой и ее сестрой. Как они тогда жили,
она тоже почти никогда не рассказывала, помню только, что однажды, когда ей
захотелось испечь курник, а я просто не знал, что это такое, она вспомнила, как
во время войны им выпало счастье испечь курник из козлятины, так что судите
сами. А уже после войны, и после смерти ее мужа, моего деда, которого я,
конечно, видел только на фотографиях, она еще работала прорабом. Женщина-прораб
- это я только сейчас понимаю, что это такое. Впрочем, жесткость, не жесткость
даже, а целенаправленность в ней была всегда - даже, и особенно, тогда, когда
она убедила себя и всех окружающих, что мне надо учиться в музыкальной школе, и,
чтобы разбираться в моих занятиях, сама выучила ноты и довольно успешно меня
контролировала. Сама, впрочем, не играла, и при мне ни разу даже не пыталась.
Я стою почти на развилке дороги, которая ведет, если прямо, то на Солдатский
пляж, а если налево - то на "дикий", в Херсонес.
Ходу от дома дяди Мити до трех рядом лежащих пляжей было минут десять, не
больше. Жил он, можно сказать, почти в пригороде. То есть, большие дома уже
строились, и даже еще ближе к морю, чем стоял его дом, но они не запоминались.
Запоминались двух-трехэтажные строения типичного южного вида, кое-где даже с
внешними галереями. Там было три пляжа: Детский, официально именовавшийся
"Песчаным", зажатый между то ли военной базой, то ли военным училищем, и
санаторием; Солдатский, впоследствии благоустроенный, что выражалось в том, что
огромные глыбы на берегу засыпали острым щебнем в надежде на то, что море
превратит его в круглую скользкую гальку - Солдатский, который после
благоустройства переименовали в "Солнечный"; и вот этот самый "дикий", который и
пляжем-то не был - так, узкая полоска под высоким обрывом, на котором и
располагался этот сказочный древнегреческий Херсонес. Сказочным он был, кстати
сказать, не больше, а даже меньше, чем многие другие места. То ли потому, что
большая часть развалин продолжала медленно разваливаться прямо под открытым
небом, то ли просто оттого, что не было в нем никакой музейности, по крайней
мере, в той части, которая не была свезена в какое-то старое здание,
переоборудованное под собственно музей, Древняя Греция представлялась в этом
месте гораздо легче, чем в книжках с учеными и малоучеными названиями. Итак,
наверху был древний Херсонес, вернее, то, что от него осталось, и знаменитый
колокол меж двух колонн, известный почти всем, примерно как памятник погибшим
кораблям; а внизу сидела у воды те, кому не хотелось, по разным причинам, идти
на пляж официальный - то ли тянуло на романтику, то ли на свежий воздух. А пляж
официальный, Солнечный, был уж официальным до ужаса - ровненько сделанный
бетонный полукруг, охватывающий залив, со всеми непременными атрибутами почти
городского пляжа, к примеру, продажей мороженого и пирожков (мороженое было
фруктовое, по семь копеек, а пирожки, горячие и с ливером, по пять). Кроме того,
там были расставлены плохо оструганые топчаны, а если топчана не доставалось -
пожилыми людьми особенно ценились места под навесом - можно было взять напрокат
"лежак" или шезлонг. Еще напрокат можно было взять ракетки для бадминтона, ну и
всякую прочую ерунду. А Песчаный пляж был просто квадратом сравнительно чистого
песка между двумя высоченными заборам. Сначала его просто весь густо и тесно
уставили топчанами. Потом слева, вдоль забора училища, или базы, построили
двухэтажный пирс, наверх которого тоже наставили топчанов, и громко назвали все
это сооружение "солярием".
Я стою на самом краю холма, за которым дорога начинает спускаться к морю. Моря
еще не видно, еще нужно сделать два или три шага, но я почему-то стою и просто
слушаю. Внизу, за негромким шумом толпы и частыми взвизгами детей, слышен
прибой.
Конечно, не обязательно было ходить именно на эти пляжи - был еще пляж "Омега",
названный так за сходство по форме с заглавной греческой буквой - узкая
горловина залива и за ней ленивая широкая лужа, до безобразия мелкая (и потому
безопасная для детей), и естественно, донельзя взбаламученная. На Омегу нужно
было ехать троллейбусом, вечно переполненным курортниками с пляжными сумками,
наполненными всевозможным припасом, в первую очередь съестным, и детьми с
заблаговременно надутыми резиновыми кругами. Можно было дойти и пешком, но
бабушке это было уже тяжело, а нам уже хватало разумения, когда она отставала,
соизмерять шаг, если она не посылала нас вперед, скажем, занять место, а, заняв
этот самый "топчан", сесть на него чинно и ждать, но не размахивать руками, и не
вопить, как дочерна загорелый пацан рядом: "Мамань, газу, газу!", с характерным
хохляцким "гхе". Из-за неглубины я не любил этот пляж, но зато на нем, в отличие
от всех остальных, можно было взять напрокат почти настоящую весельную лодку, и
заплыть на ней далеко-далеко, где вода становилась, наконец, чистой, и если
подождать, мимо проплывала настоящая медуза - не та желейная плошка, которых
было полно на берегу после шторма, а настоящая медуза - сантиметров тридцати,
голубовато-розовая, с тяжелым стволом толщиной в руку, со всякими выростами и
присосками. Таких медуз я в руки брать боялся - еще "стрекнут", как это с
чувством превосходства говорили местные, стрекнутые неоднократно. А еще была
Учкуевка, на которую нужно было плыть на небольшом катере почти полчаса. Она
хороша как раз своей полной противоположностью Омеге - это был широкий залив,
полностью открытый в море, и галечным берегом круто уходивший вглубь, так что в
двух шагах уже было по шейку, и нырять можно было прямо от прибоя. Это, впрочем,
тоже был цивильный пляж, с топчанами, шашлыками - на тех трех пляжах, около нас,
шашлыки появились много позже - с многими загадочными киосками, вроде тех
комков, что стоят повсюду, и так же торговали в них всякой всячиной.
И вот я стою здесь, за холмом, а где-то там внизу, совсем рядом, шумит себе
море.
За сказки далеких пустынных морей
Что читаны в детстве ночами взахлеб
Мы платим галерами сросшихся дней
И каменоломнями утренних троп
Мы платим натянутой туго струной
Готовой взорваться взмыленным узлом
Мы платим забытой зеленой страной
Над нашей могилой торчащей колом
(Условия человеческого существования)
Главным героем нашего рассказа будет некто Мекин. Впрочем, героем его назвать
можно с большой натяжкой, и только отдавая дань литературной традиции; так,
скорее, персонаж. Главным героем - тем более. Главный он только в том смысле,
что наш рассказ будет вертеться вокруг него, и называться все остальные будут,
как то полагалось в древних пиесах - по крайней мере, насколько мне известно -
лишь по степени отношения к нашему герою: жена Мекина, тесть Мекина, сослуживец
Мекина. Их имена, впрочем, и неважны. Да и имя Мекина тоже не имеет никакого
значения. Иероглиф. Знак.
Итак, Мекин работал конструктором. Не Главным конструктором, и не главным
конструктором, а обычным, средним конструктором. Помните навязшую в зубах притчу
про двух строителей: один возит камни, другой строит храм? Так вот, Мекин именно
возил камни. Зачастую в буквальном смысле, о чем несколько ниже, а в переносном
смысле - сидел себе и конструировал один рабочий день за другим. Что это за
глупость такая - рабочий день? Если человеку нравится то, что он делает, у него
все дни рабочие, даже те выходные, которые тоже называются странным словом -
"выходной". Куда люди выходят в выходной? Если они выходят "в свет", так его
давно упразднили. Если "в люди", так это значит, что все пять предыдущих,
рабочих, дней они были не в людях? А где? Итак, у Мекина пять дней были
рабочими, после чего он вставал как можно раньше, влезал в набитую электричку и
ехал на дачу. Зачем? - спросите вы. Работать. Очень удобная фраза: лучший отдых
- перемена деятельности. Посидел за столом, повертел карандашик - поезжай на
природу, помаши лопатой. Или помахай. Суть, как и лопата, не изменится. Но мы о
Мекине.
Мекин был человек тихий. Сослуживцы его любили, считали хорошим парнем,
способным поддержать компанию, разговор, шкаф, если нужно было подложить что-
нибудь под вечно отвалившуюся ножку. Сам же Мекин был о себе другого мнения.
Зная себя лучше, чем кто-либо другой, он прекрасно понимал, что все его умение
легко сходиться с людьми было результатом его крайней застенчивости, даже -
извините за неловкий термин - людобоязни. От водобоязни есть прививки? А от
людобоязни нет. С детства много читая, Мекин неосознанно - вначале - а потом
вполне понимая, что он делает, впитал в себя принцип "лучший способ обороны -
нападение", но, к счастью, развязен не стал, будучи по природе крайне осторожен,
а избрал несколько другой метод поведения: научился играть на гитаре и стал вхож
в любую компанию. Тут, впрочем, его метод дал осечку. Выяснилось, что в компании
одного умения играть на гитаре недостаточно - нужно еще и петь что-то. В
общество людей, способных ехать за много-много километров за туманом, и при этом
еще волочить на себе гитару, Мекин не попал. Не привелось. Да и потом, он был
страшным домоседом, любил мелкие современные удобства вроде горячей воды и
газовой плиты (и, главное, теплого сидячего туалета), и не любил комаров,
муравьев, и мух. Поэтому удовольствия посидеть у костра вдали от городского шума
под тучей кровососущих насекомых, потягивая, обжигаясь, чай, пахнущий дымком, из
алюминиевой кружки, и мелко взвизгивая от укусов муравьев, заползших под
штанину, он не испытал; следовательно, из жизни его выпала и та картинка,
которую частенько рисовали нам любители бардовской песни - когда один поет, а
другие его задумчиво слушают, потом другой молча берет гитару, и тоже поет, а
остальные опять внимают, и так далее. Выяснилось, что в подпитии люди больше
предпочитают песни хорошо знакомые, а чтобы слушали тебя одного, это надо петь
или что-то уж совсем забористое - не в смысле слов, а в смысле смысла, или
рассказывать анекдоты. Причем рассказывать хорошо. Мекин анекдотов знал массу,
но все каких-то таких, над которыми приходилось долго думать. Правда, мне лично
они очень нравились, и когда мы с Мекиным садились выпивать на пару, я всегда
просил его рассказать анекдотик. Со мной он не так сильно смущался, и
рассказывал охотно, сохраняя, впрочем, на лице абсолютно трагическое выражение.
А к песням общепринятым, как выяснилось, Мекин питал жуткое отвращение. Проще
скажем - тошнило его от них. Только уж напившись совсем до бесчувствия, мог он
вдруг загорланить что-нибудь вроде "Поедем, красотка, кататься", причем всех
слов не помнил, и только беспомощно замолкал после полутора куплетов.
Так вот, отработав честно свои пять рабочих дней, Мекин ехал работать на дачу.
Дача была не его. Дача принадлежала родителям жены, которые всю жизнь мечтали
заниматься сельским хозяйством. У родителей Мекина в детстве - его детстве,
разумеется - тоже был с/х участок. По этому поводу Мекин иногда терял контроль
над собой и принимался ругать Хрущева - за то, что тот разрешил это, по его
мнению, полное безобразие. Не сказать, что от Мекина кто-то когда-нибудь ждал
славы Мичурина. И в саду-то быть он, в общем, любил. Но как-то все же не
сложилось. Более того, он неоднократно говорил, что, по его глубокому убеждению,
картошка должна произрастать в магазинах, а яблоки - на рынках, и, при известном
желании, можно заработать и на то, и на другое. А ананасы и бананы на наших
шести сотках все равно не растут. потом Мекин женился. Жена его - славная
женщина, не разделившая любови своих родителей к сельскому хозяйству, терпеливо
выслушивала мекинский скулеж по поводу необходимости снова тащиться копать
участок (под картошку), сажать (картошку), подбивать (картошку), окучивать
(картошку), копать (картошку), копать участок (из-под картошки). Кажется, это
весь цикл необходимых работ. Но он повергал Мекина в полный транс. Глаза его
стекленели уже вечером в пятницу. Он ненавидел картошку всей душой; к другим
работам его даже не пытались привлечь. Как я уже сказал, человек он был тихий,
но однажды, когда тесть отчитал его за плохо то ли подбитую, то ли окученную,
борозду, он повернулся и уехал домой. Это было единственное, на что он решился.
Потом они с женой и сыном уехали к мекинской маме на целый месяц в мекинский
отпуск, а по приезде все пошло как раньше.
Вы смеетесь? Вы думаете, что это мелочь, на которую не стоит обращать внимания?
Я вижу, вы тоже садовод. Огородник. Я представляю, что сказал бы вам Мекин, если
бы вам удалось вызвать его на разговор. На такой разговор, впрочем, его вызвать
было легко. Я сам был свидетелем того, как он едва не разорвал на куски -
фигурально, разумеется, - неосторожного сослуживца, который имел несчастье
начать в его присутствии вдохновенный рассказ о том, какие огурцы (или помидоры)
он выращивает на своем клочке земли. Мекин сидел молча, сжав зубы, до тех пор,
пока этот сослуживец не принялся расписывать удовольствие, которое он получает,
выехав из города к себе на дачу. Тут Мекина проняло. Он высказал все, что думает
о советской власти, которая загоняла интеллигенцию в лагеря, но не смогла, зато
теперь вся интеллигенция, спятив окончательно, загнала самих себя, жен своих и
детей (тут он поднялся до поистине мининского уровня) в индивидуальные
микролагеря; о комарах и мухах, которых он (уровень поднялся до Аттилы), если б
они все неведомым образом сложились бы в первоидею летающего кровососа, прибил
бы на месте, и жизни бы своей на это не пожалел; о с/х культурах, которые имеют
наглость требовать ухода за собой от людей, молодость которых ушла на то, чтобы
избегнуть этой тяжкой повинности, и гори они все синим пламенем. Он был хорош в
эту минуту - Нерон! Высказав все это, он пошел курить, и не возвращался минут
пятнадцать, хотя обычно ему хватало шести с половиной.
Единственное, что заставляло Мекина ездить на дачу - чувство долга. Сам он
называл это стремлением сохранить мир в семье. Но это, думается мне, самообман,
и попытка выставить свой эгоизм как прямо-таки альтруистические какие-то
побуждения. И все же... Другой бы на его месте и носа бы не казал дальше вокзала
в субботу. Ходили бы по гостям, в кино, дома бы сидели, в конце концов. Мекин
был не из таких. Он любил жену, сына, наверно, опосредованно любил и тещу с
тестем, и не мог не согласиться с тем, что сыну лучше провести лето в деревне,
чем в "душном" городе. Возможно, думал он. Сам он вырос как раз в город, и не
чувствовал особой тягости пребывания в нем. Опять же, ягоды-яблочки... И почти
каждое утро в субботу он грузился в электричку и ехал.
И в то утро он тоже встал в пять, плеснул воды в лицо, подхватил ящик из-под
телевизора FUNAI, предусмотрительно стащенный тестем от соседнего подъезда и
превращенный в средство для перевозки рассады, и вышел в прохладное весеннее
утро. Ящик неудобно стукался об ногу, высоченные помидоры обескураженно
кренились, а сердце Мекина замирало при мысли о том, что именно ему скажут, если
какой-нибудь худосочный росток сломается. К трамвайной остановке со всех сторон
стекались бодрые садоводы со своими коробами, и густой запах помидорной рассады
наполнял разреженную утреннюю атмосферу. Мекин тяжело вздохнул, поднял короб
повыше, и втиснулся в вагон.
Доехав до вокзала, он купил билет и пошел на платформу. Люди на платформе уже
стояли тесно, и обменивались настороженными взглядами, прикидывая, кто успеет
занять места пораньше, чтоб не ехать стоя, или даже в тамбуре. Электрички еще не
было, и Мекин пристроился к толпе, которая вдруг загустела к краю платформы,
раздались крики "Витя, Витя, да иди же сюда, что же ты там стоишь!", заплакали
дети, залаяли собаки, замяукали кошки, даже козлиное блеянье послышалось
сомнамбулически замедленному Мекину.
Ему удалось войти в вагон и даже без особых потерь пристроить сбоку короб с
помидорой, как называлось это растение в мекинском городе. Жена иногда, желая
подразнить Мекина, который был не по-русски разборчив в выборе слов, тоже
сбивалась на такое произношение. Таких шуток он не понимал, и очень сердился.
Ехать ему было примерно с час. К счастью, через полчаса, в большом садовом
массиве, становилось свободнее, и Мекин с самого начала стал озираться в поисках
возможной кандидатуры на освобождение места. Электричка тронулась, Мекин
обреченно вздохнул, переступил с ноги на ногу, достал из сумки книжку Кунца -
Кунца он любил, как он сам говорил, за полное непонимание настоящего ужаса - и
открыл ее на заложенной странице.
"Она была на грани истерики и ничего не могла поделать, только глухо всхлипывала
от страха и отчаяния. Краем глаза заметила, что комната ожила и задвигалась.
Стена за кроватью, мокрая и блестящая, набухла, вспучилась, будто мембрана,
словно на нее давила жуткая тяжесть. Она пульсировала, как огромный склизкий
орган в разрубленном брюхе доисторического ящера..."
Народ зашевелился, и двинулся к выходу. Мекину больно наступили на ногу, он
повернулся, и тяжело плюхнулся на сиденье. Оказывается, совсем рядом
освободилось место. Толстый дядька с неизменным огромным коробом, над которым
колыхались развесистые узорчатые листья - фикусы он вез, что ли? - одарил его
недобрым взглядом, но ничего не сказал, а ринулся к выходу, как нападающий в
регби, обняв свою драгоценную коробку. Мекин воровато огляделся, притворился,
что не замечает стоявшей метрах в двух женщины, и снова открыл книгу.
"На Холли надвигалось гигантское черное насекомое или рептилия. Чудовище
тянулось к ее лицу склизкими щупальцами, сучило мохнатыми паучьими лапами,
извивалось, рывками протискивая в дверь длинное туловище, покрытое чешуйчатыми
кольцами. Оно разевало пасть, роняя черную пену, обнажая страшные клыки, желтые
и острые, как у гремучей змеи. Пустые стеклянные глаза обшарили комнату, и их
ледяной взгляд остановился на Холли. Тысячи кошмаров, спрессованные в один..."
... - высаживать. С этим нужно подождать. Сейчас земля еще холодная. Вот через
недельку...
Мекин ошалело поднял голову. Дед напротив, видимо, лишившись предыдущего
собеседника, тем не менее продолжал разговор, обращаясь прямо к Мекину. То, что
тот был погружен в чтение, нисколько его не останавливало.
- Так что, может, ты и зря везешь. Ты под картошку-то уже вскопал?
- Копал в прошлый раз. Щас копать нормально, уже не так мокро, и пыли еще нет. -
Мекин в ужасе услышал, что его голос произносит эти невообразимые слова, но
остановиться сразу не смог. В полном остолбенении он услышал, как они с дедом
обстоятельно обсудили, как нужно сажать картошку, на каком расстоянии, чего
сыпать и как...
Мекин отвернулся к окну и глухо замычал. Дед осекся. - Ты чего? - спросил он.
Мекин рванулся с места, отвернувшись, чтобы тот не увидел навернувшихся на глаза
слез, схватил проклятый короб и выбежал в тамбур. Там, слава Богу, никого не
было. Прыгающими пальцами Мекин достал пачку сигарет, почти намертво смятую при
посадке, вытащил сигарету. Спичка зажглась только с пятого раза. Мекин
прислонился лбом к холодному стеклу, затянулся, и снова глухо замычал.
Вдруг на глаза ему попалась бабочка, неведомо как и неведомо откуда залетевшая в
вагон. Бабочка была из тех, что дети называют "красивыми", с черными пятнами на
рыжих крыльях - в отличие от белых и скучных капустниц. Она билась о стекло,
пытаясь вылететь, и, естественно, никак не могла найти выход. Мекину, конечно,
тут же вспомнился школьный курс литературы. Несколько секунд он мрачно смотрел
на бабочку, а потом отвернулся.
- Подохнет, - угрюмо сказал он. - И пусть.
К сектантам Мекина затащил однажды неожиданно встретившийся ему однокашник.
Расписывая самыми яркими красками духовную жизнь общины, он рассказал Мекину,
насколько лучше стал его до того бесцветное и бесцельное существование. "Это
нечто абсолютно новое," - говорил он, "ты такого и не слышал никогда раньше."
Мекин, с подозрением относившийся к любым нововведениям, и тут не смог скрыть
своего скептицизма. "Да ты же даже не знаешь, о чем говоришь!" - кричал
однокашник. "Ты приди и послушай, а то все вы вот так - не разобравшись, а
говорите!"
Мекин признал для себя, что доля правды в этом есть. С другой стороны,
подспудно, где то в глубине отмененной естествеными науками души он как-то
осознавал, что именно на такой крючок и ловят простачков вроде него, а с третьей
кто-то шептал ему, что именно такой аргумент и предъявляют прежде всего
противники всех новых духовных учений.
Вот такой, раздираемый душевными противоречиями, Мекин и согласился заглянуть на
одну из служб новой секты - сами себя, они, разумеется, сектой не называли, а
называли чем-то вроде "Движения нового пути", или каким-то таким же
бессмысленным наименованием. Я отговаривал его, когда он в очередной раз
заскочил ко мне на выходных, но Мекин, смущенно пожимая плечами, говорил, что
вроде как уже обещал, и что уже неудобно. Мы сошлись на том, что если я замечу,
что с Мекиным что-то неладно, я разверну антиугарную деятельность, для
подстраховки, Мекин внутренне успокоился, и пошел домой.
Служба начиналась рано утром, чтобы на нее могли попасть все желающие, даже те,
кто сразу после работы торопился домой производить, как выражался юрист,
читавший нам лекции по советскому праву, "процессы уборочно-стирочного
характера". Однокашник Мекина предупредил его, что приходить надо пораньше, ибо
ритуал посвящения начинается еще до проповеди, то есть до прихода проповедника.
Мекин еще вяло поинтересовался, не американцы ли снова наводят тень на
православную Русь, но однокашник даже возмутился, и заявил, что "Движение нового
пути" возникло, да и могло возникнуть, только на истинно русской почве. Мекину
при этом показалось, что тот выдает фразы целиком, в одно слово, как заученную
сызмальства скороговорку, или мантру - Мекин был немножко не чужд модному
увлечению, по касательной изучавшему восточную философию.
У дверей молитвенного дома уже собралась изрядная группа прихожан, ожидавших
прихода проповедника. Все молчали, втянув головы в плечи, и старались незаметно
друг для друга придвинуться поближе к дверям, отвернувшись от окружающих, и
смотря только под ноги, чтобы не вступить ненароком в огромную лужу как раз под
дверью. Мекин держался в середине, вперед не лез, но и себя отталкивать тоже с
достоинством не давал.
Наконец за мутнопрозрачными стеклами дверей замаячила фигура проповедника. Он
появился, потом снова исчез, снова появился, присел - Мекину показалось, что он
услышал тяжелое покряхтывание, повернул там что-то у порога, и снова исчез.
Наконец узкие двери открылись, и прихожане хлынули внутрь. Молитвенный дом
представлял из себя длинный зал с невысокими окнами. Узкий проход вел вперед, к
небольшому возвышению, а по бокам от прохода в два ряда стояли кресла, намертво
привинченные к полу. Мекина, внесло в проход, и вынесло чуть ли не к самой
"кафедре", как он, по привычке навешивать на все ярлыки, сразу обозвал имеющееся
возвышение, он почувствовал, как кто-то тянет его за рукав, и тяжело плюхнулся в
одно из кресел.
- Я же тебе занял, - сказал однокашник. - Я уж думал, тебе стоять придется.
- Слушай, - прошептал Мекин, - а почему двери такие узкие?
- А ты что, не понял? Чтобы напоминать, что для грешника стать праведником очень
даже трудно, а праведник даже и не вспомнит, что двери узкие. Я вот, - с
гордостью заметил однокашник, - спокойно прошел, даже и не заметил.
Мекин посмотрел на кафедру. Проповедник был уже там. Мекин ожидал, что он
встанет и обратится с речью к прихожанам, но тот, наоборот, уселся в кресло,
отгороженное от всего зала невысокой перегородкой, спиной к аудитории, и
возложил руки на странный круг с перекрестием внутри, очевидно, служивший
символом этого непонятного движения.
Мекин еще хотел спросить однокашника насчет странной конструкции двери, которую
он не успел изучить, проносясь внутрь, но в этот момент дверь со скрежетом
захлопнулась, проповедник открыл рот, и из динамиков прямо над головой Мекина
послышалась проповедь, страшно искаженная отвратительным микрофоном, и не менее
отвратительным усилителем.
Голос проповедника был уныл, как показалось Мекину, ожесточен, и постоянно
прерывался хрипом и какой-то развеселой мелодией, неведомо как, видимо наводкой,
попадавшей в провода.
- Жизнь, - вещал проповедник, - это только преддверие... хр-р-р... с ума, а я
говорю... и как любой дар... хр-р-р... требует возмещения ... разберусь без
вас... передать такое возмещение... хр-р-р... дело касается... следует... хр-р-
р... говорят, что... контроль... хр-р-р... проходите, готовьтесь... хр-р-р...
сошла с ума... хр-р-р... уступать место... хр-р-р
Мекин сначала пытался расслышать проповедника через этот кошмар, но быстро
убедился в безнадежности своих попыток, откинулся на спинку и огляделся. К его
удивлению, никто, казалось, проповедника не слушал. Однокашник рядом, закрыв
глаза, мелко покачивался на месте, и очевидным образом крепко спал. Напротив,
через проход, солидный мужик, не сняв кепки, с грохотом разворачивал листовую
газету. Позади Мекина болтали про зачет по истории языка две студентки, видимо,
инъязовки. Остальные или спали, или глядели в мутные окна, причем так
пристально, словно им показывали там очередную серию очередной мыльной оперы.
Вдруг - Мекин даже вздрогнул от неожиданности - распахнулись двери, и в проход
хлынул поток новых прихожан. Рядом с Мекиным случился затор, когда бабка с
тележкой зацепилась о дипломат, поставленный мужиком с газетой у ног, и бабка
заквохтала, причем в выражениях и громкости хорошо поставленного голоса не
стеснялась, что Мекина, в общем, удивило. Еще больше его удивило то, что все
сидящие не обратили на это ни малейшего внимания, более того, спящие сжали глаза
еще крепче, а мужик просто приподнял дипломат, просунул его дальше под ноги, и
как ни в чем не бывало продолжал читать свою газетищу.
Двери снова сомкнулись со скрежетом, Мекин втянул голову в плечи, а проповедник,
на минуту прервавший проповедь, возобновил свое бормотание. Прислушавшись, Мекин
понял, что тот просто начал с начала, и повторяет тот же однообразный текст, и
даже мелодия, постоянно вмешивавшаяся, кажется той же самой.
Мекин снова огляделся. Мест на всех уже не хватало, и люди стояли в проходе.
Лица стоявших были лишены той безмятежности и расслабленности, которые
рисовались на лицах сидевших, зато отличались деловитостью, крайней суровостью и
даже некоторой угрюмостью. Все, как один, смотрели прямо перед собой, плотно
сжав челюсти, и никто не замечал стоявшего рядом. Почти никто не разговаривал, а
если даже и пытался говорить, то приглушал голос до еле слышного шепота, так
чтобы никто вокруг его не услышал. Вошедшие сразу передавали проповеднику какие-
то деньги, и тот, не оборачиваясь, складывал их в коробочку, стоявшую рядом с
ним.
Снова открылись двери, и в зале стало еще теснее. Люди стояли уже вплотную друг
к другу, стало жарко и душно, окна запотели, и Мекину захотелось выйти. Ко всему
прочему, проповедник, видимо, дошел до кульминации своей проповеди, и принялся
что-то яростно выкрикивать. За хрюканьем и бульканьем Мекин не понял всего
смысла сказанного, но до него дошло, что проповедник попрекает прихожан
скупостью и жмотовством, и угрожает каким-то неясным наказанием. Как ему
показалось, никто особенно и не испугался, по крайней мере, выражение лиц не
изменилось, но двое или трое из вновь вошедших принялись судорожно шарить по
карманам.
Над Мекиным нависла тяжелая густо накрашенная дама в шубе и золоте. Даже в своем
люто диагональном положении она умудрялась сохранить на лице оттенок
презрительного превосходства. Весь вид ее говорил о том, что здесь она абсолютно
случайно, что жизнью всей ей предназначено быть совсем не здесь, и что никто не
сможет переломить ее ледяного спокойствия.
Мекину стало страшно. В зале повисла истерия, накрытая шапкой проповеднического
хрюканья и маломузыкального ритма. Впереди, у кафедры, уже давно ругались две
бабки, одной из которых другая порвала колготки своей тележкой. Присмотревшись,
Мекин узнал в порванной свою соседку, милейшую интеллигентную женщину, с которой
встречался во дворе, когда выбивал ковры, и неоднократно имел продолжительную
беседу о новостях культуры.
Мекин решил, что с него довольно, и ткнул локтем однокашника. Тот не проснулся.
Мекин ткнул сильнее. Однокашник радостно засопел, откинул голову и блаженно
закивал. Рассчитывать на него не приходилось.
Мекин встал и принялся пробираться к выходу. Сделать это оказалось гораздо
труднее, чем на это решиться, более того, почти невозможно. Толпа в проходе
свернулась и створожилась комками, и каждый из этих комков яростно сопротивлялся
мекинскому продвижению. Мекин сжал челюсти, придал лицу выражение крайней
суровости, и ринулся вперед. Под ноги попадались чьи-то конечности, слышался
хруст капусты и звон битого стекла, Мекин чувствовал себя пожилым "запорожцем",
вдруг попавшим в свеженькую импортную автомойку, ухватился за край полуоткрытой
двери, подтянулся, и выпал наружу. Двери за его спиной со скрежетом
захлопнулись.
Растерзанный, разорванный, взмокший напрочь Мекин огляделся. Он стоял на юру, у
столба с покореженной желтой табличкой, прямо посреди толпы, которая глядела
куда-то вдаль, за горизонт. Мекин понял, что не доехал до работы не то три, не
то четыре остановки, матюгнулся сквозь зубы про себя, и остервенело полез в
подошедший набухший автобус.
Великое дело - контроль!
Люблю я блаженство контроля!
Я выбрал сладчайшую роль
И имя ей будет - неволя.
Так дайте мне лица владык
И рук августейших мерцанье
И тысячегорловый крик
И хоругвей сонных лобзанье
Я счастлив в едином строю
Шагающих вверх неуклонно
Едино и стройно пою
Карабкаясь тернистым склоном
Немыслима здесь болтовня
Нужны здесь весомые речи
Я вздыбил в себе муравья
С восторгом касаясь предтечи
МЕКИН И БОГ
В тот вечер Мекин заявился ко мне без предупреждения и навеселе, что не совсем
обычно и предполагает некие экстраординарные обстоятельства. Обычно Мекин, если
собирается выпить, уговаривается об этом заранее, недели за две, предупреждает
жену, друзей, закупает выпивку и закуску, в общем, готовится основательно и
подробно. По крайней мере, мог бы позвонить и сказать, что явится через час-
чтобы я успел убрать грязные носки и навести в квартире хотя бы относительный
порядок. Но в тот вечер я просто, не задумываясь, открыл дверь на долгий
сумасшедший звонок и увидел Мекина: слегка покачиваясь, он уперся пальцем в
кнопку звонка и, видимо, не собирался отпускать ее, пока ему не откроют.
Коротко, рывком, кивнув, он сбросил ботинки и, как был, в куртке, потопал на
кухню. Мы с ним обыкновенно сидим на кухне: так удобнее, все под рукой, если, к
примеру, для разнообразия захочется чаю. Я несколько задержался в коридоре,
пристраивая мекинские ботинки в угол, чтобы потом не запнуться о них, и услышал,
как Мекин выругался, пытаясь обогнуть стол, и погружаясь в узкий проем между
столом и холодильником, где только и умещалась-то маленькая табуретка, и где,
полушутливо ссылаясь на свою мнимую агорафобию, любит сидеть Мекин, забившись к
самой стене и боком к столу.
Я тяжело вздохнул и пошел вслед за ним. Не то чтобы Мекин мне чем-то помешал или
испортил вечер: делать все равно было ровным счетом нечего. Просто я, человек по
натуре искренне стремящийся к педантизму, и, в отличие от многих наших
соотечественников, считающий его чертой безусловно положительной, недолюбливаю
подобные, случающиеся вдруг, появления знакомых. Тем более в подпитии, и уж тем
более, намеревающихся осесть именно у меня на кухне. Это, разумеется, если сам я
еще трезв. С другой стороны, Мекин был наименьшим злом из всех возможных. Наши с
ним беседы за стопочкой вдвоем доставляли искреннее удовольствие обоим, и
никогда не превращались в банальное "как здорово, что все мы здесь...". Это было
нам понятно самим, и без всяких явно изреченных утверждений.
Когда я появился в дверях кухни, Мекин уже сидел на своем обычном месте, и перед
ним стояла початая бутылка водка и две наших излюбленных стопочки, ловко
выуженных из шкафчика над столом-не вставая, только руку поднять. Стопочки уже
были полные: садись и пей.
- Вот, - сказал Мекин без предисловий, словно продолжая однажды начатый
разговор. - Садись. Поговорим.
- Проблемы? - осведомился я, гадая, что же такое срочное могло привести Мекина
ко мне в столь достаточно поздний час.
- Как сказать, - туманно ответил Мекин, взял из угла гитару, но после нескольких
аккордов, весьма неблагозвучных, плюнул и разочарованно повернулся ко мне.
- Сначала выпьем, - сказал он.
Я пожал плечами, но стопку поднял.
- За что пьем?
- Да ни за что, - вдруг заорал Мекин, наливаясь кровью-это тихий-то, спокойный,
всепрощенческий какой-то Мекин!
- Уж и выпить то просто нельзя ни за что!
И он опрокинул стопку в рот, зажмурился и резко выдохнул.
Я пододвинул к нему случившееся на столе блюдце с одиноким соленым огурчиком.
Мекин подозрительно покосился на него, но не взял, а уперся руками в колени и
уставился прямо перед собой.
- Слушай, - тихо сказал он. - Почему так: выхожу я утром из дома, а на крыльце
сидят трое алкашей и пьют? Я не про то, что пьют они - хрен с ними, а про то,
что смотрю я на них, и страх берет: это же не лица, это рожи, это ж морды такие,
что перекосит всего, а потом еще в автобус влезаешь, и там носом в затылок чей-
нибудь, мощный такой затылок, свинячий, и кругом глазами обведешь - а там...
один хуже другого, почему так, а?
Я ничего не ответил, но сразу налил еще. Мекин сгреб стопку, и снова проглотил
налитое, не закусывая.
- Куда делись нормальные люди? - возгласил он, шмыгнул носом, и добавил: - если
были?
- А я? - попробовал я возмутиться.
Мекин пристально посмотрел на меня. На его лице не отразилось ничего, и то слава
Богу. И вслух он тоже ничего не сказал. Просто продолжал, отвернувшись от меня и
уставясь в какую-то невидимую мне точку.
- Еду вчера в автобусе. Влез первым, чуть с ног не сбили, но сел. Сижу. Еду.
Смотрю, влезает старуха. Ну так, не то чтобы прямо старуха, но в другое время я
бы ей место уступил. А тут еду с работы, народу полно, над головой сумка как
дирижабли. Не встаю. Сижу. И в голову мне приходит такая мысль: была бы у меня
совесть, встал бы и уступил ей место. А раз не встаю, да еще и притворяюсь, что
сплю, значит, нет у меня совести. И тут же другое лезет: не было бы у меня
совести, я б и не думал, есть она у меня или нет. И не знал бы вообще, что такое
совесть.
- Ты об этом поговорить хотел? - спросил я, и полез в холодильник, потому что
огурец кончился, и надо было найти что-нибудь еще.
- Ну... об этом тоже. Ты лучше вот что скажи: ты в Бога веришь?
Вопрос застал меня врасплох. Я неопределенно хмыкнул.
- В какого?
- В любого! - зарычал Мекин. - Хоть в Посейдона!
- Нет, в Посейдона не верю, - твердо ответил я. Это я мог утверждать с полной
ответственностью.
- И я не верю, - потерянно сказал Мекин. Не понравилась мне его интонация. Даже
когда мы с ним выпивали очень крепко, и разговор доходил до дел Божеских (а
такое случалось), Мекин к этой теме относился гораздо легкомысленнее.
- Да что случилось-то? - не выдержал я.
- Ничего. Ничего не случилось. И не случалось, и не случится, - деревянно
ответил Мекин. Он разлил по стопка остатки водки, и, не дожидаясь меня, сразу
выпил. Вдруг он прищурился, и хитро искоса взглянул на меня.
- Хочешь анекдотец? Вчера рассказали. Только он английский.
- Ну попробуй, - ответил я.
- Так вот. Заходит как-то Декарт в бар.
- Кто?
- Декарт. Ты Декарта знаешь?
- Ну...,- начал я.
- Вот! Заходит он в бар, а бармен ему: "Уиски, сер?". А он и говорит: "I think
not". И исчезает. Начисто и навсегда.
Моего знания английского хватило на то, чтобы понять, что при таком повороте дел
создателю чеканно бессмертного "Cogito ergo sum" действительно ничего хорошего
ждать уже не приходится. Впрочем, всем создателям чеканно бессмертных фраз
следовало бы задуматься о возможных неожиданных, и весьма бесповоротных,
последствиях своих выкладок.
Я вежливо улыбнулся. Мекин помрачнел.
- Вот и я говорю, - тихо сказал он.
- Что именно?
- Книжку мне дали почитать. Борхеса. Давно хотел, да как-то руки не доходили.
Так я ее прочитал, и сразу отдал. Но засело одно - и из головы никак не выходит.
Есть у него рассказик про красильщика - я и названия не помню, но только там
есть один абзац... ну вроде пересказа, что он верил, что Бог есть.
Я не сдержался и хмыкнул. Мекин уставился на меня бешеными глазами.
- Дальше слушай, - сквозь зубы сказал он. - Я всего точно не запомнил, и,
похоже, сам уже здорово досочинил, но, в общем, есть только Бог, а больше ничего
нет. И вот он вдруг берет и творит бесчисленное множество себе подобных...
архангелов, скажем. Делать ему больше нечего, и вот поэтому он их и творит. А
больше ничего он творить не может, потому что ничего, кроме себя самого, не
знает, и нету больше кроме него самого, ничего. Они для него - ну, вроде как
ощущалища... как там - "по образу и подобию своему"?
- В Библии так, - ответил я, полез в холодильник и вытащил давно заначенную
бутылочку. Мекина явно несло, он становился нехорош, а я знал единственный
пригодный в данном случае способ остановить его - упоить и уложить спать.
- И все бы было ничего! - победно возгласил Мекин, и сполз с табуретки задом,
упираясь стеной в стену.
- Все бы было ничего, но только в этих... которых он создал, все такое же как у
него, но чуть хуже. Ну как перезапись, понимаешь? Чуть-чуть чего-то до Бога не
хватает. Но они же, по сути своей, все равно боги, так?
Я промолчал, и притворился, что занят откупориванием бутылки.
- А раз каждый из них... из всего этого бесконечного множества... Бог! ...то он,
каждый... или оно, неважно: творит себе бесчисленное множество таких же...
архангелов. А эти тоже...
Мекин безнадежно махнул рукой, схватил налитую мной стопку и опрокинул ее в рот.
Его передернуло. Но не от водки - водка была хорошая.
- ... каждый из них творит себе огромный мир... ми-и-р, представляешь, МИР!
Мекин резко взмахнул в воздухе стопкой, чтобы показать, насколько именно огромен
МИР, созданный каждым из этих... архангелов. Я выхватил у него стопку и поставил
на стол. Он не заметил.
- ...и каждый из них в себе несет от Бога все меньше и меньше... а все больше
грязи какой-то, ущербности.
- И что? - тихо спросил я.
- Так вот, - шепотом, и почему-то оглянувшись через плечо, отвечал Мекин. - Я
все понял: наш мир - это творенье ущербного Бога. Бога-отражения. В каком-нибудь
бесчисленном колене произошедшем от того. И мы все - тоже его отражения.
- Еще выпей, - предложил я. - И спать пойдем.
- Нет, погоди, - взревел Мекин. - У меня мысль пошла! Значит, если он, сволочь
такая, нас с тобой сотворил, такими, как мы есть, а другими, лучше, из-за
ущербности своей не смог... то что же получается? А, вот: дошло. Первое: до
главного Бога мы не доберемся никогда вообще. Правильно?
Я неопределенно кивнул.
- А второе, - как-то потерянно продолжал Мекин, - что я тоже, значит, отражение,
а все, что я вижу - это только то, что я сам тут натворил...
Он уставился в одну точку чуть выше моей головы.
- Это что получается? Это получается, что все вот это... эта морда, эта рожа,
ХАРЯ эта вселенская - это я сам придумал?
- Пей, Мекин, - сказал я. - Поможет.
- Стоп, вдруг абсолютно трезво сказал Мекин. - Не хочу.
- Чего не хочешь? - спросил я.
- Чего он в меня отразился, сволочь такая? - заорал Мекин, и вдруг скис. - А
впрочем, все х...я, - добавил он, и осел на табурете, как весенний сугроб.
- Ну хватит, пошли спать, - сказал я, и поднялся. И увидел, что Мекин бросил
голову на стол, и уже спит. В мутном свете темной кухонной лампочки мне
показалось, что на губах его появилась тихая светлая улыбка. Что-то вроде
нежности к Мекину зашевелилось у меня в душе, и я нагнулся, чтобы поднять его и
дотащить до постели. Но я ошибся: оказалось, что Мекин даже во сне, стиснув
зубы, едва слышно шепчет грязным матом в адрес того незадачливого Бога, тенью
которого ему довелось стать. И я понял, что не дай Бог, Мекин встретит этого
своего творца - кто бы он ни был, ему не поздоровится.
И тогда я решил ни в чем Мекину не признаваться.
Испугался.
Ибо грешен...
...ущербен...
Я в город вхожу, ощущая прохладу и запах веков в его храмах и стенах и людях
Я чувствую сзади дыханье идущих, их споры, усталость и боль своего отреченья
От жизни во имя идеи, пока еще в общем, бесплотной, за что их никто не осудит
Но вера в свою осужденность живет в них всегда, неизбывна, как это мгновенье
Наш странен союз. Непонятна их вера - слепая, как червь, безотрадная, словно законы
Пугает меня их стремленье придать моим притчам зажатую в книгах глухую и затхлую косность
Пугают меня отголоски в их голосе нежного, мягкого, белого, странного звона
Назойливость их поклоненья, надсадность и даже - несносность
По словам Мекина, первая художественная инсталляция имела место в Нижнем
Новгороде, тогда еще Горьком, уже зимой 1984 года, и была начисто
проигнорирована прессой и прочими СМИ.
Тогда Мекин, движимый внезапным порывом к порушению привычного, к тому времени
устоявшемуся укладу, ушел жить из благоустроенного студенческого общежития на
квартиру. К чести Мекина, надо отметить, что он никогда не говорил, что его
"сманили" на квартиру. Я же, бывавший там и видевший, что она из себя
представляла, никак не мог взять в толк, каким образом Мекин, от рождения
стремившийся к комфорту и минимально устроенному быту, смог не только жить там,
но и прожить чуть ли не год. "Квартира" была засыпушкой-флигельком, пристройкой
к частному дому в черте города, дому, в общем, зажиточному и крепкому. Во
флигельке с почти отдельным входом только и умещались три кровати да большой
стол у стены. Все это хозяйство зимой согревалось так называемым подтопком,
крашеным белой, изрядно закопченной, краской. Окно комнаты выходило прямо в
загон для свиней, и по утрам - я однажды ночевал у Мекина после особенно бурного
вечера, причем спать нам с ним пришлось на одной кровати, и утром мы смотрели
друг на друга злобно, как два давно не кормленных шакала в старом Московском
зоопарке - в стекло тыкались огромные слюнявые пятаки любопытных тварей, которых
держал хозяин, Иваныч.
Первое, что сделал Мекин, перетащив на квартиру свои пожитки - преимущественно
книги, а также гитару - повесил на окно занавески, что еще раз доказывает, что
даже в условиях, приближенных к полевым, его не оставляла тяга к прекрасному.
Второе - провел из-под щелей в низком потолке над книжной полкой фитильки, чтобы
вода, просачиваюшаяся сквозь щели, капала в подставленные банки, а не на книги,
которыми Мекин, в общем-то, дорожил. И, наконец, третье - подвигнул соседей на
художественную роспись подтопка, покрасить который Мекину в голову не пришло, а
пришло ему в голову нанести на него под потолком фриз из славянской вязи и по
ребрам навести как бы витые колонны в псевдо-русском стиле.
Соседи Мекина заслуживают особого описания, по крайней мере один, знакомство с
которым, собственно, и привело Мекина в это подполье. Одного звали Михаил, он же
Майкл, другого - Коля, и больше никак. Майкл был ровесником Мекина, учились они
на одном курсе, а Коля учился на два курса позже. Майкл был невысок, так широк в
кости, что иногда казалось, что он просто толст, так медлителен, что требовался
не один месяц, чтобы привыкнуть к его крайне неторопливой манере, и при этом
обладал незаурядным чувством юмора, а также неодолимой любовью ко сну. Коля был
родом с Севера, неплохо рисовал, а во всем остальном был просто молод.
Мекин познакомился с Майклом в институте, некоторое время у него ушло на то,
чтобы привыкнуть к нему, а потом он стал захаживать на эту самую квартиру, где
Майкл жил уже третий год, и так ему пришлись по душе неторопливые беседы
ввечеру, что он, наконец, и переехал совсем туда, когда прежний третий сосед не
выдержал более такой жизни, и съехал безвозвратно. Теперь и у Мекина жизнь стала
размеренной и бессобытийной, если не считать редких вылазок в институт,
преимущественно за стипендией, пока он ее еще получал. Разговоры говорили до
двух, до трех ночи, причем говорили беспредметно, и, что крайне нехарактерно,
почти без выпивки. Шел длинный, сладко-тягучий, приятный треп, скатывающийся и
не оставляющий следов, с привлечением цитат из литературы и кино, треп,
достигший того уровня, когда слово, произнесенное с правильной интонацией, уже
безошибочно понимается собеседником как ссылка именно на те строки, которые
обоюдно известны и безотказно вызывают ожидаемую реакцию; где-то Мекин читал,
что то ли китайская, то ли японская литература была, по сути, искусством
цитирования, где господствовала радость узнавания знакомых строк: так вот, эти
беседы намного обошли японо-китайцев, поскольку иногда весь разговор был похож
на огромную цитату из Беккета, и внешнему наблюдателю показался бы полной
бессмыслицей. При этом сами собеседники укладывались спать, полностью
удовлетворенные друг другом и содержательным обменом мнениями.
Ближе к зиме жизнь замедлилась еще больше. Похолодало, и появилась необходимость
топить. Мекин просыпался раньше всех, высовывал нос из-под теплого одеяла,
радостно садился в постели - и рухал, закапываясь, обратно. В комнате стоял
холод, а за дровами, естественно, надо было идти во двор - двумя возможными
путями. Один, короткий, пролегал через свиной загон, другой - по тропинке вокруг
всего дома со всевозможными пристройками и вдоль по саду за домом. Коротким
путем Мекин не ходил почти никогда - он не доверял свиньям, и свиньи ему тоже не
доверяли. Они смотрели на него злобно и угрожающе. Они провожали его до самой
двери, которая потом долго содрогалась под ударами их тяжких крепких тел.
А в середине длинного пути стояло замечательное сооружение, без которого не
обходится почти ни один частный дом, в черте ли города он расположен или нет.
Нет, конечно, в хозяйском доме был теплый туалет, но для постояльцев
предназначалась крашеная суриком будочка на задворках. О чем думал Мекин, танцуя
до дощатой двери, в полной мере не известно никому. Определенное впечатление,
впрочем, можно составить, прочитав дальнейшее повествование.
Итак, в холодное утро вставать не хотелось никому. Не хотелось долго, потом кто-
нибудь не выдерживал - но совсем не по причине холода, а по другой, не менее, а
может быть, более весомой причине, вскакивал, притаскивал охапку дров, и
затапливал подтопок. Часам к двенадцати становилось чуть теплее, поднимались
все, неторопливо завтракали: можно было и идти в институт. Как раз начиналась
четвертая, последняя пара, на которую, по здравом размышлении, чаще всего
решалось не ходить.
И так шел день за днем, день за днем, утра становились все холоднее, ночные
беседы все длиннее, все пронзительнее ныл ветер в щелях дощатой будочки...
А потом, исподволь, началась весна. И однажды февральской ночью Мекин, Майкл и
Коля выползли из подполья в тихую ночь, под лунный свет, на улицу, покурить.
Было почти тепло. Мекин машинально слепил снежок и запустил им в ствол липы
неподалеку. Снежок влип в ствол, сплющился, залип, и отек, как странный гриб.
Было решено соорудить снежную бабу - благо снега кругом было много, и по причине
теплой ночи он приобрел пластичность почти сверхъестественную. Быстро скатали
три огромных шара, и тут вдруг Мекину пришла в голову другая идея. Он уселся
перед своим шаром, и принялся, словно скульптор, отсекать лишнее. Через четверть
часа он оглянулся и увидел, что двое его соседей тоже увлеченно вгрызаются в
шары. Коля пытался вылепить Венеру Милосскую. Майкл делал нечто абстрактное,
выпятив нижнюю губу и периодически дыша на застывшие пальцы. Мекин встал,
посмотрел, что же получается у него, склонил голову к правому плечу, и понял,
что перед ним - недоделанный, но ясно уже проступающий - сияюще-белый, залитый
лунным светом унитаз. В натуральную величину. Сзади подошел Коля, потом Майкл.
Мекин молча указал на свое творение. Коля, не сказав ни слова, присел, и
принялся оглаживать белые бока санитарно-гигиенического устройства. Мекин
беспрекословно уступил дальнейшую отделку Коле, понимая, что у него не хватит
умения завершить грандиозный замысел. Через полчаса посреди полусельской улицы
высился идеально ровный, словно только что с завода, девственно чистый,
неправдоподобно похожий на настоящий унитаз. При этом то, что он был сделан из
снега, было тоже очевидно, и картина эта настолько выбила всех из равновесия,
что все они радостно захлопали друг друга по спинам и отправились спать.
История на этом не кончается. Нет, сразу унитаз не сломал никто, хотя могли бы.
Просто ночью еще потеплело. Вы вправе ожидать, что унитаз просто растаял - но
нет. Фаянс мог разбиться, замерзшая вода могла отмерзнуть и утечь прочь - но
унитаз стоял. Но чаша его - круглая, тяжелая, словно голова, чаша - оказалась
слишком тяжелой для тонкой, любовно вылепленный шейки, и склонилась набок,
словно увядший цветок. Посреди улицы, под ярким полуденным солнцем, стоял
увядший унитаз. Выбравшийся из своей конуры Мекин долго смотрел на него, чему-то
удивленно и умиротворенно улыбаясь. Тут вниз по улице с визгом пронеслась толпа
школьников, и унитаз погиб безвозратно. Мекин судорожно дернулся вслед,
сдержался, с ненавистью сплюнул, а на следующее утро угрюмо собрал свои вещи и
вернулся в общежитие.
Мы знаем все наперечет
Определенностью измучен
Летит наклонно синий плод
Огромной муравьиной кучей
Основа мифа - анекдот
Основа анекдота - случай
Достойно ль сделать выбор лучший
Ничто не ясно наперед
Но за спиной чернеют ямы
И голосит минутный сброд
Орудие жестокой дамы
Берет живущих в оборот
Песок как крот больной ползет
Невозвратимо и упрямо
В распятие оконной рамы
Ничто не ясно наперед
Смеется над прогнозом случай
Как над пророком идиот
Дар предсказанья прост и скучен
Как хорошо известный брод
Его уже никто не ждет
В тени медлительных излучин
Поток изогнут смят и скручен
Ничто не ясно наперед
Друзья, не воздвигайте свод
Во избежанье новой драмы
Мы строим куры, планы, храмы...
Ничто не ясно наперед
Мекин не любил дирижаблей в частности и воздухоплавания вообще. И на то у него
были свои причины. В далеко ушедшем детстве, в результате случайной ошибки, его
мечтой долго было построить огромный дирижабль, назвать его, естественно,
"Нобиле", и получить за это Нобилевскую премию. Построить воздухоплавательное
судно, естественно, невозможно без солидной теоретической подготовки, и Мекин,
даже маленький, это прекрасно понимал. Поэтому он взялся за научные книжки -
сначала полегче, типа "Занимательной физики" Перельмана. Дальше, впрочем, он уже
не пошел, и объяснял это так.
Первая (впрочем, и последняя) модель дирижабля была сооружена Мекиным из
соломинок и папиросной бумаги. Он долго промазывал бумагу клеем, чтобы она лучше
держала теплый воздух, и, наконец, остался доволен получившимся колбасообразным
чудовищем. Теперь оставалось осторожно наполнить уродца теплым воздухом. И тут
Мекин вспомнил картинку из Перельмана, на которой изображалась папироса, дым из
которой с одного конца поднимался кверху, а с другого опускался снизу. Это
должно было объяснять, что дым при прохождении через папиросу охлаждается и
становится тяжелее воздуха. Мекин, впрочем, понял картинку не совсем верно, и
почему-то решил, что холодным дым становится только если затягиваться. Значит,
если просто выдыхать папиросный дым, то он останется теплым и дирижабль
поднимется.
Итак, в один прекрасный день, точнее, вечером в сумерках, Мекин уединился во
дворе за сараями, пристроил осторожно свою конструкцию на перевернутом дощатом
ящике, чиркнул спичкой и осторожно втянул в себя дым. На вкус дым был
отвратителен, но Мекин геройски набрал полный рот и принялся выдувать в
соломинку, воткнутую в тело дирижабля. Оторвавшись от соломинки, Мекин уставился
на огонек папиросы. Летние сумерки сгустились полностью и вдруг, и Мекин
внезапно перестал видеть все вокруг - даже собственных рук он больше не видел, а
в теплой темноте существовала только огненная горошина, неровно дышащая,
медленно покрывающаяся черной коростой, в разломах которых все еще было видно
пламенеющее нутро, словно новая планета остывала в судорогах материков.
Мекин зачарованно сидел, сжимая догорающую сигарету обеими руками, когда на него
из-за ящиков налетела разъяренная дворничиха, учуявшая запах дыма из дальнего
угла двора, громко и бессвязно ругаясь, выдернула папиросу из мекинских пальцев,
сшибла толстенным задом дирижабль с ящика и тут же наступила на него, продавив
середину. Мекин на ощупь нашел обломки, скомкал их в один большой ком, запустил
его в темноту, и, шмыгая, побрел домой.
Больше Мекин никогда не курил и не строил дирижаблей.
В час когда над миром набухали
Завязи событий и чудес
В час когда мазком густой эмали
Месяц кверху медленно полез
В час когда звезда крутила солнце
Вязла в тренажере проводов
В час когда последних патагонцев
Накрывала пелена веков
В час когда по яблоку скользила
Тень перекрывая города
В час когда сорвалась и разбила
Локоть в кровь усталая звезда
В час когда в тени настольных свечек
Все читали Гессе и Дюма
В час когда, ветрами изувечен,
Вечер клал под голову дома
Время мчалось с необычной прытью
Мир застыл и ждал и трепетал
Назревали жуткие событья
Я не видел этого. Я спал.
Хорошо было в Далеком Королевстве! Посреди него стоял Королевский Дворец,
окруженный прекрасным садом, в котором круглый год цвели розы и спели яблоки. И
какие яблоки! А вокруг Королевского Сада текла широкая Река, по берегам которой
склонялись над водой столетние ивы, умиленно глядя на скользящих по речной глади
прекрасных лебедей - священных птиц отца богов Одвина.
Река начиналась из магического источника в тронном зале Королевского Дворца, и
сразу текла бурно и полноводно, питая все Далекое Королевство сладкой и чистой
водой. Жители Королевства верили, что источник забил из цельной скалы, когда
отец богов Одвин, измученный жаждой, вонзил посох глубоко в камень. Говорили,
что те, кто с детства пьет воду Реки, становится в полтора раза здоровее и в два
раза сильнее, чем жители окрестных королевств. Благодаря магической воде дети не
болели, домашние твари плодились на удивление, а земля давала урожай такой, что
с полей окрестных королевств давно уже исчезли крестьяне, уразумевшие, что не
смогут продавать хлеб дешевле, чем "эти счастливчики".
Поэтому, конечно, не один соседний король пытался хотя бы раз за свое
царствование попробовать захватить магический источник. Но мудрый Король
Далекого Королевства издавна дружил с могущественным Волшебником, который, хотя
и учился мастерству в неведомых заморских академиях, но, до этого, родился и до
десяти лет рос в городке совсем рядом с Королевским Дворцом, и, став
прославленным магом, вернулся на родину и стал ее надежным защитником. Все атаки
соседей магическим образом оказывались неудачными, и чаще всего царствование
неудавшихся интервентов на этом и заканчивалось.
Слухи о Далеком Королевстве, о великолепном Королевском Дворце, о магическом
источнике и Реке шли по всей земле, как идут круги от брошенного в воду яблока.
И наконец, они дошли до Крайних Пределов, где жил тогда страшный и жадный
Колдун. Он, как и Волшебник, учился мастерству в академиях, но, по слухам, был
изгнан за крайнюю жадность, и за то, что постоянно воровал сладости из тумбочек
соседей по комнате. После изгнания Колдун плюнул на порог магической школы и
поклялся отомстить, хотя никто так и не понял, почему он обиделся на такое,
достаточно мягкое, решение школьного совета. Он уехал в Крайние Пределы, и там,
в полуразвалившемся замке посреди выжженной солнцем пустыни, продолжал изучать
магию сам. Путешественники, вернувшиеся из Пределов, сообщали о таинственно
появлявшихся и пропадавших безлюдных городах, о бьющих в небо фонтанах черного
песка, но никто - до срока - не догадывался, что то было дело рук Колдуна.
И конечно же, известия о Далеком Королевстве не могли не заронить зерна зависти
в душу Колдуна, если у него вообще была душа. И он решил завладеть магическим
источником. Как на грех, именно в это время Волшебнику прислал письмо его старый
Учитель, письмо, в котором просил срочно приехать в связи со многими неотложными
делами. На самом деле это письмо послал Колдун, причем по крайней скупости не
наклеил марки, и доставку пришлось оплатить Волшебнику. Но замысел Колдуна
удался, и Волшебник, быстро собрав саквояж с магическими принадлежностями, отбыл
к учителю.
Притворившись грозовым облаком, Колдун незамедлительно отправился в Далекое
Королевство, и там опустился на землю, встав перед воротами Королевского Дворца.
Он злобно ухмыльнулся, и, едва коснувшись створок ворот, которые сразу испуганно
распахнулись перед ним, пошел вперед, прямо в тронный зал, по дороге превращая
всех встретившихся ему в болотных тварей.
Волшебник же почувствовал что-то неладное, и с полдороги решил все же вернуться
домой. Еще издали он увидел, как почернели и стаяли снежно-белые стены
Королевского Дворца, как сгнили на глазах розы и яблони Королевского Сада, и из
расселины, зазмеившейся через него, загноилась мутная болотная жижа - вода Реки,
оскверненной прикосновением Колдуна.
Волшебник собрал всю свою мощь и ударил прямо туда, где стоял Колдун: огненная
птица сорвалась с его посоха, и устремилась к Королевскому Трону. Но огромные
раздувшиеся жабы и жирные водяные змеи, в которых превратились придворные,
своими телами закрыли Колдуна, послушные его воле, и, хотя и сгорели многие
заживо, но защитили его от огня. И Колдун засмеялся. И нанес ответный удар.
Удар его был страшен. Волшебник упал на колени, и, схватившись за посох,
взмолился отцу богов Одвину, прося спасти его, чтобы мог он, вернувшись,
отомстить Колдуну, очистить источник, и вернуть к жизни Далекое Королевство. Он
молил о спасении, ибо не чаял уже, что выйдет из этой схватки живым.
И отец богов услышал. И случилось чудо. В небе появилась стая лебедей -
священных птиц Одвина, и Волшебник, вдруг обращенный в одного из них, взмыл в
воздух, широко взмахивая крыльями. Но Колдун завизжал, и швырнул ему вслед свой
колдовской посох. А посох, словно ответив Колдуну, сам злобно взвизгнул и словно
вытянулся, став вдвое длиннее, и коснулся самого длинного пера на крыле нового
лебедя. И сработало страшное колдовское заклятье. Волшебник забыл, что он на
самом деле могущественнейший из магов. Более того, черная сила заклятья была
такова, что он из величественной птицы стал беспомощным птенцом и пал на землю
посреди птичьего двора какого-то крестьянина.
Все, что случилось дальше, описал Ганс Христиан Андерсен. Но прекрасный лебедь
так и не вспомнил, что был когда-то Волшебником, и по сей день так и плавает со
своей стаей по мутной глади болота над погрузившимся в трясину Королевским
Дворцом, где только лебеди своей бессловесной красой и возносят хвалу отцу богов
Одвину.
М О Р А Л Ь
Вот ведь как бывает на свете, господа хорошие...
Озаренный лучами Полярной звезды
Крот
Вечерами сидит у печальной воды
Врет
Его слушает вечер, поющий кроту
В тон
И уносит рассказ навсегда в темноту
Крон
Все как будто бы в чьей-то забытой мечте
Сне
Покачается вечер на новом листе
Дне
Крот расскажет, как он до Америки ход
Рыл
И в Америке в общем совсем без забот
Жил
Тихо-тихо качнется под ветром воды
Тень
И рассыпет за месяцем звезды-следы
День
Крот вздохнет, замолчит, и поднимет глаза
Ввысь
И еще раз вздохнет, и полезет назад
Вниз
В красном уголке студенческого общежития Калдыбасьев читал лекцию о любви. Он
был большим специалистом по любви: он занимался ей долгие годы, и даже защитил
диссертацию. Как обычно и бывает, при всем том Калдыбасьев до сих пор оставался
теоретиком, но теории знал о любви все. Он проштудировал все толстые научные,
околонаучные, и ненаучные книги и с негодованием отмел последние.
Общежитие было преимущественно женским, и приглашение прочитать лекцию о своем
предмете Калдыбасьев воспринял не без некоторого болезненного интереса. Он
встречался со студентками на своих лекциях в институте, где преподавал
общественные дисциплины, на семинарах, где нещадно гонял их по трудам классиков,
и решил, что невредно будет встретиться с юношеством на его территории.
Студентки, которых загнало на его лекцию понимание того, что на следующий день
они встретятся с ним на очередном семинаре, не восприняли это мероприятие как
серьезное, и явились в домашней униформе, некоторые даже в бигудях. Это не
смутило закаленного лектора, и он, крепко вцепившись в борта обшарпанной
кафедры, смело пустился в плавание по неоднократно хоженому маршруту.
Одевался Калдыбасьев в синий пиджак, похожий на замызганную школьную форму, и
сильно потертый на локтях. Все три пуговицы пиджака были всегда наглухо
застегнуты, и от них, на чуть выдающемся брюшке, расходились диагональные
морщины, вверх и вниз от каждой. Под горло, также наглухо, застегивалась
канареечно-желтая рубашка с некогда модными, но уже изрядно, почти добела,
потершимися длинными крылышками воротника, между которыми виднелись крупные
горохи темно-зеленого галстука, такого же цветом, как и мешковатые брюки, не
видные, впрочем, из-за кафедры.
Кроме своих, прямо скажем, неординарных цветовых решений, Калдыбасьев был
известен также и тем, что лекции свои всегда начинал одинаково: поднявшись на
кафедру, как на мостик, он долго неодобрительно смотрел на шумящее перед ним, а
потом, всем своим видом показывая, что готов, словно Ксеркс, приказать высечь
его, громко произносил: "Давайте встанем, так сказать!". Шумящее нехотя с
грохотом поднималось, а потом также нехотя, и также с грохотом, опускалось
обратно. Прочитав лекцию до половины, Калдыбасьев гордо удалялся,
воспользовавшись принятым в институте пятиминутным перерывом, возвращался минут
через пятнадцать, блестя глазками и шмыгая носом, и продолжал бодро и со вкусом.
И в этот раз он собирался начать лекцию, как обычно. Но не получилось: аудитория
сначала никак не собиралась, осело в зальчике две-три отличницы. Комендантша,
ругаясь про себя и вслух, пошла по комнатам, едва не за волосы вытаскивая
нежелающих любви обитателей. Потом недовольные собравшиеся еще долго
рассаживались, шумели, и Калдыбасьев понял, что призыв встать, так сказать, не
возымеет того действия, которое он мог оказывать в институте. Поэтому он,
откашлявшись, заговорил.
Голос его был глух и невыразителен. Он, казалось, не выходил изо рта, а едва
сочился, недоуменно зависал в воздухе в полуметре перед кафедрой, обмякал, и
болтался тяжелой завесью, на которую тут же наслаивались новые складки.
Аудитория реагировала соответственно. Наиболее отличницы изображали активную
заинтересованность, менее активно заботящиеся об исходе сессии обсуждали личную
жизнь, или пытались заснуть.
Калдыбасьев начал издалека. Неторопливо обрисовав любовь в первобытные времена и
заклеймив матриархат и полигамию, он перешел к картинам любви в
рабовладельческом обществе. Бегло упомянув Елену и Клеопатру, и только для
справки назвав имена Париса и Цезаря, он долго говорил об институте брака в
Афинах и Спарте. Перейдя к рассказу о феодальных временах, он счел упоминания
достойными Петрарку и Лауру, но говорил коротко и неодобрительно, потому что
где-то слышал, что Лауре было всего девять лет. Гораздо пространнее он говорил о
Данте с Беатриче, особый упор делая на бестелесный характер их отношений. С
некоторым подъемом рассказывал он далее про феодальные законы, жестоко
преследовавшие изменивших жен. При перечислении мер, применявшихся за
прелюбодеяние, голос его становился ярче, редкие брови вползали на низкий лоб, и
он переступал с ноги на ногу.
По ходу лекции постепенно становилось ясно, что единственная форма любви,
имевшая право на существование вообще - это любовь в браке, законная,
сдержанная, пристойная, со взаимным уважением и по расписанию; предпочтительно,
не снимая черных сатиновых трусов до колен и обоюдно выполняя процессы уборочно-
стирочного характера. В первом приближении такая любовь была описана Николаем
Васильевичем в "Помещиках". Калдыбасьев говорил о такой любви с некоторым даже
чувством.
Калдыбасьев перешел к современному этапу. Никто уже почти не слушал его, и он
чувствовал это, но, поджав живот и расправив плечи, не обращая внимания на шум и
не повышая голоса, размеренно клеймил современную распущенную молодежь,
зачитывая отрывки из прозы и поэзии советского периода. В качестве иллюстрации
он привлек и В.В. Маяковского: "любовь это с простынь бессонницей рваных
срываться ревнуя к копернику его а не мужа марьи ивановны считая своим
соперником"; читал блекло, по бумажке, делая паузы и ударения как раз там, где
не надо.
Кульминацией лекции всегда становилось замечательно чеканное определение, к
которому ровно подводило все сказанное до него. Калдыбасьев приподнялся на
носки, замолчал, качнулся, склонился, помолчав, чуть вперед, чтобы привлечь
внимание, и выложил выстраданное ночами ученых трудов, вдавливая конец каждого
слова: "Любовь есть духовно-нравственное и психо-физическое единение двух
индивидуумов противоположного пола." Он прикрыл глаза, и углы губ его потянулись
горизонтально к ушам, изображая улыбку.
После этой фразы время зависало, не слышалось и не могло слышаться ни звука.
Калдыбасьев молчал и заканчивал лекцию. Он сложил бумаги и книги в затертую
папку на железной молнии, застегнул ее с трудом, и полез в тяжелое прямое
стоячее пальто. В нем и в шляпе он напоминал большую двухкиловую гирю. На улице
было темно и шел снег с дождем. Калдыбасьев постоял на высоком крыльце под
козырьком над дверьми. Мимо пробежали две студентки под зонтиком, увидев его,
прыснули в кулак, и скрылись за углом. Калдыбасьев зажал папку под мышкой, и, не
сгибаясь, шагнул в темноту.
Собаки
Отвратительные, дурно пахнущие, цокающие когтями твари. Когда приходишь домой,
огромная туша с раззявленной пастью бросается на тебя, удобно пристраивает лапы
у тебя на груди, и пытается обслюнявить тебя розово шершавым языком. Чужие
собаки громко лают под окнами, своя норовит им ответить - именно в те часы,
когда твой предутренний сон наиболее сладок и крепок. Маленькие шавки особенно
пакостны - лай у них визгливый, с подвывами и срывом в вой; если большие гавкают
степенно, с раздражающим достоинством, то карлики, мелко семеня тоненькими
ножонками, обегают тебя по кругу, норовят цапнуть за каблук - выше просто не
могут достать - и больше похожи на крыс, что само по себе противно.
Кошки
Лицемерные, желтоглазые, похотливые, душу готовые продать за кусок колбасы
подлизы. Вечно путаются под ногами, особенно когда ты, встав затемно, рассылая
проклятия мироустройству, в котором тебе приходится ходить на работу,
пробираешься на кухню, не включая света, чтобы не разбудить семейство. Надсадно
орут под окнами весной, как, впрочем, и в любое другое время года. Настолько
ловки и гибки, что становится стыдно за свою неуклюжесть. Лезут шерстью всегда,
преимущественно на новые брюки. Обожают играть забытыми на полу погремушками с
двух до трех часов ночи. Едят, опять-таки, по ночам, со стола на кухне, если
что-то найдут. Если не найдут, все равно гуляют по столу.
Канарейки
Летучая мелочь, норовящая при малейшей возможности вылететь из клетки.
Жизнерадостное щебетание в сочетании с болезненной расцветкой особенно
отвратительно с утра в будни, в праздники же - постоянно. Голосистые трели с
успехом имитируют паразитные шумы в водопроводе. Очень любят болеть и сидят,
нахохлившись. При полном незнании канаречьей медицины появляется желание
придушить, чтоб не мучились. Тупо кокетливы, что при полном отсутствии мозгов
могло бы быть привлекательным, если бы не выражение "Но зато какой голос!", не
пропадающее с того, что у канарейки можно назвать лицом.
Черепахи
Тупые, медленные, тугодумные гады с выражением вселенской мудрости на
морщинистых мордах. При одном взгляде на их отягощенное передвижение становится
тошно, и появляется сомнение, стоит ли так торопиться жить и спешить
чувствовать. При этом самодовольство этих медуз в скорлупе таково, что они
умудряются смотреть свысока даже при своем росте. Понять раз и навсегда, что
черепахе ничего не будет, если случайно на нее наступить, невозможно. Не
наступить на это тоже невозможно, поскольку они имеют дурную привычку выползать
на середину комнаты. Другая дурная привычка - заползать под диван и оставаться
жить там. Через несколько дней исчезновения любимца в доме прочно воцаряется
истерическая атмосфера, в которой каждый уверен в том, что любимое блюдо всей
семьи, кроме него самого - черепаховый суп.
Грызуны
Хомяки, крысы, мыши, морские свинки. Грызут все, что можно и нельзя. Имеют глаза
алкоголиков - пустые и незамысловатые, мутно поблескивающие. Жизнедеятельность
характеризуется громким хрупом, непристойностью оголенных хвостов, если таковые
имеются, истерическим мельтешением лапок, издевательски напоминающих руки
человека, судорожными подергиваниями носа и выражением полного идиотизма на
снарядообразных мордах. Как и черепахи, имеют дурную привычку теряться в самый
неподходящий момент и в самых неподходящих местах. Гадят, где ни попадя.
Обезьяны
Наихудшие из всех домашних животных. Чем ближе к оригиналу, тем отвратительнее
копия. До ужаса похожи на людей, при этом вонючи и любвеобильны, как собаки,
унижающе ловки, как кошки, свободолюбивы и при освобождении раздражающе веселы,
как канарейки, исчезающе неуловимы, как черепахи, истерически быстры, как мыши.
В общем, их не зря ненавидели инквизиторы и привечали ведьмы. Мерзкие создания.
... господи, какой же я злой!...
Я шел домой из магазина
Когда из голубых небес
Неторопливо и картинно
Мне в душу чей-то взгляд полез
Я был застегнут и причесан
Побрит почищен и умыт
Не лезьте в душу мне без спроса!
Не нарушайте внешний вид!
Я погрозил наверх и даже
Нахмурил гладкий лоб слегка
И ощутил на шляпе тяжесть
Небес высокого плевка...
Художник Кубик заканчивал заказной портрет. Стоя в холодном огромном зале один -
заказчик уже ушел - он наклонился к самому полотну, едва не коснувшись его
носом, потом сильно отклонился назад, и тут в ноздри его ударил чужой и
отдаленно знакомый запах, вдруг перекрывший запахи красок. Он обернулся неловко,
едва не зацепившись ногой за мольберт, и увидел, что прямо за ним, на низком
подоконнике уже совсем черного ночного окна лежит неизвестно откуда взявшийся
каравай. Небольшой каравай только что испеченного ржаного хлеба едва ли не зримо
испускал потоки теплого, чуть влажного, сыто пахнущего воздуха. Кубик оглянулся
через плечо воровато. Дом молчал, только где-то в дальних комнатах неясно
слышались звуки чужой жизни, скрытой за тяжелыми портьерами с золочеными
шнурами.
Кубик был сыт, да и в общем жил совсем неплохо, но вдруг, непонятно для самого
себя, вдруг протянул руку, схватил теплый каравай и сунул его именно за пазуху,
по какой-то природной, искони взявшейся уверенности, что хлеб надо прятать
именно за пазухой, не в кармане и не в перемазанной красками тряпичной сумке,
которую давно следовало бы выбросить, но Кубик почему-то верил, что она ему
приносит счастье, а именно за пазухой, под курткой, где он плотно прилег к
груди, грея ее через тонкую рубашку.
Кубик на цыпочках подошел к двери в комнаты, прислушался, не идет ли кто, потом,
так же на цыпочках, пересек большой зал, подошел к другой двери, тихонечко
приоткрыл ее, прошмыгнул в слабо освещенную прихожую, сдернул с вешалки свое
тяжелое зимнее пальто, приглушенно покряхтывая и не попадая в рукава, влез в
него, и выскочил на пустынную ночную улицу.
На улице не было ни души, и Кубик облегченно вздохнул. Медленно он двинулся
вперед, осторожно ощупывая хлеб за пазухой, и думая, что же теперь делать
дальше. Возвращаться было стыдно, но возвращаться все равно пришлось бы - хотя
бы за сумкой и за деньгами, которые Кубик еще не получил. Он понимал, что сейчас
его все равно никто не спохватится - заказчик привык к некоторым его
странностям, когда, к примеру, он в середине сеанса бросал кисть, и заявлял, что
пойдет пройдется - поэтому он и не ждал, что сейчас отворится темное окно, и
кто-нибудь из домочадцев пронзительно завопит "Держи вора!". Да и странно было
бы, если бы кто-то сразу заметил пропажу хлеба. К тому же Кубик не был до конца
уверен, что этот каравай, уютно устроившийся у него на груди, не был, так
сказать, неким знаком уважения - мало ли... С другой стороны, не странно ли, что
он, достаточно известный и уважаемый художник, яко тать в нощи пробирается - тут
Кубик невольно усмехнулся: уж очень не подходило это слово к его размеренной,
неторопливой походке - ночной улицей, с караваем, только что похищенным, или
даже, точнее говоря, стащенным - невольно! - из чужого дома?
С каждым шагом Кубик шел все медленнее и медленнее, уже начиная горько сожалеть
о содеянном, и начиная желать вернуться к почти законченной работе, и уже почти
родным казался ему тот пустой холодный зал, откуда он столь поспешно и позорно
скрылся. И с каждым шагом все яснее становилось ему, что он не вернется, и даже
если и решит взять за портрет деньги, то наутро позвонит заказчику и попросит
передать ему деньги и сумку с кем-нибудь, но ни за что не войдет снова в тот
дом.
Он свернул в переулок, ведущий к его дому, пожал плечами, вытащил правую руку,
которой все еще касался неровной хлебной корки, из-за пазухи, сунул руки в
карманы, и зашагал живее, придя, наконец, к определенному решению, каким бы оно
ни было.
По сторонам он не смотрел, и поэтому, когда вдруг увидел внизу в шаге от своих
ботинок чужие, едва успел остановиться, чтобы не влететь с размаху в маленького
человечка, торопившегося ему навстречу.
- Здравствуйте, уважаемый! - радостно засуетился человечек, и прикоснулся черной
перчаткой к плечу Кубика. Кубик уставился на человечка недоуменно, и вдруг
вспомнил, что не далее как вчера они встречались на каком-то невнятном вечере,
долго, горячась, спорили за рюмкой о современном искусстве, и расходясь по
домам, уже чуть не за полночь и сильно навеселе, уговорились о встрече. Как ни
силился, Кубик не мог вспомнить ни имени, ни самого лица: на вечере было модно
полутемно, и представился человечек неразборчиво, поэтому запомнилось Кубику
только странное сочетание согласных, оканчивающееся на привычное "ич", а
начинавшееся с не менее тривиального "кндр".
- С сеанса идете? - человечек, чуть подпрыгивая, пошел с ним рядом, иногда
заглядывая Кубику в лицо.
- Я... да, с сеанса, - растерянно проговорил Кубик. - Вот, понимаете...
- А я ведь вас вчера очень вспоминал, - заискивающе потер ручки и сложил их
перед грудью человечек. - Поверите, до утра не мог заснуть, все думал о ваших
словах!
- О каких словах? - тупо, думая о своем, спросил Кубик.
- Ну как же! - поразился человечек.
- Вы... вот что, - вдруг остановился Кубик. - Я, собственно, домой иду, у вас
дело какое ко мне?
- Да что вы, - всплеснул руками человечек. - Какое же у меня дело может быть?
Безделица сущая!
- Тогда вы меня, ради Бога, извините, - сухо проговорил Кубик. - Я сейчас не
буду с вами говорить, не обижайтесь... не вовремя...
- А мне показалось, - вдруг с какой-то мягкой, но особенной, не присущей простым
болтунам, настойчивостью, сказал человечек, - что как раз вовремя. Разве нет?
- В каком... что? - Кубик вдруг остановился, развернулся и навис на голову выше
человечка. - Не понимаю!
И вдруг, поражаясь самому себе, Кубик прислонился к фонарному столбу плечом,
полуотвернулся от человечка, сгорбился, сунул руки в карманы и заговорил:
- Понимаете, тут такое дело... Был сеанс, хозяин уже ушел, и я портрет
заканчивал. И вдруг чувствую - запах... хлеб, на окне, сзади... И сам не хотел,
а - вот...
И он чуть отодвинул край пальто, чтобы человечек, который сразу начал понимающе
качать головой, мог почувствовать запах, пробивающийся через толстый ворс.
Человечек склонился ниже - Кубик поразился, насколько было похоже это его
движение на то, каким сам Кубик всего десять минут назад склонялся к полотну -
звучно принюхался, и уставился на Кубика. Кубик молчал. Потом он снова запахнул
пальто, и вытащив замерзшие руки из карманов, подул на пальцы.
- И вот... не знаю, что делать, - неловко закончил он.
- Ну, что с хлебом этим делать, я знаю, - неожиданно деловито заявил человечек.
Кубик уставился на него недоуменно.
- Идемте, уважаемый, со мной! -заявил человечек, и, отвернувшись от Кубику,
решительно зашагал вперед.
Кубик пожал плечами, и двинулся следом, удивляясь своей покорности, но не
решаясь противоречить.
Шли они долго, и Кубик уже даже почти отвлекся от мыслей о хлебе, и принялся
смотреть по сторонам. Смотреть, впрочем, было почти не на что - дома вокруг
кончились, и внизу был только снег, светившийся словно бы сам по себе, холодным
химическим светом, а над головой было совершенно черное, туго натянутое небо с
крапом звезд, неподвижных с виду, но если остановиться, задрать голову кверху, и
всматриваться пристально, бешено вращающихся.
Тогда Кубик стал рассматривать черную фигурку прямо перед собой. Человечек
закурил сигарету, и иногда, когда он оборачивался к Кубику, ободряюще ухмыляясь,
а Кубик, спотыкаясь, все тащился за ним, Кубику казалось, что красный сигаретный
уголек вспрыгивает над щекой человечка, и превращается в одинокий красный глаз,
недобро гаснущий до очередной затяжки.
- Нам туда, - вдруг человечек резко остановился и показал рукой куда-то вперед.
В первый момент Кубику показалось, что он падает лицом вперед, и ему даже
пришлось ухватиться за услужливо подставленный локоть, чтобы не упасть. Сразу же
после этого он понял, что они стоят на краю огромного склона, покрытого снегом
настолько ровно, что любому, кто встанет на этом краю, покажется в первый
момент, что равнина, по которой они брели до этого, продолжается ровно и дальше,
и только это он сам завис лицом книзу и вот-вот упадет.
Человечек снова решительно шагнул вперед, и Кубику не оставалось ничего, кроме
как только последовать за ним. Он шел уже безучастно, иногда проваливаясь в
неожиданно глубокие следы, которые оставлял за собой человечек, и двигался уже
не как художник Кубик, а как точка на разделе между черным и белым, который кто-
то решил провести толще, и теперь, как по линейке, толкал карандашом вперед.
Они спускались все ниже и ниже, и вдруг Кубик, в очередной раз подавшись телом
вперед, чтобы вытащить ногу из вязкого снега, столкнулся с человечком, который,
оказывается, уже несколько секунд стоял неподвижно и ждал, пока Кубик доберется
до него.
- Пришли! - радостно объявил человечек, и указал на что-то черное на черном.
Оказалось, что склон продолжается и дальше, только под еще более резким углом,
почти обрывом, и на самом краю этого обрыва прилепилось некое строение,
приземистое и лишенное какой бы то ни было искорки света. Оно казалось
монолитным, но человечек шагнул вперед и размеренно постучал прямо в стену.
Сразу же он обернулся к Кубику и прошептал: - Хлеб, хлеб давайте!
Кубик пожал плечами, вытащил из-за пазухи хлеб и сунул его в протянутую руку. В
стене открылось незаметное прежде отверстие, хлынул квадратный поток мутного
желтого света, и человечек поспешно сунул туда каравай. Окошко - если это было
окошко - сразу закрылось, и Кубик успел только рассмотреть только темную руку,
протянутую за хлебом, и расслышать какое-то удовлетворенное урчание и что-то
вроде хриплого "Хрршо!", и снова остался стоять в черной пустоте, усеянной
радужными кругами после резкого перехода от тьмы к свету и обратно.
От уверенности человечка не осталось и следа. Он снова засуетился, ухватил
Кубика за рукав и с неожиданной силой потянул его вверх по склону.
- Вот и ладно... - приговаривал он, задыхаясь, - вот и хорошо... Вы, уважаемый,
теперь домой идите... спать. Вот и хорошо...
Они взобрались обратно на край склона. Кубик совсем выбился из сил, но схватил
человечка за рукав, и развернул его, уже совсем собравшегося уходить, лицом к
себе.
- Теперь объясните мне, что все это значит, - потребовал он.
- Да полно вам, уважаемый, - человечек вдруг легко стряхнул с рукава руку Кубика
и шагнул в сторону. - Спать, спать ложитесь... - донеслось уже откуда совсем
издали.
Кубик ошалело покрутил головой, шагнул вперед, и вдруг понял, что стоит всего в
трех кварталах от собственного дома. Он поднялся на крыльцо, открыл своим ключом
дверь, осел на пол, как был, в пальто, и заснул.
Мой друг, святая простота,
Ты как покой недостижима
А я скольжу все дальше - мимо
Все мимо белого листка
Все мимо мимо мимо мимо
А простота недостижима
Мой друг, великое искусство,
Не данный Богом мне талант
Не превращать искусство в бант
На кончике косицы чувства
Хочу не превращаться в бант
Но не дан Богом мне талант
Я предпочел бы простоту
Но простота мне не дается
Ну что теперь мне остается
Лишь плакать - плакать в пустоту
Мне ничего не остается
Ведь простота мне не дается
Полузадушена строка
Стремленьем к простоте томима
А простота порхает мимо
Все мимо моего листка
Все мимо мимо мимо мимо
Стремленьем к сложности томима
Часть II. И...
Прильнув к воде бегущей сверху книзу
Забыв о той что плещется у ног
Вишу на самом краешке карниза
Вполне преуспевающий пророк
Я жгу сердца людей своим висеньем
Я знаю что им нужно от меня
Я обрету апостолов паденьем
В асфальт воткнувшись в середине дня
По перебитой вене водостока
Сползает тонкой струйкой забытье
Смешная мысль нелепа и жестока -
А нужно МНЕ висение мое?
Зачем я встал открыл окно и вылез
Каблук впечатав рядом с фонарем
В окне соседском чахлый амариллис
Махал мне искушающе листком
Что я висящий о паденье знаю
Что падать значит не всегда лететь?
Простите мне - я падать не желаю
Желаю в лучшем случае висеть
Я не зову вас виснуть на карнизах!
Атлант наоборот - нелепый вздор!
Но кто-то смотрит мне в подметки снизу
С моим вступая здравым смыслом в спор
Уже, дыша натужно и невнятно,
Со мною кто-то рядышком повис
И я вздохнул - пора влезать обратно
И улыбнулся, устремившись вниз.
В этом городе в дождь - грязь
А в жару - легионы мух
И заученно матерясь
Стадо гонит домой пастух
Изо всех очагов лень
Словно дым застилает день
То ли проклят он то ль забыт
То ли как-то на бок осел
Только всё здесь имеет вид
Будто все давно не у дел
Что случилось тут? Что стряслось?
Словно хрустнула где-то ось
Говорят, что рождались здесь
Знаменитости и не раз
Только это, кажется, лесть
И, наверное, сверху приказ
Потому что, кто думает сам
Бросит все и уйдет к чертям
Говорят что когда-то тут
Пели песни и пили всласть
То ли здесь погулял кнут
То ли переменилась власть
Этот город странен и нем
Называется
Вифлеем
I
У берега ветер рвет в клочья волну
Ветер рвет в клочья волну
Ночь будет короткой и я не усну
До утра
На стекла цветные ложится луна
На стекла ложится луна
И вой в дымоходах и мне не до сна
До утра
Я жду и за дверью погаснет свеча
За дверью погаснет свеча
Ночь будет ненастна красна горяча
До утра
Я брошу собакам живую луну
Брошу собакам луну
Ночь будет короткой и я не усну
До утра
У берега ветер рвет в клочья волну
Ветер рвет в клочья волну
Ночь будет короткой и я не усну
До утра
II
Три тени сгустились - туман и костер
Три тени и клекот и их разговор
Рванье на ветру клокотанье котла
Зеленый огонь и полночная мгла
... полночная мгла
Пружинит тропа под копытом коня
Вдали на обочине призрак огня
Три тени в зеленых кривых лепестках
Три тощие феи в ночных зеркалах
... ночных зеркалах
Три капли зеленого мрака и мрак
И меркнущий уголь кострища бродяг
И не было вовсе зеленых огней
И мы погоняем нещадно коней
... погоняем коней
Коням под копыта дорога бежит
И эхо тройное ударам копыт
И пляшет под вой одичавших собак
Над лесом зеленый хохочущий мрак
... хохочущий мрак
Я не знаю в чем причина
То ли старость - то ли сплин
То ли на сердце морщина
Без особенных причин
День не в день и утро только
Неприятный рецидив
И луны сухая долька
Повторяет мой мотив
Вместо золота на синем
Мутно-желтое на сером
Вместо ласкового ветра сквозняки
В овощах не витамины
А нитраты и холера
И в глазах тоска и мука
И под мукою - мешки
И с утра до поздней ночи
Все всё делают назло
Это вредно
Даже очень
Это просто заподло
Телевизор слишком тихо
А дитя наоборот
И ткачиха с поварихой
С сватьей бабой Бабарихой
Составляют вновь комплот
А еще придут с рассветом
Рассказать, что солнце встало
И потащат восторгаться красотой
Я - вы знаете - не изверг
И мне нужно очень мало:
Чтоб в хандру мою не лезли
Ни рукой и ни ногой!
Где-то там за краем света
кто-то вытащил затычку
и пошла по стенкам книзу
фиолетовая синь
голубеющая сверху
и чернеющая снизу
в завихреньи турбулентном
как всегда при сливе вод
Опускается все ниже
нехотя сползает с крыши
прилипает к стенкам неба
но не сильно а чуть-чуть
и кружит темноворотом
кое-где по подворотням
возвращая вновь окраску
серым кошкам и котам
Вот и слито, вот и славно
все вокруг бело и плавно
чуть в лазурь, чуть в позолоту
чуть в смешной цветок розан
но проходит время суток
кто-то открывает краны
и опять на землю льется
поднимаясь темнота
Кто-то там подходит сверху
кто-то пробует рукою
правильность температуры
холодна ли? горяча?
и устало погружает-
ся в целительную ванну
и сидит каким-то телом
вплоть до самого утра
Я вижу его - он приходит к себе домой
снимает пиджак и готовится сесть за ужин
Он прав - но разве от этого легче?
Он глуп - но от этого легче ему
Это маленький
маленький
маленький
маленький
бес
Он не знает
событй
сомнений
тревог
и чудес
Это маленький бес
Я вижу его - он берет старую книгу
с безнадежной улыбкой он открывает ее
В сотый раз он читает авантюрный роман
и счастлив, что может предвидеть развязку событий
Это маленький
маленький
маленький
маленький
бог
Знает он
повороты
решений
судеб
и дорог
Это маленький бог
Я вижу его - он включает свой телевизор
и привычно сверяет свое время с Москвой
И ему говорят что снова что-то решили
и его уверяют что это он что-то решил
Это маленький
маленький
маленький
маленький
я
У меня есть
семья
и работа
и дом
и друзья
Это маленький я
а времечко нас тюкает по темечку
и радуется шуточкам своим
и времечко мы щелкаем как семечки
и в шелухе по темечко стоим
Популярность: 6, Last-modified: Wed, 24 Feb 1999 06:14:59 GmT
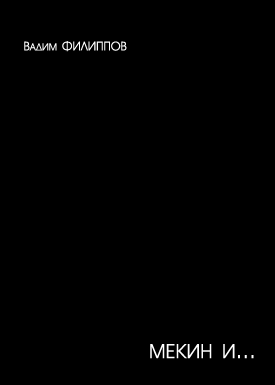 ---------------------------------------------------------------
© Copyright Вадим Филиппов
Email: phil@sandy.ru
Date: 23 Feb 1998
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
© Copyright Вадим Филиппов
Email: phil@sandy.ru
Date: 23 Feb 1998
---------------------------------------------------------------