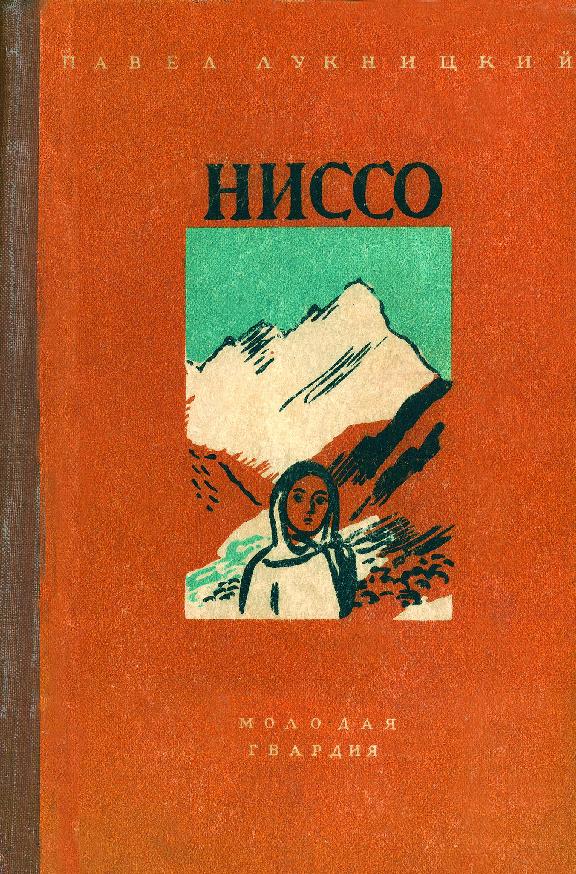---------------------------------------------------------------
© Copyright Павел Николаевич Лукницкий
Email: SLuknitsky(a)freemail.ru
Date: 10 Jul 2003
---------------------------------------------------------------
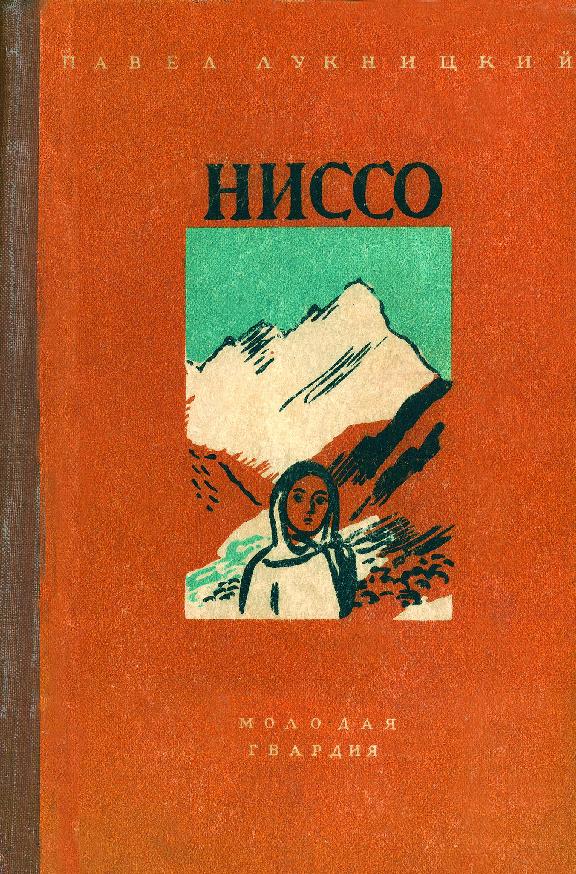 Роман П. Н. Лукницкого "Ниссо", написан перед Отечественной войной.
Переведен на десятки языков Европы и Азии.
По роману "Ниссо" созданы две оперы - композитором С. Баласаняном
(либретто Ценина), ставившаяся в Таджикистане и телевизионным центром в
Москве, и болгарским композитором Дмитром Ганевым. В 1966 году на экраны
вышел фильм "Ниссо" (Таджикфильм. Режиссер М. Арипов, сценарий П. Лукницкого
и Л. Рутицкого), сделанный по мотивам романа.По роману "Ниссо"
Д.Худоназаровым в 1979 году снят телевизионный многосерийный фильм по заказу
Гостелерадио СССР (сценарий В.Лукницкой).
Перу П. Н. Лукницкого принадлежит ряд романов, повестей, рассказов. В
числе его произведений много очерков, посвященных путешествиям по Памиру и
другим отдаленным горным районам Средней Азии, Казахстана, Заполярья. Немало
произведений П.Н. Лукницкого посвящено героической обороне Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны. В 1961 году вышла в свет книга "На берегах
Невы", в 1964 - книга "Сквозь всю блокаду", в 1961, 1964 и 1966 годах -
трилогия, фронтовой дневник "Ленинград действует".
П. Н. Лукницкий - участник Великой Отечественной войны - награжден
орденами и медалями.
Когда, преодолев Большую Ледниковую Область, ты захотел увидеть истоки
реки Сиатанг, ты прежде всего осилил труднейший перевал, взнесенный природой
на пять с половиною километров над уровнем моря. Встав над пропастью на
снежной обрывистой кромке этого перевала и обратившись лицом к югу, ты
увидел внизу острые хребты гигантских горных массивов, уходящие ряд за
рядом. Серые, иззубренные, скалистые, с почти отвесными склонами, они,
простираясь вдаль, в синюю глубину пространств, походили на спины
исполинских, недвижимых, навеки уснувших драконов. Разделенные провалами
таких же бесконечно длинных и все углубляющихся ущелий, они создали
впечатление мира дикого, мертвого, лишенного какой бы то ни было
органической жизни. Только тонкие облачка, курящиеся над ледяными зубцами
хребтов, свидетельствовали о том, что в этом первозданном мире существуют
переменчивость и движение. Да еще, заметив внизу застывшего в парящем полете
грифа, ты, путешественник, подумал, что эта огромная живая птица, кружащаяся
над хаосом древних морен, существует здесь вопреки законам природы.
Обратившись к карте, ты убедился в том, что ни сама Большая Ледниковая
Область, ни верховья видимых тобою рек на карте не обозначены. И вместо
каких бы то ни было точных географических начертаний на ней тянутся всего
лишь два дразнящих воображение слова: "Неисследованная область". Убедившись,
что спуститься здесь невозможно, ты перестал гадать, какое именно из диких
ущелий этих Высоких Гор называется ущельем реки Сиатанг.
Повернув обратно, ты ушел на север и целую неделю блуждал среди
безжизненных фирнов и ледников, ища пути назад, задыхаясь от недостатка
воздуха и только крепостью духа поддерживая в себе уверенность в том, что у
тебя хватит уменья и сил выбраться из этих страшных необитаемых мест. А
потом еще две недели ты спускался верхом в те жаркие и благодатные долины,
где советские люди возделывают хлопок, живя в мирном неустанном труде.
И когда тебя спросили о стране Сиатанг, ты сказал, что ничего не знаешь
о ней, хотя она лежала перед тобой как на ладони. И добавил, что, судя по
карте, проникнуть туда можно только кружным путем, пройдя сотни километров
по нагорьям Восточных Долин, достигнув Большой Пограничной Реки и
спустившись по узкой тропе до устья реки Сиатанг, - войдя, таким образом,
через полтора месяца странствий в ее ущелье не сверху, а снизу.
- Но и с той стороны, кажется, еще никто из исследователей в это ущелье
не заходил! - прибавил ты, подумав...
Сведения о реке Сиатанг, имевшиеся в описываемые - уже давние для нас
теперь - годы, были, конечно, беднее того, что известно ныне. Но перенесемся
в те годы и увидим: независимо от каких бы то ни было сообщений географов,
река Сиатанг, рожденная среди ледников, течет внизу по дну пропиленного ею
за десятки тысячелетий ущелья и дает жизнь маленькой народности горцев. Они
говорят на своем сиатангском наречии, имеют собственную, полную событий
историю и вместе со всей необъятной Советской страной после Октябрьской
революции начали жить по-новому.
За хребтами, образующими ущелье реки Сиатанг, на сотни километров
простираются другие хребты, разделенные другими ущельями, в каждом из
которых текут такие же, как Сиатанг, реки.
На скалистом береговом склоне одной из них ютится далекое от всего
мира, маленькое, еще недавно никому не ведомое селение Дуоб. Жители его
говорят на сиатангском наречии.
И кто бы мог думать, что норку ее
Зимой не разроет зверье?..
...Есть солнце, и камни, и ветер, и снег,
В мученьях за веком рождается век,
Но ты их сильней, Человек!..
Раздумья в Высоких Горах
Конечно, соглашаться на предложение Мир Али не следовало. Но, приехав в
маленькое, сжатое скалами селение Дуоб, он так вежливо разговаривал с
Розиа-Мо, так горячо убеждал ее, что она в конце концов согласилась. Что
было делать? С тех пор как муж ее умер, она выбивалась из сил, чтобы
прокормить себя и свою маленькую Ниссо, и все-таки голодала. Мир Али сказал
ей: "Целое лето ты будешь работать в Яхбаре, у самого Азиз-хона, а осенью он
даст тебе овцу и столько муки, что, вернувшись в Дуоб, ты всю зиму будешь
жить так спокойно, как будто у тебя есть здоровый, богатый муж". Розиа-Мо
посоветовалась со своей сестрой Тура-Мо. Сестра согласилась за половину
заработка, который Розиа-Мо принесет осенью, взять к себе на лето маленькую
Ниссо.
Розиа-Мо завалила вход в свое жилище большим камнем и, до глаз укрыв
лицо белым покрывалом, пошла впереди осла, на котором выехал из селения Мир
Али. Никто не провожал Розиа-Мо: жители Дуоба мало интересовались ее
судьбой, а Тура-Мо еще до рассвета ушла на Верхнее Пастбище. Розиа-Мо шла по
узкой каменистой тропинке, высеченной в скале. Мир Али ехал за нею молча,
поглядывая на реку, швыряющую пену к подножью откоса, над которым вилась
тропа. Розиа-Мо перед входом в теснину ущелья захотела в последний раз
взглянуть на родное селение, но, встретясь с суровым взглядом Мир Али,
отвернулась и опустила глаза.
Она пыталась представить себе свою будущую жизнь там, в Яхбаре,
расположенном за Большой Пограничной Рекой. Ничего не знала Розиа-Мо об этой
стране Яхбар, но о правителе ее, Азиз-хоне, многое слышала от соседей,
бывалых людей: они часто рассуждали между собой о богатстве его, и о
могуществе, и о власти. Что ждет ее там? Смутное беспокойство омрачало
Розиа-Мо...
Когда теснина расширилась, Розиа-Мо увидела на крошечной лужайке двух
лошадей и мальчика, прикорнувшего около камня. Мир Али отдал мальчику осла,
велел Розиа-Мо сесть на лошадь, сам сел на другую, и они двинулись дальше.
А к вечеру на каменистой террасе, там, где тропа спустилась к реке,
путники повстречались с группой всадников, и среди них Розиа-Мо узнала
ненавистного ей Алим-Шо. Она сразу поняла, что Мир Али ее обманул и что если
Алим-Шо подъедет к ней, то никогда уже не увидит она ни родного селения, ни
своей дочки Ниссо.
Этот Алим-Шо сватался за Розиа-Мо несколько лет назад и уехал,
взбешенный ее отказом. Этот Алим-Шо через год напал на ее мужа по дороге к
Верхнему Пастбищу и избил его камнями так, что муж уже не мог больше
оправиться. Этот Алим-Шо после смерти мужа приезжал в Дуоб свататься еще раз
и уехал еще более взбешенным, когда Розиа-Мо при всех плюнула ему в лицо.
Теперь он приближался к ней на своем яхбарском коне, улыбаясь так, будто
ничего не случилось.
В страшной тревоге Розиа-Мо быстро осмотрелась вокруг. Старый Мир Али
ехал сзади и закрывал путь к отступлению. Направо высились отвесные склоны.
Налево шумела река. По ту сторону реки вилась такая же тропинка, и там не
было никого. Если бы Розиа-Мо рассудила здраво, она поняла бы, что все
равно, куда ни кинься, от всадников Алим-Шо ей не уйти. Даже если б она
домчалась до селения, кто вступился бы за нее? Но думать было некогда, и
только слепое отчаяние заставило ее решительно погнать своего коня в реку.
Умный горячий конь рванулся в поток, не побоявшись бурлящей воды. Шум реки
заглушил гневные крики Алим-Шо и его приятелей. Они кинулись в воду, но
беглянка раньше их успела выбраться на противоположный берег.
И по тропе, по какой разумный человек ездит только шагом, Розиа-Мо
помчалась карьером. Она не слышала голосов мужчин, кричавших ей что-то
вдогонку, и ни разу не обернулась. В паническом страхе она погоняла коня. И
то, что должно было случиться, случилось. На крутом повороте узкой тропы
нависшая скала вышибла женщину из седла. Ее раздробленная нога осталась в
стремени. Розиа-Мо волочилась головой по камням, пока испуганный конь не
остановился; и когда Алим-Шо медленно выехал из-за поворота тропы, он
увидел, что Розиа-Мо мертва. Он наклонился над ней, сжав губы и отирая
рукавом халата свой потный, блестящий лоб. Дотронулся до ее окровавленного,
разбитого тела и пробормотал про себя молитву. А когда подъехали его
приятели, они, спешившись, молча постояли над Розиа-Мо, не глядя один на
другого.
А затем, совершив все, что полагается в таких случаях совершать
правоверным шиитам, сбросили в реку труп Розиа-Мо и, забрав с собою коня,
уехали во владение Азиз-хона. А Мир Али, подкупленный ими слуга Азиз-хона,
вернулся к своему хозяину, решив, что язык его никогда не разболтает
историю, которую в этот вечер видели его глаза.
Через несколько дней старый пастух, возвращаясь в селение, нашел у
прибрежных скал изуродованное тело Розиа-Мо - еще недавно сильной и красивой
женщины. Бедняки-соседи и Тура-Мо пришли сюда на привычные похороны, но
никто не узнал истинной причины смерти Розиа-Мо.
А потом старики собрались и решили, что маленькая Ниссо должна остаться
у Тура-Мо. И гневная Тура-Мо вынуждена была согласиться, потому что ни один
из ее доводов на стариков не подействовал. "Все бедны, - сказали они, - все
не хотят лишнего рта, все в зимние месяцы кормятся только вареными травами,
но Розиа-Мо была твоею сестрой, и ты должна взять девочку к себе".
И Ниссо осталась у своей тетки.
Будь Зенат-Шо дома, он, вероятно, быстро успокоил бы Тура-Мо, сказав
ей: "Если собаке подкинуть чужого щенка, она все-таки станет его кормить;
девчонка будет есть то, что мы едим сами! А потом станет нам помогать -
разве плохо, когда в доме есть лишние руки?"
У Зенат-Шо слишком мягкий характер, он всегда думает о других, а о себе
забывает. Ведь не всю жизнь девчонка может бегать по селению голой - ей
понадобится рубашка, да мало ли что ей понадобится, пока она будет расти?..
Зенат-Шо нет дома, и неизвестно, когда он вернется. Два года назад он ушел
на заработки за пределы Высоких Гор. Кто может знать: жив он или умер?
Тура-Мо вынимает сушеные тутовые ягоды из мешка и швыряет горсть их на
плоскую плиту сланца. Кладет ладонь на большой круглый камень, раскачивает
его, давит сухие ягоды, толчет их в муку, собирает муку в деревянную чашку,
бросает на плоскую плиту новую горсть сухих ягод...
Домотканая рубаха Тура-Мо грязна и изодрана, в прорехах поблескивает ее
загорелое тело. Она худа, но руки ее хорошо развиты и сильны, - круглый
камень поворачивается ритмически, похрустывая иссушенным прошлогодним тутом.
Непослушные черные привязные косы мешают ей, она беспрестанно откидывает их
резким движением голого локтя. Такие косы, сплетенные из козьей шерсти,
носят все женщины Высоких Гор, подвязывая их к своим волосам. У Тура-Мо они
черные, давно уже черные. Многое отдала бы Тура-Мо за право вернуть свои
красные косы, какие подвязывала, когда была девушкой. Но это время ушло, - у
Тура-Мо уже двое детей, надо думать только о них. Был еще третий ребенок, но
он умер от оспы, да, пожалуй, жалеть о нем и не стоит. Птицы, овцы, даже
змеи могут много есть, ни о чем не заботиться, делать то, что им хочется, а
ей, Тура-Мо, на что ее молодость, если даже самое маленькое желание надо
всегда гнать от себя?
Нет, так продолжаться не может. Разве в силах одинокая женщина
прокормить своих детей, да еще чужого ребенка? Если Зенат-Шо умер, зачем его
ждать? Не пора ли подумать о другом муже? Если жив - сам виноват, что не
возвращается до сих пор! Пусть Бондай-Шо, сосед Тура-Мо, - юродивый и
зобатый; без богатства где найдешь здорового и свободного мужчину? Он все
чаще приходит во двор и спрашивает: "Не забежал ли к тебе, Тура-Мо, мой
козленок?" Какой у него козленок, - нет у него ничего, кроме тощего, с
облезлой шерстью осла. Но Тура-Мо будто не знает, до сих пор она все
отвечает: "Не видела. Наверное, не забегал". А ведь она молода, ее тело
налито жизнью, как зрелый посев, и все чаще ей хочется ответить ему:
"Посмотри, Бондай-Шо, кажется, что-то мелькнуло, когда я ходила к каналу,
может быть, и правда, твой козленок пробрался в мой дом". У Бондай-Шо
мускулистая грудь и крепкие руки, он хорошо поет свои странные песни, он
ходит по другим селениям и всегда приносит домой баранье сало, сушеное мясо,
мешок абрикосовых косточек или тута. Зоб? Что значит зоб, кто здесь обращает
на это внимание? Хасоф тоже зобатый, а имеет красивую, молодую жену.
Хушвакт-зода, и Махмут, и Худай-Назар - все зобатые, а у всех жены, и жилье,
и тутовые деревья, и никто не смотрит на них иначе, чем на других мужчин.
Бондай-Шо, как и все, умеет сеять зерно, обрабатывать землю, пасти скот,
направлять воду в каналы. Может быть, в Бондай-Шо сидит злой дух? Ведь вот
когда Бондай-Шо катается по земле, и кричит, и беснуется, и плюется, -
наверное, в нем волнуется дэв, стараясь выскочить из него. Но это с
Бондай-Шо случается редко, а чаще всего он беспечен и весел, даже веселее
других. Он, наверное, скупится на подарки Барад-беку, чтобы получить от него
хороший амулет, который избавил бы его от таких беснований. А если он найдет
в ее доме своего козленка, она заставит его купить хороший амулет!
Наполнив ягодною мукой деревянную чашку, Тура-Мо несет ее дом. Босые
крепкие ноги ее белы от тутовой пыли; войдя в дом, Тура-Мо ставит загорелую
ногу на край деревянной чашки, осторожно сгребает с нее в чашку мучную пыль
- надо беречь каждую крупинку муки, особенно теперь, когда в доме появился
лишний рот. Высыпает муку на платок, возвращается с пустой чашкой к плоскому
камню, продолжает помол. Солнце накалило камень, но руки Тура-Мо не боятся
ни холода, ни жары, она прилежно работает и думает о Ниссо... Может быть,
Ниссо несчастливая? Может быть, от ее присутствия в доме будет сглаз родным
детям? Может быть, от Ниссо распространится на них несчастье?.. Девчонке
теперь восемь лет, по всем признакам, она как будто здорова... И надо
думать, никаких злых дэвов в ней нет. Пожалуй, Тура-Мо нечего опасаться.
Летом каждая ступенька, подпертая каменною стеной, станет маленьким, в
две-три квадратные сажени, полем: натаскают на носилках земли, рассыплют ее
темным и ровным слоем, посеют просо, ячмень, горох.
Но пока еще не ушла зима. Крошечные площадки еще завалены неубранными,
прикрытыми снегом камнями. Камни падали всю зиму с той гигантской осыпи, что
высится над селением, уходя к остроконечным вершинам горы. Правда, эти камни
уже не ворочаются под ногами, они крепко смерзлись, но под снегом не видно
их острых ребер, идти по ним босиком очень больно. С площадки на площадку,
как по лестнице великанов, цепляясь за выступы грубо сложенных стен,
спускается к реке Ниссо. Вся ее забота - не уронить большой глиняный кувшин;
она то ставит его себе на голову, то прижимает к груди, обнимая тоненькими
руками.
Черные волосы Ниссо слиплись - самой ей некогда их расчесывать, да и
нечем: деревянный гребешок есть только у тетки, а тетка не позволяет трогать
его. Тетка несправедлива: родным детям, Зайбо и Меджиду, она иной раз
расчесывает волосы гребнем, а Ниссо - никогда. Но Ниссо уже привыкла ничего
не просить у тетки, - в лучшем случае тетка только накричит на нее. Вот
придет лето, вода станет теплее, Ниссо сама вымоет себе волосы.
С гор дует острый, ледяной ветер. На Ниссо рубашка из брезентовой
торбы, слишком короткая, - но хорошо, что есть хоть такая. Эту торбу Тура-Мо
нашла в доме своей покойной сестры еще в прошлом году - вероятно, ее забыл
Мир Али, когда приезжал, чтобы увезти с собой Розиа-Мо. Неоткуда больше было
взяться торбе: ведь в Дуобе ни одной лошади нет, а если б и были, то кто в
этих местах стал бы тратить такой хороший кусок завезенного издалека
брезента на лошадиную торбу? В прошлом году Ниссо бегала по селению голой,
но ведь ей уже восемь лет, она уже скоро невеста, и соседи убедили Тура-Мо,
что девочке пора быть одетой. Тура-Мо долго упорствовала - ведь для торбы
можно найти лучшее применение, - но с мнением соседей все-таки следует
считаться! Кляня девчонку, на которую всегда надо тратиться, Тура-Мо,
наконец, прорезала торбу, пришила к ней две шерстяные тесемки, со злобой
сказала: "Носи!"
Новое платье Ниссо походило на черепаший панцирь. Под мышками и на шее
Ниссо появились багровые полосы: через несколько дней они превратились в
гноящиеся раны. Ниссо не плакала, потому что была странной девочкой: она не
плакала никогда. Воздух в селении был чист и целителен, вскоре от ран
остались только рубцы, похожие на мозоли, а жесткое брезентовое платье могло
не развалиться до конца жизни Ниссо.
Ниссо спускается к грохочущей реке. Подойдя к берегу, спрыгивает на
большой плоский камень, охваченный бурлящей пеной, наклоняется, крепко держа
кувшин. Холодная вода закипает у его горлышка, стремится вырвать кувшин из
рук Ниссо. С трудом подняв его сначала на плечо, затем на голову, Ниссо
устремляется в обратный путь.
Проклятый ветер! Он насквозь пронизывает тело. Когда же, наконец,
разомкнутся тучи над этим ущельем? Всю зиму они плывут и плывут, все в одном
направлении, от тех ледяных вершин, с которых бежит река. Ниссо ничего в
мире не знает, но не сомневается, что, когда пройдут вниз все тучи, появится
солнце, ветер станет теплее и ходить за водой будет гораздо легче.
А главное - если б не трещина в основании кувшина, из которой вечно
течет вода! Ниссо старательно зажимает трещину пальцами, но вода все-таки
струится по руке вниз, пробегая по лицу и по шее до голых плеч, замерзает на
ледяном ветру. Льдинки жгут, колют плечи Ниссо, а рук от кувшина отнять
нельзя. Стуча зубами, дрожа, девочка осторожно взбирается по камням,
стараясь не поскользнуться. Теперь она поднимается к дому по узкой тропинке:
этот путь гораздо дальше, но ведь с кувшином, полным воды, никак не
подняться по стенкам, разделяющим ступени полей.
Если б Розиа-Мо была жива, она, наверное, ходила бы за водой сама, -
все взрослые женщины зимой ходят за водой сами, но Тура-Мо занята другими
делами, ей совсем неинтересно думать о чужой девчонке! Вот и сегодня, - куда
ушла Тура-Мо? Сказала только детям: "Сидите тут тихо!" - и ушла, и весь день
ее нет. Впрочем, Ниссо очень хорошо знает, где проводит дни тетка. Конечно,
она у этого Бондай-Шо, который только и знает, что валяется на своей
козлиной шкуре да бренчит на двуструнке. Каждый день Тура-Мо уходит к нему,
и они запирают дверь, и больше никто в селении целый день их не видит!
Ниссо окоченела и торопится к дому, но с кувшином в гору бежать нельзя,
она только старается быстрее перебирать ногами и тяжело дышит сквозь
стиснутые зубы.
Каменные лачуги селения черны. Каждая из них окружена пустым,
омертвелым садом, запрятана в каменные ограды. Улиц в Дуобе нет, есть только
узкие, извилистые проходы между оградами, - такие узкие, что в них с трудом
могут разойтись два осла. Ледяной горный ветер вымел все селение, сугробы
снега удерживаются только в самых глухих углах между большими камнями.
Жителей не видно - кому охота выбираться на такой ветер, да и что делать в
селении зимою? Тем, у кого еще остались тутовая мука и сушеные яблоки, нет
нужды выходить из дому, - как-нибудь до весны протянут.
Ледяная вода все течет, замерзает на плечах и груди Ниссо. Но вот она
добралась до дому, и кувшин еще до половины полон водой. Ниссо входит в дом,
кидает взгляд на Зайбо и Меджида, катающих в углу бараньи позвонки, устало
выливает воду из кувшина в чугунный котел, вмазанный в очаг. Прыгает, трет
тело руками, обкусывает ледяную корку, налипшую на руки.
- Ниссо, есть хочу... Дай мне есть... - слезливо ноет шестилетний
Меджид.
- Молчи! Я сама хочу. Надо еще идти за травой, - говорит Ниссо, дав
Меджиду по уху. - Сидите тихо, пойду за огнем.
Спички в Дуобе есть только у почтенного Барад-бека. Но и хвороста,
чтобы поддерживать огонь постоянно, тоже ни у кого не хватило бы. Жители
Дуоба держат негасимый огонь по очереди. Ниссо, взяв глиняную чашку,
выбегает из дому и через несколько минут возвращается, прижимая чашку к
животу.
Осторожно хватая принесенные угли пальцами, она вкладывает их в очаг на
приготовленные куски сухого навоза. Прикрывает огонек ладонями, старательно
дует, пока всю ее голову не окутывает синеватый едкий дымок.
Меджид и Зайбо опять беззаботно играют в бараньи косточки.
- Смотри, чтоб огонь не потух! - сердито бросает Ниссо Меджиду и опять
выходит за дверь.
Свирепый ветер швыряет горсть снега в ее разгоряченное лицо. Ниссо
бежит по селению, прыгая с камня на камень. Она озабоченно размышляет: где
еще в ущелье над Дуобом могла сохраниться трава "щорск"?
Селение уже далеко внизу, горный ручей звенит по ущелью над глыбами
снега, огромные скалы беспорядочно нагромождены по берегам ручья. Кое-где
между ними торчат из-под снега сухие ветки кустарника.
Там, где Ниссо вчера нарвала травы, - вот под этой большой скалою, -
сегодня нет ничего: кто-то уже побывал здесь, весь снег разрыт. Ага! Тут
прогуливался осел Барад-бека - вот следы его; конечно, именно этот осел!
Ниссо безошибочно узнает следы любого животного - много ли их в Дуобе! Ах,
бродяга, объел всю траву! И ведь выбирает, проклятый, именно ту, из которой
можно варить похлебку!.. Может быть, вон за тем камнем сохранилась? Там нет
никаких следов.
Ниссо обходит скалу, разгребает босыми ногами снег, но под снегом
только голые камни. Переходит в другое место, натыкается на куст облепихи, -
колючки впиваются в ноги. Ниссо садится прямо на снег, сердито вытаскивает
из ноги колючки, размазывает по ноге кровь, а глазами уже рыщет вокруг:
может быть, там? Или там?.. Прямо беда: с каждым днем все меньше травы в
ущелье, скоро, наверное, придется ходить за перевал... Но пока дойдешь туда,
пожалуй, совсем замерзнешь!
Наконец под одним из камней Ниссо замечает знакомую травинку. Быстро -
на этот раз руками - разгребает снег и, найдя пожелтевшие пучки, с
ожесточением рвет их. Надо бы нарвать сразу на несколько дней, но руки уже
окоченели, - скорее, скорее домой! Ниссо еще не научилась думать о
завтрашнем дне, она живет только сегодняшним и, не забросав несорванную
траву снегом, убегает вниз, прижимая к груди охапку обмерзшей травы.
Дома вода уже закипает. Ниссо бросает в котел всю добычу и, сняв себя
холодную рубашку, сидя голая у огня, протягивает к нему то руки, то ноги.
Понемногу тепло наполняет ее, и она перестает дрожать.
Трава варится долго. Ниссо беспечно глядит в котел, но голод уже сводит
ей рот. Она зевает от голода и помешивает варево большой деревянной ложкой.
Меджид и Зайбо забыли игры. Не утерпев, Меджид пытается залезть в котел
пальцем, но Ниссо звонко шлепает его, и он, отдернув руку, как ни в чем не
бывало продолжает глядеть на закруженную кипящей водой траву.
Наконец похлебка готова. Надо бы гасить огонь - ведь каждый кусочек
сухого навоза на счету, но Ниссо медлит: так хорошо течет от огня теплый
воздух! Он отгоняет мороз, проникающий сквозь щели между камнями, из которых
сложены стены жилища.
Ниссо сует Зайбо деревянную ложку.
- Ешь!
Зайбо двумя ручонками ворочает ложку в котле, стараясь выудить как
можно больше вареной травы.
- Скорее! - говорит Ниссо, и Зайбо ест, обжигаясь.
Ниссо передает ложку Меджиду, ждет своей очереди. Ветер дует сквозь
стены, холодит голую спину Ниссо, но грудь ее раскраснелась от жары.
Пятилетняя Зайбо в куске козьей шкуры, обвязанной вокруг ее тельца шерстяной
веревкой, похожа на маленькую обезьянку. Меджид с ногами увяз в лохмотьях,
когда-то бывших холстом. Ложка ходит из рук в руки, все едят жадно и молча,
детские животы надуваются: трава съедена, но горячей потемневшей воды еще
много.
Дом Тура-Мо ничем не отличается от других домов маленького селения.
Вдоль грубо сложенных каменных стен тянутся широкие нары из глины. Нары
разбиты на отдельные части поперечными перегородками. В углах жилища они
образуют клетушки. Раньше, когда Тура-Мо жила лучше, в клетушках зимой
ягнились овцы, хранились мука, сено, солома; выше - на поперечных полках -
стояли деревянные чашки с кислым молоком, козьим сыром, просяными лепешками.
Теперь эти клетушки пусты - у Тура-Мо нет даже одеяла, и ночью укрыться
нечем.
У самого входа, налево от него, - загородка: корова Тура-Мо еще жива,
но страшно отощала, ее давно кормят только сухими листьями тутовника,
выпрошенными в долг у Барад-бека. Если он откажется дать еще, то корову
придется зарезать на мясо, а Тура-Мо скорее позволит отрезать себе руку, чем
лишится коровы. Ниссо дружит с коровой. Ниссо чаще всего спит вместе с ней,
свернувшись клубочком, прижавшись к ее теплому боку. Меджид и Зайбо по ночам
прижимаются к Тура-Мо; прикрытая двумя джутовыми мешками, она спит прямо на
нарах, у самого очага, хранящего ночью остатки тепла. Для Ниссо места здесь
нет. Ну и пусть: спать с коровой гораздо спокойнее, корова привыкла к Ниссо
- не придавит ее, не ударит. Ее зовут Голубые Рога, но рога у нее вовсе не
голубые и очень маленькие, она черная, лоб белый. Ниссо знает, что Голубые
Рога - очень доброе и нежное животное, не однажды бывало - Ниссо просыпалась
оттого, что Голубые Рога лизала ее лицо своим шершавым языком. Ниссо любит
корову и, пожалуй, больше никого на свете не любит. И сегодня Ниссо тоже
оставила ей два пучка добытой под снегом травы, - вот сейчас, как только
кончит есть похлебку, отнесет эти два пучка корове, приляжет с ней рядом и
будет слушать урчание ее впалого живота и скрип плоских, стертых зубов...
Ниссо тушит огонь очага круглым камнем. Едкий дым растекается по всему
жилищу. Меджид и Зайбо, свернувшись, как котята, уже заснули. Ниссо
оттаскивает их в сторону, чтобы во сне они не свалились в очаг, берет свое
горячее, но все еще сырое платье, пучки травы, лежавшие под ним, и
направляется к загородке, за которой ее ждет Голубые Рога.
Но в жилище входит необычайно веселая Тура-Мо. Ее длинная белая рубаха,
под которой только штаны, запорошена снегом, ее косы растрепаны, на конце
правой привязной косы болтается большой ключ от кладовки, от той кладовки, в
которой - Ниссо это знает наверное - давно уже ничего нет. Смуглое лицо
тетки, большие темные глаза ее не такие, как всегда: Тура-Мо улыбается. Это
удивительно, что Тура-Мо улыбается. Ниссо не помнит, чтобы тетка улыбалась.
Странные глаза у тетки сейчас: смеющиеся, острые и блестящие. Ниссо
старается прошмыгнуть за перегородку, но Тура-Мо толчком возвращает девочку
к очагу. Ниссо молча садится, потупив взор и прикрывая платьем пучки травы,
приготовленной для коровы. Но Тура-Мо как будто не обращает на Ниссо
никакого внимания: отвернулась, закинула ладони под косы, полузакрыла глаза,
расхаживает вдоль и поперек жилища. Ниссо искоса наблюдает за непонятным
поведением тетки. Обычно Тура-Мо придет, сядет у очага, даст Меджиду или
Ниссо подзатыльника или, напротив, приласкает Зайбо, начнет есть молча и о
чем-то задумавшись, потом долго, сомкнув губы, сидит без движения - всегда
мрачная, всегда недоступная.
Сегодня с ней что-то особенное: ходит, будто танцует, и шаг у нее
легкий, глядит в потолок, улыбается. Ниссо наблюдает за ней и думает: не
убежать ли к корове? - но боится обратить на себя внимание тетки, - лучше не
шевелиться пока!
Тура-Мо вдруг начинает петь, - без всяких слов, только тянет на все
лады одно протяжное: "А-а-а..." Поет и ходит, как сумасшедшая. Ходит все
быстрее и быстрее, приплясывает, и косы ее развеваются, рубаха зыблется
волнами по ее тощему гибкому телу. Никогда не пела так тетка, и Ниссо уже не
на шутку страшно. Что будет дальше?
Разом умолкнув, Тура-Мо садится на нары рядом с Ниссо. Лицо Тура-Мо
весело и возбужденно. Сунув руку за пазуху, она протягивает Ниссо что-то
розовое:
- На, глупая, ешь!
В пальцах Тура-Мо кусочек розовой каменной соли - лакомство, невиданное
давно. Ниссо опасливо глядит на кусочек, не решаясь принять его.
- Ешь, - смеясь, повторяет Тура-Мо и сует соль прямо в рот Ниссо.
Ниссо чувствует во рту приятный вкус тающей соли, но все еще боится,
ласка тетки так необычна, что страх одолевает Ниссо все больше.
Тура-Мо, охватив руками Ниссо, начинает покачиваться вместе с нею из
стороны в сторону. Опять прикрывает глаза, опять тянет сквозь зубы:
"А-а-а... а-а-а!.." Ниссо дрожит. Тура-Мо покачивается, но все тише, тише.
Замолкает. Руки ее слабеют. Ниссо, думая, что тетка заснула, осторожно
старается освободиться из ее рук.
Но Тура-Мо вдруг открывает глаза, глядит на Ниссо иначе - холодно,
жестко, так, как глядит всегда, и грубо отстраняет девочку. Ниссо
отскакивает от очага.
- Ты куда? - кричит Тура-Мо, и Ниссо разом останавливается. И уже
обычным, раздраженным тоном тетка начинает: - Похлебку варила? Где огонь?
Почему в котле одна только вода? Весь день тут торчала, лентяйка?
Ниссо, голая, как изваяние, стоит, опустив лицо. В руках ее платье, в
котором завернуты два пучка травы.
- Отвечай!
- Варила, - тихо отвечает Ниссо.
- Значит, сама наелась, а мне не нужно? А я, что же, по твоей доброте
должна быть голодной? Это что у тебя в руках? Почему не сварила?
- Голубые Рога...
- Вот как! - впадает в ярость Тура-Мо. - О корове ты думаешь, на тетку
тебе наплевать?! Или я тебя, проклятую, даром держу у себя, кормлю, одеваю?
Неблагодарная дрянь! Выгоню вот на снег, ищи себе жилье в волчьих берлогах!
Иди теперь за огнем, а это давай сюда!
И, вырвав у Ниссо траву, Тура-Мо злобно швырнула ее в котел. Ниссо,
сжав губы, без звука двинулась к выходу. Выскользнула на морозный ветер,
надела на себя платье и медленно пошла к соседу - просить углей.
Ночью, когда, прижавшись к шерстистой шкуре коровы, Ниссо спала, ее
разбудило какое-то всхлипывание. Ниссо прислушалась. В темноте громко
плакала тетка. Умолкала и начинала всхлипывать снова. Потом раздался
пронзительный, испуганный плач Зайбо. Тетка умолкла и, что-то бормоча, стала
успокаивать дочку. Голубые Рога повернула голову, ткнулась мокрой мордой в
колени Ниссо и вздохнула протяжно, длинным коровьим вздохом, обдав Ниссо
струей горячего воздуха. Ниссо еще теснее прижалась к корове и, глядя в
темноту, стала раздумывать о том, что могло быть причиной недавнего
странного веселья тетки и почему она плакала сейчас, ночью? Ветер
посвистывал в щелях между камнями так, будто в нем кружились демоны гор.
- Пойду я, - говорит Бондай-Шо. - Со мной пойдешь?
- Не пойду. Надо камни убрать. Работать надо...
Вокруг губ Тура-Мо сухая, горькая складка. Ее не было в прошлом году.
- Кому нужен твой патук? Ноги кривыми станут. Идем со мной лучше.
- Не пойду. Пусть кривые - зато не умру.
- Тебе весело жить надо, а ты не идешь. Я пойду.
- Иди. Принесешь?
- Принесу.
И Бондай-Шо ушел. Рваный халат на голом теле, двуструнка в руках, за
плечами пустой козий мешок. Без мешка не переправиться через реку, а
переправляться надо во многих местах. Ушел.
Вот спускается по тропе: широкие плечи, бритая голова.
Вот коричневая фигурка далеко внизу, у реки, возится, надувает
плавательный мешок.
Вот поднял халат на плечи, взял мешок под живот - и в воду. Лег на него
и черной точкой понесся в блистающей пене течения: взмахивает рукой и
ногами.
Вот скрылся за мысом...
В ущелье весна. Солнце жжет горячо, но ветер еще несет дыхание льдов.
Вверху, над ущельем, слепят глаза ледяные пирамиды. Но с ними уже не
справиться солнцу.
Целую неделю нет Бондай-Шо. Без него Тура-Мо приходит в себя. Расчищены
от камней три ступени на лестнице крошечных полей селения. Натасканная
деревянными чашками земля слежалась за зиму, жесткой коркой покрывает
ступени. Долгими утрами трудится Тура-Мо: к спиленным козьим рогам привязан
сыромятный ремень, он обвивает Тура-Мо. А на козьих рогах большой камень,
для тяжести, чтобы плуг шел ровнее.
На других полях работают мужчины: разве дело женщины пахать землю?
Никто не поможет Тура-Мо. Но никто и не смеется над ней, все знают: она
одна, а Бондай-Шо одержимый. И если она сеет патук, то что же ей делать? Ни
проса, ни ячменя не согласился дать ей в долг почтенный Барад-бек. Пусть от
патука кривятся ноги, но зато он даст урожай сам-пятнадцать и может расти
чуть не на голом камне. Конечно, Тура-Мо сумасшедшая: разве можно сеять одни
только зерна патука? Ну пусть бы еще пополам с горохом, все-таки будет
питательная мука. Такую можно есть целый месяц - дольше, конечно, нельзя;
если есть дольше - обязательно заболеешь. Жилы под коленями стянутся, кости
начнут ныть и болеть, ноги скривятся, как серп. Но Тура-Мо не слушает
никого, сеет зеленые зерна и знать ничего не хочет. Ну, да всякий делает то,
что ему нужно, а когда нечего есть, и патук еда!
Целую неделю нет Бондай-Шо, и за целую неделю Тура-Мо ни с кем не
перемолвилась словом. Только отрывисто бросает Ниссо: "Принеси воды", "Подай
камень", "Раздуй угли", - но разве это слова? Ниссо делает все, что
приказывает ей Тура-Мо, и тоже молчит. Ниссо никогда не противоречит тетке,
- молчит так, словно родилась без языка. Но, кажется, она довольна, что нет
Бондай-Шо: без него тетка всегда одинаковая - сумрачная и злая. Нет ничего
хуже тех дней, когда она смеется, приплясывает, ходит, как пьяная. До этой
зимы никогда не бывало с теткой такого, а теперь бывает все чаще, стоит
только ей провести день с Бондай-Шо. Глаза ее горят, слова, самые разные,
цепляются одно за другое без смысла; веселье и ласки ее сменяются такой
яростью, будто в нее вселяются дэвы; оставаясь одна, тетка царапает себе
лицо и рыдает целыми ночами. И это так страшно, что лучше, если бы она била
Ниссо... И несколько дней потом Тура-Мо совсем не похожа на человека: не
ест, не работает. Пусть бы лучше Бондай-Шо не возвращался совсем!
На восьмые сутки Бондай-Шо вернулся. Издали увидела его Ниссо: он
поднимался от реки по узкой тропинке, таща на себе тяжелый мешок. Взглянув
туда, где Тура-Мо очищала от камней четвертную ступеньку посева, Ниссо
увидела, что тетка, бросив работу, бежит навстречу Бондай-Шо. Они сошлись у
входа в его жилище. Тура-Мо о чем-то спросила его, и он потряс на ладони
туго набитый маленький мешочек. Потом они вошли в дом. Ниссо подумала, что,
верно, Бондай-Шо принес с собой еды: может быть, вареную козлятину, может
быть, просяные лепешки? Ведь он всегда приносил с собой еду. И подумала еще,
что они все съедят сами. Прячась за камнями, Ниссо тихо прокралась к дому
Бондай-Шо со стороны ограды.
Дом Бондай-Шо, как и все дома в Дуобе, был с плоской крышей и без окон.
Стоя у стены, Ниссо ничего не могла увидеть. Ловко цепляясь за выступы
камней, упираясь в тутовое дерево, приникшее к дому, Ниссо выбралась на
глинобитную крышу, подползла к дымовому отверстию. Она очень хорошо
понимала, что если тетка или Бондай-Шо обнаружат ее, то ей несдобровать, но
еще лучше знала, что успеет вовремя ускользнуть. Отсюда она услышала их
разговор:
- Они сидели кругом и пили чай: какой это был чай! В нем было много
соли, и сала, и молока; мои ноздри слышали его запах, я не помню, когда я
пил такой чай! Азиз-хон сказал, что всех нас угостит, если ему будет весело.
- А кто еще был? - услышала Ниссо голос тетки.
- Много народу. С нашей стороны - из Сиатанга и из Зархока; и с той
стороны - разве я знаю названия всех селений! Много людей, говорю, - большой
праздник! Таких, как я, тоже много пришло - наверно, человек сорок. В котлах
варились бараны... Я думал: буду веселее всех, иначе Азиз-хон мне ничего не
даст. Они сидели, все старики, и спрашивали меня: почему не пришел
Барад-бек? Я отвечал всем: "У нашего Барад-бека болят глаза". Может быть, и
правда - глаза болят у него?
- Он дал мне восемь тюбетеек зерна патука.
- Что сказал?
- Сказал: молоком отдай.
- А гороху не дал?
- Жди от него! Посеяла один патук.
- А вот мне Азиз-хон дал гороху, смотри - полмешка. Посеем его, хорошая
мука будет.
- За что дал?
- Очень смешно. Новую игру Азиз-хон придумал! На меня овчину изнанкой
надели, на спине горб из камня, в руках палка, очень дряхлый старик из меня
получился. Зогара одели женщиной. Лицо белым платком закрыли, даже шерстяные
косы привязали. Вот я ухаживаю за "ней", "она" гонит меня. Очень ловко
играл... Так смеялись, чуть животы не порвали.
- А мясо откуда взял?
- Мясо? Всадники риссалядара съехались. Козла драли...
- И сам риссалядар был?
- Сам не был, не дружит с ханом... Козла драли, каждый хотел удаль свою
показать, первым козла к ногам Азиз-хона бросить! Ха! Я думал, друг друга
они разорвут! А от козла только рваный мешок остался. Потом выбросили козла;
я и другие такие взяли его, сварили. А этот мальчишка, ханский змееныш,
Зогар, Азиз-хону пожаловался, хан выгнал меня... Все-таки мясо осталось!
- Ничего, хорошее мясо!.. А э т о г о много принес?
- Вот видишь!..
Ниссо слушала, затаив дыхание. Ей очень хотелось узнать, про что они
сейчас говорят? Она заглянула в дымовое отверстие. Тура-Мо сидела у очага,
обняв Бондай-Шо, и держала большой кусок вареной козлятины. Увидев мясо,
Ниссо почувствовала такой неукротимый голод, что забыла об осторожности: она
пододвинулась ближе к дымовому отверстию и нечаянно столкнула сухой кусочек
глины. Он со звоном упал на чугунный котел. Ниссо отпрянула назад, подползла
к краю крыши, схватилась за ветку дерева, соскользнула вниз и - бросилась
бежать.
Бондай-Шо и Тура-Мо весь день не выходили из дому. Полевая работа была
забыта. Вечером Ниссо еще раз прокралась к дому Бондай-Шо и услышала хриплое
пение Тура-Мо.
"Опять! - сказала себе Ниссо. - Опять с нею началось это!"
Наутро жители собирались гнать овец и коров на Верхнее Пастбище, чтобы
оставить там скот на все лето. Голубые Рога надо было присоединить к стаду.
Ниссо знала, что гнать корову придется ей, и с нетерпением ждала этого дня.
Ниссо помнила прошлое лето, проведенное на Верхнем Пастбище, - там было
хорошо: целый день пасешь среди сочной травы корову, а вечером вместе с
другими девочками и женщинами делаешь кислый сыр. Тетки нет, никто не
понукает, никто не ударит, а если и покричат, то и пусть кричат, - совсем не
страшно, когда на тебя кричат чужие.
Придет или не придет тетка к утру? Велит идти на Верхнее Пастбище или
нет? Без приказания тетки разве может Ниссо пойти завтра со всеми!
Всю ночь не спит Ниссо, тревожится, думает. А еще больше думает о
козлятине: съедят всю или не съедят? Ниссо кусает губы от голода. Меджид и
Зайбо с вечера наелись сырых зерен патука и спят теперь как ни в чем не
бывало. А Ниссо боится есть патук: все девочки кругом говорят, что нельзя
его есть. Ниссо не хочет, чтоб у нее скривились ноги, ведь у нее нет ни
матери, ни отца, - кто позаботится о ней, если она заболеет? Ночью Ниссо не
выдерживает: не может быть, чтоб Тура-Мо и Бондай-Шо всю ночь не спали! А
если спят, то...
У Ниссо нет никакого плана действий, просто неукротимый голод влечет ее
из дому. Погладив бок спящей коровы, Ниссо осторожно выходит за дверь.
Только б не залаяла собака соседа! Босые ноги легко ступают по камням, - ни
один камень под ногою не шелохнется. Через каменную ограду, через другую...
Луны нет, темно, но Ниссо помнит каждый камешек, их не надо даже ощупывать.
Вот и вход в дом Бондай-Шо! Кто-то дышит справа от входа, и Ниссо замирает у
стены. Прислушивается. Это дышит осел; значит, вечером он сам пришел с поля,
- конечно, ведь о нем забыли! Они спят: чуть доносится храп Бондай-Шо, а
тетки совсем не слышно, только бы не наткнуться на нее! Осел с шумом
поворачивается к Ниссо; с упавшим сердцем она замирает снова, но, собравшись
с духом, протягивает руку, гладит осла, - как бы не затрубил! Но осел узнает
ее, щиплет ее руку шершавыми губами, молчит. Ниссо становится на
четвереньки, вползает внутрь жилища, присев на корточки, затихает. Когда
дыхание ее успокаивается, она осторожно втягивает воздух ноздрями, - мясо
должно вкусно пахнуть. Но в доме пахнет совсем иначе, - что это за острый,
пряный запах? Он щекочет ноздри, хочется чихнуть, - только бы не чихнуть!
Это совсем не запах еды, все пропитано этим запахом! Что они жгли тут?..
Ниссо очень боится чихнуть, но терпеть больше невозможно. Забыв
осторожность, Ниссо крадется к очагу, тянет руки вперед, натыкается на
деревянную чашку. В ней кость, большая кость с мясом! Сердце Ниссо
колотится, но кость уже зажата в руке. Ниссо пятится, поворачивается о
опрометью кидается из дома. Никто в доме не шелохнулся, но Ниссо все-таки
бежит, не разбирая пути, больно ударяясь ногами о камни, а кусок козлятины -
уже во рту, и никакая сила не вырвет его из зубов Ниссо! Перепрыгнув через
ограду, через вторую, Ниссо спотыкается о камень и падает. Ей больно, но ей
не до боли. Она остается лежать и, ухватив руками кость, с жадностью,
по-звериному запускает зубы в кусок мяса и рвет его и проглатывает не
разжевывая. Потом она начинает есть медленнее, уже не глотает куски.
Постепенно приходит сытость, и Ниссо садится удобней на камень. Она
вспоминает о Зайбо и Меджиде, - может быть, пойти домой, разбудить их и дать
им по кусочку тоже? Конечно, надо им дать, только не все, - немножко! А
может быть, не давать? Ведь если там осталось еще мясо, то тетка утром,
наверное, их не забудет? Она всегда дает им все, что достанет сама.
В таких размышлениях Ниссо поднимается и медленно бредет к дому. Входит
в дом. Голубые Рога спит, Меджид и Зайбо спят тоже. Нет, не надо будить их:
раз они спят, значит им хорошо значит они не голодны. И ведь они с вечера
наелись патука. Лучше всего подождать до утра. Если Тура-Мо ничего не
принесет им - ну, тогда можно будет им дать по кусочку. А вдруг тогда они
расскажут тетке, что Ниссо кормила их козлятиной? Конечно, они могут
рассказать! Пусть лучше Тура-Мо думает, что кость украла собака соседа, ведь
могла же она украсть?.. А вдруг, если Ниссо сейчас заснет, собака в самом
деле прибежит и съест то, что у нее осталось?
Ниссо раздумывает: куда спрятать мясо? На дворе, под камнями? Но собака
может пронюхать, разрыть. Дома? Но вдруг тетка придет, пока Ниссо будет
спать. Нет! Лучше совсем не спать, держать добычу в руках, а утром съесть ее
всю. Конечно, так лучше!
Ниссо пробирается к корове, садится рядом, приникает к ней, зажимает
обглодыш между колен, сидит, старается не заснуть. Но она сыта, и ее клонит
ко сну. Через несколько минут она уже спит сидя, склонив голову и ровно,
безмятежно дыша.
Утром никто не приходит. Ниссо, проснувшись, испуганно шарит руками
вокруг себя. Но мясо лежит тут, и Ниссо съедает его одна.
Утренний туман поднимается над ущельем. Весь Дуоб в оживлении: женщины
сегодня уводят скот на Верхнее Пастбище. Но Тура-Мо курит опиум вдвоем с
Бондай-Шо. Она в другом мире, смутном, нездешнем. Никто на свете, кроме
Ниссо, не вспоминает о ней. И кому есть дело до горя Ниссо? Неподвижно сидит
она у входа в свое жилище и глядит на бредущий по селению скот: коровы, козы
и овцы, звеня чугунными колокольцами, выплывают из розового тумана и снова
скрываются в нем. А Голубые Рога, словно чуя свою беду, протяжно и грустно
мычит, высунув голову из-за загородки и блестящими глазами провожая уходящее
стадо.
Прошло несколько лет, - кажется, пять, может быть, даже больше: прошли
они так же, как перед тем проходили многие годы - ничто не менялось в Дуобе.
Несколько человек умерло, - их хоронили тихо, не слишком печалясь.
Народились новые дети, - никто им не радовался. Все знали: люди здесь
подобны камням, - сколько б ни сбрасывать их с полей, сверху навалятся
новые; всегда будут люди в селении, и всегда будет им голодно. И дом Тура-Мо
ничем не отличается от других домов, - пока живы в нем дети, они растут, как
бы ни приходилось им плохо.
Так же, как и раньше, жила Ниссо, так же таскала в кувшине воду и
варила похлебку, вела все хозяйство. Только к лохмотьям своего брезентового
платья подшила снизу несколько кусков от изодранного джутового мешка, -
теперь оно доходило ей до колен.
Никто не помогал Ниссо. Достигнув десятилетнего возраста, Меджид мог бы
уже многое делать в доме. Но главным его занятием оставалась стрельба из
лука камнями.
Этим занятием увлекались все мальчики Дуоба, но Меджид предавался ему с
особым увлечением. Он убивал птиц, щебетавших на ветвях тутовника, и ел их,
как кошка, сырыми. Он подстерегал девочек, спрятавшись за камнями, и однажды
влепил в лицо Зайбо такой камень, что искровенил ей всю щеку, разбил губу,
выбил два передних зуба. Зайбо без сознания упала со стены, на которую
залезла, чтобы дотянуться до диких яблок, выросших в саду соседа. Девочку
подобрал сосед Палавон-Назар, охотник и мастер по шитью сыромятной обуви из
кожи козла.
Тура-Мо не было в селении; с тех пор как она стала уходить с Бондай-Шо
в долину Большой Реки, ее редко видели в Дуобе, да и мало о ней вспоминали.
Палавон-Назар, высокий, сухой и одинокий, как каменная башня на вершине
горы, казался человеком суровым и жестким, но у него было доброе сердце. Он
взял Зайбо на руки и отнес ее к Барадбеку, чтобы тот посоветовался с богом о
наилучшем способе вылечить девочку.
Степенный, седобородый Барад-бек потыкал волосатым пальцем в
окровавленное лицо Зайбо, влил ей в рот какую-то жидкость, от которой она
пришла в себя и заплакала. Затем повесил ей на шею треугольный амулет -
зашитую в тряпочку молитву, предохраняющую от всяких болезней. Палавон-Назар
поблагодарил Барад-бека, дал ему за амулет шкурку недавно убитой лисы и
отнес Зайбо к себе в дом в полной уверенности, что она будет здорова.
Но через несколько дней раны на лице Зайбо начали гноиться, тело ее
пламенело, рот распух, и она отказывалась даже от кислого молока. Тогда
Палавон-Назар решил не пожалеть еще одну шкурку лисицы и отнес ее к дряхлой
Зебардор.
Старуха растопила баранье сало, смешала его с пеплом и сажей от
сожженного птичьего помета, прибавила в смесь горсть какого-то толченого
корня и густо обмазала этим лекарством лицо Зайбо.
Через несколько дней Зайбо действительно стало лучше, она уже бегала по
селению, с черным, страшным, словно обугленным, лицом, но беспечная, как все
дети в ее возрасте. Меджид, ссорясь с ней, по-прежнему потчевал ее тумаками,
и Ниссо напрасно драла ему уши после каждого его нападения на Зайбо.
К Ниссо Меджид относился с открытой ненавистью. При всяком удобном
случае он кричал ей, что она "незаконнорожденная лягушка", что она может
убираться из дома его матери, в котором живет из милости, и что он еще
отомстит ей за все придирки. Ниссо почти не обращала внимания на злобные
выкрики мальчишки, трудилась и любыми способами старалась добывать еду.
Меджид был глух на правое ухо и всегда кричал, что в его глухоте
виновата Ниссо, которая однажды особенно сильно надергала ему ухо. В
действительности дело обстояло иначе. Год назад в ухо Меджиду заползло
какое-то насекомое. Тура-Мо в тот раз привела сына к той же Зебардор, и
старуха за три тюбетейки тутовых ягод влила в ухо Меджида какую-то горячую
жидкость. Жидкость обратно не вылилась, застыла в ухе, и с тех пор Меджид
наполовину оглох. Меджид и сам помнил об этом случае, но ему гораздо
интереснее было обвинять в своей глухоте Ниссо.
Он вообще любил делать ей всякие гадости. Недавно, когда Тура-Мо на
неделю вернулась в Дуоб, Меджид, притаясь за камнем, подстерег Ниссо,
которая с кувшином на голове поднималась от реки, и ловко выстрелил из лука
камнем. Камень угодил в самую середину кувшина, кувшин разлетелся на куски,
вода окатила Ниссо с головы до ног.
Ниссо так и не узнала, почему друг кувшин разбился на ее голове, и
очень испугалась: "Наверное, речной дэв разгневался на меня". А Тура-Мо так
избила Ниссо, что та еле уползла от нее в пустой коровник и осталась там
лежать без движения. Позже Тура-Мо даже пожалела девчонку и ночью пришла
посмотреть, не умерла ли Ниссо. Но, услышав тихие - сквозь сон - стоны
Ниссо, вышла из коровника успокоенная.
На следующий день Тура-Мо вместе с Бондай-Шо снова ушла в долину
Большой Реки, потому что, как и он, жить без опиума уже не могла. Ниссо
утром встала и, превозмогая боль во всем теле, отправилась к Палавон-Назару
просить какой-нибудь сосуд для воды.
Палавон-Назар в это утро лил круглые пули для своего фитильного ружья.
Перед ним на камне стояла деревянная чашка с ячменным зерном. Он отсчитывал
по восемнадцати зерен для каждой пули, чтобы все они были равны по весу, и
очень искусно, в самодельной формочке, обливал эти зерна свинцом, добытым у
кочевников в Восточных Долинах. Поглядев на робко вошедшую Ниссо, заметив
под ее глазами большие синяки, Палавон-Назар поцокал языком, протянул ей
чашку с приготовленными для пуль зернами и сказал:
- Съешь, сколько хочешь. Тетка ушла?
Ниссо молча кивнула головой и запустила в рот целую пригоршню зерен.
Палавон-Назар искоса наблюдал за ней, встал, прошел в угол своего дома
и, вернувшись, протянул Ниссо ломоть сушеной козлятины.
Когда она рассказала ему о кувшине и доверчиво спросила, за что мог
речной дэв разгневаться на нее, - он, подумав, медленно ответил.
- За что гневаться на тебя? Твое сердце еще как абрикос без косточки.
Просто шутят с тобой дэвы. Есть у меня два кувшина, возьми один!
И Ниссо, от радости забыв поблагодарить Палавон-Назара, пошла домой с
новым кувшином.
Видимый мир Ниссо был ограничен двумя хребтами скалистых гор,
взнесенных над ущельем, на дне которого с неумолчным шумом кипела река. Вниз
по течению этот мир отсекался от всего неизвестного высоким отвесным мы сом,
за который убегала река. Вверх по течению река видна была далеко, до самых
бурунов, созданных нагроможденными скалами. Выше над ними синела поперечная
гряда, под которой в устье невидимого отсюда притока зеленела круглым
пятнышком одинокая купа деревьев. Над грядою, безмерно далекие, ощеривались
в небо зубцы неведомого хребта. Еще выше над ними всегда блистали на солнце
волнистые, тающие в голубом небе скаты Ледяных Высот. Летом оттуда текли
прохладные ветры, зимою, скрывая весь мир, волочились туманы и снежные тучи.
А селение Дуоб, в котором родилась и жила Ниссо, лепилось по склону,
переходившему выше в крутую каменистую осыпь, - с нее на поля и сады вечно
падали острые камни. Дуоб был разделен надвое каньоном бокового притока,
узкой щелью, прорезавшей склон сверху донизу. Боковой приток зимою вился
тоненьким звенящим ручьем, летом становился бурным рыжим потоком, яростно
лижущим стены, швыряющим свои водопады через головы скал, перегораживающих
его русло. К осени воды его очищались, смирялись, прозрачные, как хрусталь,
отражали в застоинах, на ступенчатых перепадах и небо, и ветки кустарника,
проросшего между камнями, и фигуры путников, бредущих по узкой тропе вдоль
ручья к летовью, на Верхнее Пастбище, или обратно - домой, в Дуоб.
Никуда, кроме Верхнего Пастбища, за всю свою жизнь Ниссо из селения не
ходила, но, становясь старше, все чаще задумывалась о том, что делается там,
за видимым ею миром, куда - в одну сторону - ходят Палавон-Назар и другие
охотники, и куда - в другую, - вниз по реке, исчезая за мысом, пропадают так
надолго Бондай-Шо и Тура-Мо.
Раньше Бондай-Шо всегда уплывал по реке на надутой козьей шкуре. Теперь
у него появилось пять шкур, и из четырех он делал плот, на который усаживал
Тура-Мо и укладывал связанного осла. Сам по-прежнему плыл на одном мешке,
держась рукою за плот и управляя им среди пенных гребней. Обратно тетка и
Бондай-Шо всегда возвращались пешком, по той тропинке, по которой когда-то
Розиа-Мо ушла вместе с незнакомым стариком.
Ниссо казалось, что она смутно помнит свою мать, но в действительности
она ничего не помнила, кроме рассказов Палавон-Назара, всегда говорившего
Ниссо, что ее мать была еще красивее Тура-Мо и гораздо добрее. Думая о
матери, Ниссо всегда как-то смешивала ее воображаемый образ с лицом
Палавон-Назара: он был совсем некрасив и, конечно, никак не похож на
Розиа-Мо, но глаза его были добрыми. Ни в чьи глаза, кроме глаз
Палавон-Назара да коровы Голубые Рога, Ниссо не решалась взглянуть прямо и
доверчиво. Разговаривая с людьми, она всегда опускала глаза или отводила их
в сторону, словно опасаясь, что в них перельется чужое ядовитое зло.
Но коровы Голубые Рога давно уже не было, Тура-Мо сама отвела ее к
Барад-беку в расплату за долги, чтобы получить от него две полные тюбетейки
опиума. Барад-бек продал корову какому-то чужеземцу, приходившему из Нижних
Долин. Этот человек разговаривал на языке, весьма похожем на сиатангский, -
все понимали его. Что это был за человек, Ниссо так и не узнала, но Голубые
Рога уже не вернулась, и человек этот больше не приходил в Дуоб.
Когда уводили корову, Ниссо горько плакала, - это было в первый раз,
когда Ниссо плакала, - долго бежала за коровой, цепляясь за нее, и умоляла
того человека не угонять Голубые Рога. Но человек только улыбнулся, потрепал
Ниссо по плечу и протянул ей какую-то еду, завернутую в бумажку. Ниссо
швырнула эту еду ему в лицо, укусила его руку; он очень рассердился и ударил
Ниссо кулаком в грудь. Она упала, вскочила, снова попыталась догнать его, но
остановилась, потому что он пригрозил ей камнем...
Это произошло уже за отвесным мысом, там, где тропа полезла высоко
вверх. С тех пор Ниссо не раз ходила туда, на место последней разлуки с
Голубыми Рогами, садилась на камень и подолгу печально думала, словно
прислушиваясь к мягкой поступи удаляющейся коровы, словно еще видя ее понуро
опущенный черный хвост с белой отметиной посередине.
Там, на узкой тропе за отвесным мысом, Ниссо училась вспоминать о
былом, и мечтать, и грустить. В селении ей было не до того. Дом требовал
вечных хлопот и забот, и ей никогда не приходило в голову, что дома можно
просто сидеть, ничего не делая, или резвиться с соседками, или развлекаться
теми игрушками, какие делал и дарил всем детям селения Палавон-Назар. Это
были глиняные козлы, и шерстяные куклы, и раскрашенные камешки, и палки с
красными и черными черточками... Все эти безделушки совсем не интересовали
Ниссо, - она даже не понимала, как это можно целыми днями бессмысленно
вертеть их в руках и ссориться из-за них?
Плоская крыша дома Палавон-Назара была накалена солнцем. Поджав под
себя ноги, Ниссо сидела на ней, и коричневое тело ее просвечивало сквозь
лохмотья изветшалой одежды. Вот уже долго, совсем как взрослая, она ведет с
Палавон-Назаром большой разговор.
- А еще есть какие люди, Назар?
- А еще? Дай-ка мне вот ту иглу, что без нитки! - сквозь зубы, закусив
сыромятный ремешок, отвечает Палавон-Назар и тянет мокрый ремешок, свивая
его между пальцами так, чтобы получилась тонкая кожаная нитка. - Еще?
Русские еще есть.
- Кто они?
- Как и мы, люди, только гораздо грамотней нас, и сильней, а потому и
богаче. Они знают очень многое, о чем мы совсем не знаем. Как нужно было
трудиться, чтобы добыть себе такое знание!.. И они умеют делать очень много
вещей!
- А твое ружье сделали они?
- Нет, мое сделали бухарцы, я тебе говорил о них. Йо! Не такие ружья
делают русские! Если бы у меня было русское ружье, я бы каждый день убивал
по десять козлов!
- А где живут эти русские?
- Живут? - Палавон-Назар, растянув на плоском камне мокрую сыромятину,
принялся, кряхтя, тереть ее круглым камешком. - Их очень много, разве
скажешь, где они живут? Вон там, везде! - Палавон-Назар, подняв обе руки,
махнул ладонями в сторону Ледяных Высот.
- Во льду живут? - живо спросила Ниссо.
Палавон-Назар усмехнулся:
- Глупая, не во льду, а в той стороне, за горами.
- А за горами что? Еще горы?
- Еще горы, и еще горы, и еще горы. А потом горы кончаются и пойдет
ровное место.
- Большое ровное место? Как Верхнее Пастбище?
- Если одно Верхнее Пастбище ты приложишь к другому такому же и еще к
третьему и будешь целое лето прикладывать пастбище к пастбищу, из них всех
не получится и половины того ровного места, которое есть за горами.
Ниссо долго молчала, старательно складывая в уме Верхние Пастбища, и,
наконец, удивленно спросила:
- Сколько же там пасется овец?
- Столько овец, сколько звезд на небе! - полусерьезно ответил
Палавон-Назар.
- Ну, тогда русские, наверное, много едят, - глубокомысленно заключила
Ниссо.
Помолчала, внимательно глядя на работу Палавон-Назара, принявшегося
тачать мягкие сапоги, которые он предназначал ей в подарок, и спросила
опять:
- А еще какие есть люди?
- Еще? Яхбарцы.
- Это те, у кого есть звери, что называются лошади?
- Лошади, милая, есть у всех людей. Только у нас, дуобских бедняков,
нет. Что стали бы среди этих камней делать лошади? Как им пройти сюда по
нашей тропе?.. Яхбарцы, яхбарцы... Вот тот, который увел твою Голубые Рога,
был яхбарец.
Ниссо нахмурилась. Досадливо расправила складки рубища на своем грязном
колене и с сердцем сказала:
- Плохие люди!
- Всякие есть, мой цветок.
- Нет, яхбарцы - плохие! - гневно воскликнула Ниссо. - Не хочу о них
слушать. Скажи, кто там живет?
Палавон-Назар мельком взглянул на противоположный склон, на который
указывала Ниссо.
- Там, за горой? Сиатангцы там живут, такие же как я и ты... Наш
народ!.. Крепость у них, на реке...
- А что они делают в крепости?
- Ничего... Раньше хан жил там, теперь нет хана, пустая, наверно,
крепость.
- Почему теперь нет хана?
- Потому что теперь советская власть.
- А у нас тоже советская власть?
- Раз мы сиатангцы, значит, и у нас тоже... Только далеко мы от всех.
Не видим ее еще.
- А что значит - советская?
- Значит, наша.
- Твоя и моя?
- Да, моя, и твоя, и всех людей наших.
- А как же ты говоришь, что мы не видим ее еще?
- А когда дерево посадишь, разве сразу плоды появляются?.. Дай ногу,
примерить надо. Ниссо важно протянула ногу.
- Встань.
Ниссо встала. Палавон-Назар поставил ее ступню на кусок кожи и легонько
обвел острием ножа. Ниссо опять села и, взяв из деревянной чашки маленькое
кислое яблоко, вонзила в него крепкие, как у мышонка, зубы. Разговор
продолжался. Слушая Палавон-Назара, Ниссо внимательней, чем всегда,
разглядывала гряды гор, обступивших видимый мир. В ясной чистоте ее
сознания, как туманные видения, возникали фантастические образы мира
невиданного. Десятки ее наивных вопросов требовали немедленного объяснения,
и Палавон-Назар терпеливо отвечал.
- А куда уходит тетка? - неожиданно спросила Ниссо.
- Туда, вниз, в селение Азиз-хона, - нахмурясь, ответил Палавон-Назар.
- Хан?
- Хан. За Большой Рекой еще есть ханы.
- Богатый?
- Раньше богатым был, весело жил, праздники большие устраивал... Теперь
время другое...
- Теперь тоже праздники он устраивает?
- Редко теперь. А откуда ты знаешь?
- Слышала, - как взрослая, неопределенно ответила Ниссо. Помолчала,
спросила: - А что тетка делает там?
Палавон-Назар тяжело вздохнул и ничего не ответил. Но Ниссо пытливо
глядела в его склоненное над работой лицо. Он неожиданно рассмеялся, напялил
сшитое голенище на руку и поднял его перед лицом Ниссо:
- Смотри, у козла бывают ноги толще твоих.
- Нет, - строго ответила Ниссо. - Ты мне о тетке скажи.
- Не скажу! - рассердился старик. - Вырастешь - сама узнаешь.
- Знаю и так, - вдруг с ехидцей и злобой горячо заговорила Ниссо. -
Недаром мужчины еду и опиум ей дают...
- А ты молчи... Не твое это дело! - сурово и тихо промолвил старик.
- Конечно, не мое, не мать она мне... чужая... - Ниссо печально поникла
головой и, замолчав, перестала грызть яблоко.
Теперь оба сидели молча. Посматривая на них снизу, Меджид подкрадывался
с луком к собаке Палавон-Назара. Разомлев от жары, собака дремала в тени,
под каменною оградой. Заметив Меджида, Ниссо стремительно сорвалась с места,
соскользнула по приставной лесенке во двор и с криком: "Уйди вон, а не то я
разорву тебе уши, как холстинку!" - кинулась бегом к нему.
Меджид спокойно повернул лук навстречу Ниссо, и камень со свистом
пролетел мимо ее головы. Ничуть не смутившись, Ниссо бросилась догонять
Меджида, но он уже исчез. Тут Ниссо подумала, что нужно перевернуть тутовые
ягоды, разложенные для подсушки на крыше дома, и полезла туда. Целый ковер
белых и черных тутовых ягод застилал плоскую крышу и под горячими лучами
солнца отдавал недвижному воздуху свой пряный густой аромат.
Перебрав ягоды, Ниссо надумала выкупаться и спустилась к реке. Она не
боялась холодной воды и летом всегда смело входила в ее быстрые струи. Никто
не учил Ниссо плавать, но это искусство, присущее жителям горной страны,
пришло к девочке само собой, когда однажды течение, оторвав ноги Ниссо от
каменистого дня, понесло ее вниз. В тот раз она сумела без посторонней
помощи выбраться на берег и с тех пор уже не боялась удаляться от берега.
Под тропой, уходящей вниз, три огромные, когда-то низвергнутые в воду
скалы образовали глубокую заводь, в которой прозрачная вода текла
сравнительно медленно. Здесь, в природном бассейне, можно было барахтаться и
плавать без риска быть унесенной в стремнину реки, и этот бассейн стал
излюбленным местом купанья Ниссо.
Она сбросила одежду и, распустив волосы, худощавая, ловкая, прыгнула в
воду. Вынырнув у самой скалы, выбралась на камень и прилегла на нем, как
ящерица, греясь на солнце. Опустив лицо к самой воде, вглядываясь в
зеленоватую глубину, она предалась беспечному созерцанию переменчивых теней,
играющих между камнями дна; опускала руки в воду и весело наблюдала, как
тугое, безостановочно летящее стекло воды дробилось под ее пальцами и с
шуршанием делилось на две тонкие белые струи.
Долго пролежала бы так Ниссо, если б чутким слухом не уловила сквозь
монотонный гул реки какие-то посторонние звуки. Ниссо быстро подняла голову:
вверху, по тропе, по которой обычно за целый день не проходил никто,
двигалась вереница людей. Первый из них ехал на рослом, здоровом осле.
Приближение к Дуобу незнакомых людей было происшествием столь необычным
и неожиданным, что Ниссо оробела. Она мгновенно соскользнула в воду и,
стараясь плыть около самых камней, чтобы сверху ее не заметили, пробралась
туда, где оставила платье, и притаилась за скалой, до плеч погрузившись в
воду.
Тропа над нею опускалась совсем низко к реке, но приближающиеся люди не
замечали Ниссо. Чуть высунув голову из-за камня, она наблюдала за ними.
Первым ехал плотный бородатый старик в просторном белом халате, с рукавами
такими длинными, что складки их от плеч до пальцев, скрещенных на животе,
теснились, как гребни волн на речном пороге. Впереди шел молодой
бритоголовый мужчина в черном халате, без тюбетейки. Ногой он отбрасывал с
тропы камни, на которые мог нечаянно наступить осел.
Старик в белом халате сидел строго и прямо, а белая его борода была
самой большой бородой из всех, какие Ниссо приходилось видеть. "Белая чалма,
белый осел, весь белый! - подумала Ниссо. - Наверное, сам хан к нам едет".
Дальше тянулись гуськом пешеходы, в халатах, - первый из них с
блестящим ружьем без ножек, совсем не таким, какое было у Палавон-Назара,
другие - с мешками на спинах, босоногие и во всем похожие на знакомых Ниссо
жителей Дуоба. Шествие замыкалось вьючным, тяжело нагруженным ослом.
Дрожа от студеной воды, в которой нельзя было оставаться долго, Ниссо
пытливо рассматривала пришельцев, медленно продвигавшихся над самой ее
головой.
Увидев селение, белобородый старик что-то сказал молодому проводнику, и
тот, почтительно выслушав, бегом устремился по тропе, очевидно для того,
чтобы предупредить жителей Дуоба о приближении важного гостя.
Когда путники скрылись из виду, Ниссо подтянулась на руках, чтобы
выбраться из воды, но вдруг увидела бредущих по тропе на значительном
расстоянии Бондай-Шо и Тура-Мо. Следуя за пришельцами, они, очевидно, не
смели присоединиться к каравану. Ниссо опять погрузилась в воду: ничего
хорошего не предвещала встреча с теткой, если б та увидела Ниссо здесь, явно
бездельничающей. Целый месяц их не было в Дуобе, и Ниссо чувствовала себя
уверенно и спокойно. Сейчас, утомленные, они шли молча. За плечами
Бондай-Шо, кроме пустых козьих шкур, не было ничего, а длинная, в два
человеческих роста, палка, которую он нес в руках, свидетельствовала о том,
что он проходил через перевалы и по крутым склонам осыпей. Раз у него нет за
плечами мешка с едой, значит, он очень злой, и тетка, конечно, еще злее его.
Лучше бы они совсем не приходили!
Они прошли мимо, и Ниссо, наконец, решилась выбраться из воды. Зубы ее
стучали, кожа покраснела от холода. Ниссо прижалась к поверхности
накаленного солнцем камня. Согрелась, взялась за одежду, раздумывая: что это
за люди? Откуда они? Что заставило такого важного старика явиться в
маленький бедный Дуоб? Куда они идут? Только сюда или мимо, к Ледяным
Высотам? В той стороне, к Ледяным Высотам, нет селений, - ничего нет, кроме
камня и льда, - так говорил Палавон-Назар, а он знает! Наверно, пришли
сюда... Зачем? Что будут тут делать? Лучше пока не возвращаться в селение.
Перебегая от скалы к скале, приникая к ним, карабкаясь над обрывами и
зорко осматриваясь, настороженная, дикая, Ниссо огибает селение по склону,
взбирается выше него по кустам шиповника и облепихи, кое-где пробившимся
сквозь зыбкие камни высокой и крутой осыпи. Наконец весь Дуоб, - все
двадцать четыре дома, приземистые, плоские, похожие на изрытые могилы, -
рассыпан перед Ниссо далеко внизу. Она припадает за круглым кустом и
смотрит.
В селении переполох. Все женщины Дуоба - те, что не ушли весной на
Верхнее Пастбище, - стоят на крышах, бьют в бубны, поют, а мужчины, окружив
пришельцев, толпятся во дворе Барад-бека, и сам он хлопочет, размахивает
руками, отдает приказания. Вокруг дома Барад-бека хороший тутовый сад,
единственный настоящий сад в селении, - возле других домов только редкие
тутовые деревья. Ниссо видит, как мужчины стелют в саду ковер, как несколько
дымков сразу начинают виться на дворе Барад-бека. Между домами селения
пробираются жители, кто с грузом корявых дров, кто с мешком тутовых ягод...
А направо, по ущелью, уже торопливо поднимаются две женщины; одну из них
Ниссо узнает по красному платью, - это племянница Барад-бека. Конечно, их
послали на Верхнее Пастбище за сыром и кислым молоком, - будет праздник
сегодня.
Вот, наконец, вечер, тьма. Давно уже не доносятся звуки бубнов. Все
тихо внизу, в селении. В саду Барад-бека сквозь листву просвечивают два
красных больших огня, - значит, пришельцы еще не спят. Дым стелется вверх по
склону, и чуткое обоняние Ниссо улавливает запах вареного мяса; очень
важный, видно, гость, если Барад-бек не пожалел заколоть барана! Ниссо
осторожно, прямо по осыпи спускается к селению, - даже горная коза не
спускалась бы так по зыбким камням. Обогнув осыпь, выходит на тропинку,
вьющуюся вдоль ручья к Верхнему Пастбищу. Никто еще не успел оттуда прийти.
Над тропинкой желоб оросительного канала; здесь вода разделяется на две
струи: одна к полям Барад-бека, другая ко всем другим полям Дуоба. Ниссо
жадно пьет воду, спускается ниже, подходит к ограде первого дома, охраняющей
его от камней, катящихся с осыпи. Эти камни валом приникли к ограде.
Странно, но в этот поздний час в доме слышны возбужденные голоса. В нем
живет семья Давлята, у которого зоб еще больше, чем у Бондай-Шо; у него было
восемь детей, шесть умерли за два последние года, остались две девочки -
Шукур-Мо и Иззет-Мо. Они еще совсем маленькие, но Иззет-Мо проводит это лето
на Верхнем Пастбище, пасет там трех коз Давлята. Ниссо прислушивается: в
доме кто-то громко, отрывисто плачет. Конечно, это жена Давлята, это ее
голос, причитающий и такой скрипучий, будто в горле у нее водят сухим
железом по камню.
- Лучше бы ты пошел к нему на целый год собирать колючку!
- Не пойду! - гневно отвечает Давлят. - Колючка не нужна богу.
- Чтоб твой бог... Чтоб твой бог...
- Зашей себе в шов то, что ты хочешь сказать! - в ярости перебивает ее
Давлят и чем-то громко стучит.
Ниссо проскальзывает мимо дома, удивляясь: с чего это жена Давлята
ругает бога?
В следующем доме женский плач еще громче, но никто не мешает ему. Ниссо
удивляется и торопливо пробирается дальше. В домах, мимо которых она
крадется, люди разговаривают и спорят, а ведь в этот час селение всегда спит
мертвым сном!
Вот и еще женские стоны, - это сыплет проклятьями старуха Зебардор.
Ниссо встревожена: что произошло? Днем стояли на крышах, пели и ударяли в
бубны, а сейчас ведут себя так, будто каждую искусала змея!
Торопливо перебегая от ограды к ограде, Ниссо, наконец, добирается до
своего дома. Убедившись, что тетки нет, входит в него. Прислушивается:
Меджид и Зайбо спят. Ниссо успокаивается и ложится спать. Но сон долго не
сходит к ней, - она слишком взволнована необычными обстоятельствами
прошедшего дня, ей хочется скорее узнать все о приехавших, она боится, что
тетка утром изобьет ее...
Но сон все-таки побеждает тревогу Ниссо.
Утром тетка входит в дом - спокойная, решительная. Ниссо сидит,
безразлично водя пальцем по пустому чугунному котлу, и котел отвечает глухим
шуршанием. Ниссо вся сжимается, готовая выдержать привычный гнев тетки: вот
сейчас подойдет, вот закричит, вот ударит, и надо только не отвечать, молча
прикрывая рукой лицо... Меджид и Зайбо забились в угол и глядят оттуда с
огоньком злорадства в глазах.
Но тетка, сделав несколько шагов, остановилась, молчит. Ниссо удивлена,
ждет, наконец решается коротко, украдкой взглянуть на нее и сразу же
опускает глаза.
Косы Тура-Мо расчесаны. Ее белая рубашка выстирана и еще не просохла на
ней. Ее штаны у щиколоток подвязаны, - что с ней такое сегодня? Почему она
такая спокойная, чистая?
И Ниссо еще раз мельком кидает взгляд на лицо Тура-Мо: вон какие
коричневые круги вокруг глаз, - все от опиума! Вот сжала губы, глядит своими
большими глазами, - спокойно глядит. Почему стоит и глядит?
И Ниссо еще старательней водит по краю котла ногтем, рождая
однообразный приглушенный скрип. Тетка спокойно говорит ей:
- Встань.
Ниссо встает. "Начинается!" Но Тура-Мо вынимает из рукава деревянный
гребень, начинает расчесывать волосы Ниссо. Обе молчат, и Ниссо недоумевает.
Тщательно расчесав волосы Ниссо, Тура-Мо заплетает их в две косы, снимает со
своей руки медное несомкнутое кольцо браслета, надевает его на тонкую кисть
Ниссо. Снимает с себя ожерелье из черных стеклянных бусинок, накидывает его
на шею Ниссо.
Все это до такой степени необычно, что Ниссо наполняется тревожным
предчувствием чего-то очень большого и нехорошего. Молчит, не сопротивляется
и, полузакрыв опущенные глаза, ждет. Тетка, отойдя на шаг, осматривает ее и,
видимо, удовлетворенная, коротко бросает:
- Теперь пойдем!
И выводит Ниссо за руку из дома. Ниссо невольно связывает все
происходящее с приездом важного гостя и идет рядом с теткой, как пойманный,
но готовый кусаться волчонок.
На очищенной для падающих тутовых ягод площадке, устланной сегодня
циновками, окруженный семьей Барад-бека, сидит, привалившись к одеялам,
важный величественный старик. Перед ним на лоскутке материи угощение:
тутовые ягоды, орехи, миндаль. Барад-бек разливает из узкогорлого кувшина
чай и протягивает всем пиалы.
Тура-Мо, не смея подойти ближе, останавливается, крепко держа Ниссо за
руку.
Сборщик податей живому богу исмаилитской религии, белобородый халиф ,
прищурясь, разглядывает Ниссо. Она бросает испуганные, злобные взгляды. Но
убежать ей не удается: к Тура-Мо уже подошел мрачный слуга халифа и молча
встал за спиной Ниссо.
Халифа жестом руки велит Ниссо подойти. Мрачный слуга подталкивает ее.
Старик, привстав, щупает жесткой рукой бедра Ниссо. Слуга накрутил на руку
ее косы. - Ниссо напрасно порывается отскочить.
- Стой тихо, когда тень бога говорит с тобой!
- Азиз-хон возьмет ее! - коротко заключает халифа. - Дай женщине,
Барад-бек, из моего мешка то, что обещано.
Слуга подносит небольшой мешок. Барад-бек сует в него пиалу и ссыпает
сухой опиум в подол Тура-Мо. Три пиалы, - но Тура-Мо ждет еще.
- Ты же сказал - пять! - тихо произносит она.
- Пять?! А новое платье что-нибудь стоит? Хорошо. За красоту еще одну
пиалу дам. И год вперед можешь не платить подати. Чего тебе еще надо? Теперь
иди.
Тура-Мо, не взглянув на Ниссо, отходит. Только пройдя половину сада,
оглядывается и кричит:
- Ты... Не плачь! Хорошо будешь жить, не снилось тебе такого!
Ниссо стоит перед стариком, закрыв глаза, но слезы медленно
выскальзывают из-под опущенных век.
Вечером караван идет по тропе. Четыре осла Барад-бека нагружены податью
живому богу исмаилитов. Два жителя Дуоба палками подгоняют ослов, - этим
людям поручено привести их обратно. За ослами плетутся три коровы, восемь
баранов и одиннадцать коз. Ниссо бредет пешком - так же, как когда-то брела
по этой тропе ее мать, Розиа-Мо. Халифа едет впереди на белом большом осле.
Халифа доволен: Азиз-хон не обманется в своих ожиданиях, - этот юродивый
Бондай-Шо не налгал, расписав ему красоту Ниссо. Халифа уверен, что получит
от Азиз-хона за девушку не меньше сорока монет. Десять монет можно будет
послать живому богу, тридцать халифа оставит себе.
Самое главное в мире -
Свобода, - а пленница ты!..
Стоят исполинские горы -
Стражи самой высоты.
Но если все звезды, как гири,
На чашу одну я стрясу, -
Другую - свободою взора
Удержишь ты на весу!..
Племя достойных
В селениях на советской стороне начиналась новая жизнь. Государственная
граница, однако, еще не была закрыта, - вся область советских Высоких Гор
еще общалась с мелкими ханствами, расположенными вдоль Большой Реки и
составляющими окраинные провинции соседнего государства.
В том, расположенном в верховьях Большой Реки, крупном селении, что
повсеместно в Высоких Горах называлось русским словом Волость, накрепко
утвердилась власть, взятая в руки беднейшими горцами. Были перед тем трудные
времена. Став советскими, Высокие Горы показались лакомым куском
империалистам владычествующим над соседними ханствами. У горцев в Высоких
Горах не было оружия для самозащиты. И тогда из Волости за пределы Высоких
Гор отправилась верхом и пешком делегация к русским: "Помогите нам отстоять
нашу, освобожденную нами от ханов, землю..."
И вслед за вернувшейся после нескольких месяцев тяжелого пути
делегацией в крепости, что высилась среди скал возле Волости, появились
новые люди, на их фуражках были красные звезды. Эти люди не бесчинствовали,
как те, что в дни революции бежали отсюда за границу, не врывались в дома
горцев, не отбирали у них последнего. Они заходили в ближайшие селения,
говорили, что по новому закону русские и местные жители - братья, что все
они могут жить дружно, если прогонят уже не правившую открыто, но еще
влиятельную ханскую знать. "Довольно гнуться серпом на ханской работе, -
радовались горцы, - своя у нас будет теперь земля. Для себя и для детей
наших будем трудиться".
Разговоры об отрицании Установленного, о могуществе бедных проникали в
самые глухие ущелья.
Местные старейшины, родственники ханов, священнослужители спешили
перебраться через Большую Реку. "Не хотим стать подстилкой для ног неверных,
- говорили они остающимся, - а вас, вступающих в дружбу с неверными,
покарает непрощающий бог".
Но те, кто уже давно привык не верить ханам, старейшинам и
священнослужителям, думали иное, собирались под тутовыми деревьями и вели
шумные беседы о том, что даже в старинных книгах сказано: "покупай знание,
продавай незнание", а теперь наступил век великого знания, народ все теперь
держит в своих руках, и, значит, худого не может быть, а наверняка станет
лучше. И возвращались к своим домам и к своим посевам со смутной надеждой:
может быть, и правда, настанут дни, которые принесут счастье всем, кто не
мечтал обрести его даже в раю.
Сдавленные склонами ущелий селения уже немало лет считались советскими.
Медленно, но все же изменялась в них жизнь, и только трудились люди
по-прежнему: когда вставало солнце, надо было карабкаться на маленькие поля,
очищать их от камней, пропускать воду в желоба каналов, проведенных поперек
отвесных скал, собирать на осыпях иссохшую черную колючку и делать множество
других необходимых и трудных дел. Но ведь трудились теперь люди для себя, и
в этом было счастье.
В селениях левобережья Большой Реки не изменялось ничто. Маленькие
горные ханства жили по законам Властительного Повелителя, - власть его
считалась столь же богоданной, сколь ветер, милующий или губящий посевы.
Одним из замкнутых горами маленьких ханств был Яхбар, владение
Азиз-хона. В прежние далекие времена яхбарцы не раз переправлялись через
Большую Реку, совершали налеты на соседнее ханство Сиатанг, брали с него
дань, обращали пленных сиатангцев в рабство. Потом наступило иное время. Из
пределов Высоких Гор до самой Большой Реки яхбарцы были изгнаны русскими. И
хотя Сиатанг вошел в состав Российского государства, русские в него не
захаживали: царская власть мало интересовалась этой дикой и нищей областью.
Сиатангская знать покупала все необходимое в государстве Властительного
Повелителя. Купцы из внутренних провинций этого государства проникали в
Сиатанг через Яхбар. Приходя сюда, они жаловались, что здесь им очень
холодно, что родившийся в благодатных долинах не может жить среди этих
мрачных скалистых гор. Продав шелка, фабричное сукно, европейские краски и
зеркальца, сбыв опиум, обменяв нарезные магазинные ружья на мешочки с
намытым в горных ручьях золотом, на меха барсов, на шкурки выдр, а порой и
на красивых недорогих девушек, купцы уходили обратно. За право транзита
яхбарский хан брал с них высокие пошлины - двенадцатую долю их прибылей. Эти
пошлины обогащали его не меньше, чем прежних яхбарских ханов обогащали
разбойные налеты на Сиатанг.
Но когда Сиатанг стал советским, когда вся сиатангская знать бежала в
Яхбар, ища приюта у Азиз-хона, купцы перестали ходить в Сиатанг. Все реже
посещали они и Яхбар: одни яхбарцы не могли обеспечить им прежних прибылей,
а сиатангские эмигранты, лишившись земельных и прочих доходов, перестали
покупать у них товары и сами готовы были продать им накопленное. Купцы,
уходя, кляли свою судьбу и говорили, что во владениях Азиз-хона им скоро
нечего будет делать. А сам Азиз-хон уже не мог брать с них транзитные
пошлины. Он больше не устраивал ни пышных празднеств, ни многолюдных охот,
не звал к себе бродячих фокусников, танцоров и музыкантов, не ездил с
визитами в соседние ханства. Боясь грядущей бедности, он постепенно мрачнел,
уединялся, становился скупым и расчетливым и ничем не напоминал прежнего
расточительного и могущественного в пределах Высоких Гор хана.
Из внутренних провинций до него доходили кем-то пущенные в "торговый
оборот" беспокойные слухи о том, что скоро начнется война с русскими и что,
покатившись по этим горам, она наполнит кровью долины и реки. Он знал, что
Властительный Повелитель не хочет воевать с русскими, но когда в Яхбар
проникали тайные агенты-европейцы, Азиз-хон охотно оказывал им
гостеприимство, стараясь на всякий случай обеспечить себе их расположение.
Однако никаких обещаний, несмотря на получаемые подарки, Азиз-хон пока не
давал, в рассуждении, что ежели ошибешься, выбрав заранее победителя, то
вместо хорошей наживы рискуешь потерять голову...
В своем уединении Азиз-хон часто предавался размышлениям о воплощении
божества. В это тревожное время Азиз-хон старался не прогневить бога.
Азиз-хон был шиитом секты Ага-хони, то есть исмаилитом, верующим, что
живая душа пророка Али пребывает ныне в теле сорок восьмого имама,
обитающего в далеком Бомбее и владычествующего над миллионами "пасомых",
рассеянных на огромных пространствах Индии, Афганистана, Западного Китая,
Персии, Бадахшана, Малой Азии и Египта. По учению исмаилитов, "пасомые" сами
могли не молиться богу, но обязаны были отдавать десятую долю доходов
наместникам бога - пирам, которые молились за всех. В Яхбаре не было пира, -
пир прежде жил в Сиатанге, но, эмигрировав оттуда, не захотел остаться в
Яхбаре и уехал во внутренние провинции. Его заместителем в Яхбаре остался
сборщик податей - халиф .
Халифа считался в Яхбаре лицом самым почтенным и влиятельным после
хана, и потому Азиз-хон вел с ним дружбу. Вместе долгими утрами слагали они
стихи, - Азиз-хон, как все восточные правители, считал себя хорошим поэтом;
вместе читали они "Лицо веры" - книгу, написанную столетья назад пиром
Шо-Насыр-и-Хосроу и понятную лишь посвященным; вместе мечтали они о женской
красоте, ради которой можно было иной раз по-своему истолковать догматы
исмаилитской религии.
Когда Азиз-хон прослышал о том, что на советской стороне, в селении
Дуоб, живет красивая девчонка, которую можно купить очень дешево, халифа
убедил Азиз-хона, что не так уж он стар, чтобы ограничиваться давно
надоевшими ему женами, и взялся сам доставить эту девчонку в Яхбар.
И когда халифа привез Ниссо и она действительно оказалась очень
красивой, Азиз-хон, не торгуясь, уплатил за нее сорок монет, и дружба его с
халифа еще более укрепилась.
Азиз-хон поместил девушку в своем доме и не торопился сделать ее женой,
зная, что добыча от него не уйдет.
Обширный дом Азиз-хона стоял на высокой скале, над самым берегом
Большой Реки, быстро, но плавно бежавшей в широкой долине между двух горных
хребтов. Дом был похож на старинную крепость, потому что был обнесен
зубчатой стеной, с которой -вверх и вниз по Большой Реке - видна была вся
долина, нарезанная на клочки посевов, наполненная маленькими садами
абрикосов и тутовника, ограниченная высокими скалами и осыпями крутых
склонов. Лестницы дома состояли из обрубков дерева и вели через квадратное
отверстие в потолке к следующим комнатам, расположенным террасами. Двери
были поставлены одна к другой под прямым углом и притом в столь узких
проходах, что одновременно ими мог пользоваться только один человек. Проходя
в эти низкие двери, Азиз-хон был вынужден сгибаться вдвое. Прадед Азиз-хона
боялся соседних ханов: в таких закоулках нападающий не мог ни стрелять из
лука, ни взмахнуть кинжалом. В прежнее время, когда яхбарские ханы считали
себя в опасности, они никогда не спали две ночи подряд в одной и той же
комнате, зная, что отверстие в потолке дает неприятелю удобный пункт, откуда
он может, подкравшись, направить стрелу. Времена опасностей и внезапных
нападений уже миновали, - в своей ли комнате, на плоской ли крыше, -
Азиз-хон спал спокойно... Никто теперь не охранял дом, регулярного войска в
Яхбаре много лет уже не было, и даже риссалядар - предводитель яхбарских
конников, распущенных по домам, - жил на покое в одном из дальних селений
ханства. Азиз-хон не любил его и с ним не встречался.
Сад на скале вокруг дома был очень густой. Выбиваясь из-за зубчатой
стены, ветви деревьев свешивались над рекой. В саду всегда стояла глубокая
тень. Без позволения Азиз-хона никто не мог входить в этот сад. Впрочем,
окрестные жители, работающие внизу в долине, на полях Азиз-хона, и не
стремились сюда заглядывать: всем было ведомо, что в саду, в свободное от
работы время, проводят свой досуг жены их господина. Им - старым и молодым -
был виден из-за стены весь мир, а их не видел никто, и, конечно, именно так
угодно пророку. Да и сам Азиз-хон, присаживаясь на излюбленном камне,
возвышавшемся над стеной, любил предаваться высоким размышлениям, созерцая
свои владения и - по ту сторону Большой Реки - страну, такую же, как эта, но
подвластную не ему, а новым, непонятным правителям.
Азиз-хон думал о тех временах, когда и тот и этот берега были покорны
одной только воле его деда, позже убитого собственным сыном - отцом
Азиз-хона. Большие богатства текли тогда в этот дом, а теперь все приходит в
ветхость: зубчатая стена кое-где обвалилась, дожди размыли глиняные
украшения угловых башен, резные раздвижные окна веранды обломились, и даже
дерева - того особенного, крепкого дерева, какое дед Азиз-хона покупал во
внутренних провинциях, - теперь уже нигде не достать, да и разве нашлись бы
теперь мастера, способные так искусно вырезать на деревянных щитках
священные изречения?
"Все приходит в упадок, - рассуждал Азиз-хон, - и виноваты в этом
проклятые иноземцы, владеющие ныне той половиной мира, что начинается за
Большой Рекой". И потому думы Азиз-хона всегда горьки, а длинное, в обвисших
морщинах лицо его сухо и желто, и даже седеющая борода постепенно становится
непокорной и жесткой, как лохмы верблюжьей шерсти.
Теряется власть Азиз-хона даже над своими людьми. Правда, никто не
рискнет ни ослушаться его, ни противоречить ему, но самый последний нищий
яхбарец осмеливается теперь смотреть в глаза с таким выражением, будто он не
покорный раб, а пойманный волк. Да и мудрено ли? На том берегу нет уважения
ни к вере, ни к достоинству рода, ни к ханской власти. "Эти безумцы русские,
- негодовал Азиз-хон, - разломали весь божественный дом почета и власти.
Разве можно снимать уздечку с шеи народа?"
И что осталось еще Азиз-хону в жизни, когда теряется главное -
богатство и власть? Священные книги да услады жен...
Азиз-хон глядит на Ниссо, сидящую на корточках во дворе и ловко
обкатывающую шары, слепленные из соломенной трухи и навоза.
Конечно, заготовлять на зиму топливо мог бы и кто-нибудь из слуг
Азиз-хона. Но это женское дело, а женщинам не следует бездельничать, а потом
должна же Ниссо хоть чем-нибудь отрабатывать те сорок монет, что уплачены за
нее! Готовить еду она не умеет, да и пусти ее только к старым женам -
передерутся опять. Дай ей работу внизу, в долине - еще засмотрится на
какого-нибудь бродягу. Нет, пусть лучше работает здесь: у нее сильные руки -
легко разминает шар в лепешку и так пришлепывает ее к накаленному солнцем
камню, что лепешка не падает, даже совсем высохнув.
Скверный характер у этой девчонки. Все норовит повернуться спиной. А то
становится злой и цепкой, как маленькая барсиха, - только не шипит, а молча
царапается, кусается, рвется из рук... Ну, зато пусть работает, змееныш, без
срока и отдыха. Все равно покорится: не первая!
Всех своих жен забыл сейчас Азиз-хон, всех бьет, ругает и гонит, и все
знают причину этого. И если б только посмели - разорвали б Ниссо в клочки.
Но гнева Азиз-хона все боятся и только иной раз украдкой злобно дернут Ниссо
за косы. И сами не понимают, почему до сих пор Ниссо ни на одну из них не
пожаловалась...
Ниссо сидит на корточках среди накатанных ею шаров. Мнет руками
накаленный солнцем навоз. Лицо ее сосредоточенно, она задумалась; обкатанный
в соломенной трухе шар лежит на ее ладонях, опущенных на колени, она забыла
о нем.
- Работай, Ниссо! Опять ленишься!
Голос Азиз-хона суров, но спокоен. И все-таки Ниссо вздрагивает.
"Работай, работай, только и знай - для него работай!" - злобно
произносит она про себя, но начинает обкатывать шар, потом давит его двумя
руками, бросает лепешку в сторону. Азиз-хон будто и не глядит на нее, а
Ниссо опять задумывается. Какое ей дело до этой работы? Пусть будет меньше
шаров, пусть зимой Азиз-хону будет холодно. Все здесь для Ниссо чужое!.. Но
боясь окрика, Ниссо захватывает ладонью новый ком, обминает его.
Впереди между готовых лепешек Ниссо видит маленькую желтоголовую
ящерицу; Ниссо замерла: следит за нею внимательно, только бы не спугнуть!
Ящерица выползла на солнце, расставила передние лапки, осторожно водит
головой. Вот юркнет за камень и убежит! В глазах Ниссо охотничий огонек.
Ниссо схватывает ящерицу, та трепетно дышит в ее руке. Ниссо чуть
приоткрывает ладонь, маленькая голова ящерицы ворочается в смертельном
страхе. Забыв об Азиз-хоне, терпеливо наблюдающем за нею издали, Ниссо
разглядывает поблескивающие на солнце круглые злые глазки, быстро-быстро
выковыривает в мягком шаре глубокую ямку, впускает в нее юркую пленницу,
накрывает ямку ладонью и, втыкая соломинки, сооружает решетку, закрывающую
выход из маленькой, созданной в одну минуту тюрьмы. Теперь этот шар
отличается от всех других - в нем живая добыча, и Ниссо с увлечением смотрит
на нее через соломенную решетку.
Азиз-хон готов улыбнуться, - сердце его размягчилось, но показать этого
он не хочет.
- Ниссо, подойди сюда, - произносит он очень спокойно.
"Заметил или не заметил?" Сразу потеряв радость, холодная и замкнутая,
Ниссо встает, оставив шар на земле. Но быстро наклоняется, замазывает
соломенную решетку кусочком глины, кладет шар отдельно от других. Опустив
глаза, неохотно подходит к Азиз-хону.
- Ну, поднимись сюда. Слышала? Я зову.
Ниссо останавливается перед стариком, глядит на широкую реку, на
противоположный берег.
- Устала работать? - испытующе щурит глаза Азиз-хон. - Сядь со мной.
Ниссо покорно присаживается на камень. Азиз-хон сует руку в карман
распахнутого яхбарского сюртука и расправляет на своей старческой ладони
ярко-красные бусы - каменные барбарисинки, нанизанные на шелковую нитку,
зеленые треугольные стеклышки, между ними - черная пластинка агата с
вырезанным на ней изречением.
- Возьми. Приготовил тебе.
Кинув взгляд на бусы, Ниссо отворачивается.
- Возьми! Слышишь? - с легким раздражением повторяет старик. - Нагни
голову! - и сам надевает на шею Ниссо ожерелье.
Ниссо невольным движением хочет скинуть бусы, но, заметив в глазах
старика злой огонь, убегает обратно и, присев на корточки среди обкатанных
ею шаров, торопливо и энергично разминает их пальцами. Азиз-хон раздраженно
глядит на согнутую спину непокорной девчонки, но эта спина так гибка, что
Азиз-хон снова любуется ею.
А Ниссо кажется, что ожерелье жжет ее шею.
Четыре жены разрешены Азиз-хону законом. Но что такое четыре жены,
когда хозяин может кормить и наложниц? И что такое наложницы, когда и над
ними может издеваться мальчишка, которому все прощается?
В доме Азиз-хона, под каменными стенами, в темных углах, в саду, где
осыпаются сладкие, подсушенные солнцем ягоды тута, у теплого пруда, к
которому бежит с гор ручеек, у больших очагов, где готовится разнообразная
пища, - Азиз-хон любит еду, искусно приготовленную старшей женой, - в
просторном загоне для овец и коров всегда текут приглушенные, с уха на ухо,
разговоры. В них ревность, и злоба, и страх, и корысть, и хитрость: кто не
захочет пользоваться расположением хозяина дома!
Женщины ненавидят Зогара; но черноволосый, с невинным лицом и с глазами
плута, Зогар один в доме уверен в своей безнаказанности. Ему только
тринадцать лет, но если б он даже был сыном Азиз-хона, он не стал бы
самоуверенней и наглей. Кто смеет хоть слово сказать ему? Он может
решительно ничего не делать. Он может часами лежать на плоской, накаленной
солнцем крыше дома, почесываясь, поглядывая на вечно хлопочущих женщин,
придумывая насмешливые и оскорбительные слова. Он может спуститься с крыши,
выпить только что принесенное молоко, вырвать из рук женщин и раскидать
деревянные чашки. Он может ударить каждую из них и знает, что ни одна не
посмеет пожаловаться... Но кроме того, он может, если захочет, без
позволения уйти из дому в долину и бегать по садам и посевам, досаждая своей
наглостью поселянам, боящимся его доносов и наговоров. А женщины знают: если
подарить Зогару медный браслет, или кольцо с синим камнем, или кусок
русского сахару, он может спуститься в селение и передать родственникам
всякую мелкую просьбу и, вернувшись, рассказать: здорова ли мать, правда ли,
что сестру покупает пришелец из соседнего ханства, прошли ли болячки на
спине у двоюродного брата. Пусть потом целый месяц Зогар занимается
вымогательством, грозя рассказать об исполненном поручении Азиз-хону,
клянчит пиалу патоки у старшей жены старика, клубок красной шерсти у
средней... Жены Азиз-хона не все согласны, только бы выведать, как живут их
родные, только бы услышать новости и втихомолку их обсудить.
Одного не смеет Зогар: не смеет трогать Ниссо. Однажды он подсунул в ее
мягкий сапог обломок бритвы, и она порезала ногу. Азиз-хон избил Зогара туго
сплетенной плетью.
Зогар возненавидел девушку. Он делает вид, что не замечает ее, но
тайком следит за каждым движением Ниссо: о, только бы дождаться дня, когда
она в чем-нибудь преступит волю хозяина!
Но у Ниссо нет родственников в селении, и никакие услуги Зогара ей не
нужны, разговоров с женами она не ведет, и Зогару подслушать решительно
нечего. Все дни она проводит в доме или в саду. А что делает она ночью,
когда Азиз-хон уводит ее на свою половину дома, - никто проведать не может,
и если даже она не покорна там хозяйской воле, то кто, кроме хозяина, знает
о том?
Впрочем, кое о чем Зогар догадывается, - с тех пор, как подсмотрел, что
мать Азиз-хона принесла из долины двух жирных лягушек. Зогар наблюдал за
старухой в щель с крыши дома. Он видел, как старуха связала лягушек спиной к
спине, нарисовала сажей на желтых брюшках два черных сердца, жарила лягушек
живьем и затем на плоском камне растолкла их в порошок. Всякому в здешних
горах известно, для чего бывает нужен такой порошок!
Зогар со злорадством разболтал женщинам то, что видел, и с тех пор в
доме стало всем ведомо: Ниссо противится воле Азиз-хона, иначе зачем
понадобился ему порошок, привораживающий сердце к сердцу?
Ниссо и сама боялась, что колдовство на нее подействует. И когда среди
ночи Азиз-хон обсыпал ей волосы этим порошком, она искусала руки старика,
забилась в тот угол сада, где громоздились сухие острые камни, и до полудня
не показывалась, опасаясь, что Азиз-хон найдет ее. Но Азиз-хон не пришел, -
он весь день просидел, не выходя из дому, а вечером в гости к нему прибрел
халифа, и масляный светильник лучился сквозь щели сухой каменной кладки до
поздней ночи.
Ниссо не понимала, что именно спасло ее от действия порошка, и решила
быть еще злее и упрямее.
В доме Азиз-хона, как, пожалуй, и всюду в Высоких Горах, суеверия,
наговоры и заклинания считались непреложной необходимостью. Все верили, что
в водах Большой Реки живет Аштар-и-Калон - Большой Дракон, имеющий власть
над людьми. Поэтому ночью люди решались подходить к реке только после
заклинаний. Никто не сомневался: те, кто каждый год погибает в реке,
пропадали именно потому, что пренебрегали заклинаниями или не сумели
правильно произнести их.
Все знали также, что если женщина хочет иметь хороших детей, то она
обязательно должна побывать в скалистом ущелье Рах-Даван, невдалеке от
берега Большой Реки, и повесть лоскут своей одежды на каком-нибудь кусте,
растущем на склоне. Поэтому все ущелье Рах-Даван пестрело развевающимися по
ветру лоскутками ситца, сукна и тахфиля... Поэтому даже сам Азиз-хон раз в
год разрешал женам в сопровождении своей дряхлой матери пройтись в ущелье
Рах-Даван.
Ниссо помнила такой случай. Однажды ветер унес с ее головы белый
платок, подаренный ей Азиз-хоном. Платок долго носился в воздухе и исчез в
водах Большой Реки. И старуха, мать Азиз-хона, сказала тогда Ниссо: "Всякий,
кто уклоняется от пути, упадет на острую бритву. Делай то, что тебе велит
Азиз-хон. Три дня думай. Если вернется на твою голову платок, значит, бог
велит тебе стать покорной. Если после этого будешь упрямиться, как ослица,
ночью глаза твои выклюет гриф..." Три дня и три ночи терзалась Ниссо. И
когда не четвертое утро проснулась и увидела на своей голове пропавший
платок, так испугалась, что от страха почти потеряла создание. Старуха
побрызгала ей на лицо водой и сердито сказала: "Сама видишь волю
покровителя..." Целый день после того Ниссо колебалась, думала: надо
покориться воле бога. Но отвращение к старику восторжествовало, и ночью,
убегая от Азиз-хона, Ниссо крикнула ему: "Пусть выклюет мне глаза гриф!"
Весь день она плакала среди камней в углу сада и сквозь слезы смотрела на
небо, ежеминутно готовая увидеть в нем темные громадные крылья разгневанной
птицы. Но небо голубело, как и всегда, и, кроме маленьких ястребов,
кружившихся над долиной, никто в нем не появлялся.
К вечеру Ниссо успокоилась и подумала, что, может быть, у нее есть свой
дэв, - добрый дэв, охраняющий ее от воли покровителя, или что, может быть,
старуха ее обманула? И решимость Ниссо еще больше усилилась. Впрочем, грифы
нередко летали над долиной Большой Реки и, бывало, подолгу кружились над
скалой, на которой лепился дом Азиз-хона. И если раньше Ниссо только
любовалась их плавным полетом, размахом их коричневых крыльев, то теперь,
после случая с платком, каждый раз, завидев грифа, она испытывала неодолимый
ужас, стремительно бежала в дом и, дрожа, сидела там до тех пор, пока
кто-нибудь, ругаясь, не гнал ее во двор.
Если б не эти страхи и домогательства Азиз-хона, Ниссо могла бы
сказать, что ей здесь живется хорошо, несравненно лучше, чем в ее родном
Дуобе. В самом деле: теперь ей не нужно было заботиться о пропитании. В доме
Азиз-хона все кормились сытно, и никто не отказывал Ниссо в еде. Она ела
блинчатые лепешки с печенкой, ревенем и рисом, плов со свежей бараниной,
вареное мясо с солью, козий сыр, пила молоко и чай - все, невиданное ею в
той, прошлой жизни.
Азиз-хон не жалел для Ниссо и одежды. Как и другие женщины, она носила
длинную рубашку с узким воротом, вышитую шерстяною ниткой у лодыжек, с
рукавами, туго обхватывающими кисти рук. Под рубашку надевала она
кашемировые шаровары, подвязанные и щиколоток ковровой тесьмой, с
вкрапленными в ней красными и зелеными стеклышками. Волосы она заплетала
теперь не на две косы, разделив их посередине головы пробором, а на два
десятка мелких косичек - так, как заплетали их все яхбарские женщины. У нее
была и украшенная золотом тюбетейка, но старуха, мать Азиз-хона, по скупости
не позволяла ее надевать. Другие жены Азиз-хона румянили щеки, подкрашивали
брови и ресницы сурьмой, но Ниссо не хотела нравиться Азиз-хону и отвергала
всякие уговоры старухи украсить свое лицо. Женщины Высоких Гор никогда не
носили ни паранджи, ни чадры и этим отличались от женщин других стран
Востока. Появляясь среди чужих людей, они обязаны были только прикрывать
нижнюю половину лица белым платком. Но женам Азиз-хона не приходилось
встречаться с чужими людьми, за исключением разве тех случаев, когда они
хаживали со старухой в ущелье Рах-Даван или когда, в год раз или два
Азиз-хон разрешал им присутствовать на каком-нибудь празднике.
Лицо Ниссо оставалось открытым. Если б кто-либо в этой стране знал хоть
что-нибудь о гречанках древних времен, он мог бы правильно охарактеризовать
безупречную красоту Ниссо. Но женщины Высоких Гор все отличались
стройностью, и тонкие красивые лица здесь не были редкостью. Ниссо была не
лучше многих других, но выразительность ее больших, всегда строгих и очень
серьезных глаз вполне правильно причислялась Азиз-хоном к особым свойствам
ее привлекательности. Если б не эти глаза, Азиз-хон, вероятно, не стал бы
так долго ждать доброй воли Ниссо. И когда глаза Ниссо зажигались злобой и
недетской ненавистью, он становился еще терпеливей, ибо уж слишком привык к
обычной для него женской покорности, порожденной страхом перед его гневом.
Вначале и Ниссо очень боялась его, но потом он стал убеждаться, что страх у
Ниссо проходит. Он терялся, чувствуя, что девчонка начинает сознавать свою
власть над ним. Однако он был терпелив и решил, что у него хватит выдержки
подождать еще.
Конечно, Ниссо не могла знать помыслов Азиз-хона, но и ее мыслей тоже
никто не знал. Все видели, что она тиха, и думали, что она покорилась и
успокоилась. Конечно, все замечали, что у Ниссо есть свои причуды, но мало
ли какие причуды бывают у женщин, стоит ли придавать им значение?
Вот, например, другие жены Азиз-хона постоянно купались в маленьком
мутном пруду посредине сада. Ниссо в этот пруд ни за что влезать не хотела.
Она утверждала, что боится водяных змей, и ни насмешки, ни уверения в том,
что в пруду нет ни одной змеи, на нее не действовали. Старуха заявила, что
такую грязную дрянь Азиз-хон не пустит и на порог своей половины, но Ниссо,
ничуть не огорченная этим, неизменно убегала от старухи, когда та старалась
загнать ее в пруд. Кому могло прийти в голову, что Ниссо намеренно стремится
быть грязной, чтобы лишний раз досадить этим Азиз-хону и оттолкнуть его от
себя?
Однажды Зогар вбежал к Азиз-хону с криком:
- Смотри, что твоя Ниссо делает: ты ее кормишь, а она у тебя ворует!
Азиз-хон, водивший волосатым пальцем по желтой странице "Лица веры",
отложил книгу, поднялся, кряхтя, и пошел за Зогаром в тот конец сада, где
среди камней, под густыми деревьями, любила скрываться Ниссо.
Девчонки здесь не оказалось, но Зогар с таинственным видом поманил
старика к расщелине между двумя камнями, забежал вперед, разгреб сухие
листья.
- Смотри! Это что?
Азиз-хон приник глазами к расщелине, вытащил небольшой узелок.
Зогар услужливо помог развернуть его. В узелке оказались абрикосовые
косточки, пшеничные зерна, высохшие ломти ячменных лепешек, сушеные яблоки,
слипшаяся в комки тутовая мука. Перья синицы, зубы ящерицы в отдельной
тряпочке, несколько стеклянных бусинок, треугольный амулет на шнурке, явно
снятый с шеи маленького теленка, из тех, что стояли в коровнике Азиз-хона, и
осколок зеркала составляли другую часть припасов, сделанных, несомненно,
Ниссо. Зогар ехидно тыкал пальцем в каждую из находок и, льстиво заглядывая
Азиз-хону в лицо, приговаривал:
- Видишь?.. И это видишь? И это?
Азиз-хон, нахмурясь, стоял над развернутым узелком и раздумывал.
- Позови ее сюда! - резко приказал он, наконец, Зогару, и тот,
предвкушая удовольствие увидеть ненавистную ему Ниссо наказанной, помчался к
дому.
Азиз-хон, одетый в тот день в белый сиатангский халат, присел на
камень. "Может быть, она задумала бежать?" - беспокойно подумал он, но тут
же отбросил эту мысль как недопустимое предположение: на его памяти не было
случая, чтобы в Яхбаре женщина решилась на такую дерзость, как бегство от
мужа. Правда, бывало, что от очень жестоких мужей жены уходили обратно в
родительский дом, но это происходило только с ведома и согласия отца,
возвращавшего покинутому мужу стоимость потерянного. Столь чудаковатых отцов
в Яхбаре находилось мало, но все же за свою долгую жизнь Азиз-хон знал два
или три таких случая. А ведь у Ниссо не было ни матери, ни отца, - куда ей
стремиться? Да и разве могла она рассчитывать переправиться через Большую
Реку без посторонней помощи, а кто здесь, в подвластных Азиз-хону селениях,
посмел бы оказать ей такую помощь? Нет, тут дело в чем-то другом...
- Идет! - Перед ханом с плетью в руке возник Зогар.
- А это зачем принес? - кивнул Азиз-хон на плеть.
Зогар развел рот в сладенькую улыбку:
- А бить ее надо?
Азиз-хон медленно поднял испытующий взгляд на Зогара и, внезапно
освирепев, вырвал плеть из его руки.
- Да будет оплевана могила твоего сожженного отца! - отрывисто крикнул
он и протянул плетью по плечу Зогара. - Пошел вон!
Зогар схватился за плечо, отскочил, залился пронзительным ревом и
побрел к дому. Увидев идущую навстречу Ниссо, он оглянулся на старика и,
убедившись, что тот на него не смотрит, подбежал к ней и что было силы
хватил ее кулаком в грудь. Ниссо вскрикнула, Азиз-хон обернулся, а Зогар,
злобно пробормотав: "Еще глаза твои проклятые выбью!", опрометью кинулся в
сторону и скрылся за деревьями.
Потирая ушибленную грудь, но без всякого страха Ниссо подошла к
Азиз-хону.
- Ты спрятала? - мрачно спросил старик.
- Я! - вызывающе взглянула на него Ниссо.
- Зачем?
- Себе спрятала!
- Знаю, не мне... Отвечай, зачем? Или - вот! - Азиз-хон потряс плетью.
- Бей! - с ненавистью отрезала Ниссо. - Бей, н вот! - и Ниссо откинула
голову, подставляя лицо для удара.
Азиз-хон промолчал. Изменив тон, он сказал неожиданно мягко:
- Сядь сюда. Рядом сядь. Скажи по-хорошему. Сердиться не буду.
Ниссо продолжала стоять. Азиз-хон взял ее за руку, притянул к себе.
Теперь она стояла, касаясь его колен, глядя в сторону с невыразимой скукой.
Азиз-хон попробовал воздействовать на Ниссо добротой:
- Слушай, ты... Я не говорю, как в законе: "Нет женщины, есть палка для
кожи ее". Разве я плохой человек?
Ниссо не ответила.
- Почему молчишь? Почему боишься меня?
- Не боюсь! - отрывисто и резко сказала Ниссо. - Пусти.
- Подожди, Ниссо... Поговори со мной... Разве тебе плохо жить у меня?
Разве ты мало ешь? Разве нет одежды? Разве я злой? Разве в Дуобе ты знала
такую жизнь? Сердце твое черно. Глаза твои злы, как у дикой кошки... Душа
твоя всегда в другом месте... Почему, скажи?
- На свою половину зовешь меня, - медленно ответила Ниссо. - В саду
спать хочу.
- Э, Ниссо!.. Разве я такой с тобой, как с другими? Знаешь, мудрец
говорит: "Если ты проведешь у чьих-нибудь дверей год, в конце концов тебе
скажут: "Войди за тем, для чего стоишь!" Я твой хозяин, твой властелин, я
большой человек, кто скажет, что Азиз-хон не большой человек? Не бью тебя,
не приказываю тебе, стою у твоих дверей, жду... Разве я мешаю тебе делать,
что хочешь? Разве спрашиваю тебя, зачем носишь от меня тайну? Вот это,
например, - Азиз-хон указал ладонью на развернутый узелок, - что?
- Амулеты мои, - коротко бросила Ниссо.
- Хорошо, амулеты, - терпеливо протянул Азиз-хон. - А еда зачем?
Лепешки, мука?
- У меня тайны нет... Для друга приношу это!
- У тебя есть... друг?
- Кэклик* мой приходит сюда, когда я свищу! - не уловив выражения глаз
старика, ответила Ниссо. - Сидит на моей руке, клюет из моей руки. Это
плохо? Ты захочешь его отнять? Ты говоришь: ты хороший человек, а твой
Зогар, как собака, вынюхивает каждый мой след!
Азиз-хон облегченно вздохнул. Ниссо продолжала, глядя ему прямо в лицо:
- Что мне твои одежды, твоя еда, твои разговоры? Твои жены - как злые
дэвы, твой Зогар - вонючий хорек, твой дом - зерновая яма в земле. Ты не
пускаешь меня на пастбище, ты не пускаешь меня к реке, ты хочешь, чтоб я,
как лягушка, купалась в твоем грязном пруду. Кто не хочет пустить в мою
голову камень? Ты злой человек, я жить у тебя не хочу, слушать тебя не хочу,
ничего не хочу. Лучше бей меня, я хочу умереть! Пусти!
Ниссо вырвала свою руку из руки старика, отбежала в сторону, припала к
большому гладкому камню, уткнув лицо в ладони.
Азиз-хон, поглаживая бороду, задумчиво глядел на Ниссо. Он готов был
поддаться желанию встать, неслышными шагами подойти к ней... Но из-за камня
выскочил маленький, каменно-серый, коренастый кэклик. Повертел головой,
быстрой перебежкой приблизился к гребню камня. Остановился, напыжившись,
встряхнул крыльями с голубоватым оттенком, осмотрелся. Потом, вытянув вперед
шею, пробежал вниз по камню, прокричав: "Тэкэ-кэ... Тэкэ-кэ... Тэкэ-кэ...",
ширкнул крыльями и вскочил на плечо Ниссо. Ниссо резко повернулась, схватила
его, прижала к груди и стремглав убежала в глубину сада.
Сразу остепенившись, Азиз-хон улыбнулся. Наклонился к узелку, связал
конца и, сунув узелок в расщелину, завалил ее листьями. Вздохнул, покачал
головой и медленно направился к дому, вертя в пальцах черенок плети. Его
сердце положительно размягчалось, когда он раздумывал о Ниссо. И он совсем
не знал, что делать с ней дальше.
Во дворе дома Азиз-хон увидел Зогара: валяясь на циновке, он сплевывал
абрикосовые косточки. Азиз-хон подступил к нему в бешенстве, грозя плетью,
пробормотал:
- А тебя я отправлю рыть канал в ущелье. И чтобы больше ты не смел
нюхать следы девчонки! Валяешься целый день! Прочь отсюда!
И ошеломленный Зогар, услышав над собой свист плети, кинулся в сторону,
перепуганный, как провинившаяся собака.
Шли дни и недели. И ничто не менялось в доме. Только кэклик Ниссо был
признан всеми. Теперь он всюду ходил за Ниссо, не разлучаясь с нею ни днем,
ни ночью. Все, казалось, оставили Ниссо в покое. Азиз-хон был с нею
неизменно добрым. Все шло к тому, чтобы девчонка, постепенно успокоившись,
прижилась в доме Азиз-хона. Но Ниссо оставалась по-прежнему замкнутой, и
никто не знал ее дум. Зогар постепенно стал перед ней заискивать. Он даже
несколько раз пытался угощать Ниссо украденными у старухи сладостями, но
Ниссо каждый раз презрительно отстраняла его подарки.
Зогар, однако, не успокаивался. Однажды утром кэклик пропал. Ниссо,
растерянная, бегала по всем закоулкам дома и сада и готова была уже
заподозрить Зогара. Но, забравшись на стену и обозревая спускающуюся в
долину тропинку, она вдруг увидела Зогара, бегущего вверх по тропе с
кэкликом в руках. Ниссо помчалась через двор к каменным старинным воротам и
столкнулась здесь с Зогаром, сразу протянувшим ей кэклика:
- Возьми! Он убежал вниз, я увидел, догнал его. Ты все думаешь - я
плохой, а что делала бы ты сейчас без меня?
И прижимая к груди притихшую птицу, Ниссо в первый раз ответила Зогару
с искренней теплотой:
- Спасибо, Зогар!
Прошло еще несколько дней, и кэклик пропал опять.
- Он стал уходить, - сказал Зогар, - он ищет другую птицу.
Близился вечер, солнце уже положило розовые лучи на снега дальних гор.
- Я знаю, где он сейчас! Он, наверное, вон на том поле внизу, - показал
Зогар со стены, на которую оба залезли в поисках птицы. - Видишь, дом
Зенат-Шо, пять тополей вокруг, первый канал, второй канал, за ним - поле. У
Зенат-Шо тоже есть кэклики. Вот твой, наверное, и побежал к ним, прошлый раз
я там и поймал его.
- А ты можешь за ним пойти?
- Нет, Ниссо, сегодня не могу. Абрикосовые косточки велено мне колоть!
- Ах, - в горести воскликнула Ниссо, - что же я буду делать? Ведь ночью
он может убежать в горы!
- Конечно, может. Даже наверное убежит. Пропал тогда твой кэклик...
Знаешь что, Ниссо? Вот как я тебе помогу. Пусть теперь ты будешь знать, что
я тебе друг... Слушай. Азиз-хон сегодня ушел к халифа. Так?
- Так.
- Он поздно вернется. Пойдем по этой тропинке. А ты возьми мой халат,
мою тюбетейку. Вот немножко станет темней, спустись тут, под стеной, побеги
туда, разве долго тебе сбегать? Наверное, Азиз-хон не вернется. А если
вернется, я буду ему на дудке играть. Ты знаешь, он любит. Он не заметит,
как ты придешь. Видишь, какой я тебе друг, а ты все и смотреть на меня не
хочешь.
- Я боюсь, Зогар. А если узнает он?
- А! Придет рыба, съест кошку! Кто может бояться этого? Я тебе говорю -
не узнает!
Ниссо колебалась. Но Зогар так убеждал ее, а кэклик так явно мог
пропасть, а соблазн - хоть раз, хоть один только раз спуститься туда, в
свободный мир, - был так велик, что Ниссо согласилась.
Едва стемнело, она уже спускалась по скалам в темном халате Зогара, в
его тюбетейке, со сладостно-тревожным ощущением запретности своего поступка.
Ловкие ее руки и ноги прилипали к выбоинам в скале, глаза зорко выискивали
во тьме путь дальше, сердце билось учащенно, ветер, скользящий над Большой
Рекой, шевелил волосы. Вот и кусты облепихи, на которые так часто глядела
она сверху; вот и узкое руслице ручейка, обтекающего скалу по искусственному
карнизу; вот и первые тополя... Ухватившись за ветку, Ниссо спрыгнула на
землю, каменистую землю долины. Никто не заметил ее.
Осторожно крадучись между оградами и каналами, пригибая сочные стебли
ячменя, Ниссо быстро достигла поля бедняка Зенат-Шо. Сейчас она найдет
кэклика, - он, конечно, где-нибудь здесь, в посеве, - и побежит назад.
Все-таки она напрасно так плохо всегда думала о Зогаре!
Кто-то прошуршал травой рядом. Ниссо приникла к земле.
- Кто здесь? Опять воровать пришел? - раздался над самым ухом Ниссо
гневный мужской голос.
Ниссо метнулась в сторону, но замерла, схваченная сильной рукой за
плечо.
- Пусти! - сдавленным шепотом в отчаянии произнесла Ниссо. - Я не
воровать... Кэклик мой должен быть здесь...
- Кэклик?.. Какой кэклик?.. Э, да это женщина... Откуда ты, что делаешь
здесь?
- Пусти, не кричи! - взмолилась перепуганная Ниссо. - Я... я... Только
молчи, не кричи!
Все еще не отпуская Ниссо, молодой яхбарец всматривался в ее лицо.
- Да ты не пугайся, если ты не вор. Тут вор ко мне ходит, просо крадет.
Никогда не видел девчонку в мужском халате! Откуда такая? Зачем дрожишь?
Сядь, язык есть - говори! Ну, сядь, или я на волка похож? Я сам тебя
испугался.
И почувствовав в тоне мужчины приветливость, Ниссо преодолела испуг.
Они сели рядком на землю, до плеч укрытые высокими колосьями. В нескольких
словах Ниссо объяснила, кто она и откуда и как попала в дом Азиз- хона, и
Керим, старший сын Зенат-Шо, участливо ее выслушав, посоветовал ей
поторопиться домой, "если она не хочет, чтоб этот волк Азиз-хон разорвал ее
на две части". А кэклика взялся поискать сам. "Вряд ли забрел сюда кэклик,
но если найдется - завтра младший брат принесет его Азиз-хону. Куда может
деться в селении ручной кэклик?"
И хотя Керим сам торопил Ниссо, но по глазам его даже в темноте было
видно, что он вовсе не так уж хочет с ней расставаться. Впрочем, он слишком
хорошо понимал, чем грозит девушке долговременная отлучка из дому.
- Иди, - сказал он. - Ничего плохого тебе не хочу... иди скорее, если
ты не безумная.
И, отпустив руку Ниссо, не сказав больше ни слова, Керим встал и отошел
от нее.
А Ниссо, тревожась о том, что будет, если Азиз-хон заметил ее
отсутствие, прежним путем устремилась назад. Добежав до скалы, она со
стесненным сердцем полезла наверх, цепляясь за выбоины и шероховатости
камней.
Едва Ниссо выбралась на зубцы старинной стены и уцепилась за ветки
тутовника, она сразу увидела необычайное оживление в доме. Сквозь листву
темного сада просвечивали полыхающие огни двух больших масляных
светильников, зажженных у открытой глинобитной террасы дома. Кто-то рыскал
по саду с третьим светильником, подгоняемый визгливыми выкриками старухи.
Ниссо сразу подумала, что это, быть может, ищут ее, и сердце у нее замерло.
Спрыгнув со стены в темный сад, она, крадучись, приближалась к дому. Может
быть, дело не в ней? Может быть, приехали гости или кто-нибудь умер?
Пробираясь к дому от ствола к стволу, она убедилась, что посторонних во
дворе нет, и увидела Азиз-хона. Он сидел на краю террасы в распахнутом
халате, широко расставив ноги, опустив голову, накручивая на палец и снова
раскручивая конец черной своей бороды. Ниссо притаилась за последним
деревом, растерянная, не зная, что делать дальше. Внезапно старуха кинулась
прямо к ней.
- Здесь она!
Ниссо инстинктивно рванулась в сторону, но разом остановилась,
схваченная окриком Азиз-хона:
- Иди сюда!
Слабея от страха, Ниссо медленно, нерешительным шагом пошла к террасе.
Азиз-хон словно притягивал ее взглядом. Он молчал, а Ниссо приближалась, не
видя ничего, кроме этого тяжелого взгляда. Блики от светильников прыгали по
его лицу, по напряженным лоснящимся скулам, по губам, прикушенным в злобе.
Он небрежно махнул рукой, и все, кто был во дворе, удалились вместе со
старухой. Из дома вышел Зогар. Кошачьей, неслышной поступью, не замеченный
Азиз-хоном, он приблизился к нему сзади и остановился, щурясь от неверного
света.
Ниссо замерла, как пойманная мышь. Азиз-хон глядел на ее ноги и молчал,
только мешки под его глазами вздрагивали. Вскочив, он схватил Ниссо за косы,
с бешенством рванул их к себе, и Ниссо, застонав от боли, упала перед ним на
колени. Закрылась руками, неловко села на землю.
- Смотри мне в глаза! - в сдержанной ярости сказал Азиз-хон, и она
перевела ладони от глаз ко рту.
- Отвечай, где была?
Суженные глаза Азиз-хона страшили Ниссо.
- Друга искала.
- Какого друга?
- Кэклика... он убежал...
Зогар хихикнул ей в лицо, сунул руку на пазуху и, выхватив злополучного
кэклика, поднес его Азиз-хону:
- Врет она! Вот ее кэклик! Все время был здесь.
Азиз-хон перевел взгляд на Зогара, схватил кэклика за ноги и, ударив им
Зогара по лицу, заорал:
- Пошел вон!
Зогар отлетел в сторону и исчез. Азиз-хон, яростно тряся сомлевшим
кэкликом перед лицом Ниссо, прошипел сквозь зубы:
- Еще раз солжешь - убью!
И с силой хватил кэклика о камень. Растопырив лапки, кэклик остался
лежать с окровавленной, свернутой на сторону головой. Ниссо, вскрикнув,
упала лицом на землю.
- Где была?
- Внизу. В селении, - дрожа, прошептала Ниссо.
- Зачем?
Ниссо нечего было ответить: убитый кэклик лежал перед ней.
- Смотри на меня! Все время смотри! - снижая голос по мере возрастания
гнева, проговорил Азиз-хон. - Мужчину в селении видела? Скрывать не посмей!
- Видела, - решилась Ниссо.
- Иэ!.. Видела!.. Чтоб вышла твоя душа из ушей!.. Какой друг - кэклик,
с гнилой человечьей печенкой!.. Я тебя, змею, жалел, думал - как трава,
чиста. А ты... лживое жало...
Азиз-хон снова схватил Ниссо за волосы и медленно стал навертывать на
пальцы тугую прядь. Ниссо тихо стонала.
- Отвечай! - голос старика дрогнул. - Отвечай, тебе лучше будет. Что
делали там?
- Ничего, - прерывисто прошептала Ниссо. - Клятву даю, ничего, он о
кэклике только спрашивал.
- Только спрашивал? - жестко передразнил Азиз-хон. - А еще?
- Покровитель знает: ничего. Сказал только: иди скорее домой, Азиз-хон
рассердится.
- Как зовут его?
- Керим... Сын Зенат-Шо, Керим... - Ниссо вдруг затряслась в
прерывистых бессильных рыданиях.
Азиз-хон, не сводя с нее взгляда, помедлил, стараясь унять свое
бешенство, резко встал и, сдавив пальцами шею Ниссо, поднял ее с земли.
- Иди вперед!
И Ниссо покорно, задохнувшись от боли, стыда и обиды, поплелась туда,
куда толчками гнал ее старик. Он гнал ее на свою половину, а из-за угла
террасы смотрела им вслед старуха, шамкая беззубым ртом. Потянулась к
светильнику, выдернула его из щели в стене и, колотя им по земле, сбила
огонь. Потянулась к другому... Черная ночь сразу сомкнулась над домом и
садом. Глубокие ясные звезды наполнили тьму нежнейшим сиянием. Легкий
прохладный ветер скользнул снизу, от реки, зашелестел листвой. Старуха
стояла во тьме, словно темное привидение, и долго прислушивалась к
доносившимся сквозь стены глухим звукам ударов и сдавленным стонам Ниссо.
Вздох удовлетворения вырвался из груди старухи. Шлепая босыми ногами,
она поплелась через двор к женской половине дома.
Утро пришло, как и всегда, тихое, свежее. Из долины донеслась первая
дробь далеких бубнов: это женщины отгоняли птиц от созревающих посевов.
Блеяли овцы. Шумела Большая Река - так привычно и ровно, что никто не
замечал ее шума.
Снежные горы окрасились багрянцем, вершины открыли дню сначала
фиолетовые, затем серые и коричневые зубцы. Ниже зазеленели лоскутки
богарных посевов. Они зеленели везде, где склон был не так крут, чтобы
человек не мог забраться на него с мотыгой.
В селении началось обычное оживление: жители, скинув ватные одеяла,
вставали во весь рост на плоских крышах, спускались во дворы, и каждый дом
вознес к прозрачным высотам ущелья голубой дымок очага.
Из крайних ворот селения выехало несколько всадников в чалмах и в белых
халатах, с кривыми саблями. Хозяин дома низкими поклонами проводил их в
путь, и они устремились короткой рысью по долине. Эти всадники, ночевавшие
здесь, были, вероятно, владетелями какого-либо из отдаленных селений Яхбара
и, наверное, прежде состояли в дружине живущего теперь на покое риссалядара.
Едва солнечные лучи коснулись долины, превращая в легкую дымку ночную
росу, по тропинкам селения побрели оборванные, полуголые люди со своим
первобытным орудием, с тяжелыми мешками, с вязками клевера на притороченных
к спине высоких носилках...
Азиз-хон вышел на террасу, потребовал чаю и долго пил пиалу за пиалой,
пожевывая ломти свежевыпеченных лепешек, сухими пальцами отправляя в рот
изюминку за изюминкой.
А Ниссо, обессиленная, с запавшими, устремленными в потолок глазами,
продолжала лежать на груде смятых одеял. Старик жестоко избил ее ночью. Боль
обиды в потускневшем сознании Ниссо затягивалась как бы туманом. Многого еще
не знала Ниссо, но понимала, что теперь ей уже нет спасения, - Азиз-хон
придет еще раз, едва наступит новая ночь!.. Ниссо лежала без сил, без
движения; весь мир перевернулся для нее: ни солнце, ни воздух, ничто в нем
больше не существовало, словно и самой жизни не было у Ниссо.
День в доме Азиз-хона проходил так же, как и всегда, но все в доме
притихли, стараясь ничем не привлечь к себе внимание хана. А он молчал и
думал и был одинок. Он прошел в угол сада и долго бесцельно ходил там. На
его жестком лице было выражение сосредоточенности и глубокого раздумья.
Несколько раз его губы складывались в подобие улыбки, но тотчас же выражение
злобы омрачало его нахмуренный лоб.
Жены Азиз-хона в этот день не ссорились и не дрались; они
переговаривались одна с другой так тихо, что даже Зогар, подкравшийся из-за
угла, не мог ничего подслушать.
Ни разу за весь день Азиз-хон не зашел туда, где лежала Ниссо, а
вечером велел старухе постелить ему одеяла на крыше дома.
Но когда все уже собрались спать, Азиз-хон, выйдя на террасу, хлопнул в
ладоши и что-то вполголоса приказал явившемуся слуге - оборванному, грязному
старику из тех обнищалых родственников, что жили подачками от стола и
ютились в маленьких каменных берлогах, прилепленных к стене коровника.
Старик вприпрыжку побежал к воротам, скрылся в них и поспешил вниз по
узкой тропинке, ведущей к селению. Вскоре во двор ханского дома вошел
молодой яхбарец Керим. В сыромятных сапогах, надетых на цветные чулки, в
сером домотканом халате, в выгоревшей тюбетейке, он шел через двор спокойно
и просто. Остановился перед Азиз-хоном, молитвенно сложил руки на груди, в
полпояса поклонился и сказал:
- Слава покровителю, дающему здоровье тебе, Азиз-хон! Зачем звал меня?
И, не дождавшись даже легкого кивка головы, замер перед Азиз-хоном
почтительно и смиренно.
- Я тебе дал шесть мер зерна для посева. Так? - сухо промолвил
Азиз-хон.
- Слава твоей доброте. Дал.
- И в прошлом году не взял с тебя двух мер урожая тутовых ягод. Так?
- Так, достойный.
- И твой дом стоит на моей земле, и камни для дома ты взял от этих гор
с моего позволения. Истина это?
- Истина, господин. Неизменна твоя доброта.
В простодушных глазах Керима росла тревога.
- И приплод от восьми твоих овец ты еще не приносил мне?
- Твои люди, осмелюсь напомнить, милостивый хан, взяли приплод и трех
моих овец на плов, когда был Весенний праздник.
- Это не в счет, - нахмурился Азиз-хон. - Это не для меня, для мира.
- Так, так... - поспешно согласился яхбарец. - Это для мира.
- Так вот, Керим. Я видел сегодня сон. Покровитель сказал мне, что
праведен только тот, кто очищается от долгов еще в этой жизни. И велел
позаботиться о тебе - снять с тебя накопившиеся грехи. Конечно, ягод уже
нет, и приплода нет, и нынешний урожай ты еще не собрал. Но все ценности в
этом мире, кроме души праведного человека, могут быть измерены счетом монет.
Ты должен мне сорок семь монет и три медяка. Ты пойдешь сейчас домой, вот
солнце садится за гору, а когда сядет, ты принесешь мне свой долг, чтобы
звездам сегодняшней ночи не пришлось тебе напомнить о нем!
Керим упал на колени и попытался прикоснуться лбом к подолу халата
Азиз-хона. Азиз-хон отдернул халат.
- Ты слышал?
- Видит покровитель, - в отчаянии молвил яхбарец, - дома и одной
медяшки у меня нет.
- Но за ущельем Рах-Даван, - брезгливым тоном проговорил Азиз-хон, -
есть тропинка в город. А в городе есть для грешников этого мира тюрьма с
решеткой, крепкой, как воля покровителя. И ты, презренный, можешь узнать от
меня, что завтра утром почтенный стражник Семи Селений поведет тебя туда по
этой тропинке, если ты...
Азиз-хон понял, что Керим больше ничего не скажет ему и что даже не
попытается ночью убежать: кто захочет быть казненным за неподчинение власти
и куда может убежать батрак в этих горах, знающих имя каждого человека?
- Иди, - равнодушно сказал Азиз-хон. - Твоя судьба в руках твоей чести.
Керим встал, снова сложив на груди ладони, пробормотал обычные
приветствия и пошел, не оглядываясь, к воротам.
"Все в мире теперь благополучно", - размышлял Азиз-хон, укладываясь
спать на крыше своего дома, и вспомнил слова: "Без моего попущения не
вонзится никакой шип. Без моего приказания не порвется никакая нить. Велика
мудрость, сочащаяся из книг!" Скинул с себя халат и рубашку, сел на
разостланные одеяла и, подставив свою волосатую грудь ночному прохладному
ветру, зевнул. "Потому что я люблю Али, через эту любовь приказаниям
подчинится все - от луны до рыбы..." Слова исмаилитского панегирика
переплетались в уме Азиз-хона с мыслями о Ниссо, и Азиз-хон подумал, что
надо бы сочинить стихи. "Удостоившиеся вкусить этот плод и познать радость
ощущений вступают в высшую сферу познания... Марифат... Марифат - солнце
разума... Она теперь спит, ничего, пусть спит..."
Стихотворение надо было построить так, чтобы божественные символы Али
слились с предстоящими в эту ночь ощущениями. Но Азиз-хону хотелось спать.
Он вытянулся на одеяле, почесал живот, накрылся другим одеялом, произнес
первые сложившиеся в голове строки:
Ай, ай, дающая силы коленям стариков,
Пришла весна. О садовник, торопись идти в сад!
Но дальше не получалось. Строку панегирика: "То, что знаешь через
глаза, уши и прочее, я дал каждой твари, чтобы она жила", - Азиз-хон никак
не мог уложить в стихи. Он долго глядел на звезды, ища подходящие слова, но
мысль его возвращалась к обыденному: "Теперь она будет жить, как все твари,
- она познает своего мужа... Успокоится, - не спрошу ее ни о чем два дня...
Пусть успокоится, - всегда они так... Будет расти, будет хорошей женой... А
этот Керим, конечно, не даст ни монеты, - откуда змее взять крылья?"
И Азиз-хон с удовольствием подумал, что он справедлив, потому что он
сделал то, что тысячелетиями делают все правоверные: горы стерегут этот
закон, и не рухнет вера, пока прославляют покровителя земные хранители
мудрости. Не видят его только слепые летучие мыши. Хорошо, что крепка власть
в стране и всегда есть тюрьмы для таких, как Керим, - завтра его поведут по
тропе, и никто не нарушит душевного покоя поборника Али: ты получишь через
любовь к Али милость и достаток. Далеко уйдет опасность от имущества и жизни
твоей!
...Ее тело - как ртуть, брови - как дуга ниши,
Каждая ее косточка - наслаждение...
Стихи решительно не получались. Азиз-хон протяжно зевнул еще раз,
натянул на голову одеяло, повернулся на бок, попробовал сравнить волосы
Ниссо с нитями, на которых звезды подвешены к третьему небу, и незаметно для
себя захрапел.
Томясь в темном пустом помещении, Ниссо услышала этот храп. Весь вечер,
ворочаясь на своем ложе, она молилась по-своему. Она не знала никаких
изречений, никаких тайных божественных слов, но она верила, что есть духи
добра и зла, что за каждым движением человека следят его дэвы. Аштар-и-Калон
- Большой Дракон, живущий в водах Большой Реки, - она хорошо представляла
его себе: о нем старуха говорила не раз. У него тело змеи, хвост острый, как
длинная спица, четыре короткие ноги, на затылке грива, подобная сотне
сросшихся вместе бород, над пастью его завитые, как у дикого горного барана,
очень тонкие и высокие рога, с перекрестинами, похожими на рыбий хребет...
Ниссо верила что тот, кого пожирает Дракон, никогда уже не увидит ни одного
человека, а душа его превратится в птицу, змею, рыбу, растение или
скорпиона, - в зависимости от того, сколько добрых и сколько злых дел
совершил на земле живущий.
"Приду к тебе ночью, - сказал ей вечером Азиз-хон, - и лучше будь мне
покорной. Что могут сделать со мной твои слабые руки?"
Сначала Ниссо молилась о смерти Азиз-хона: "Вот пьет чай - пусть
захлебнется... Вот встает - пусть под ним откроется яма, и он провалится...
Вот поднимается на крышу по лестнице - пусть сломается лестница, он ударится
головой о камень... Вот встал на краю крыши - пусть порыв ветра сбросит
его... Пусть его дэв рассердится на него!"
Но старик не захлебывался, не падал с лестницы, и ветер не сбрасывал
его с крыши... Ниссо слышала старческое бормотанье, зевки, почесывание. И
отчаяние охватывало ее.
Потом Ниссо думала, что, если он придет к ней, ей надо быть очень
спокойной: он заснет, она положит пальцы ему на шею, она задушит его. Но
старик не пришел к ней, он спокойно спит, до Ниссо доносится его мерное.
Прерывистое похрапывание. И опять, как днем, Ниссо задумалась о том, что у
нее нет другого пути, пусть душа ее превратится в растение или, еще лучше, в
птицу... Только бы не в змею. И не в скорпиона. А может быть, в скорпиона?
Тогда она подползет к Азиз-хону и ужалит его. Нет, лучше в птицу, - ведь
тогда можно жить на самых вершинах гор! В какую птицу? В маленькую или
большую?.. маленькую может заклевать гриф, большую... Но ведь душа ее
маленькая, наверное, из нее не получится большой птицы.
Основное было, однако, уже решено: она отдаст себя на съедение Большому
Дракону. Бог милостив, пожалеет ее, не превратит ее ни во что худое, - разве
много злых дел совершила она на земле?
Ниссо думала о небе, о солнце, о ветре, о дальних снежных горах. Если
бы она решила, что со всем этим ей придется разлучиться навеки, ей,
наверное, стало бы страшно, но ведь она расстанется только с людьми, значит,
с самым плохим, что есть на земле, а все иное останется.
А может быть, очень страшно будет увидеть Дракона? Может быть, это так
страшно, что лучше остаться у Азиз-хона, покориться ему, - ведь живут же
другие люди и не хотят никуда уходить? Ведь почему-нибудь да есть у них
такой страх перед Аштар-и-Калоном?
И все-таки не было ничего на свете страшней и омерзительней Азиз-хона,
который жив вопреки молитвам Ниссо, который... Нет, он уже не храпит... Вот
шорох на крыше... Вот шлепают его туфли... Вот он кашляет надсадисто и
противно... У него жесткая, грязная борода...
Больше Ниссо не раздумывала. Тихонько откинула она одеяло, схватила
рубашку и шаровары, мгновенно оделась, неслышно проскользнула к двери,
глянула в ночную тьму и прислушалась. Сердце билось так, что мешало ей
слушать, но, кажется, кроме шелеста листвы в саду, не было никаких звуков.
Прижимаясь к стене, Ниссо прокралась через двор, взобралась на стену,
левее закрытых ворот, соскользнула на тропинку, ведущую к реке, и, босая, с
распущенными волосами, помчалась вниз. Только в долине она остановилась,
перевела дыхание, снова прислушалась.
Все было тихо вокруг. Никто не гнался за ней, ни одна собака не лаяла.
Только где-то вдали раздавался хриплый крик осла. Свернув с тропинки на
каменистый пустырь, прыгая с камня на камень, Ниссо спустилась к берегу
Большой Реки и, больше всего боясь передумать, побежала вдоль берега к
скалистому мысу, врезанному в темную гладь бегущей воды. Течение у мыса
рассекалось большими камнями. Пена облизывала их с шелестом и шипеньем.
Ниссо показалось, что Аштар-и-Калон высунул из пены свою черную спину.
Острый страх пронизал ее сердце, она метнулась назад.
- О-э-э!.. О-э-э!.. Проклятая девчонка, куда ты делась?
Окрик Азиз-хона, резкий, раздирающий тишину ночи, катил эхо в горах.
Ниссо кинулась обратно к реке. Между камней, торчащих над водой, раскрылась
белесоватая пасть Дракона... Ужас охватил Ниссо, она неистово закричала и
прыгнула в раскрытую пасть.
Если б она умерла в ту же минуту, кто оспорил бы, что дальше все
произойдет именно так, как рассказывала старуха об Аштар-и-Калоне, и что
душа Ниссо превратится в растение или птицу? Но в тот момент, когда Ниссо
подумала, что Аштар-и-Калон глотает ее, она почувствовала знакомый холод
воды, легкость струй, охвативших ее, и, нечаянно сделав привычные движения
руками, вынырнула на поверхность, глубоко вздохнула и поплыла.
Река быстро понесла ее вниз. Ниссо увидела мелькающий берег, а над ним
- скалу с зубчатой стеной, вырисованную на фоне звездного неба. И, сразу
забыв о Драконе, Ниссо решительно поплыла наперерез течению, относившему ее
все дальше от берега. И в том, что она плыла в быстрой холодной воде, и в
том, что берег все отдалялся и ничто вокруг ей не угрожало, было
неизъяснимое наслаждение, давно не испытанная радость свободы.
Плыть, плыть, плыть - как можно спокойней и дольше, плыть, ни о чем не
думая; плыть, как плавала в водах родной реки, плыть, зорко вглядываясь в
пену у надвигающихся встречных камней, и ловко огибать их... Сердце Ниссо
билось теперь уверенно и спокойно. Рубашка и шаровары ей не мешали. Но вода
была холодна, и когда Ниссо поняла, что силы ее скоро иссякнут, она
огляделась и не увидела берегов. И почувствовала, что ей очень холодно.
Беззаботная радость сразу исчезла, руки и ноги вдруг сделались вялыми, и
снова стало страшно. Но это был иной страх - заставляющий бороться за жизнь.
Ниссо вновь и вновь вглядывалась в черную равнину тугой воды. И наконец
увидела берег. Он был совсем недалеко, но тело Ниссо отяжелело, несколько
раз она уже глотнула воды, ноги ее цепенели. Ниссо перестала напрягать
мышцы, и вода сразу накрыла ее с головой.
Захлебнувшись, Ниссо взмахнула руками, рванулась вверх, хватила воздух
кругло раскрытым ртом, снова погрузилась и снова вынырнула. С ужасом поняв,
что тонет, вновь рванулась и из последних сил поплыла. На ее счастье, берег
ниже по течению выдался вперед каменистою отмелью. Ниссо вдруг больно
ударилась об острое дно. Кругом сразу возникли мелкие камни. Вода,
прорываясь между ними, поволокла обессиленную Ниссо по неровному дну. Руки
ее хватались за камни, но срывались. Поток воды, свернув куда-то в сторону,
оставил Ниссо на мокрой гальке... И сразу, потеряв последние силы, она
лишилась сознания. Мелкие струи обтекали ее, шевелили прилипшую к телу
одежду, заносили ее раскинутые руки песком... Когда, с трудом приподняв
голову, не понимая, что произошло, Ниссо увидела себя на незнакомом
пустынном берегу, ей захотелось отползти подальше, но слабость мешала даже
пошевельнуть рукой. Долго лежала Ниссо, закрыв глаза, потом провела рукой по
лбу, по волосам, приподнялась, села. Кругом - темные скалы, пустынная
заводь. Взглянула через Большую Реку на ту сторону и там, далеко-далеко,
заметила повыше реки мигающие огни. Присмотрелась к ним: они двигались. И
поняла, что она на другой стороне реки, а там - дом Азиз-хона, эти странные
огни в его саду... Там ищут ее!
"...Дракон! Душа, превращенная в птицу?.."
На мгновенье Ниссо вновь оледенил страх, но сразу же она усмехнулась:
ей холодно потому, что вода!..
Ниссо потрогала свое тело - все в крупных ссадинах и царапинах.
Застонала от боли в спине, выбралась на сухие камни... А вдруг ее найдут
здесь?.. Попыталась идти, но сил не было. Приникая к земле, поползла
вверх... Над ней громоздились огромные скалы.
Ниссо протиснулась в щель, образованную двумя сходящимися гранитными
глыбами, заползла в нору и затихла, погрузившись в глубокий сон.
Дневной свет едва пробивался сюда узкими полосами. Было тихо, потому
что привычный шум реки только углублял беззвучие окружающего. Было холодно и
во сне. Ниссо потянулась, ощутила ломоту и боль во всем теле, подумала о
горячем солнце, - наверное, оно уже накалило скалы. Выпрямиться мешали
сходящиеся плоскости камня. Ниссо озабоченно потрогала две большие
вздувшиеся ссадины - под коленом левой ноги и на правом плече. Ссадины ныли.
Мелкие царапины были всюду. Платье - оборванное и мокрое - липло к
исцарапанной коже. Озноб прошел по всему телу Ниссо. Она поежилась, но,
преодолев слабость, обняла колени руками. Выпить бы сейчас молока! Или еще
лучше - горячего чаю, с солью и маслом, жирного, густого! Подумала и поняла:
чаю больше не будет, молока тоже не будет. А что будет?.. Зато теперь ей не
нужно никого бояться, никому подчиняться. А что надо ей теперь делать?..
Ниссо вытянулась и поползла, стараясь не удариться головой. Узкий извилистый
ход вывел ее к свету. Жаркие лучи солнца ударили в лицо. Ниссо высунула
голову, тревожно осмотрелась: вокруг никого, ничего - только скалы, а ниже -
мутно-серые воды Большой Реки. Зажмурилась, с наслаждением ощущая ласковое
солнечное тепло; в глазах закружились красные и зеленые пятна.
Лежа на гранитной глыбе, отогреваясь, стала думать спокойнее. На другой
стороне Большой Реки, под склоном горы, зеленели сады селений, а выше по
течению, вдали, на утесе, виднелся бесконечно чужой дом Азиз-хона. Что
думают там о ней? Ищут ее или нет? Сад, берег, селение были, казалось,
мирными и спокойными, - люди там копошились посреди посевов. Ниссо напрягла
зрение: по тропинке к дому Азиз-хона поднимался осел с огромным вьюком
колючки. Кто-то в черном халате шел за ним. Над зубчатой стеной и на крыше
ханского дома людей не было: странно, что можно смотреть туда и не бояться
ненавистного старика. Ощущение независимости наплывало очень медленно. Ниссо
пришло в голову, что с противоположного берега, быть может, видят ее,
наблюдают за ней. Поспешно переползла на другой камень, закрывший ее со
стороны реки. Неужели за ней погонятся? Конечно, погонятся, - разве
проклятый старик так оставит ее?.. Надо скорее уйти подальше, как можно
дальше, - все равно куда, лишь бы спрятаться так, чтобы ни один человек не
заметил ее!
Вдоль берега вилась тропинка. Она терялась только тут, среди
нагромождения гранитных обломков. Над тропинкой вставал обрывистый,
скалистый склон. Ниссо готова была устремиться по тропинке, но подумала, что
тогда ее неминуемо увидят. Пытливым, встревоженным взглядом она принялась
изучать нависшие скалы. Сомнительно было, чтобы человек мог не сорваться,
взбираясь по такому склону. Но Ниссо не раздумывала: скорее отсюда и как
можно дальше!
Озираясь, она пробралась к подножью склона и начала карабкаться вверх.
Ногти ее выискивали самые маленькие зазубрины, пальцы босых ног нащупывали
чуть заметные выбоинки, тело, приникая к нагретой скале, изгибалось и
замирало в тот самый, единственно нужный момент, когда нарушалось
равновесие. Только родившись в этих горах и привыкнув чуть не с первого дня
жизни к этим обрывам, только не зная боязни высоты, можно было так -
инстинктом, дыханием, каждым мускулом - рассчитывать малейшие движения тела.
Ниссо поднималась все выше, цепкая, будто притягиваемая к отвесной скале.
Поднялась метров на триста, выбралась в узкий, обрывающийся над пропастью
лог...
Здесь, охватив руками ствол одинокого, выбившегося из камней деревца,
задержалась, чтобы передохнуть, и заглянула вниз. Лицо ее раскраснелось,
глаза повеселели, в них появилась уверенность. Ниссо вздохнула свободно и
глубоко и - кажется, в первый раз за многие месяцы - улыбнулась: теперь ее
никто не найдет, не догонит!
Отдохнув, Ниссо поползла по дну сухого лога, поросшего мелким
кустарником. Лог становился все шире. Девушка поднялась и пошла по мелким
сухим валунам древней морены. Ее окружали холмы моренных валов, кое-где
обросшие травой, уже иссохшей и желтой, скалистые гребни, обтянутые
обрывками мелкого мха, словно лоскутьями изодранной, слезшей с тела гор
шкуры. Гряды других, более высоких гор обступали морену с трех сторон, а над
седловинами их виднелись зубцы никем не пройденных перевалов через дикие и
пустынные хребты, между которыми можно было только угадать глубокие провалы
ущелий.
Теперь Ниссо была беспредельно независима и одинока.
Весь день шла Ниссо, не выбирая направления, не думая о том, где будет
ночевать и куда придет. Этот день вернул Ниссо все, отнятое у нее
Азиз-хоном, все то, что имеет в горах любой зверек и каждая птица, - ничем
не ограниченную свободу.
Ниссо шла по камням морены, и каждый камень имел свою форму, и каждый
лежал не так, как лежит другой, в них стоило вглядываться: камни были серые,
бурые, коричневые, с белыми прожилками, с розовыми и черными крапинками.
Шла по сухим, поросшим ломкой травой склонам; травы пахли по-разному.
Приятно было пригибать их босыми огрубелыми ступнями, а иной раз наклоняться
и разглядывать какой-нибудь свернувшийся под ветром в трубочку, иссушенный
солнцем цветок.
Шла по руслам высохших ручьев и присаживалась, чтобы разрыть нанесенную
сверху гальку, найти под ней лужицу прозрачной воды, припасть к ней ртом и
пить, пока хочется пить.
Уставала, ложилась на сухую землю и неотрывно глядела на причудливые
облака, - они медленно выдвигались над зубчатым гребнем горы, росли, меняясь
в оттенках, вытягиваясь, разрываясь на мелкие облачка, наконец разбегались
по небу и таяли.
Слушала ветер, - он иногда свистел пронзительно, протяжно и нес с собой
волну холода, иногда припадал к земле слабым током, нагреваясь от горячих
камней.
А когда поблизости пролетала птица, Ниссо завороженным взглядом следила
за ее неслышным полетом и ждала, что птица, опустится где-нибудь рядом и,
сложив крылья, поставит маленькие ноги на камень и начнет вертеть пушистой
головкой, не замечая, что Ниссо наблюдает за ней.
Изредка, катясь с какого-нибудь крутого склона, к Ниссо приближался
камень; девушка внимательно следила за его прыжками, улавливая тонким слухом
легкий треск, и продолжала путь, как только камень, щелкнув последний раз,
успокаивался среди других, замшелых.
Ей очень захотелось есть, но она постаралась забыть об этом, как-то не
представляя себе, что дальше ей все-таки нельзя будет обойтись без пищи. Но
вот солнце перешло в западную половину чистого голубого неба, и неукротимый
голод постепенно привлек к себе все мысли Ниссо. Все, что Ниссо вокруг себя
видела, постепенно перестало радовать ее; она вспомнила о траве "щорск", из
которой в родном Дуобе так часто прежде варила себе похлебку. Но сухие травы
вокруг не были травой "щорск", и сколько Ниссо ни вглядывалась в обступившие
ее склоны, этой съедобной травы не находила нигде.
За день, сама не заметив того, Ниссо поднялась на очень большие высоты.
Совсем недалеко над собой она увидела первые пятна не тающего и летом
синеватого снега. Небольшие пласты его лежали в глубоких теневых бороздах
между скалами, над которыми вздымались черные, искрящиеся на солнце, мертвые
осыпи. Подойдя к одному из таких пластов, засыпанному мелким щебнем, Ниссо
отломила зернистый кусочек снега и стала его жадно сосать. Затем пошла вдоль
подножья осыпи, пока не добрела до лощины, покрытой сочной травой. Лужайка
зеленела ярким волнистым ковром; привлеченная пестротой альпийских цветов,
Ниссо долго бродила здесь, и стебли под ее ногами ломались. Склонялась к
ним, срывала незабудки, примулы, купальницы, маки. Но ничто не могло отвлечь
ее от нестерпимых мучений голода. Она попробовала съесть один цветок -
желтый и нежный, но он оказался горьким. Сверху подул холодный ветер, и
девушка подумала о ночлеге. Ей стало тревожно, - вокруг высились пустынные
громады безжизненных гор, вечные снега были совсем рядом. Ниссо решила
спускаться по лощине и, побежав, скоро достигла истока ручья. Здесь она
увидела не знакомую ей высокую траву, растущую маленькими пучками. Это был
дикий лук, и, попробовав его, Ниссо стала есть его с жадностью. Побрела по
руслу ручья вниз; лук кончился, всякие травы исчезли, а ветер стал еще
холодней. Беспокойство заставило Ниссо спускаться быстрее. Она очень устала
и прыгала с камня на камень уже без прежней легкости.
Под высоким утесом она увидела груду круто завитых рогов, - здесь,
по-видимому, было недавно лежбище диких баранов: земля кругом была взрыта,
следы копыт затвердели в засохшей глине, несколько скелетов с остатками шкур
громоздились один над другим. Ниссо подошла, потрогала рога и неожиданно
услышала тонкий писк. С любопытством прислушалась и, заметив в одном из
рогов комочек светло-рыжей шерсти, занялась исследованием рога: в нем
оказались два крошечных лисенка. Они так царапались и кусались, что Ниссо не
удалось их извлечь. Ниссо заспешила дальше вниз по ручью. Здесь могли быть
волки, барсы, медведи...
Солнце начало склоняться к хребтам. Ручей расширился, постепенно
превращаясь в быструю речку. Спускаясь все ниже, Ниссо стремилась только к
теплу и смутно рассчитывала найти какую-нибудь еду. Вечер, однако, застал
Ниссо среди тех же пустынных скал, на берегу бурлящей речки, в заметно
углубившемся ущелье, скрывшем вершины гор. Здесь уже рос мелкий шиповник, и
из расщелины в камне выгнулись лозы тоненькой ивы. Голод и ходьба по горам
обессилили Ниссо, она опустилась на гальку и тотчас же заснула. Ночью она
проснулась от холода. Светили звезды, ручей звенел однотонно, мрак в ущелье
был непроницаем. Ниссо стало жутко. Она попыталась снова заснуть, но холод и
страх мешали ей. Ниссо вспомнила о дэвах и драконах и сидела, сжавшись,
вглядываясь во мрак, боясь шевельнуться. Зубы ее стучали. Ниссо думала об
огне, который мог бы согреть, о еде, которая могла бы ее насытить, и
настораживалась при каждом звуке. Порой ей казалось, что в однотонном
журчанье воды возникают какие-то странные, угрожающие голоса, и она
содрогалась от ужаса.
Едва тьма поредела, кусты и камни перестали казаться черными живыми
чудовищами, ночные страхи исчезли. Ниссо устремилась дальше. Теперь ей
хотелось только как можно скорее увидеть людей, - все равно каких, только
незнакомых людей, хотелось дыма, огня... Люди должны быть внизу, и Ниссо
торопливо спускалась вдоль речки. Порой отвесные скалы преграждали ей путь,
и она, не раздумывая, входила в ледяную быструю воду и, цепляясь за холодные
валуны, боролась с течением, стремившимся сбить ее с ног. Тело Ниссо
раскраснелось, размоченные ссадины ныли сильнее.
Солнечные лучи долго не проникали в ущелье. Когда, наконец, они
коснулись Ниссо, ощущение цепкого холода сменилось мыслями о еде. Ниссо
тоскливо глядела на бьющую между камнями воду. Блеснула форель, и Ниссо
решила во что бы то ни стало поймать ее. Поползла к большому валуну, залегла
с теневой его стороны. Долго и тщетно пыталась поймать забившуюся под пенный
каскад рыбу.
Ниссо вспомнила Дуоб и ту рыболовную снасть, что висела на деревянном
гвозде в доме Палавон-Назара. Быстро выскочила на берег. Такой круглой
плетенки, как та, Ниссо не сумела бы сделать, но ей удалось сплести из
ивняка плоскую квадратную решетку.
Ниссо опять притаилась за валуном. Форель мелькала то здесь, то там.
Ниссо выследила рыбу покрупнее, резко опустила ивовую решетку, преградила
путь зажатой между камнями форели и крепко схватила ее. Выбежав с добычей на
берег, ударила ее о камень и с жадностью съела всю, не сняв даже чешуи.
Спокойствие вернулось к Ниссо. Она разделась, чтоб погреться на солнце,
и, обернув вокруг головы платье, пошла дальше.
В этот день травы, птицы, падающие камни не привлекали внимания Ниссо:
она сосредоточенно думала о том, что станет делать, когда придет к людям. Но
чем ниже спускалась она вдоль речки, тем больше смущали ее новые сомнения:
может быть, все-таки можно совсем обойтись без людей? Конечно, это было бы
лучше, - только вот где укрываться от холода по ночам и откуда брать пищу?
К концу дня ущелье расширилось, речка клокотала среди массивных
гранитных и гнейсовых глыб. Ее уже нельзя было перейти вброд. Никаких
признаков жилья по-прежнему не было, и Ниссо страшилась мысли о том, что и
эту ночь ей придется провести так же, как прошлую.
Уже после захода солнца, в сумерках, Ниссо увидела на небольшой
луговине круглое каменное строение с островерхой крышей. Сначала Ниссо
показалось, что это жилье, и она остановилась со смешанным чувством страха и
радости, не решаясь подойти ближе. Притаясь за камнем, она внимательно
рассмотрела: это был мазар, обиталище мертвых и духов. Несколько тонких
шестов с развевающимися на них ячьими хвостами и пестрыми тряпочками
окружали мазар, а крышу его украшали вделанные в камень рога козлов и диких
баранов. "Значит, люди приходят сюда", - подумала Ниссо и решила быть
осторожней. Приблизясь к мазару, убедилась, что он пуст и безжизнен. Тогда
Ниссо подумала, что, быть может, в мазаре есть какая-нибудь еда: она знала,
что живые иногда приносят лепешки и масло душам умерших. Быть может, мертвые
и не съели принесенного? И тотчас же устрашилась самой мысли о том, что
хочет отнять еду у мертвых: а если их гнев обрушится на нее? Души мертвых,
конечно, бродят вокруг мазара, лучше держаться подальше.
Но вход в мазар был открыт, никакая опасность как будто не угрожала.
Затаив дыхание, готовая каждую минуту убежать, Ниссо заглянула в открытую
нишу: внутри было пусто, тихо, два круглых черных камня лежали на земле.
Переступить порог Ниссо не решалась. На одном из камней лежала зачерствелая
просяная лепешка. Ниссо глядела на лепешку жадным и трепетным взглядом, -
стоило только сделать шаг и протянуть руку!.. Однако страх перед неведомым
превысил голод. Она прикусила палец, невольно приложенный к губам, и
отступила. Боязливо оглядываясь, не гонится ли кто-нибудь за ней, отошла к
краю лужайки. Несколько раз она то приближалась к мазару, то, поеживаясь,
торопливо от него отступала.
Поймать бы еще хоть одну рыбу!.. Но вечерняя тьма уже сгустилась, небо
между гребнями двух уходящих ввысь склонов превратилось в звездную
извилистую дорогу, ветер, тянувший вдоль ущелья, опять принес ночной холод.
Силы Ниссо иссякли, мысль о просяной лепешке томила ее. Она присела на
береговой камень. Как ни хотелось ей спать, она продолжала сидеть, томясь,
тоскуя, настороженно прислушиваясь и вглядываясь во мрак.
Стало совсем темно; небо покрылось тучами, они закрыли звезды,
заволокли ущелье; ветер усилился, стал прерывистым. Ниссо насквозь продрогла
в своем легком, изорванном платье. И когда вдруг в свисте ветра хлынули
потоки внезапного ливня, она вбежала в помещение и, стуча зубами, сжалась у
черного камня.
Ливень усиливался, ветер уже не свистел, а выл, вздувшаяся река гудела
гневно и угрожающе, и Ниссо, теряя сознание от страха, припала лицом к
земле, отдалась неудержимому порыву отчаяния. Она зарыдала так, как могут
рыдать люди, охваченные страшным горем.
Постепенно Ниссо начала успокаиваться. Плечи ее перестали вздрагивать,
дыхание стало тихим и ровным...
Ниссо заснула.
Проснулась она поздним утром, когда солнце стояло высоко и весь
окружающий мир был тих, благостен и приветлив. Ниссо вскочила, увидев себя в
мазаре, но уже не испугалась. Просяная лепешка все так же лежала перед ней
на черном камне. Ниссо осмотрелась, схватила лепешку и, словно гонимая
тысячей демонов, выскочила из мазара, помчалась вниз вдоль реки, не решаясь
оглянуться и на бегу грызя отнятую у душ мертвецов добычу. Задохнувшись и
увидев, что ничто в мире не изменилось, что он по-прежнему спокоен и светел,
остановилась. Нет, ничего ей не угрожало.
Разломила лепешку и сгрызла ее до последней крошки. Потом напилась воды
и неспешным шагом направилась дальше.
Страшных дэвов больше не было для нее. Небо оставалось чистым и
голубым, река - великолепной в своей необузданной красоте, камни и скалы -
прочными, неподвижными, а до человеческих душ, витающих в ином мире, и до
незримых драконов Ниссо не было никакого дела.
"Бывает счастье на земле, -
Проговорила тля, -
В листве, и в сладкой шафтале,
И в мягкости стебля!.."
"Кто хочет счастья?!" - крикнул дрозд,
Тлю в завязи клюя,
И сотни птиц из разных гнезд
Вокруг вскричали: "Я!"
Поющие соловьи
Рожденная среди ледников река Сиатанг мчалась по дну пропиленного ею за
десятки тысячелетий ущелья.
Мощной широкой, непроходимой вброд была река Сиатанг. Она бросала дикую
силу своих пенных вод то к одному, то к другому подножью уходящего ввысь
ущелья. Она срезала одни скалистые мысы, круто огибала другие. Она,
разворачиваясь, намывала береговые террасы и оставляла их грядущим векам,
когда ей удавалось прорезать себе более глубокое ложе; подмывая крутые
склоны, она рушила на себя тысячи тонн горных пород, но не раздавленная ими,
вечно живая, она неизменно стремилась вниз... И, вылетев, наконец, из
последних отвесных скалистых ворот, соединялась со своей старшей сестрой -
Большой Рекой, рассекающей мир на два времени, две эпохи, два столь не
похожих одно на другое государства. Там, за Большой Рекой, простирался
замкнутый цепями ледяных гор Яхбар. Километрах в двадцати от устья река
Сиатанг намыла за несколько десятков последних столетий ровную, усыпанную
камнями долину, а сама текла теперь ниже ее, в молодых берегах, стоящих над
нею отвесной ступенью. Вытянутая полуовальная плоскость долины замыкалась
скалистыми мысами, стесняющими мятущуюся в них реку. Крутые склоны ущелья
укрывали долину от внешнего мира, она была единственной в ущелье среди
хаотического нагромождения голых скалистых гор.
И потому здесь издавна жили люди.
Эти люди делились на касты. Высшая каста - "шан " была кастой ханов,
властителей здешних мест. Второй по значению была каста сеидов. Сеидами были
слуги живого бога - пиры и халифа. Сиатангцы возносили живому богу молитвы и
посылали подати через пира, обитавшего вместе с ханом в селении Сиатанг. В
Дуоб, Зархок и другие селения ханства пир посылал за податью своего
помощника - халиф . Сеиды считались "тенью бога на земле", и потому всякое
требование пира и халифа исходило как бы от самого бога.
В каждом селении жили также наместники хана - из касты миров. Из
четвертой касты - акобыров - составлялась ханская дружина, а к пятой, низшей
касте райятов, или факиров, относились все земледельцы. Они трудились на
маленьких каменистых площадках, чтобы отдавать всем высшим кастам выращенные
ими урожаи пшеницы, ячменя, проса, гороха, тутовых ягод и абрикосов. Сами
они всегда оставались голодными.
Хан, живший в крепости, построенной его предками, умер тогда, когда
Сиатангом в последний раз завладели яхбарцы. Пиры оставались в Сиатанге и
после прихода в Высокие Горы русских, изгнавших яхбарцев в их ханство, за
Большую Реку. Последний пир вместе со знатными сеидами, мирами и акобырами
покинул Сиатанг, когда по Высоким Горам прошла весть о том, что русские
прогнали царя, а в Волости в свои руки власть взяли беднейшие, потому что от
русских в горы, руша извечные законы Установленного, идет новый закон,
несущий радость и могущество факирам - тем, кого пир доселе считал
недостойными даже прикоснуться губами к священному подолу белейшего своего
халата. Пир ушел, а обрадованные факиры, называвшие себя ущельцами, остались
жить в Сиатанге.
Слово "Сиатанг" в переводе на русский значит "Черная теснина".
Именно это селение Сиатанг и дало свое название реке и всей местности,
охватывающей соседние ущелья Дуоб и Зархок, с протекающими по ним
одноименными реками.
Такое название оправдано отвесами темных скал, сдвинутых кое-где в
ущельях так тесно, что солнечные лучи не могут коснуться их дна.
В административном отношении Сиатанг подчинялся советскому волостному
центру, расположенному у верховьев Большой Реки и называемому ущельцами
попросту словом "Волость".
Это селение находилось в десяти днях пути вдоль Большой Реки. Но
представители слишком малочисленного волостного советского аппарата до сих
пор не бывали здесь. Ущелий, подобных Зархоку, Дуобу и Сиатангу -
труднодоступных и малоисследованных, вблизи Волости и всюду в Высоких Горах
было много десятков.
Черные и серые скалы зимою заносятся снегом. Он заметает селения,
закрывает тропы, отрезает область от всего света. Каждой весной повсюду
слышится грохот лавин и обвалов. В летние месяцы воздух, накаленный камнями
ущелья, стоит недвижимо; он так горяч, что почти невозможно дышать; и только
осенью, когда от ледников тянут прохладные ветры, наступает пора благодатных
дней, слишком недолгая, чтобы ущельцы могли насладиться ею. Ветры снова
становятся резкими и пронзительными, несут холод надвигающейся зимы, которую
ущельцы всегда встречают с покорным страхом.
В один из теплых дней ранней осени около ханской крепости собралась
толпа мужчин. В сущности, крепости, когда-то величественной и грозной, давно
уже не было. От нее, разрушенной временем, остались только четыре каменные,
обмазанные глиною стены да две высокие, рассеченные змеистыми трещинами
черные башни. Одна из башен высится над самой рекой и, наполовину подмытая
грозит обрушиться вместе с остатком стены. Вторая башня, воздвигнутая на
конце стены, пересекающей стесненное здесь ущелье, прижимается к скалистому
подножью склона и держится еще довольно прочно.
Между башней и отвесной скалой остается узкая щель, от которой зависит
все существование селения Сиатанг: сквозь нее тянутся полусгнившие желоба
единственного канала, питающего водою селение. Толстые бревна для желобов
были когда-то с огромным трудом доставлены через Яхбар из далеких провинций
соседнего государства, потому что в Сиатанге крупных деревьев не было.
Начало, или, как говорят здесь, "голова" канала, находится выше, за
крепостью.
Конечно, гораздо проще было бы провести канал не по отвесной скале, а
ниже ее - через крепость. Но хан, строивший крепость, думал только о
собственном благе. От головы канала он проложил в крепость широкий отвод и
брал себе столько воды, сколько нужно было ему для орошения большого сада,
для мельницы и бассейна во дворе крепости. Лишь остатки воды устремлялись в
канал, к селению. Перекрывая канал, хан мог убавлять или вовсе останавливать
воду. Он брал за нее налог - сороковую долю урожая злаков и фруктов. Щель
между башней и склоном оставалась единственным проходом для путников,
бредущих из селения Сиатанг к Верхнему Пастбищу. Каждый прохожий обязан был
отдать хану от двух до пяти тюбетеек зерна... А водяная мельница на дворе
крепости была единственной мельницей, какой могли пользоваться ущельцы, и за
право размола зерна хан получал десятую долю.
Ханские времена кончились. Горный обвал несколько лет назад завалил дом
хана, и бассейн, и половину сада, и третью башню; бесформенная груда острых
камней навеки скрыла их от человеческих глаз. Другая половина сада давно
зачахла. Во дворе крепости осталась только старая мельница да подальше, за
ней, пустующий загон для скота. Среди камней кое-где сохранились еще
глубокие узкогорлые зерновые ямы, но все они были пусты или наполовину
завалены щебнем.
Ущельцы упорным трудом восстановили только желоба своего канала, а
часть воды отвели к уцелевшей мельнице, за пользование которой теперь уже
никто не платит налогов.
Единственный обитатель крепости, внук последнего хана и последний
представитель владетельной касты шан , бывший старейшина рода, старый,
обнищавший Бобо-Калон доживал свои дни в сводчатом, похожем на каменную
могилу, помещении верхней башни. Волей или неволей "Большой старец",
Бобо-Калон, превратился в сторожа, и все знают, что по собственному почину
он содержит башню в порядке. Однако он никогда не разговаривает с факирами.
Все, что ему полагается делать, он делает в то время, когда вокруг нет ни
одной живой души; при людях же он предается безделью, как бы подчеркивая,
что представителям его касты зазорно заниматься каким бы то ни было трудом.
Для постороннего глаза все происходит так, будто за порядком на мельнице
наблюдают незримые духи, а подачки некоторых ущельцев Бобо-Калону остаются
данью почета последнему потомку ханского рода.
Залатанные кошмами, скрепленные берестой и глиной, ветхие висячие
желоба с каждым годом теряют все больше воды. Просачиваясь сквозь щели, вода
падает частыми каплями на всем протяжении желобов, да и сами они слишком
узки, чтобы насытить водой жадную каменистую почву крошечных посевов
ущельцев. Быть может, ущельцы и не скоро еще взялись бы за переустройство
канала, но они уже привыкли по доброй воле подчиняться человеку, который
сегодня привел их сюда.
Человек этот еще с весны часто бывал здесь, во дворе крепости,
вглядывался в камни завала, измерял, рассчитывал и, наконец, заявил
ущельцам, что канал, пониже старого, провести и можно и необходимо. Для
этого надо только убрать ту скалу, на которой высится старая башня... И
когда ущельцы ответили, что башни не жалко, но нет такой силы, которая могла
бы убрать скалу, он сказал им, что сила такая есть... Много было споров в
селении Сиатанг, но все они кончились, когда человек этот, собрав беднейших,
безземельных факиров, пообещал оросить для них тот пустырь, что простирается
ниже селения, занимая немалую часть долины.
Вместе с ущельцами он взялся за дело, и работа на завале велась уже
несколько недель.
Наконец ранней осенью наступил решающий день. В рваных халатах, надетых
на голое тело, босые или в дырявой обуви из сыромятной кожи диких козлов,
факиры с рассвета таскали в крепость колючий кустарник, собранный ими по
склонам окрестных гор.
И вот уже полдень, а ущельцы все носят и носят сухую колючку к
основанию башни. А тот, кто руководит ими и кого они зовут Шо-Пиром,
показывает им, что надо делать. Рослый, широкий в плечах, не похожий на
жителей здешних гор, он и одет иначе. В высоких яловичных сапогах,
залатанных кусочками сыромятины, он носит защитного цвета выгоревшую
гимнастерку и синие потертые галифе с нашитыми из козьей шкуры леями.
Пятиконечная звезда на его побуревшей фуражке потеряла почти всю эмаль.
Аккуратно подпоясанный широким кожаным поясом, стройный, ловкий в
неторопливых движениях, он даже в своей старой полувоенной одежде производит
впечатление хорошо и чисто одетого человека. Загорелое, обветренное лицо его
с чуть вздернутым носом уверенно и спокойно.
Когда несколько лет назад пришел он в это селение, чтоб остаться здесь,
Бобо-Калон после первого разговора с ним прозвал его в насмешку Шо-Пиром -
"правителем пиров". Это прозвище, возникшее из очень смешного, но не
понятного сиатангцам созвучия, осталось за ним, и никто в селении не знал
его настоящего имени. А Бобо-Калон, после прихода Шо-Пира быстро утративший
остатки своего влияния на факиров, очень скоро убедился в том, что ущельцы
произносят слово Шо-Пир с уважением. Кто мог думать, что этот чужеземец в
самое короткое время приобретет такой непререкаемый авторитет?
Сухощавые, тонконогие, согнувшиеся под вязками колючего тала, ущельцы
торопливо прыгают с камня на камень, а Шо-Пир на чистом сиатангском наречии
указывает им, куда именно следует сложить ношу. Потом ущельцы подходят к
Шо-Пиру и, глядя снизу вверх, спрашивают, что делать дальше. Он посматривает
на них своими светло-голубыми глазами, и в прямодушном, чуть насмешливом
взгляде подошедший угадывает, что тайная мысль его о давно заслуженном
отдыхе прочитана и что, собственно, спрашивать Шо-Пира не о чем: надо
работать еще!.. Некоторых, явно ленивых, Шо-Пир поддразнивает достаточно
ядовито, чтобы окружающие тотчас подняли ленивца на смех.
- Шо-Пир! - слышится отовсюду. - Куда класть вот это?.. Шо-Пир,
довольно сюда?.. Шо-Пир, хватит колючки, давай зажигать костер!..
Но человек в гимнастерке и галифе только посмеивается, не соглашаясь,
хотя огромная сухая груда уже закрывает башню на треть ее высоты.
А обитатель башни, старый белобородый Бобо-Калон, безучастно сидит
поодаль на камне, глядя то вниз, вдоль реки, то на своего сокола, который
хохлится перед ним на железном, воткнутом в землю жезле, украшенном мелкой
бирюзой. Ручной старый сокол, заменивший Бобо-Калону родных и друзей,
охватывает растрескавшимися когтями рукоятку жезла, поднимает то одну, то
другую лапу, легонько поскрипывая когтем о металл, глядит круглыми,
равнодушными глазами на своего властелина, важно вертит головой и время от
времени, лениво приподнимая крыло, сует в пожелтевшие перья клюв и подолгу
щелкает им. Иной раз, видимо сочувствуя соколу и желая ему помочь, старый
Бобо-Калон, сосредоточенно сдвинув морщины на своем полном величия и
старческой красоты лице, трогает перья птицы изогнутым, порыжелым ногтем
мизинцы. Этим непомерно длинным - ничуть не короче соколиного клюва - ногтем
Бобо-Калон щекочет бок замирающей от удовольствия дряхлой птицы, и она снова
с холодной важностью, медленно моргая, глядит старику в глаза...
Ничем не показывает Бобо-Калон своего отношения к тому, что должно
произойти с его древним жилищем. Когда несколько дней назад Шо-Пир вежливо и
строго сказал ему, что народ решил, разрушив старую башню и убрав скалу,
провести через крепость новый канал, старик, на одну только минуту
задумавшись, с достоинством ответил Шо-Пиру:
- Все по-новому теперь идет... Народу нужно, народ решает... В нижней
башне жить хуже, река подмывает ее, но я перейду. Моя жизнь, наверно, не
будет долговечнее жизни камня!
Кроме работающих, собрались сюда и другие ущельцы. Это те, кому нет
дела до затеи Шо-Пира, - владельцы ближайших к старому каналу участков, не
заинтересованные в воде; это те, кто, не высказывая вслух своих мыслей,
сочувствует Бобо-Калону, считает его незаслуженно униженным. Среди
почитающих установленные от века порядки, среди хранителей веры и
благочестия Бобо-Калон считается первым - самым знатным и самым мудрым; они
называют Бобо-Калона хранителем мудрости и толкователем Установленного. Не
все они пришли сюда в этот день: многие не хотят, став свидетелями нового
унижения внука хана, оскорбить его гордость. Но другие, не преодолев своего
любопытства, расположились на окружающих башню скалах и терпеливо дожидаются
невиданного зрелища, какое готовит Шо-Пир. Как вороны на скалах, они хранят
выжидательное молчание.
Солнце палит нещадно, накаленные камни источают жар. Ущельцы работают
вокруг башни, обливаясь потом, и с завистью, а порой со злобой поглядывают
на недоброжелательных зрителей... Разве приятно работать под десятками
бесстрастно осуждающих взглядов? Но ведь вся эта работа - вызов приверженцам
Установленного, новое утверждение правоты Шо-Пира, и, значит, надо работать,
не покладая рук.
День идет, колючка уже наполовину прикрыла башню. Только кромка стены,
подпирающей башню со стороны крепости, еще свободна, - ущельцы всходят по
ней чередой и бросают отсюда все новые и новые вязки.
Шо-Пир смотрит на башню и кричит одному из ущельцев, только что
сбросившему свою ношу:
- Бахтиор! Довольно теперь! Вели всем уйти зажигать будем!
Тот, к кому относятся эти слова, - молодой, черноглазый, сухощавый, как
все сиатангцы, ущелец, - останавливается на кромке стены и кричит:
- Уходите все вниз! Карашир, уходи! Худодод, уходи! Исоф, вниз
спускайся! - И, взглянув краем глаза на тех зрителей, что расположились у
самой башни, неожиданно вставляет в свою сиатангскую речь неловкую русскую
фразу: - Шо-Пир! Вот этот, много дурак, пускай горячо им будет!
Бахтиор живет вместе с Шо-Пиром и научился у него кое-как объясняться
по-русски. Кроме него, никто из ущельцев русского языка не понимает.
- Не надо быков дразнить! - отвечает Шо-Пир. - Пусть тоже уходят, скажи
им... Да слезай сам скорее! - И переходит на сиатангскую речь: - Все вниз!
Отдыхать будем пока. Карашир, готовь свою трубку.
Бахтиор решительным взмахом руки велит любопытным убраться и бегом
спускается к собравшимся вокруг Шо-Пира. Приверженцы Установленного лениво
покидают облюбованные места.
Шо-Пир подходит к груде колючек, чиркает спичкой. Бобо-Калон, положив
ладонь на спину сокола, напряженно глядит на возникающий огонек. Огонь
быстро распространяется, черный дым всклокоченным облаком взвивается над
юркими языками бледного пламени. Ущельцы безмолвно глядят на него. Дым
поднимается все выше, пламя начитает посвистывать, жар заставляет людей
податься назад. Шо-Пир, подбоченясь, молча любуется силой огня.
Вся древняя башня охвачена пламенем, дым уже застлал все ущелье, он
поднимается по скалам темными волнами. Зрители, жмурясь и закрывая руками
глаза, разбегаются, прыгая с уступа на уступ, собираются у желобов канала.
Огромный костер клокочет, бьется, шумит, скрыв от наблюдателей башню.
Только мгновеньями она показывает свои черные камни.
Испуганный сокол пытается взлететь. Но Бобо-Калон сжимает его крылья
ладонью, и он остается сидеть на жезле, опустив веки на слезящиеся выпуклые
глаза. А Бобо-Калон смотрит на пламя так, словно вглядывается в ему одному
знакомый, понятный мир, - темные, немигающие глаза старика спокойны.
- Довольно, друзья! - говорит, наконец, Шо-Пир. - Насмотрелись. Пусть
горит, отдохнем пока. Карашир, где же трубка твоя?
Коренастый, бледный, невероятно грязный факир, оторвавшись от зрелища,
опускается на колени, быстро выковыривает в земле ямку, насыпает в нее
грубый самодельный табак, Шо-Пир и работающие с ним ущельцы рассаживаются
вокруг ямы. Карашир сует в табак длинную соломинку и, подобрав отскочивший
от костра уголек, кладет его на табак. Затем, заложив ямку плоским камешком,
наклоняется и, взяв конец соломинки в рот, энергично сосет его. Табачный
дымок струится из-под земли, и ущельцы, ложась на землю ничком, один за
другим прикладываются к соломинке. Только Шо-Пир, вынув из нагрудного
кармана гимнастерки свою старую люльку, раскуривает в ней такой же табак.
"Счастье... - размышляет Бобо-Калон, глядя на огромное трескучее пламя.
- Что они понимают в счастье? Разве камень идет свое счастье? Разве ищет его
вода? Все предопределено покровителем, в камне и в человеке, в ветре и в
облаке разлита его душа. А им, людям, кажется, что они созданы иначе, чем
все в мире. Что они не подобны лягушке, наслаждающейся в недвижной воде, и
змее, греющейся на горячем камне, и густому облаку, и дереву, у которого
есть свой ум в зеленых ветвях. И в глупом беспокойстве люди тщатся жить
иначе. Зачем хотят они все изменять по своему желанию, все переделывать?
Разве человек может сам искать свое счастье?.."
Сухими пальцами старик гладит жесткие перья сокола, и тот, пригибаясь
на лапах, всем своим существом принимает нежданную ласку.
В третий раз дождавшись своей очереди и отвалившись от соломинки,
Карашир удовлетворенно вздыхает, глядит на объятую жарким пламенем башню и
переводит взгляд на группу любопытствующих ущельцев. Теперь все они
собрались на выступе скалы, там, где вода канала, вылетев из последнего
желоба, журчащим каскадом падает в сложенную из каменных плит канаву, идущую
к селению. Они тоже собрались в кружок и, видимо, рассудив, что никакие
необычайные события не должны отвлекать их от насущных потребностей,
разложили на плоском камне ломти ячменных лепешек, яблоки, тутовую халву.
Глаза Карашира, устремленные на еду. Печально блестят.
В лохмотьях своего овчинного халата, сшитого из пестрых, но одинаково
ветхих кусков, шерстью то наружу, то внутрь, жилистый, тощий, он сидит,
поджав под себя худые ноги, на которых болтаются остатки непомерно больших,
с бахромчатыми раструбами голенищ; они прикручены к щиколоткам обрывками
шерстяной тесьмы. Накинутая на плечи овчинная ветошь никак не прикрывает
наготы Карашира; его ребра, обтянутые сухою коричневой кожей, его впалый
живот, его тонкие волосатые руки с налипшей на локтях грязью поблескивают на
солнце и придают всему облику Карашира вид живой мумии. Вряд ли ему больше
тридцати лет, но бледное с прозеленью лицо, утомленное и печальное, не дает
никакого представления о его возрасте.
- Шо-Пир, ты, наверное, голодный? - вдруг быстро спрашивает Карашир.
- А что, Карашир, у тебя есть для нас сыр и лепешки? - со спокойной
иронией произносит Шо-Пир, добродушно взглянув на него.
- Наверно, у него под овчиной есть лишний кусок хорошего мяса! -
говорит Худодод, самый молодой из сидящих вокруг Шо-Пира ущельцев, и его
тонкие губы сдерживают улыбку.
Все смеются. Обведенные темными кругами глаза Карашира, большие,
коричневые вдруг вспыхивают горячею гордостью и эта неизвестно откуда
возникшая гордость явно противоречит всему его внешнему облику - дикому и
жалкому.
- У меня нет, а вот у него все для нас есть, раз он советская власть и
позвал нас работать! Есть у тебя, Бахтиор, лепешки, и мясо, и сыр?
Бахтиор - председатель сиатангского сельсовета. Он невозмутимо
развязывает шерстяной пояс, распахивает желтовато-белый чистый халат и,
обнаружив перед всеми яхбарскую жилетку, надетую на голое тело, отвязывает
от нее небольшой узелок.
- Есть! У Бахтиора все теперь есть! Мяса нет, лепешки нет, а вот это мы
кушать будем!
И, вынув из узелка несколько шариков козьего сыра, перемешанного с
подсушенными на солнце тутовыми ягодами, Бахтиор аккуратно раскладывает их
на камне.
Руки работников тянутся к предложенной Бахтиором еде. Шо-Пир берет себе
несколько ягод. Карашир, набив рот сухим кисловатым сыром, мечтательно
произносит:
- Вот видишь, Шо-Пир, скоро весь урожай будет собран, а зерна будет
мало, совсем мало, - голод будет зимой.
- Ну, брат, теперь не страшно: вот проведем канал, совсем другой урожай
будет.
- Через год будет! А в этом году?
- В этом? Да, большой голод был бы зимой, если бы... Но вот Худододу
спасибо скажите, что письмо в Волость отнес. Недолго ждать теперь. Придет
караван, муку привезет и много другого. Ты, например, и не видел никогда
того, что везет караван, никто в наших горах не видел еще таких товаров.
- Э, Шо-Пир! - с сомнением кряхтит Карашир. - Придет или не придет, мы
не знаем: ни один караван от русских не приходил еще в наши горы, а пока
голодные мы... Вот я правду тебе скажу: в старое время, когда Бобо-Калон был
богатым, я у него работал; разве я всегда был голодным? Вот он сам голодный
сейчас, видишь, сидит один, на большой огонь этот смотрит; видишь, как
каменный, он сидит, а тогда я у него был голодным, только если он на меня
сердился. Если добрым был, давал мне хоть что-нибудь. А теперь? Не бьешь
меня, не плюешь в лицо, работаю у тебя, для советской власти работаю, все
обещаешь ты, обещаешь, а пока ничего ты мне не даешь!
- Советская власть, Карашир, наша власть - и твоя и моя. Не для меня
работаешь.
- Э-ио! Что говоришь? Хороший ты человек, глаза твои светлые, истину
вижу в них, вот работаю для тебя, все мы работаем. А у тебя самого живот
полный разве?.. Наша власть? Хорошо. Пусть она наша власть, а что она нам
дала?
- Погоди, хорошо поработаешь - даст! - веско молвит Шо-Пир, хмурится,
смотрит на уже затихающее вокруг башни пламя.
- И еще скажу, - не унимаясь, продолжает Карашир. - Караван придет!
Хорошо, Худодод принес нам ответ: идет. А как придет? На нашей тропе есть
плохие места. Разве лошадь с вьюком пройдет?
- Когда мы узнаем, Карашир, что караван пришел в Волость, мы выйдем на
тропу, исправим плохие места, поможем лошадям пройти к нам. Все понимают
это, один ты не хочешь понять.
- Все я понимаю, - печально бормочет Карашир. - Время придет, караван
придет, сделаем так... А сейчас, Шо-Пир, все-таки, может быть, у купца
возьмем? Потом ему отдадим.
- Опять ты мне про купца! - теряя терпение. Повышает голос Шо-Пир. -
Мирзо-Хур мало обобрал вас? Половина селения в долгу у него. Ягоды соберут -
ему отдают, зерно соберут - ему отдают, шерсть - ему отдают! Этот купец
Мирзо-Хур только и ждет, чтобы вы снова к нему пришли! Что, ты не знаешь сам
этого Мирзо-Хура? Все под жернов кладут свои головы! Ну и иди, пусть в муку
перемелет твой сухой череп!.. Не хочу больше слышать о нем!
"Вот оно, беспокойство! - издали уловив обрывки разговора, размышляет
Бобо-Калон. - Заразой пришло к моему всегда отличавшемуся от других народу.
Как страшная болезнь, беспокойство это ходило по миру, человек заражался им
от человека, племя от племени, народ от народа... И весь мир заболел и стал
сумасшедшим. Весь он во власти дэвов, и от дэвов ему никуда не уйти... А
моему народу, единственному до сих пор помогал покровитель, да будет
благословенно имя его! Он поселил мой народ в Высоких Горах. Он защитил нас
от всех льдами поднебесных высот, снегами, не тающими от солнца, скалами,
которые человек не может пройти. Только узкие тропинки оставил нам
покровитель, по которым мы одни умеем ходить. По этим тропинкам во все
времена к нам приходили люди. Зачем приходили? Наверное, искать свое
счастье! Но разве они у нас оставались? Нет. Они умирали или уходили назад.
Они говорили нам: "Ваш воздух для нас лишком легок, мы им не можем дышать.
Ваши ветры слишком холодны, лучи вашего солнца колют нас, как иглы... Мы не
можем терпеть. Мы думали, у вас есть просторные земли, - у вас их нет. Мы
думали найти у вас богатства, - вы нищи и голы. У вас есть только лед, снег,
камни и дикие воды. И сами вы дикие, нам нечего делать у вас, вы несчастный,
забытый богом народ!" Так говорили они и уходили и заразу беспокойства
уносили с собой... Тысячу лет продолжалось так, и мы смеялись над ними... А
вот теперь зараза беспокойства проникла в наших людей, и рушится все на
свете, как рухнет сейчас моя башня..."
- Вставай, Карашир, отдохнул, - говорит Шо-Пир, выбивая пепел из рубки.
- Все вставайте, друзья, видите, огонь падает. Теперь палками будем его в
стороны разгребать, пусть кругом по скале бежит, а середину скалы у самой
башни очистим, хорошо накалилась! А ты, Бахтиор, пойдешь со мной к желобу...
Да смотри, когда воду пущу, подальше держитесь, чтобы паром не обожгло.
Пошли!
Ущельцы поднимаются, окружают костер и начинают длинными палками
сгребать горящий хворост к краям нависшей скалы, на которой высится башня.
Дым давно рассеялся и темным туманом стоит над ущельем. Клубы дыма,
поднимаясь от разгребаемого костра, уже не обволакивают закопченную башню.
Шо-Пир и Бахтиор карабкаются к тому желобу, который приходится как раз
против башни. Надо разом повернуть его так, чтобы холодная вода канала
хлынула потоком на раскаленную огнем скалу. Веревки, каменные подпоры и
крепления приготовлены Шо-Пиром заранее. Все точно рассчитано. И когда
середина очищенной от горящей колючки раскаленной скалы обнажается, Шо-Пир,
велев всем отойти от нее, выталкивает из-под нижнего конца желоба
подпирающий его камень. Бахтиор тянет веревку, обмотанную вокруг желоба, и
желоб, брызжа водою, поворачивается под прямым углом и повисает в воздухе.
Шо-Пир хватается за веревку и, медленно опуская ее, помогает Бахтиору
опустить конец желоба на каменную подпору.
Водопад, срывающийся с повисшего над раскаленною скалой желоба,
исчезает в трескучем облаке пара. Закрыв руками лицо, Шо-Пир отскакивает на
безопасное место.
Когда, наконец, пар рассеивается, когда вода, гася остатки костра,
льется по охлажденной скале, все видят длинную змеистую трещину, разделившую
скалу надвое. Шо-Пир не ошибся в расчетах: трещина прошла в скале под самой
башней и достаточно широка, потому что половина скалы под влиянием
собственной тяжести осела. И хотя башня стоит еще прочно. Шо-Пиру понятно,
что первая часть задуманного им предприятия удалась.
Зрители поодиночке подбираются к башне, но Бахтиор повелительными
жестами отгоняет их прочь. Ему доставляет видимое удовольствие покорность
тех, которые, он знает, ненавидят его и при всяком удобном случае с открытым
презрением подчеркивают, что хотя он и признанная в селении власть, но тем
не менее, по сути, не кто иной, как самый нищий и презренный факир, к тому
же еще нарушающий Установленное и потому подобный неверным.
Бобо-Калон, сидя на камне у нижней башни, пребывает в том состоянии
неподвижности, в каком могут часами находиться только обитатели диких гор.
Его глаза, устремленные вниз, на землю, словно читают на ней какие-то никому
не зримые тайные знаки. Сокол теперь сидит у него на плече, нахохленный,
такой же сосредоточенный...
Приближается последний, решающий момент работы. Шо-Пир вместе с
Бахтиором спускается к реке. Здесь, над береговым обрывом, среди камней,
хранится десяток хорошо просушенных тыкв, наполненных порохом. Ради этого
пороха Шо-Пир пренебрег неприязнью к яхбарскому купцу Мирзо-Хуру, избравшему
местом своей торговли селение Сиатанг.
В Сиатанге, как и в других областях окружающих гор, жители не знают
базарной торговли: базаров здесь не было никогда, Все, что сиатангцам
необходимо, они выделывают сами, будь то одежда, инструменты, посуда или что
угодно другое. А то, чего они сделать не могут, им приходится покупать у
купца. Мирзо-Хур поселился в Сиатанге лет восемь тому назад, и нет ущельца,
который не стал бы его должником.
Когда понадобился порох, Шо-Пиру поневоле пришлось обратиться к купцу.
Мирзо-Хур взял за этот упакованный в изящные банки с заграничными этикетками
порох хорошую цену, а так как у Шо-Пира давно уже не было денег, то ему
пришлось, уподобляясь всем жителям Сиатанга, стать должником Мирзо-Хура.
Шо-Пир пообещал купцу проценты, которые рассчитывал выплатить вместе с
основной суммой долга после прихода в Сиатанг первого советского каравана.
Шо-Пир пересыпал порох из банок в большие тыквы и в этот день, на
рассвете, оставил их здесь у реки.
Забрав все десять тыкв, Шо-Пир вместе с Бахтиором несет их к башне. Он
закладывает тыквы в трещину остывшей скалы, четыре тыквы подсовывает под
самую башню, приспосабливает к каждой фитили такой длины, чтобы зажженные
один за другим они одновременно взорвали весь порох. Потом велит всем отойти
подальше, укрыться за скалами.
Неподвижен только Бобо-Калон, словно не замечающий ничего вокруг. Но
едва Шо-Пир своей широкой, спокойной походкой направляется к нему, старик
встает и, предупреждая слова, которые ему предстоит услышать, поднимает
правую руку властно и повелительно:
- Знаю, Шо-Пир, тебе порох пора зажигать. Но время твое в руках твоих,
и ты подожди немного... Когда человек теряет глаза, он хочет еще раз
взглянуть ими... Я хочу подняться на башню!
В тоне старика нет ни просьбы, ни жалобы, он произносит свои слова,
уверенный, что возражений не услышит. И Шо-Пир, пристально взглянув на
старика, молча соглашается. Прямой, высокий, - единственный в селении
человек, равный ростом с Шо-Пиром, - Бобо-Калон неторопливо направляется к
башне, и сокол на его плече, покачиваясь, только чуть поводит крыльями.
Шо-Пир возвращается к своим, в ответ на их вопрошающие взгляды коротко
говорит: "Подождем", - и, снова набив трубку, присаживается рядом с
Бахтиором на камень.
По ступеням разнобоких камней Бобо-Калон всходит на крепостную стену.
Коснувшись руками края выступающей из башни плиты, легко поднимается на нее,
чтобы так, с плиты на плиту, взобраться на верхнюю площадку башни. Последний
каменный выступ заставляет старика подтянуться на руках, но его мышцы еще
сильны, и он не прерывает своих размышлений, а сокол, взлетев с его плеча,
уже ставит лапы на край площадки и замирает, дожидаясь хозяина.
Взобравшись на площадку, Бобо-Калон выпрямляется во весь рост. Сокол,
взмахнув крыльями, снова присаживается на плечо старика. Только на миг
оглянувшись, не остановив внимания на ледяных пиках верховий реки Сиатанг,
Бобо-Калон обращает свой взор к селению, раскинутому в долине под крепостью.
Все привычно здесь Бобо-Калону: и легкие дымки очагов, и огромные
камни, рассыпанные по всему селению, - каждый из них больше дома, а иные
больше целого сада; многие упали на селение уже при жизни Бобо-Калона, он
мог бы вспомнить всех раздавленных жителей, коров, ослов, кур...
Бобо-Калон мог бы и не смотреть вниз, ведь и с закрытыми глазами он
точно представил бы себе каждый дом, каждое дерево селения. Только вид
одного маленького сада и сквозящего через его листву дома - как острый шип в
сердце Бобо-Калона. Это именно тот, отъединенный от других сад, что
расположен у ручья, высоко над селением. Это дом, не похожий на другие,
подобные черным могилам жилища. В нем окна и высокие двери, он построен по
законам неверных. Он появился недавно, всего два года назад. Это дом
Бахтиора и его друга, пришельца, которого Бобо-Калон в насмешку прозвал
Шо-Пиром.
"Дом заразы! - размышляет Бобо-Калон. - И эти проклятые - тоже зараза!
Вот они сейчас сидят здесь, со своими людьми, с людьми, в которых вселился
дэв! Сидят, смотрят на меня, курят табак; как коршуны, ждут, когда я уйду
отсюда. Потом скажут: "Мы твоей молитвы не тронули, почтенный внук хана".
Что понимают они в моей мудрости? Лукавы глаза их, - как они смотрят на
меня: весело им, смеются..."
И, делая вид, что все еще смотрит вдаль, Бобо-Калон, уже весь дрожащий
от негодования, наблюдает сквозь полузакрытые веки за расположившимися
кружком на камнях ущельцами, прислушивается к их смеху и, не в силах
расслышать их слов, остро чувствует, что эти люди сейчас, может быть,
смеются над ним. А он, - рожденный в касте шан , внук последнего хана, -
должен уйти отсюда, с башни крепости, построенной рабами хана для ханов, с
башни, которая рухнет сейчас, уйти сам, не дожидаясь, пока факир, нетерпимый
к нему, как неверный, грубо не прикажет ему уйти... Лучше умереть, чем
услышать грубость факира, чем дождаться приказания от презренного из касты
рабов!
Он уйдет сейчас сам. Но еще минуту!.. Еще минуту, пока башня высится
над селением, как время тысячелетий высится над временем одного украденного
дьяволом дня!..
И старый внук хана стоит на площадке башни в своем белом, расшитом
шелковой вязью халате, стоит, обуянный ненавистью, уже не способный
размышлять о боге и дэвах, о счастье, об Установленном, о людях и о больших
глубинах времен.
- Довольно сидим! - сердится внизу Бахтиор. - что он стоит, всю работу
задерживает, а мы, как дураки, его ждем! Одну трубку кури, другую трубку
кури... Сам говоришь, Шо-Пир: быстро все делать надо! - И вдруг, обернувшись
к башне, кричит: - Эй ты, шан ! Иди вниз!
- Оставь его, Бахтиор, - спокойно произносит развалившийся на камнях
Шо-Пир. - Что нам лишние пять минут? Не уйдет никуда от нас наше счастье.
Вечер длинный. Солнце еще высоко. Посмотри, как красива башня сейчас.
- Кто поймет твое сердце, Шо-Пир, - не унимается Бахтиор. - О чем
думаешь ты сейчас? Кончать работу пора!
- О чем думаю? - задумчиво произносит Шо-Пир. - О счастье твоем думаю,
Бахтиор. И о твоем, Карашир, думаю счастье. Сменил бы ты в самом деле овчину
твою! Неужели, когда пришиваешь заплатки, нельзя их накладывать на одну
сторону мехом? Вот подожди, придет караван, новые штаны мы на тебя наденем.
Белую рубашку, красивые сапоги.
Все хохочут, толкая в бока Карашира. Он увертывается, и в глазах его
загорается огонек обиды.
А те, кто сидит поодаль, кто весь этот день отдал любопытству,
терпеливо ждут окончания зрелища. Правда, некоторые из них, прикорнув к
теплым камням, давно уже спят, - кто-либо из бодрствующих в нужный момент их
разбудит.
Медленно спускается с башни Бобо-Калон. Луч закатного солнца
соскальзывает с последнего камня башни. Ни на кого не глядя, Бобо-Калон
проходит мимо сидящих, и все умолкают, провожая его взглядами. Обойдя
мельницу, Бобо-Калон подходит к нижней, покосившейся над рекою башне,
открывает сводчатую дверь и с треском захлопывает ее за собой.
Шо-Пир встает, и ущельцы, все до одного, покинув свои места, прячутся
за большими, нагроможденными ниже крепости скалами.
Шо-Пир спичкой зажигает заготовленный масляный факел и, дав ему
разгореться, подходит к торчащим из трещины концам фитилей. Быстро поджигая
их, отбрасывает в сторону факел и стоит над зазмеившимися огоньками,
вполголоса отсчитывая секунды.
Шнуры горят, чуть потрескивая. Шо-Пир опытным взглядом окидывает скалу
и башню, которая через две с половиной минуты разлетится на части. Он не
торопится, зная, что вполне успеет укрыться, отбежав ровно за одну минуту до
взрыва. Ущельцы, попрятавшиеся за скалами, беспокоятся. Бахтиор кричит:
- Шо-Пир!.. Э-э!.. Скорее, Шо-Пир!
А ему нравится стоять неподвижно, уверенно ведя счет. Он глядит на щель
между башней и отвесом горы, - из нависших над щелью желобов падают
тоненькие струйки воды. И тут, сразу обомлев, Шо-Пир видит в щели за
иззубренной гранью башни два черных, внимательно наблюдающих за ним глаза.
- Э!.. Кто там? - испуганно кричит он, и два черных глаза в тот же миг
исчезают.
Не рассуждая, Шо-Пир в три скачка огибает башню и, увидев притаившуюся
за углом башни неизвестную девушку, кидается к ней. Она в испуге
отскакивает, но Шо-Пир уже крепко держит ее за плечи и по-русски кричит:
- Куда, оглашенная?
Девушка в неожиданной ярости пытается сопротивляться, но Шо-Пир рывком
поднимает ее на руки и бежит прочь от башни. Девушка царапается, кусается,
как дикая кошка.
Только упав за груду камней, на безопасном расстоянии от башни, Шо-Пир
выпускает девушку. Разбитая взрывом башня падает в огненном блеске и в
клубах дыма. Осколки камней свистят над головой Шо-Пира. Эхо, взнесенное
крутыми склонами ущелья, раскатывается, и замирает, и возникает отдаленным
громыханием вновь. Расколотая на части скала катится по склону к реке, минуя
мельницу, ломая последние, оставшиеся от ханского сада деревья; ударяется в
крайний выступ нависшей над рекою стены и вместе с нею падает в реку. Вода
мгновенно смыкается над обломками глыб, бежит, кружась и пенясь, как прежде.
Темная пыль оседает, дым постепенно расходится, наступает полная тишина, и
Шо-Пир ощущает только раздражающий запах горелой серы.
Убедившись, что все кончено, Шо-Пир взглядывает на свои исцарапанные в
кровь руки, сердито обращается к девушке:
- Ты что же это? С ума сошла?
Она сидит, присмирев, уже не делая попыток бежать.
Забыв о взрыве башни, ущельцы столпились вокруг Ниссо. Даже Бобо-Калон,
приоткрыв дверь, издали глядит на нее. Шо-Пир рассматривает ее распухшие, в
ссадинах ноги, мелкие спутанные косички, измазанное лицо, лоскутья ее
одежды, какой не носят здешние женщины.
Окруженная людьми, Ниссо, не поднимая глаз, сидит сжавшись, как
пойманная в западню. Она так оглушена и испугана грохотом взрыва, что ее
руки и губы дрожат.
- Дэв тебя, что ли, принес? - наконец шутливо выражает свое удивление
Шо-Пир и обращается к ущельцам: - Глядите, кто ее знает здесь?
Ущельцы отвечают только цоканьем да покачиванием голов.
- Что же, так и будешь молчать? - наконец говорит Шо-Пир. - Как ты
думаешь, к нам с неба каждый день сваливаются такие, как ты, девчонки? А
измазалась как? Кошка будет сыта, если оближет твое лицо!
Ущельцы хохочут, а Ниссо, метнув испуганный взгляд, опускает голову еще
ниже. Шо-Пиру становится жаль ее:
- Голодная ты, наверно... Есть хочешь?
Ниссо молчит. Шо-Пир подмигивает Бахтиору, и тот извлекает из своего
узелка оставшийся шарик сыра. Шо-Пир, коснувшись руки Ниссо, говорит:
- Не бойся, коза, никто тебя здесь не обидит. Ешь!
Ниссо вновь кидает недоверчивый взгляд, но, ободренная явным
сочувствием окружающих, жадно хватает сыр и, не поднимая головы, сует его в
рот.
Шо-Пир осторожно дотрагивается до распухшей щиколотки Ниссо, но она
отдергивает ногу.
- Похоже, будто ты часа два в лапах барса барахталась. Ничего, вылечим
тебя. Идти можешь?
Но едва Шо-Пир, вставая, берет ее под локоть, Ниссо вскакивает и
стремительно кидается в сторону. Ущельцы, стоящие вокруг плотным кольцом, со
смехом удерживают ее.
- Шо-Пир, она, наверное, одержимая!
Ниссо замирает снова, дрожа в сдерживающих ее руках.
- Вот что, друзья! - произносит Шо-Пир. - Видно, плохо ей пришлось.
Придется нам ею заняться. На сегодня работа кончена, пора по домам. А ты,
глупая, - мягко обращается Шо-Пир к Ниссо, - не бойся нас. Что ты, в самом
деле, людей, как волков, боишься?! Пойдем-ка вниз, с нами!
Озираясь и, видимо, ища случая убежать, Ниссо спускается к селению по
широкой тропе, окруженная толпой ущельцев. Шо-Пир касается ладонью ее
худенького плеча. Бахтиор возглавляет шествие, а те бездельники, что
любопытствовали весь день, уже не интересуясь разрушенной башней, стараются
протолкаться поближе к неведомо откуда взявшейся девушке. Все в ней занимает
их: и одежда - изодранная, но не такая, какую носят женщины здесь, и
испуганные глаза, и лицо - тонкое, красивое, но измученное и грязное, и
ссадины на проглядывающем сквозь лохмотья загорелом теле.
Украдкой, полушепотом ущельцы обмениваются предположениями. Может быть,
она ехала с мужем или отцом и с ними случилось что-либо недоброе по дороге?
Камни упали сверху и сбили их осла в пропасть? Или на них напали снежные
барсы? Или спутники ее утонули при переправе, - такие ссадины и царапины
бывают, когда вода волочит человека по камням. Или просто она отстала от
каравана какого-нибудь купца и заблудилась в горах?.. Но непонятнее всего,
почему она пришла сверху? Ведь за тропою к Верхнему Пастбищу ничего, кроме
льдов и снега, нет!
В селении к толпе присоединяются новые люди. Женщины, не решаясь при
мужьях выбегать из домов, глядят на Ниссо из-за каменных высоких оград,
вылезают на крыши, таятся между густыми ветвями деревьев. Не обращая ни на
кого внимания, Шо-Пир молча ведет Ниссо мимо садов и посевов селения. Когда
он решительно поворачивает влево, чтоб узкой тропинкой направиться к дому
Бахтиора, толпа начинает редеть. Поднявшись к каменной ограде сада,
окружающего дом Бахтиора, Шо-Пир поворачивается к идущим за ним. Вся толпа в
нерешительности останавливается.
- Вот что, товарищи, - внушительно объявляет Шо-Пир. - Нечего на
девчонку, как на дикого зверя, смотреть. Еще умрет от страха, кто отвечать
будет? Идите-ка по домам. Она останется пока у матери Бахтиора, пусть
отоспится сначала, а потом Бахтиор поговорит с ней как советская власть.
И, введя Ниссо в сад, Шо-Пир загораживает двумя корявыми палками пролом
в ограде, заменяющий ворота.
Ущельцы нехотя удаляются. Но несколько любопытных остаются и, припав к
щелям ограды, решив досмотреть представление до конца, наблюдают за всем,
что происходит в саду.
Шо-Пир ведет Ниссо на лужайку, зеленеющую среди тутовых деревьев у
самого дома. Ниссо бессильно опускается на траву, склоняет лицо на ладони.
- Ты, Бахтиор, пойди в дом, скажи Гюльриз, чтоб она приготовила горячей
воды и растопила в котле сало - то, знаешь, которое я берег для чистки
ружья. Лечить надо девчонку. И пусть Гюльриз выйдет сюда.
Бахтиор уходит разыскивать мать. Шо-Пир заговаривает с Ниссо все на том
же плавном сиатангском наречии, которое вот уже три года заменяет ему
русский, никому здесь не понятный язык.
- Сейчас мы тебя лечить будем. Потом выпьешь чаю или молока. Потом
вымоешься. Ты мылась когда-нибудь?.. Ляжешь спать. Никто не тронет тебя. И
ничего не бойся... Ну, посмотри на меня. Разве тебе надо меня бояться?
Ниссо исподлобья, робко глядит в лицо Шо-Пира. Он улыбается.
- Вот видишь! Значит, ты отлично понимаешь меня! А молчишь, будто язык
потеряла!
- А ты не яхбарец? - недоверчиво и едва слышно произносит Ниссо.
- Я? Нет. Разве похож? - Шо-Пир сбрасывает на траву свою выцветшую
фуражку.
Ниссо устремляет взгляд - уже открытый и ясный - на его коротко
стриженные русые волосы, на его спокойное загорелое лицо. Весело искрящиеся,
насмешливые голубые глаза смущают ее.
- Ты... Ты - легкий.
- Легкий? Ого-го! - от души хохочет Шо-Пир. - Это я-то легкий? Ну, ну!
Ты скажешь... Легкий! - И, сдержав смех, с подчеркнутым безразличием
спрашивает: - А ты... разве ты прибежала из Яхбара?
Ниссо, опустив голову, вздыхает, молчит. Бахтиор возвращается из дому,
держа в одной руке консервную банку с растопленным салом, в другой -
глиняный кувшин с холодной водой.
- Не знаю, ушла куда-то Гюльриз. Вот сало. Другую воду я на огонь
поставил.
Ни о чем больше не спрашивая Ниссо, Шо-Пир занимается врачеванием.
Ниссо, не сопротивляясь, равнодушно подставляет ему свои руки и ноги.
Тщательно промыв ссадины холодной водой, применяя вместо ваты тут же
сорванную траву, Шо-Пир осторожно смазывает их бараньим салом. Голова Ниссо
клонится на грудь: девушку одолевает сон. И, увидев, что Ниссо спит, Шо-Пир
Легко, как маленького ребенка, берет ее на руки и несет в дом. Войдя в
комнату, остановившись перед своей чистой кроватью, с сомнением смотрит на
измазанное лицо мирно спящей на его руках девушки и бережно кладет ее на
ватное одеяло. Ниссо не просыпается: покачивая головой, Шо-Пир глядит на нее
и тихонько выходит из комнаты.
Трое ротозеев, все еще висящих на ограде, видят: Шо-Пир выходит из дому
один, - значит, зрелище окончено.
- Теперь он возьмет ее себе в жены, - с ухмылкой бормочет один.
- Покровителю известно, - молвит второй. - Может быть, у нее уже есть
один муж!
- Если есть, он найдет ее и убьет, - усмехнулся третий.
И все трое, запахнув халаты, с сожалением уходят вниз.
Бахтиор, сидевший на траве, поднимается навстречу Шо-Пиру.
...Мать Бахтиора Гюльриз вернулась домой поздно вечером. Увидев у себя
в доме нежданную гостью, пыталась узнать у мужчин, кто она и откуда; но,
убедившись, что ее сын и Шо-Пир и сами не много знают, раздела спящую Ниссо,
укрыла ее одеялом и, погасив светильник, отправилась к ручью стирать
изодранное платье девушки.
Впервые в жизни Ниссо спала на кровати. Эта кровать была первой и
единственной во всей области Сиатанг: ее своими руками смастерил Шо-Пир
после того, как вместе с Бахтиором выстроил для него и для себя первый в
Сиатанге дом городского типа. Впрочем, половина дома, - та, в которой жила
Гюльриз, - ничем не отличалась от других сиатангских жилищ, - таково было
желание старухи, и Шо-Пир уважил его. И когда Шо-Пир хотел сделать вторую
кровать для Гюльриз, а она заявила, что под кроватью ночью обязательно
станут егозить дэвы, Бахтиор натаскал в комнату старухи плоских камней,
соорудил из них широкие нары и обмазал их глиной.
А для себя на летнее время Бахтиор рядом с домом поставил легкий, на
высоких столбах шалаш, - в такой шалаш не залетали москиты, и спать в нем
было прохладно.
Когда большая, полная луна, словно выкатившись из горы, медленно
оторвалась от нее и, повиснув в воздухе, поплыла над ущельем, зеленоватый
свет залил неугомонную реку, молчаливые скалы, стены разрушенной крепости,
последнюю, торчащую над обрывистым берегом башню.
В мертвенной неподвижности длинных теней только одна тень двигалась под
стенами крепости. Старый Бобо-Калон, одинокий и молчаливый, напряженно
работал. Он поднимал камни разрушенной башни и, сгибаясь под тяжестью,
переносил их на новое место. Здесь он аккуратно складывал их один на другой,
строя новую стену, которая должна была отгородить оставленные ему владения
от площади, предназначенной для нового канала.
В одних подштанниках, затянутых тесьмою вокруг впалого живота, без
халата, голый до пояса, он подставлял лунным лучам то четко обрисованные
тенями ребра своей груди, полузакрытые белою бородой, то худую, с
напряженными мышцами спину. Никто не должен был видеть, как он работает.
Пусть завтра все думают, что это дэвы позаботились отгородить его новой
стеной от всего мира. Пусть завтра все думают, что хотят. Стена примкнет к
мельнице, перекинется через канаву, подводящую воду, соединится со старой
крепостной стеной... Пусть всякий пришедший на мельницу знает, что пришел он
не на общую землю, а в самый дом Бобо-Калона!
В темноте таскать камни было труднее; спасибо луне, - теперь, ища
подходящий камень, не нужно ощупывать их сухими ладонями. О нет, Бобо-Калон
еще не устал, в костлявых плечах его еще много силы, хотя, по законам Али,
эту силу он мог бы не тратить ни для какой работы. Половина стены уже
выложена!
Положив еще один камень, Бобо-Калон вдруг выпрямился, прислушиваясь:
кажется, что-то скрипнуло в тишине, - неужели сюда идет человек? Но скрип
повторяется. Кто-то, вошедший в крепость, совсем не заботится о том, чтобы
не нарушать тишины: камни ворочаются у него под ногами. Кому нужно ночью
идти сюда?
Раздосадованный Бобо-Калон быстро кидается к башне, хватает висящий на
косяке сводчатой двери длинный белый халат и, облачившись в него, меняет
свои торопливые движения на медленные, непринужденные. Поворачивается к
лунному свету, спокойно вглядывается в зеленоватый полумрак, словно только
что потревоженный шумом в своих величавых раздумьях.
Пересекая крепостной двор, к Бобо-Калону приближается чернобородый
толстый человек в черной чалме, в просторном ватном халате. Ремень,
опоясывающий халат, поблескивает медными украшениями; широкие, стянутые у
щиколоток шаровары делают неуклюжей приземистую фигуру. Сразу узнав
Мирзо-Хура, Бобо-Калон с неудовольствием глядит на него: он не любит купца,
как не любит всех вообще иноземцев.
Не дойдя до старика, купец останавливается: пусть Бобо-Калон утешается
мыслью, что Мирзо-Хур ничего не видел! Глядит на разрушенную башню, на
остатки раздробленной скалы, сокрушенно воздевает к небу свои короткие
толстые руки.
- О достойный! - восклицает купец. - В какие мы живем времена!
Старик молча глядит на него; надо быть вежливым и любезным с купцом, -
разве сам купец не старается делать все, чтоб вызвать к себе расположение
Бобо-Калона?
Мирзо-Хур подходит к Бобо-Калону, берет его руку, склонившись, целует
кончики его пальцев. Старый сиатангский обычай! Но разве Мирзо-Хур рожден в
Сиатанге? Не поддаваясь на явную лесть, Бобо-Калон только склоняется над
рукой Мирзо-Хура и, не в силах побороть гордости, проносит над ней плотно
сомкнутые губы. Мирзо-Хур делает вид, что совсем не обиделся, он
доброжелательно щурит запрятанные в мешковине щек маленькие глаза, но со
злобой думает, что ведь не ханские же сейчас времена и пора бы понять
Бобо-Калону, что в общей с ним нелюбви к нынешним порядкам, сошедшим на эту
древнюю землю, им следует стать друзьями!
- Слава пророку Али, теплая ночь! - произносит купец и глядит на
выложенную Бобо-Калоном стену.
- Садись, - отвечает старик, небрежным жестом указывая на плоскую
плиту, заменяющую скамейку.
Они усаживаются рядом и, отвечая на невысказанный вопрос купца,
Бобо-Калон произносит:
- Есть еще люди! И сердца тех, которые от меня отступились, еще хранят
для меня немножко горячей крови: вот пришли в темноте, сделали сами!
- Деньги взяли, достойный? - с ласковым ядом спрашивает Мирзо-Хур.
- Нет, уважения ради. Я их не видел в темноте, вот только сейчас, -
луна вышла, - верхние камни немножко поправил.
- Так, так, достойный! Уменьшаются владения твои.
- Мои владения - в благоволении покровителя. Кто может уменьшить их?
- Ты прав, Бобо! Кто может уменьшить мир Установленного?
Мирзо-Хур почтительно умолкает. Молчит и Бобо-Калон. "Бобо" - это
вольность, недостаточное почтение к его касте, но не надо быть слишком
обидчивым, раз он сам у Мирзо-Хура поверх головы в долгу! О, торгаш, как он
умеет опутывать! И теперь уже никогда не наступит время поквитаться с ним!
Но какой может быть расчет у купца, - неизменно, и ничего в расплату не
требуя, приносить ему, обнищавшему старику, то мясо, то соль, то зеленый
привозной чай, - все, от чего давно пора бы отвыкнуть? С недавних пор купец
приходит часто и, всегда почтительный, сидит подолгу, будто в самом деле
хочет только наслушаться разговоров хранителя мудрости и толкователя
Установленного.
- Как дела твои, Мирзо-Хур? - наконец нарушает молчание Бобо-Калон.
- Какие дела, Бобо? - стараясь казаться столь же величавым, отвечает
купец. - Добрые дела творятся там, - купец указывает пальцем на небо. -
Здесь дела холодны, как снега вершин. Кто в мою лавку заходит? Кто хочет
долги отдавать?.. Скрытно только опиум берут у меня, один от другого
таится... Хочешь опиума, Бобо? У меня с собой.
- Не хочу, Мирзо-Хур, сколько раз ты мне предлагаешь? Двужизненный дым
нужен тем, у кого второй жизни не будет.
- Ты прав, Бобо, твоя душа воплотится в барса, чтобы ты мог покарать
тебя ненавидящих! Там ничто не меняется, как меняется все в этом мире.
Беспокойство туда не придет.
Бобо-Калон понимает, что купец - из вежливости, что ли? - хочет
продолжать незаконченный в прошлую встречу большой разговор. Зачем? Разве
купец может проникнуть в простор Установленного? Не надо бы снисходить до
задушевной беседы, но кто еще в селении готов теперь столь почтительно
слушать Бобо-Калона?
Он молчит. Мирзо-Хур тоже молчит, зная, - старик не утерпит, заговорит.
От мельницы с тихим журчанием бежит, переливаясь, ручей. Луна,
поднимаясь, укорачивает длинные тени.
- Слышал я: сегодня Бахтиор посмел повысить на тебя свой голос? -
почтительно, но опустив глаза, чтобы скрыть их лукавый блеск, спрашивает
Мирзо-Хур.
Бобо-Калон молча пожевывает сухими губами.
- Собачий хвост он! - продолжает Мирзо-Хур. - Не понимаю я, Бобо, как
верные позволили собаке вырастить себе волчьи зубы?
- Живешь здесь, сам знаешь.
- Знаю. Но ведь он был вашим человеком, родившимся среди этих камней?
Ведь он самый презренный факир!
- Самый нищий, самый ничтожный! - вступая, наконец, в разговор,
распаляется Бобо-Калон. - Ни дома не было, ты знаешь, ни овцы, ни рубашки.
- И не было бы, если бы не русский...
- Если бы не русский, разве он стал бы сумасшедшим? Сотни дэвов живут в
нем от головы до пяток, сотни скверных дэвов свили себе в нем гнездо, глядят
из его глаз, слетают с его языка, движут его руками. Они пожрали его душу,
он живет без души, а тело его проклято. Ты помнишь то собрание нечестивых?
- Помню, Бобо, при мне уже было.
- Как печень моя не разорвалась тогда! Встал он, смехом оскалил зубы,
сказал: "Горе вам, сеиды и миры, уходите теперь в Яхбар!" Ушли сеиды и миры,
и разве это не великий позор? Разве не могли они остаться, как я, забыть
богатства, думать о свете истины?.. Он называется председателем сельсовета -
язык сломаешь, пока произнесешь это слово, - но он не человек, он вместилище
дэвов, - разве могут дэвы затмить свет истины в душе, обращенной к одному
покровителю?
- Все-таки, Бобо, теперь он силен.
- Теперь? Но три года назад, когда этот русский пришел к нам, Бахтиор
был человеком моего народа, пусть факиром, но все-таки сиатангцем. Он не был
тогда таким, как те факиры, что жили в Волости и уже ставили себя выше
ханской крови и "Лица веры". Никогда не жаловался он на свою нищету. Никогда
не хотел быть сытым. Он жил, как камни. Он знал, что есть большие и очень
большие камни, и есть маленькие, и есть песчинки, но, как и все мы, он был
вместилищем бога. Ничтожным, незаметным, но все-таки вместилищем бога. И
после смерти его душа могла бы войти в невинную маленькую букашку, которая
живет под крылом у самого маленького воробья. Но когда, три весны назад, к
нам пришел этот, да развеется прах его отца, этот ненавистный Шо-Пир, - ты
тоже помнишь этот день? Ты помнишь?
- Все помню я, все помню!
- И мы, собравшись у этой мельницы, над этой самой рекой, вот здесь, на
дворе моей крепости - это все-таки моя крепость, что ни говорили бы иные, -
мы слушали этого русского... Э! Покровитель! Сидя на этих камнях, мы слушали
богопротивные слова, которые он говорил. Это он сказал нашим факирам: "Перед
кем руки на груди складываете?" это он ругал их за то, что они покорны
нашему запрещению вступать на тропу, ведущую в Волость. Ты помнишь, как
нашими посланцами до того были только сеиды и миры, чьи души не боятся
заразы? Это он назвал нас - владетелей этих мест - врагами, а факиров из
Волости, и русских солдат, и наших презренных рабов - братьями... Это он
научил их: "Пошлите своих факирских гонцов повсюду, пусть посмотрят на
советскую власть и берут пример". Это он бросил, как огонь в сухой хворост,
глупую мысль о счастье в их не знавшие беспокойства души! Как жидкий свинец,
слух прожигали его слова! Сердце мое кипит, когда я их вспоминаю!.. Мы
слушали и покачивали головами, сверху вниз покачивали, как всегда говорим
мы: "да-да", тысячу раз "да", когда не хотим спорить с презренными. И
Бахтиор слушал. И думал я: уйдет пришелец, мы плюнем на его след, пусть
видит во сне, будто мы поверили в его речи! Мудрость моя начинает мутиться,
как похлебка в котле, когда я вспоминаю, как первый раз уши мне обожгли те
слова, что я слышу теперь каждый день. И от кого слышу? От соседей моих, от
людей моего народа. Не только факиры, даже сыновья акобыров их повторяют!
Трудно мне, словно колючка в горле моем, когда я говорю об этом. Но я прожил
пять кругов, я знаю все в Установленном и теперь хочу быть спокойным. Не
хочу чужих дел! И чужих людей не хочу!
Бобо-Калон вдруг, словно спохватившись, умолкает. Купец сидит спиной к
лунному свету, опущенное лицо его в тени. Может быть, не надо было заводить
разговор о Бахтиоре?
Намек старика понятен купцу. И он не хочет скрывать обиду:
- Бобо-Калон, яхбарцы тоже народ для тебя чужой?
О Яхбаре Бобо-Калон говорить не хочет. Столь прямо заданный вопрос -
дерзость. Да... Яхбарцев сиатангцы не любят давно, вражда всегда жила между
ними. Мирзо-Хур это, конечно, знает! Бобо-Калон досадует на себя: стоило ли
рассыпать свою мудрость перед яхбарцем?
- Восемь лет назад, когда ты пришел, ты был чужим. Я помню, как ты
пришел, чтобы построить здесь свою лавку. Я сам читал ту бумагу, что написал
тебе Азиз-хон. Там сказано было: "Достойный муж, прекрасный честностью и
почтением к богу".
- Восемь лет прошло. Что скажешь теперь?
- Вижу, бога ты почитаешь.
Если б Мирзо-Хур не был купцом, он, вероятно, не мог бы снести
оскорбления. Но он только плотнее сжимает губы: ведь он еще не успел
поговорить о деле, ради которого пришел к старику. И делая вид, что в словах
Бобо-Калона уловил только похвалу, не поднимая глаз, Мирзо-Хур произносит:
- Без почтения к богу нет жизни. Потому здесь и рушится все, Бобо... И
много зла будет еще... Скажи, ты слышал о караване русских?
- Говорили тут с Шо-Пиром они.
- Что говорили?
- Придет караван.
- Когда придет?
- Ждут его... Дни считают...
- Что привезет, говорили?
- Муку привезет.
- Еще что?
- Не знаю.
- Ты не знаешь, я знаю: книги привезет, чтоб дети законам неверных
учились; одежду привезет, в которой ходить позорно; вонючие жидкости
привезет, чтобы лить в горло тем, у кого болит живот. Ай, Бобо-Калон, пропал
твой народ! Русский сахар он будет есть, русскую соль будет есть, женщины
повернутся спиною к мужьям, мужчины станут безумными...
- У тебя, купец, не станут покупать ничего! - язвит Бобо-Калон.
- У меня? Пусть я купец, разве об этом я думаю? Но скажи, для тебя
хорошо это, что придет караван? Разве нужен он твоему народу? Разве ты
будешь молчать с теми, кто еще может слушать тебя? Разве мудрость твоя будет
литься в их уши, как пустая вода? Разве весь твой народ уже сомневается в
Установленном? А ты, Бобо, молчишь, когда мудрость твоих речей может жечь,
как огонь!
- Ты, купец, кажется, хочешь меня учить? - холодно произносит
Бобо-Калон, и купец, почувствовав, что старик слишком хорошо понимает его,
решается спросить напрямик:
- Прости, достойный... Не ум мой сейчас говорил, сердце мое кипело.
Скажи, я не видел этой, что прибежала сюда, ты видел ее?
- Видел... Совсем молодая...
- Твоего народа она?
- Молчала. Не знаю. Лицо - как у наших.
- Слышал я: одежда не наша?
- Одежда рваная была вся, но, видно, от богатых пришла: яхбарское
платье... Косы тоже так не заплетают у нас...
- Ты думаешь, она из Яхбара?
- Кто знает! Быть может. Думаю, так.
- Что еще о ней думаешь ты, Бобо? Наверное, убежала от мужа?
- Не знаю, кто она. Только плохо, когда женщина одна по горам бегает,
делает все, что захочет, и мужчины за ней не видно. Время такое: одна
одержимая плодит одержимость в других... Лучше б не было ее здесь: наши
женщины не смотрели бы на нее, худому бы не учились. Но что тебе до нее,
купец?
- Так, так, просто так, бобо, - скороговоркой бормочет Мирзо-Хур. - Не
для дела спросил, любопытства ради. Смотри, луна заходит за гору, спасибо
тебе за мудрый твой разговор, идти мне пора. За хорошим разговором времени,
как за стеной, не видно. Позволишь ли приходить, когда одиночество гонит
меня из дому? Душа моя отдыхает с тобой.
И, не дождавшись ответа старика, который только склонил голову,
милостиво соглашаясь на дальнейшие посещения купца, Мирзо-Хур поднимается с
камня и, не скрывая своей торопливости, произносит все полагающиеся слова
почтительного прощания. И хотя в действительности луна еще далеко от края
ущелья, Бобо-Калон не задерживает незваного гостя.
Той же неуклюжей, тяжелой походкой купец вышел из разрушенных ворот
крепости на тропу и, спускаясь между блестящих в лунном свете гранитных гор,
направился к селению.
В селении, безлюдном и тихом, все давно спали. Даже собаки, слишком
ленивые для того, чтобы залаять на одинокого, проходящего мимо человека,
только проводили его глазами, быть может потому, что узнали его.
Мирзо-Хур прошел все селение и, дойдя до своей лавки, прилепившейся над
самой рекой, на краю обрыва, тихо открыл маленькую, с резными украшениями,
двустворчатую дверь. Остановился на пороге, прислушался к храпу в темном
углу заставленного товарами помещения.
- Кендыри! О-э, Кендыри! - тихо промолвил купец.
Храп оборвался.
- Кендыри! - повторил купец. - Встань, поговорить надо.
- Что случилось? - послышался заспанный голос.
Мирзо-Хур присел на пороге; придерживая рукой штаны, к нему выбрался
полуголый человек. Луна осветила его узкое и острое, словно кривая сабля,
гладко выбритое лицо. Черты этого туго обтянутого кожей лица были мелкими и
сухими. Большие, выступающие вперед зубы белели в мертвом, холодном оскале,
словно этот человек, однажды неприязненно осклабившись, так и остался с
принужденной улыбкой. Голова его была тоже тщательно выбрита и поблескивала
в лунном свете.
Выйдя на порог, он молча присел на корточки и застыл в этой позе, в
которой кочевник чувствует себя так же легко и свободно, как горожанин,
сидящий в удобном кресле.
Мирзо-Хур полушепотом сообщил ему о посещении Бобо-Калона. Кендыри был
всего только брадобреем, которому за помощь в торговых делах купец
предоставил право жить в своей лавке, и можно было бы думать, что нищий,
оборванный брадобрей, живущий у купца из милости, должен относиться к нему с
почтительностью и смирением. В самом деле: когда два года назад Кендыри,
грязный, голодный, с одной лишь сумкой через плечо, в которой болтались
самодельная железная бритва да завернутый в тряпицу точильный камень, пришел
в селение, никто не захотел предоставить кров бродячему брадобрею, и только
Мирзо-Хур, сытно его накормив, предложил ему жить у себя и даже дал ему из
своих запасов чалму и халат... Сначала все удивились столь необычной
щедрости Мирзо-Хура, но когда Кендыри прожил у него и месяц и два и, наконец
остался совсем, ущельцы решили, что просто купцу нужен дешевый работник и
что, конечно, Мирзо-Хур не был бы настоящим купцом, если б не сумел сторицей
возместить произведенные на пришельца затраты!
Кендыри стал подстригать бороды и брить головы всем ущельцам, никогда
не назначая за свою работу никакой платы, довольствуясь тем, что ему давали,
будь то тюбетейка пшеницы или горсть сухих тутовых ягод. Никто в селении не
знал, откуда пришел Кендыри и среди какого народа родился: он был не похож
ни на яхбарца, ни на китайца, ни на иранца ни на монгола, может быть, он
принадлежал к какому-нибудь североиндийскому племени; но, возможно, пришел и
из более отдаленных краев... Так или иначе, ущельцы не нему привыкли, он в
дела ущельцев не вмешивался и только изредка заменял Мирзо-Хура в лавке,
особенно в тех случаях, когда купец уходил за товаром в Яхбар. Вероятно, за
хорошую работу купец подарил ему год назад ружье, хорошее ружье, привезенное
из Яхбара, и с тех пор Кендыри стал часто ходить на охоту в горы, пропадал в
горах по многу дней и всегда приносил убитого козла, несколько лисиц или
иную добычу. Все понимали, что и мясо и шкуры доставались купцу, и потому
ружье Кендыри рано или поздно тоже должно было вполне окупиться.
Разговаривая с ущельцами, Кендыри никогда ничего не сообщал о себе, но
охотно, с острыми шутками и неизменным цинизмом рассказывал только о своих
любовных приключениях в тех или иных местах горной Азии.
Сейчас, застыв на корточках, привалившись плечом к резной двери Кендыри
приготовился слушать. Купец прежде всего заговорил о караване, который
должен прийти в Сиатанг, но эта новость им обоим была известна уже давно.
Когда же купец заговорил о Ниссо, Кендыри перебил его:
- Э, Мирзо-Хур, какое нам дело до этой девчонки?
- Погоди, Кендыри, - возразил купец. - Это не просто девчонка. У меня
есть хорошая мысль, большой барыш может быть! - И приблизив свою бороду к
лицу Кендыри, отрывисто произнес: - Она в яхбарской одежде...
- Ну и пусть! - не понимая расчетов купца, отрезал кендыри. - Тебе что?
Или в жены взять ее хочешь? Красива, что ли, она? Ты мне лучше скажи, ты дал
чай старику?
Последние слова купец пропустил мимо ушей и быстро заговорил:
- Одежда, старик сказал, на ней богатая... Может быть, от путников
отбилась в горах? Только, думаю, некому по нашим горам ходить. Думаю, из
Яхбара убежала она от отца или мужа, значит, - ищут ее! Понимаешь, хорошие
деньги дадут за нее. Узнать, кто ищет, вернуть ему женщину!
- Глупости это, - с холодным раздражением произнес Кендыри. - Будто
других нет выгодных дел! Если б Бахтиор и Шо-Пир к себе не взяли ее, еще
можно бы... Большой скандал будет, эти деньги в горле у тебя станут.
Купец в раздумье опустил голову. Он и сам понимал, что увезти беглянку
обратно в Яхбар будет не просто и, может быть, Кендыри прав. Но все-таки.
Тот, в Яхбаре, поймет: больше хлопот - больше денег...
- Оставим это, - решительно оборвал размышления купца Кендыри. - Я
спросил тебя: ты дал ему чай?
Купец отвел глаза от прямого взгляда Кендыри и с плохо скрытым
смущением ответил:
- Я хотел дать...
- Дал или не дал, спрашиваю?
- Другое я ему предлагал.
- Что?
- Не взял он... Я не виноват, он не захотел взять... Опиум я ему
предлагал...
- Опять? Потому что не курит он?
Мирзо-Хур давно уже собирался высказать Кендыри все свои переживания,
вызванные непонятной обязанностью безвозмездно поставлять Бобо-Калону
продукты. Кендыри уже давно заставлял его делать это, но разве может купец
строить свои дела на зыбких и неверных расчетах? Конечно, у Кендыри хитрый
ум, Кендыри дал уже много хороших советов но вот этот совет, - будет от него
польза или нет, а пока...
- Не могу больше! - возмущенно воскликнул купец. - Не могу, Кендыри!
Что будет со мной?.. Все давай ему, все давай! Ты слушай, за одно лето
только: муки - меру одну, так? Муки - меру вторую, так? Чай давал раз, чай
давал два, чай давал три, еще соли давал, гороху семь тюбетеек... -
Мирзо-Хур потрясал руками. - Мясо, что ты приносил, тоже давал три раза, вот
еще мыла привозного давал два куска. Зачем ему мыло, песком мыться старик не
может? Не ханское время. Э! Все у меня записано, пожалуйста, я тебе покажу.
Купец было поднялся, чтобы взять в лавке записи, но Кендыри спокойно
задержал его движением руки, и купец, все больше волнуясь, продолжал:
- Хорошо, без записи ты все сам знаешь. Я даю, даю, даю, - конца этому
нет, старик все берет, как хан, не замечая меня. Презрение на его губах. Как
будто я не купец, а факир, п дать ему несу... Вот и ты на меня губы кривя,
глядишь, знаю твои мысли: я жаден, я скуп... А ведь я купец, где доход мой?
Кто мне будет платить?
- Скажи, Мирзо-Хур, - медленно и задумчиво произнес Кендыри, словно не
слышавший этих горячих слов. - Девчонка сегодня ночует у Бахтиора?
Мирзо-Хур сразу осекся, и мысли его повернулись в иную сторону.
- Девчонка?.. Ты, кажется, думаешь, что это дело все-таки может дать
мне барыш? У Бахтиора, у Бахтиора. Мой человек видел: Шо-Пир на руках понес
ее в дом.
- Может быть, ты и прав, Мирзо, - все в той же задумчивости промолвил
Кендыри. - Надо узнать, от кого убежала она.
- Ты, Кендыри, тоже думаешь так? - сразу зажигаясь, произнес купец. -
Ты хочешь сам что-нибудь сделать?
Кендыри холодным, коротким взглядом окинул лицо купца, внимательно
посмотрел на луну, словно измеряя время, оставшееся до рассвета, и, вставая,
решительно произнес:
- Иди спать! Дверь не запирай, я приду.
Прошел в темноту лавки и, выйдя на террасу уже в сером халате и
тюбетейке, не обращая внимания на купца, спрыгнул на землю. Легким шагом
удалился по тропе.
Купец тяжело вздохнул, вошел в лавку и притворил за собою створки
двери.
Огибая селение вдоль подножья осыпи, Кендыри ни разу не вышел на лунный
свет. Только взобравшись на осыпь, где не было уже ни крупных скал, ни
кустов, он, не таясь, пошел, поднимаясь все выше. Пересек осыпь и, увидев
блещущий ручей, вокруг которого большим темным пятном располагался сад
Бахтиора, направился прямиком к нему. Луна уже вплотную приблизилась к краю
ущелья, и Кендыри торопился. Неслышно ступая босыми ногами по сухим шершавым
камням, он приблизился к ограде, окружающей сад, остановился, прислушался,
присмотрелся, потом перелез через ограду и осторожно пробрался к дому.
Против террасы, в шалаше из ветвей, сооруженном на четырех высоких столбах,
спал Бахтиор; Шо-Пир лежал, завернувшись в суконное одеяло, на кошме,
разостланной под деревом. Кендыри обошел спящих сторонкой и подкрался к
самому дому. Луна освещала распахнутое настежь окно, в рамах которого не
было стекол. Вынырнув из тени деревьев, Кендыри с кошачьей ловкостью
прошмыгнул через светлую площадку и приник к окну.
В комнате залитой лунным светом, он увидел большую кровать. На кровати,
разметавшись, спала Ниссо. Правая рука спадала с кровати. Черные волосы
рассыпались на подушке, и белое. Очень спокойное лицо казалось выточенным из
мягкого камня.
Кендыри не ожидал увидеть ее такой. С усилием оторвав взгляд от спавшей
перед ним девушки, он внимательно осмотрел комнату. Но того, что искал он, в
комнате не было. Тогда он, крадучись, обошел дом. На пустой террасе, среди
прочего тряпья, висело выстиранное матерью Бахтиора изодранное платье Ниссо.
Кендыри осторожно снял платье с шерстяной веревки, мельком оглядел его и,
смяв в руках, сунул под халат. Соскочил в сад и, не оглядываясь, пошел прочь
от дома.
* Горная куропатка.
2
Тревог, печалей, страхов наважденье
Рассеялось, когда пришел ты к ним -
Трудолюбивым, смелым и простым, -
Чтоб с ними воздухом дышать одним,
Чтоб жить, как тот, чей свет неповторим.
...Так ты узнал день первый от рожденья!
Дважды рожденный
Ниссо лежит на мягком дне, и теплые волны качают ее. Воды, наверное
мало, потому что можно дышать. Солнце. Тепло. Было бы совсем хорошо, если бы
не шум. Но шум, большой шум, тяжелый шум, а кругом - черные, поблескивающие
камни. Это не камни шумят: они неподвижны. Это не ветер шумит: ветра нет.
Это, наверное. Ворочается с боку на бок Аштар-и-Калон, но где он? Почему
Ниссо не видит его? Шум... Шум... Ниссо озирается тревожно, торопливо.
Солнца теперь нет света нет. Но тепло. А шум продолжается... из-за камня
выходит большой человек. Он черный, он невероятно толст. Он страшный:
огромные дряблые уши свешиваются, закрывают отвислые синие щеки. Голова
безволосая, вся в буграх, в шишках. Вместо носа темный провал, подбородок
раздвоен, похож на копыто, а на шее растут в стороны жесткие волосы... И
все-таки Ниссо узнает его: это Азиз-хон. Он вперевалку приближается к ней, и
Ниссо очень страшно. Она хочет бежать, но вязкое дно не пускает ее. Азиз-хон
неуклонно приближается, Азиз-хон говорит, очень тихо говорит, но голос его
покрывает шум:
- Куда ты хочешь бежать? Ведь ты в животе Дракона!
Азиз-хон тянет к ней толстые синие руки. Но между его руками и Ниссо
вдруг вырастает добрая Голубые Рога. Она смотри на Ниссо голубыми глазами, -
вот странно, почему это глаза коровы сделались голубыми? Она поворачивается
к Азиз-хону, чтобы кинуться на него, и протяжно мычит...
- А-ио! - наконец удается крикнуть Ниссо, и она просыпается.
Просыпается вся в поту. Приподнявшись на локтях в мягкой постели,
тревожно озирается и не может понять: где она?
Но вокруг ничего страшного нет. И все-таки Ниссо кажется, что она не
проснулась, - только переменился сон. Вокруг белые стены. Ниссо никогда не
видела белых стен. Вокруг гладкая земля, какой она тоже не видела никогда:
из дерева, и такая чистая, как пиала, которую мыли в горячей воде. В стене
квадратная дырка, в нее бьет солнечный свет, виден кусок голубого неба,
пересеченный качающимися листьями тутовника...
Нет, это не сон, и ничего страшного нет.
Только шум, шум, шум, - он продолжается, но он не тяжелый, он очень
легкий, - это шумит вода, совсем рядом.
Ниссо заглядывает под кровать, ищет воду. Но воды нет, - только
деревянная земля... Где это видано, чтоб земля была деревянной? Ниссо
разглядывает кровать, на которой лежит, - как мягко, как хорошо! Одеяло
сброшено на пол. Ниссо поднимает его, щупает рукой: какое чистое ватное
одеяло!
Нет, наверное, ничего не случилось плохого, иначе не было бы так чисто,
так хорошо.
Ниссо опускает голову на подушку и видит над собой потолок, - не
черный, каменный, задымленный потолок, а светлый, такой же чистый, как пол.
Дыры для дыма в нем нет.
Все непонятно, но на душе Ниссо почему-то спокойно. Она закрывает
глаза. Она хочет вспомнить все. Она долго думает... Вот она ест сыр,
окруженная толпой людей... И последнее, что ей удается вспомнить, - сильного
человека, не похожего на других, который сначала крепко держал ее, а потом
смотрел на нее смеющимися глазами. Какие светлые были у него глаза, совсем
голубые глаза... Разве бывают глаза голубыми?
Шум... Плещущий, ласковый... Где же это бежит вода?
Ниссо прислушивается: кажется людей вокруг нет. Ниссо осторожно встает,
мышцы еще болят, но она чувствует себя бодрой. "Наверное, я очень долго
спала!" Встает босиком, на цыпочках подходит к дыре в стене, осторожно
выглядывает наружу; перед ней сад, стройный сад, с зеленой травой; тутовые
деревья, за ними большая скала, за скалой склон горы - серый, каменистый -
до самого неба. Небо чистое, голубое... Под одним из деревьев, невдалеке от
Ниссо, на траве - кошма. Кто-то спит на ней, завернувшись в суконное одеяло.
Под головой у спящего зеленый мешок с красными рыжими ремешками. Спит...
Это, наверное, тот большой человек.
Любопытство разбирает Ниссо; она осматривает комнату.
Над кроватью ружье - совсем не такое, как у охотника Палавон-Назара:
без ножек, главное, тонкое, с двумя стволами, очень красивое; под ружьем -
сумка из коричневой кожи и какие-то блестящие палочки. У стены - стол,
деревянный некрашеный стол, - Ниссо никогда не видела столов. На нем
глиняные чашки, жестяной чайник, деревянная коробочка с табаком, деревянное
блюдо с яблоками, какие-то мелкие, не известные Ниссо вещи. У другой стены -
полки с дверцами, тоже маленький дом, для вещей. Ниссо трогает дверцу шкафа,
но дверца скрипит, и Ниссо отдергивает руку. В стену вбиты гвозди - не
деревянные, не каменные гвозди, а очень тоненькие, железные, и на них висят
две длинные белые тряпки. Они у самой двери, только теперь Ниссо заметила
дверь...
Ниссо отступает от окна, размышляет. Как это так случилось, что она
опять попала к людям? Пряталась, блуждала, боялась, а теперь что? Вот взяли
ее, привели, теперь будут расспрашивать, заставят работать, наверное, опять
будут делать ей зло... Вот, может быть, этот спящий мужчина захочет взять ее
в жены, - зачем бы иначе привел он ее к себе в дом? И как это получилось
вчера? Ведь она долго смотрела на людей из-за башни и не хотела им
показаться. Почему же все-таки не убежала тогда? Да, вспомнила: ей очень
хотелось есть, и она так устала, - сама не понимала, что делала... А
потом... Вот этот, спящий, смеялся над ней, но все-таки накормил ее,
разговаривал с ней тихо. Почему он ее накормил? А потом привел в сад. Мазал
ноги и руки бараньим салом. Какой у него был расчет? Конечно, он хочет взять
ее в жены. Или, просто, все они знают Азиз-хона и боятся его? Старик придет
сюда, и они отдадут ее!
Ниссо замерла от страха, мысли ее смешались, всем существом она поняла
одно: бежать, как можно скорее, - пока этот спящий не проснулся - бежать!
Ниссо кинулась к двери, но вдруг заметила, что ведь она совсем голая,
как же ей бежать голой? И потом ведь сейчас день, разве убежишь днем?
Ниссо остановилась, прислушалась: есть ли там люди за дверью? Ни один
звук не выдавал присутствия человека в доме. Ниссо чуть-чуть успокоилась,
решила подумать еще: нельзя просто так броситься и бежать, надо быть хитрой.
Иначе поймают, и опять, как вчера, соберутся все, будут смотреть на нее...
За дверью послышался женский голос:
- Э! Проснулась?
Ниссо опрометью кинулась обратно в постель, забилась под одеяло,
притаилась.
Дверь открылась, в комнату вошла старая женщина, прямая еще, но седая,
с горбоносым, в глубоких морщинах лицом.
- Э, черноволосая, какие видела сны?
Отвечать или не отвечать? Теперь ясно: никуда уже не убежишь! Но голос
совсем не сердитый, добрый.
Ниссо взглянула на старуху самым уголком глаза, так, чтоб самой видеть,
а та ничего не заметила бы. Старуха - в длинной белой рубахе, как у всех
женщин, только рубаха не рваная, чистая и застегнутая у ворота.
- Ай-ио!.. Притворяешься! Вижу, не спишь! Хороший видела сон?
- Страшный, - решилась тихонько ответить Ниссо.
- Проснулась, теперь не страшно?
Ниссо решила молчать, - и сейчас молчать, и потом. Все время молчать,
как молчала вчера.
- Меня боишься - не отвечаешь? - спокойно спросила Гюльриз, и Ниссо
увидела ее лучистые смеющиеся глаза.
- Не знаю, какая ты, - чуть слышно прошептала Ниссо вопреки своему
решению.
- Ио! - засмеялась старуха чистым, свежим, хотя и обведенным морщинами
ртом, в котором зубы были белыми, как у молодой. - Я очень страшная, - две
руки, голова одна, тебя покормить хочу, наверное, голодная очень...
- А ты кто? - Ниссо сдвинула одеяло с лица.
- Я? - старуха, шутя, толчком пальца в подбородок вскинула голову. -
Гордая я! Советской власти мать я! - и погрозила пальцем: - Со мной
разговаривать знай как!
- Ты власть? - не поняла Ниссо.
- Я не власть... Мой сын Бахтиор - советская власть. Мой сын Бахтиор, у
которого ты в доме сейчас. Плохого тебе он не хочет... Вставай, валялась
много... Зови меня нан . Есть мать у тебя или нет? Молчишь? Ио! Вставай.
Наверное, дэв унес твое платье, напрасно я стирала его: на веревку повесила,
утром - смотрю, нет его, ничего не понимаю, только думаю: не стоит рвань
такую жалеть. Вставай, мою рубашку наденешь!
Ниссо послушно откинула одеяло, спустила ноги с кровати. Старуха,
кажется, очень добрая.
- Болят? - участливо спросила Гюльриз, глянув на вздутые длинные
ссадины. - Ходить можешь?
- Немножко болят, теперь ничего! - стыдясь своей наготы, Ниссо встала.
- Скажи, нана, откуда шум? Река где?
- Большая река - внизу. Маленькая - под стеной бежит. Такой дом у нас,
спасибо Шо-Пиру, - придумал, чтоб летом не жарко было.
- Шо-Пир - кто?
- Вон спит! - указала Гюльриз на окно. - Тебя вчера принес.
- Твой сын он?
- Мой сын - Бахтиор, тоже спит, вон в шалаше. Шо-Пир русский, хотела бы
я такого сына родить!
Гюльриз на минуту вышла за дверь, вернулась.
- Н рубаху, бери! - и бросила на кровать длинную холщовую рубаху. -
Одевайся, мыться идем, пока не проснулись они!
Успокоенная Ниссо покорно последовала за ней. Старуха провела ее через
террасу, захватила кувшин с горячей водой, сошла к ручью, над которым висел
на крепких тополевых бревнах угол террасы.
Скинув длинную, путавшуюся под ногами рубашку, Ниссо приготовилась
мыться в ручье. Но старуха велела ей сидеть неподвижно, сама стала мыть ее
горячей водой. Ниссо, покорившись, подставляла старухе и спину, и руки, и
ноги. "Где это видано, - думала она, - чтоб горячую воду попусту лили?
Азиз-хон был богатым, а никогда не тратил дрова, чтоб мыться горячей
водой... Но это, правда, очень приятно".
Гюльриз ни о чем не спрашивала. Ниссо про себя рассуждала, что ничего,
конечно, и не ответила бы старухе, но странно все-таки: почему она не
пристает с вопросами?
Вымыв девушку, Гюльриз велела ей одеться.
- И теперь сама каждый день будешь мыться так. Будешь?
- Буду, нана, - тихо, даже улыбнувшись, произнесла Ниссо.
Гюльриз, подтянув на Ниссо спадавшую до земли рубаху, собрала ее в
складки и обвязала вокруг талии шерстяным пояском.
- Потом подошью тебе подол, будет время. Пока так ходи... Идем со мной
в дом, там сиди, никуда не беги. А я разбужу Шо-Пира, велел он разбудить,
когда ты проснешься.
Ниссо поднялась на террасу, присела на ступеньке, стала заплетать
мокрые волосы, - не в мелкие косички, как приказывал ей Азиз-хон, а в две
большие косы, как привыкла с детства в родном Дуобе и как заплетены были
волосы у старой Гюльриз.
"Русский! - думала Ниссо. - Никогда прежде я не видала русских.
Богатый, наверно, такой дом у него - чистый, большой, дерева много: земля, и
та из дерева... Русский!.. Вот почему он такой большой, и, значит, у русских
глаза голубые!.. Сильный он... Что будет он делать со мной?"
И сразу насупилась, - беспокойство, враждебность вновь овладели ею.
Решительно вскинула голову и взглянула в сад, откуда должен был показаться
Шо-Пир: нет, никакими сладкими словами он не подкупит ее, она будет молчать,
и пусть ей нельзя убежать сейчас - она убежит, все равно убежит потом...
И, приготовившись к борьбе, ожесточившись, Ниссо стала напряженно ждать
появления "повелителя пиров". Само имя этого человека говорило ей, что он
привык проявлять власть и могущество, что он станет приказывать ей,
требовать покорности... Сколько было вчера около той башни людей - он всеми
распоряжался... Но ничего, ничего, она станет колючей, как еж.
Он подошел к ней сбоку, большой и веселый, так неожиданно, что Ниссо
вздрогнула и опустила глаза. В высоких сапогах, в туго затянутых ремнем
галифе, в белой рубашке с раскрытым воротом, с мылом в руке и полотенцем
через плечо, Шо-Пир появился из-за угла дома, - совсем не оттуда, куда
смотрела Ниссо. Остановился перед смущенною девушкой, положил мыло и
полотенце на перила террасы и с улыбкой сказал:
- Ну, здравствуй, красавица! Что же, ты и смотреть не хочешь? Чего
стыдишься? Помылась, вижу, - на человека похожа стала. - И просто, протянув
ей свою крупную руку, повторил: - Здравствуй! Зовут тебя как?
Голос Шо-Пира мягок, тон дружествен. Ниссо, чувствуя, что озлобленность
ее улетучивается, но все еще упорствуя, сжала пальцы на коленях и еще ниже
опустила голову, чтобы Шо-Пир не видел ее лица.
- Эх ты, дикарка! - усмехнулся Шо-Пир. - Ну, давай руку, в самом деле.
У нас, русских, вот так здороваются, - и, сняв с колен руку Ниссо, вложил ее
в свою большую ладонь.
Пальцы Ниссо оставались вялыми, и Шо-Пир со смехом добавил:
- Жми! Ну, жми сильней. Вот так здороваться надо. Ты же сильная
девушка. По горам шла одна - смелой была, а меня боишься? Смотри на меня!
И, ласково положив ладонь на мокрые волосы девушки, Шо-Пир повернул к
себе ее взволнованное лицо. Встретившись с его смешливым взглядом, Ниссо
невольно, сама того не желая, улыбнулась.
- Вот так! Давно бы! Смотри, Бахтиор, говорил я тебе? Вот уже
улыбается.
Ниссо обернулась. Бахтиор стоял на террасе. Он был без халата, в
яхбарской жилетке, надетой прямо на загорелое, худощавое, но хорошо развитое
тело. Его широченные мешковатые штаны из домотканого сукна были стянуты под
жилеткой шерстяной веревкой, концы которой, распущенные в кисточки были
красного цвета. Низкорослый и коренастый, он казался бы очень мужественным,
если б в его быстрых черных глазах не сохранилось выражение пытливой
наивности. Он смотрел на Ниссо так, будто впервые увидел ее, и, когда она
обернулась к нему, сам первый смущенно потупил взгляд. Но тотчас простодушно
сказал:
- Она думает, наверно, язык ее - ложка, не пролить бы ни капли!
- Ничего она не думает, - усмехнулся Шо-Пир. Просто не знает еще, что
мы за люди такие. Пустяки! Скоро она перестанет бояться. Ну, коза, имя у
тебя есть?
- Есть, - осмелев, ответила Ниссо.
- Какое же?
Ниссо сказала с вызовом:
- Имя тебе мое, да?.. Имя скажу: Ниссо. Тебя спрошу: зачем привел меня
в этот дом? Тебя не боюсь, все равно убегу!
- Так вот и убежишь?
Ниссо опять насупилась.
- Беги, если захочется, - стараясь набраться серьезности. Продолжал
Шо-Пир. - Худого мало, наверно, видела? Ты думаешь, мы тебя держать будем?
Беги!
Решительно ничего страшного в этом Шо-Пире нет! И совсем он не важный и
на повелителя не похож... И как-то легко на душе, хоть и обидно, что он
смеется над ней...
- Вставай лучше, да пойдем вон туда к столу, а то старуха рассердится,
есть нам пора, - промолвил Шо-Пир и как ни в чем не бывало схватил Ниссо и,
перекинув через перила, повел ее к большому платану, под которым хлопотала
Гюльриз.
Голова Ниссо пришлась Шо-Пиру по грудь, в силе его руки не было ни
грубости, ни назойливости, и Ниссо уже не противилась никогда прежде не
испытанному чувству доверчивой покорности.
В узкогорлом кувшине было молоко, на деревянной тарелке - кусок свежей
брынзы, на другой - горка сушеных абрикосов и тутовых ягод. Гюльриз
перетерла тряпочкой глиняные пиалы.
- Смотрю я, Шо-Пир, на тебя, ведешь ты ее, думаю: дома не было, сада не
было, теперь дом есть, сад есть, корова есть, теперь дочка у меня есть. Все
есть!
- Ну не все еще! - остановился перед столом Шо-Пир. - Хлеба вот нет
еще. Ты на свою богару когда, Бахтиор, пойдешь?
- Теперь скоро пойду, канал кончим - пойду. Последний год на проклятую
эту богару ходить!
- Да уж... В таком месте твоя богара, что удивляюсь я, как шею ты до
сих пор не сломал. Не горюй, Бахтиор, - теперь пустырь оросим, землю
получишь. А насчет дочки, Гюльриз, это ты ее спроси, захочет ли еще она
твоей дочкой быть! Убежать грозится! Верно, Ниссо?
Ниссо жадно глядела на еду и, казалось, не слышала разговора.
- Вот, Ниссо, - легонько подтолкнул ее Шо-Пир, усаживаясь за стол, -
это называется "скамья", русское слово, на вашем языке нет такого. Довольно
ты на своих пятках сидела, теперь будешь, как я, за столом сидеть. Выбирай
себе место.
Шо-Пир подтолкнул Ниссо к скамье. Ниссо робко уселась на краешек, но
тотчас подобрала под себя ноги. Гюльриз рассмеялась:
- Не умеет еще! Первый раз, когда Шо-Пир мне велел, я тоже так села. Он
смеялся, а я сердилась. Спусти, совсем спусти ноги на землю!
Стесняясь своих движений, Ниссо послушалась старухи. Шо-Пир сам налил
из кувшина молока в чашку Ниссо, и она совсем смутилась: разве достойно
мужчины услуживать ей? И где это вообще видано, чтоб мужчины ели вместе с
женщинами? И какая же эта мужчины власть, если они ведут себя так? И зачем
он сказал это слово о дочке? Значит, они не собираются отдать ее Азиз-хону?
Но ведь они же и не знают, откуда прибежала она, не проговориться бы. Надо
молчать...
А вместе с тем все вокруг возбуждало ее любопытство. Ей хотелось
спрашивать, говорить... Но прежде пусть они ее спросят, и она им не ответит,
и тогда... Она и сама не знала, что будет тогда... Поборов смущение, Ниссо
взялась за еду, сначала робко, затем, подстрекаемая голодом и жадностью, все
смелее. Они заговорили о каких-то своих делах и, казалось, совсем забыли о
ней. Уловив косым взглядом, что никто на нее не смотрит, Ниссо украдкой
опустила кусок сыра под стол, зажала его между коленями: неизвестно еще, что
впереди, может быть, придется бежать, голодать, - надо запасти как можно
больше еды! Но, раскрасневшись, она потупилась, когда Шо-Пир протянул руку
и, взяв утаенный кусок сыра, положил его на стол.
- Ниссо, разве колени твои голоднее твоего рта?
Все рассмеялись, Ниссо рванулась в сторону, но Шо-Пир погладил ее по
голове.
- Ешь, Ниссо, сколько влезет! У нас для тебя еды всегда хватит...
Захочешь есть - только Гюльриз скажи!
И, отвернувшись от Ниссо, снова заговорил с Бахтиором о канале, о
какой-то земле, которую надо распределить, перечислял имена людей, и Ниссо
почувствовала признательность к нему за то, что он не смотрит на ее пылающее
лицо. И, сразу укротив свою жадность, стала следить, как едят другие, чтобы
есть, как они, и не больше их.
Гюльриз сходила в дом за чашкой гороховой похлебки, и все взялись за
деревянные ложки. Бахтиор заговорил о голоде, который грозит селению, и
Ниссо подумала: какой же голод, когда вот на столе так много еды... Правда,
у Азиз-хона еды всегда было больше, но, во-первых, там никто никогда о
голоде и не говорил, а во-вторых, Азиз-хон все съедал сам, и если ел мясо,
то женщинам оставлял только обглоданные кости, а если не жалел лепешек, то
ведь Ниссо знала: все селение приносит ему от своих урожаев зерно.
Черные глаза Ниссо перебегали с предмета на предмет. Она следила за
каждым движением Шо-Пира, почти не обращая внимания ни на Бахтиора, ни на
Гюльриз. Каждую ложку гороховой похлебки, которую он подносил ко рту, она
провожала взглядом.
Шо-Пир долго расспрашивал Бахтиора о предполагаемом урожае тута, потом,
будто невзначай, обратился к Ниссо:
- А там, где ты жила прежде, урожай будет в этом году хороший?
- Плохой, наверно, - просто ответила Ниссо. - Не знаю. Ветры в селении
том.
- А называется как?
- Дуоб, - не успев понять истинного значения вопроса, быстро произнесла
Ниссо.
- Так ты из Дуоба? Это же в третьем ущелье отсюда... Четыре дня пути.
Знаю я это селение, хоть и не был там никогда. Совсем дикое место. Отчего ж
ты ушла оттуда?
- Так, ушла, - опустила глаза Ниссо.
- Отец, мать у тебя там есть?
- Нет.
- И ты прямо из Дуоба сейчас?
- Нет, - помедлив, чуть слышно уронила Ниссо.
Шо-Пир многозначительно взглянул на Бахтиора, тот понимающе кивнул
головой.
- А вернуться хочешь в Дуоб?
- Нет! - Ниссо упорно разглядывала горошину, которую вертела дрожащими
пальцами.
- А туда, откуда сейчас прибежала?
- Нет! Нет!
- Плохое это место?
- Очень плохое, - прошептала Ниссо.
- А что, Бахтиор, - резко отвернулся Шо-Пир от Ниссо, - клевер, который
вдоль канала растет, никто не собирается жать?
Бахтиор что-то ответил, - Ниссо вовсе его не слушала. Она снова
почувствовала признательность к Шо-Пиру, который больше ни о чем ее не
спросил. Быстро доев похлебку, Шо-Пир положил ложку на стол и, вставая,
сказал Бахтиору:
- А теперь идем на канал. Кончать надо работу... А ты, Ниссо, будь
дома, никуда не уходи, так для тебя будет лучше. Хочешь - спи, хочешь - в
саду будь... Гюльриз, ты накорми ее днем получше... Пойдем, Бахтиор!
А когда Ниссо очнулась от своего бездумья, то удивилась, что никого
поблизости нет и никто за нею не наблюдает. Встала, прошлась по саду.
Старуха, занятая хозяйством, по-видимому, не обращала на нее ни малейшего
внимания. Ниссо обогнула сад, подошла с другой его стороны к ограде. Нет,
старуха ее не зовет, не идет за ней. Поняла, что, если ей вздумается
убежать, никто не станет ее задерживать: вон склон горы, осыпь, - безлюдно,
тихо, - иди куда хочешь! Постояла перед оградой, старясь размыслить: как
воспользоваться предоставленной ей свободой? И неожиданно поняла: ей никуда
не хочется убегать.
Медленным шагом обошла ограду и, обогнув весь сад, снова увидела дом.
Взобралась на большой, высящийся над ручьем камень... Ветви тутовника,
склоненные над ним, охватили Ниссо. Она легла на нагретую солнцем
поверхность камня и, раздвинув ветви, стала рассматривать дом.
Странный дом: белый, с выдвинутой над ручьем террасой. Частокол тонких
бревен упирается в воду. Что делается на террасе, отсюда не видно: она
обращена к селению, а селение за домом, далеко внизу, по всему полукружью
узкой долины. Справа и слева долина замкнута скалистыми массивами,
выгибающими широкую реку.
А селение - домов пятьдесят, наверное. Домов сто, наверное! Ниссо не
умеет считать до ста и до пятидесяти, пожалуй, не умеет... Она разглядывает
незнакомое селение. Дома такие же, как там, где Ниссо родилась, в Дуобе,
люди такие же - в сыромятной обуви, в суконных халатах. Во дворах - козы,
куры, овцы, ослы. Ограды каменные, на плоских крышах сушатся абрикосы.
Совсем как в Дуобе... Только больше здесь всего, только красивее здесь все,
долина просторней, река полноводней, сады зеленее и гуще, людей, домов и
животных много... Направо, над самой рекой, у мыса, словно толстый черный
палец, торчит башня крепости, - как страшно было вчера, когда с огнем, дымом
и грохотом рухнула другая башня! Ниссо опять подумала, что там распоряжался
Шо-Пир. Сильный он человек, слушаются его! Но только не страшный, совсем не
страшный... Говорит на языке Ниссо, как и все здесь, а слова произносит не
так, будто чужой... Ну да, конечно, чужой он - русский! Одет, - разве так
одеваются люди! - обувь его, штаны, рубашка не такие, как у людей. Ниссо
хотелось потрогать его одежду, когда утром он разговаривал с ней. Потрогала
бы, если бы не боялась его... "Боишься меня?" - спросил, а сам смеется,
никакой в нем важности нет. Азиз-хон никогда не смеялся, никто в доме
Азиз-хона не смеялся. А если и смеялся, то вот так, как Зогар. Это был
нехороший смех, только злил Ниссо. А Шо-Пир смеется весело, будто ничего
страшного в мире не знает. И Гюльриз смеется, и Бахтиор смеется. Глупые они
все какие-то, смеются, сами не понимают чему. Особенно Шо-Пир: смотрит на
нее и глупости говорит... И это очень обидно, - ну как смотреть такому в
глаза? Никогда не видела Ниссо подобных людей!
Может быть, все-таки убежать? Бежать вовсе не хочется: впервые в жизни
люди так обласкали ее и не требуют от нее ничего. Но это, наверное, обман, и
лучше не верить, лучше все-таки убежать... Ниссо раздумывает - куда. Просто
слушает голос страха, который нет-нет и закричит в ней, так закричит, что
под коленками вдруг заноет. А ведь если бы побежала, старуха, наверное,
погналась бы за ней: вот она ходит по двору, изредка поглядывает сюда. Но
что старуха? Разве угнаться ей? Вот сейчас, пока нет Шо-Пира и Бахтиора,
побежать, прямо вдоль ручья, на ту голую гору. Пусть закричит Гюльриз, Ниссо
побежит быстрее ее старушечьего крика...
Ниссо сидит на камне, поджав ноги, думает о бегстве. Но не бежит: тепло
ей, ветерок ленив, хорошо ей, спокойно. И работы с нее Гюльриз никакой не
требует, - где это видано, чтобы старуха работала, а молодая, поджав ноги.
Без дела на камне сидела? Вот Гюльриз ломает сухую колючку, несет ее в дом.
Вот выходит из дома, режет яблоки, взобралась по приставной лесенке на
крышу, положила яблоки на солнцепеке. Сама спустилась, вошла в каменную
кладовку, вынесла маслобойку и два кувшина, наверное с молоком. Начинает
новую работу... Ниссо немножко стыдно: сидит без дела. Но очень уж ей хорошо
на камне. Тепло. Клонит ко сну. Ниссо не борется с ленью. Протягивается на
камне ничком. Солнце греет заживающие ссадины. Ниссо опускает голову на
руки. Говорит себе, что ей надо убежать, но закрывает глаза, подставив левую
щеку горячему солнцу. Не спит, дремлет, но дремота властительней сна. Может
быть, Ниссо спит, но ей все слышится тонкий и веселый шум ручья, бегущего
между камнями. Ветер легкими порывами проходит по щеке Ниссо. Легко и
приятно шелестит листва, чуть-чуть ее задевая. Где-то в безмерных
пространствах сладкой дремоты тают далекие голоса людей, перекликающихся
внизу; стучит маслобойка Гюльриз... И все это - шум, шум баюкающий, сладкий,
спокойный, - лежать бы так и лежать всю жизнь!..
Никогда прежде не ощущала Ниссо такого спокойствия.
В тот утренний час, когда Гюльриз вошла в комнату к проснувшейся Ниссо,
Кендыри сидел на ковре в запертой лавке, перед зевающим купцом. Между ними
лежали мокрые лохмотья одежды Ниссо, и Кендыри рассказывал о ночном
посещении дома Шо-Пира.
Лучи пробивались в щели между створками резных дверей и освещали
загромоздившие лавку товары. Здесь было все, что только могло понадобиться
жителю гор: расписные ленчики седел и чугунные котлы; анилиновые краски в
банках с красивыми яркими этикетками; румяна и розовая каменная соль; чалмы
и иголки; кривые ножи и круглые зеркальца; сухой горох в джутовых мешках и
таинственные тибетские снадобья от всех болезней; зеленый подъязычный табак
и разноцветная пряжа; медные браслеты и глиняная посуда; узкогорлые кувшины,
душистые мази, бобы и просо - все, что можно привезти на ослах с базаров и
из колониальных магазинов любого захолустья Востока. Все эти товары,
покрытые пылью, лежалые и, видимо, слишком дорогие для жителей Сиатанга, не
обновлялись годами. И всякий раз, глядя на них, купец думал о наступающей
бедности и предавался воспоминаниям об ушедших годах доходной торговли с
мирами и сеидами. Жители Сиатанга изредка обращались к купцу только за
съестными продуктами да за опиумом, распространяемым Мирзо-Хуром и
составляющим главный источник его доходов. Торговля его обычно была меновой,
и только осенью задняя половина лавки наполнялась зерном и мукой, которыми
он сразу после сбора урожая взимал с ущельцев накопленные за год долги.
Поздней осенью он отвозил часть муки и зерна в Яхбар и, хорошо нажившись,
привозил в лавку новый запас опиума и все то, без чего не могли обойтись
ущельцы. Другую часть зерна он хранил в своей лавке до самой весны, чтобы
под огромные проценты ссужать его ущельцам при наступлении поры посевов.
Зимою, когда в селении, отрезанном снегами от всего мира, наступало худое
время, ущельцы приходили к купцу за чашкой пшеницы, за мерой гороху, за
несколькими пиалами сухих тутовых ягод. Прежде Мирзо-Хур никому ни в чем не
отказывал, зная, что только смерть может скрыть от него должника. Но теперь
настало иное время. Мало ли что может случиться! И все чаще приветливые
разговоры Мирзо-Хура кончались для смиренных и почтительных ущельцев ничем:
у них не было ни серебряных денег, ни хорошей одежды, ни крепкой посуды,
какую они могли бы оставить в залог. А урожай, неизменно обещаемый ими, уже
не был надежной меновой ценностью с тех пор, как в селении появился Шо-Пир.
Слушая Кендыри, Мирзо-Хур пощипывал жесткую бороду и, хмуря
угольно-черные брови, глядел на него исподлобья.
- Лучше нее, - говорил Кендыри, - я видел только девчонку в Хорасане, -
это было другое полукружие моей жизни. Я тогда был одет, как ференги, и ехал
верхом в Нишапур к брату местного халифа. Хорошее путешествие было! На ночь
остановился в каком-то саду. Выходит женщина, выносит мне вареные яйца,
кислое молоко, а я посмотрел на нее, - знаешь, в гареме Властительного
Повелителя нет таких женщин! Она думает: я - ференги, а я ей говорю: "Поедем
со мной, женой моей будешь, в Мешхеде у меня дом..." Она ехать не хочет.
Ночью я схватил ее, связал, положил на лошадь, три камня отъехал...
Кендыри долго рассказывал историю одного из своих похождений,
похвалялся красотой хорасанки.
- Но и эта неплоха тоже. Как первая луна, самый расцвет!
- Почему же ты в дом не вошел?
Кендыри оскалил зубы в сдержанной, холодной улыбке.
- Дело, Мирзо, прежде всего! И разве хороший охотник стреляет издалека?
Ничего, время придет, купец. Открой дверь немножко, платье ее посмотрим.
Мирзо-Хур толчком руки приоткрыл створку двери. Яркий луч упал на
платье Ниссо. Разложив мокрые лохмотья на коленях, купец вглядывался в узор
ткани.
- Это не Яхбар. Это Гармит, - сказал он. - Ты помнишь купца Мухибулло?
Кендыри прищурил глаза.
- За четвертым перевалом живет? У озера?
- Так... Еще, может быть, у Самандар-бека куплено. Но этот узор -
гармитский. Его делают только в трех селениях: в Дильшурча, в Наубадане, в
Джуме. Там есть старухи, знают его. В других селениях забыли. Видишь:
красная нитка с желтой, знаешь этот цветок? Хаспрох это, вырос из пота
Аллаха. Зеленый этот - поперек ему - что? Э, Кендыри, скажи - что? Все-таки
ты меньше моего знаешь. Никто не знает теперь, я знаю. "Об-и-себзи" -
называется этот цветок. Когда зеленое знамя ислама вступило в Лиловые Горы,
шел кровавый дождь. Это воины доблестных войск Властительного Повелителя
истребляли неверных огнепоклонников. Слава Аллаху, всех истребили, и там,
где прошло зеленое знамя ислама, вырос зеленый цветок, - старые люди так
говорят. Этот цветок здесь и вышит. Надо узнать, кто из Яхбара в эти три
селения ходил. А вот это, смотри...
Тяжелый и неповоротливый Мирзо-Хур, сидя на ковре, толстыми, мясистыми
пальцами, украшенными перстнями, перебирал одежду Ниссо. Увлекшись, он
разобрал значение всего узора, обрамлявшего ворот рубахи. Потом небрежно
швырнул ее на колени Кендыри.
- Пойдешь?
- Пойду, - сухо ответил Кендыри.
- К риссалядару сначала зайди и к Арбоб-Касиму... К Азиз-хону еще
зайди, у них уши острые, может быть, раньше узнаешь, у кого пропала жена или
дочь... А если не узнаешь, благословен путь твой да будет, иди в Гармит...
Если найдешь хозяина, скажи: дорогое дело, но можно вернуть...
- Ты объяснишь тут: я за товарами ушел, - думая о чем-то своем,
небрежно произнес Кендыри и, свернув платье Ниссо, вышел через заднюю дверь
во двор.
Мирзо-Хур, отвалив большой камень, распахнул настежь двери лавки. На
траве под тутовым деревом сидел оборванный Карашир. И хотя это только
Карашир, не имеющий даже халата, самый бедный, самый захудалый факир, на
котором едва держатся лохмотья грязной овчины, Мирзо-Хур с удовлетворением
щурит глаза. Ведь Карашир - один из тех, кто работает у Шо-Пира, кто признал
новую власть, повинуется каждому слову Бахтиора, нарушает Установленное,
открыто смеется над ним... И если Карашир сидит здесь, покорный и
терпеливый, значит, он, вероятно, долго боролся с собой и сюда его привела
та слабость, о которой хорошо знает Мирзо-Хур... Конечно, он пришел просить
опиума, и надо ему опиум дать, но сначала поговорить с ним...
Мирзо-Хур располагается посередине ковра. Карашир молчит. Может быть,
он стесняется заговорить первым? А вдруг так и не заговорит, встанет, уйдет?
- Наверно, ко мне пришел, сел под моим деревом? - не вытерпев, с
нарочитой грубостью говорит Мирзо-Хур.
- К тебе. Говорить пришел! - не вставая и не кланяясь, отвечает
Карашир, сидя в той же позе, что и купец.
- Значит, благодарение покровителю, хочешь сказать: привет?
- Пожалуй, скажу: привет! - отвечает Карашир. - У тебя мука есть?
"Ах, вот как, мука! - с неудовольствием думает купец. - Это дело
другое: значит, от советской власти муки не дождался. Но от меня тоже ее не
получит!"
Опыт, однако, приучил Мирзо-Хура никогда не отвечать на вопрос сразу.
И, испытующе взглянув на насупленного Карашира, он медленно произносит:
- Зачем через траву кричать будем? Иди, Карашир, сюда. Есть ковер для
хорошего разговора.
Карашир неохотно проходит в лавку, - присаживается на ковер, глядит на
купца надменно и важно, будто проситель не он, а купец. Молчит.
- Та-ак! - произносит купец. - Теперь разговор пойдет. Скажи, Карашир,
зачем тебе мука?
- Урожай еще не собрал. Детей много. Полмешка муки дашь, соберу урожай,
целый мешок отдам.
- Мешок мало. Три мешка дашь! - грубо заявляет купец и насмешливо
глядит Караширу в глаза.
Карашир, уязвленный этим взглядом, отвечает резко:
- Большую пользу себе делаешь? Корыстно нажиться хочешь?
- Всякий человек делает себе пользу.
- Не всякий бесчестно.
- Честность - для маленьких. Для больших - нет честности, иначе не было
бы больших людей.
- Есть и большие люди четные! - Карашир вызывающе глядит на Мирзо-Хура.
- Кто же? - купец язвителен, потому что уже знает ответ. - может быть,
ты хочешь сказать - твой Шо-Пир?
- Что можешь плохого сказать о нем?
- Ха! Чужую женщину взял!
- Не знаю я этого... - Карашир небрежно почесывает голое колено.
Самоуверенность Карашира раздражает купца. Не такого он ждал разговора.
- Ты не знаешь - все знают. Тебя заставляет работать, обещает блага в
этом мире... Когда ты есть захотел, ко мне посылает: "Бери у купца"!
Честность!
- Неправда, - горячо возражает Карашир. - Он не посылал меня.
- Ха! Сам пришел! Против воли его?
- Против воли, вот, да! Против него я пошел! Мой стыд, а не его стыд.
Жуликом он называет тебя, не велит ходить к жулику. Жулик ты и есть. Дурак
я, пошел к тебе. Не надо от тебя ничего. Дела с тобой не имею.
Карашир порывисто встает, запахивает полы овчины, обдав купца ее кислым
запахом.
Мирзо-Хур сразу соображает, что даже с таким должником расставаться в
ссоре не следует, быстро протягивает руку к полке, загроможденной мелочными
товарами, выхватывает маленький мешочек, молча сует его Караширу. В лице
Карашира растерянность и борьба.
- Нет! Не возьму, не надо, - сдавленным голосом произносит он,
соскакивает с порога и торопливо идет от дома.
- Погоди, Карашир! - кричит ему вслед купец. - Сегодня голодной будет
душа, курить захочешь, ко мне придешь - не дам. Сейчас бери... На!
И брошенный купцом мешочек падает у ног Карашира. Карашир хочет гордо
переступить его, но останавливается. Медлит раздумывая, быстро наклоняется,
сует опиум за пазуху, прижимает его к груди и, виновато ссутулившись,
уходит, не смея обернуться к победившему его и на этот раз Мирзо-Хуру. А
купец с торжествующей насмешливостью глядит ему вслед, стараясь унять только
теперь закипающий гнев...
За большими камнями, там, где тропа свернула к селению, Карашира
ожидает жена. Эту еще молодую, но уже иссохшую женщину недаром зовут Рыбья
Кость. Дав ей такое прозвище, ущельцы давно позабыли ее настоящее имя, и
даже сама Рыбья Кость редко вспоминает о нем. Удлиненное желтое лицо ее
всегда печально и строго, темные узкие глаза смотрят вниз, - кажется, за всю
свою жизнь она не взглянула на светлое небо. Ожидая Карашира, она сидит на
камне так неподвижно, будто сама превратилась в камень. Черные растрепанные
волосы спадают на плечи, засаленная длинная рубаха неряшливо распахнута.
Скрещенные на коленях пальцы обтянуты такой сухой и сморщенной коричневой
кожей, что, кажется, невозможно их разогнуть. Дома ее ждут восемь голодных,
полуголых детей, и она думает, что правильно сделала, заставив Карашира
пойти к купцу. Если он даст муки, - все равно, что будет потом, - только бы
он дал Караширу муки! - она сделает сегодня лепешки и сама тоже будет их
есть. Она не ела их уже целый год и, представляя себе их вкус, с нетерпением
глядит на тот камень, из-за которого сейчас с мешком на плечах появится
Карашир.
Но когда Карашир, наконец, появляется и Рыбья Кость хорошо видит, что
за плечами его нет ничего, ее худое лицо искажает злоба. Карашир робко
приближается зажимая мешочек с опиумом под мышкой: вот, в руках у него нет
ничего, вообще нет ничего, пусть она даже распахнет овчину... Такая неудача,
такая судьба: купец на дал ему ничего!
- Почему не дал? - вставая, хрипло спрашивает Рыбья Кость. - Что
сказал?
- Сказал: кончилась для таких, как я. Ничего, зато я колючие слова
бросил ему в лицо, пусть подавится ими.
Рыбья Кость молчит. Ведь вкус лепешки был уже у нее во рту... Нет,
что-нибудь тут не так, дурак ее муж, и, конечно, он виноват.
- Просить не умеешь! - выкрикивает она. - Гордый очень! У русского
гордости научился, веришь ему, а голодным надо забыть о гордости: хочешь,
чтоб дети твои передохли? Иди домой, без тебя обойдусь, о себе только
думаешь! Будет у нас мука!
И Карашир покорно побрел домой. Он думал о мешочке, зажатом у него под
мышкой. Он думал о том, что, все в мире презрев, он будет видеть страну
счастливых и жить в ней и весело болтать с женщинами, совсем не такими, как
эта злая его жена!
А Рыбья Кость почти бегом миновала деревья на берегу перед лавкой купца
и смело переступила порог.
Купец встретил ее таким холодным, презрительным взглядом, что смелость
ее сразу исчезла. Она опустилась перед ним на ковер, скрестив босые ноги.
- Ну? Теперь ты пришла?
- Пришла!... Муж мой дурак, не умеет просить... Теперь я иначе прошу,
почтенный. Ты давал нам раньше, теперь тоже дай, много не надо, дай, сколько
велит тебе бог; сама буду я отдавать...
- Сейчас можешь отдать? - нагло глядя на нее, процедил купец.
- Что есть у меня сейчас?.. Ио, Али!.. Ты говоришь...
Но испуг Рыбьей Кости сразу же сменяется равнодушной покорностью.
- Пусть так... Твоя воля, достойный.
Она думает о детях и о вкусе горячих лепешек. Купец пренебрежительно
оглядывает ее, лениво встает, проходит в темную половину лавки, выносит на
свет две черствые гороховые лепешки, швыряет их под ноги женщине.
- Рыбья Кость!.. Обглоданные кости нужны собакам!.. Но я добр, иди! За
эти прекрасные лепешки тебе ничего отдавать не придется.
И Рыбья Кость, пряча свое унижение, опустив голову так, что разметанные
волосы упали на лицо, неуверенным шагом побрела прочь от лавки. Лепешки она
прижала к груди и совсем не думала о еде.
Когда она скрылась за поворотом тропы, Кендыри. Собравшийся в дальний
путь, вышел из глубины лавки.
- Ты видел? - усмехнулся купец. - Я не слишком жадный...
- Видел, - безразлично произнес Кендыри и даже не улыбнулся. - Я бы
подавился такой... Видишь, на бедность свою жалуешься ты напрасно: свой
товар отдаешь не только в кредит!
- Конечно. И пусть этот нищий дурак не думает, что, назвав меня
жуликом, он дал мне это слово в подарок... Я тоже не бываю в долгу!..
Проведя день в безделье, Ниссо к вечеру забрела в дальний уголок сада
и, ползая на корточках под тутовыми деревьями, собирала сладкие ягоды. Они
были темно-синими, крупными, - таких крупных ягод в своем Дуобе Ниссо не
видела никогда. В саду Азиз-хона было несколько деревьев с очень крупными
ягодами, но те были желто-розовыми, и их приторно-пряный вкус не нравился
Ниссо.
Ниссо потеряла поясок. Длинная рубаха старой Гюльриз волочилась по
земле, мешала. Ниссо постепенно наполнила подол ягодами. Она и сама не
знала, зачем и для кого собирает их.
Ей никуда не хотелось уходить из этого с ада. Она чувствовала себя в
безопасности, не думала ни о чем.
Услышав мужские голоса, Ниссо притаилась за деревом. Она не испугалась
и поняла, что, в сущности, весь день дожидалась возвращения этого
непонятного, доброго человека. Вот он идет, мелькая за стволами деревьев, с
тем, другим, которого зовут Бахтиор. Этот другой ничем не примечателен, - он
такой же, как все; но русский...
Не выдавая своего присутствия, Ниссо прислушивается к спокойному голосу
русского. Он сейчас не смеется, он говорит что-то очень решительно, как
хозяин; Ниссо напрасно старается расслышать слова: сад шелестит листвою.
Пойти в дом? Девушке хочется поближе посмотреть на Шо-Пира, но все-таки
лучше остаться здесь.
Ниссо садится на траву, лениво пересыпает собранные ягоды и, выбирая
самые крупные, не спеша отправляет их в рот. По всему саду раздается громкий
зов:
- Ниссо! Э-гей, Нис-со!.. Вздрогнув, Ниссо отпускает подол рубахи,
ягоды сыплются на траву.
- Ниссо! Ну, иди же сюда. Где ты запряталась?
Надо, пожалуй, послушаться. Ниссо выходит навстречу Шо-Пиру.
Столкнувшись с нею лицом к лицу, Шо-Пир начинает неистово хохотать.
Ниссо обижена, озадачена - стоит, смущенно улыбаясь.
- Хороша! Ох, хороша! - подбоченясь, выговаривает, наконец, Шо-Пир. -
Да ты посмотрела бы на себя! Ну просто чучело чучелом!
Тут только Ниссо замечает, что рубаха сверху донизу измазана, что к
липким рукам пристала земля.
Она хочет убежать, но Шо-Пир удерживает ее.
- Идем, идем... Обедать пора.
И, шутливо подтолкнув Ниссо, ведет ее к дому.
- Что ты ей, нана, такую рубаху дала? Она в ней, как цыпленок в мешке?
- А не знаю, не знаю! - отвечает Гюльриз - Весь день не подходила ко
мне... Ниссо, повернись! Где поясок? Потеряла? Какая богатая! Возьми теперь
вот эту веревочку.
- Да пойди ты, умойся скорее! - говорит Шо-Пир, и Ниссо послушно уходит
за угол дома.
Бахтиор выносит из кладовки пиалку с абрикосовой халвой. Шо-Пир знает:
Гюльриз сварила эту халву, чтобы приберечь ее к Весеннему празднику.
- Что, Бахтиор, весна на душе у тебя?.. измазалась, как теленок,
невеста твоя! Мыться ее послал.
Бахтиор, вспыхнув, прикрывает халву ладонью, но не относить же ее
обратно в кладовку!
- Ты шутишь, Шо-Пир, кто-нибудь услышит, знаешь, какие разговоры
пойдут? Председатель сельсовета чужих женщин крадет?
- Какая она женщина? Не успела еще на мир взглянуть, - женщина!
Девчонка она!
- Нет, не девчонка! - убежденно произносит Бахтиор. - Женщина.
- И тебе, наверное, нравится? Скажи, нравится?
Бахтиор никак не может привыкнуть к подтруниваниям Шо-Пира. Он готов
обидеться, а Шо-Пир продолжает:
- Впрочем, почему бы в самом деле тебе на ней не жениться? Конечно, по
советскому закону. Ведь можешь же ты ей понравиться? Тебе двадцать есть
уже?.. Ну вот, поживет она у нас, подрастет, полюбит тебя. Ростом не вышел
немножко, но зато весел и горяч - во!
Гюльриз выносит из дома котелок гороховой каши.
- Сходи за девчонкой, нана! Что она там пропала?
- Рубашку стирает... - возвращаясь, говорит старуха. - Очень ты ее,
Шо-Пир, напугал.
- Да подай ей другую. Вот, в самом деле, коза!..
Когда, наконец, чистую, свежую, с заплетенными косами Ниссо удалось
усадить за стол, она заявила, что наелась тутовых ягод. Шо-Пир не стал ее
уговаривать, но велел ей сидеть со всеми.
Он с удовлетворением заметил, что Ниссо меньше дичится, на вопросы
отвечает охотно, хотя и сдержанно. Она уже запросто разговаривала с
Бахтиором, и он смущался, удивляя этим Шо-Пира, который не узнавал в нем
всегда решительного и смелого парня.
Энергия и решительность Бахтиора понравились Шо-Пиру в первый же год
его жизни в Сиатанге. Именно потому он и добился избрания Бахтиора
председателем сельсовета; самого же Шо-Пира ущельцы выбрали заместителем
Бахтиора.
В то время Бахтиору было семнадцать лет. Придя в Сиатанг, Шо-Пир, -
тогда еще вовсе не Шо-Пир, а демобилизованный красноармеец Александр
Медведев, - зашел в первый же тутовый сад, где вода канала была почище, а
деревья давали плотную тень. Снял с себя вещевой мешок, двустволку и
брезентовую полевую сумку, скинул с плеч скатку шинели и устало опустился на
сочную траву.
Жители селения рассаживались вокруг на траве, беззастенчиво разглядывая
незнакомца, с наивным любопытством ощупывали его одежду и вещи... И завели
между собой ожесточенный спор. Особенно горячился молодой черноглазый
ущелец, - он чуть не подрался с двумя стариками, утверждавшими что-то
повелительным, гневным тоном. Александр еще не понимал тогда языка
сиатангцев, но позже узнал: старики хотели его прогнать, и только факирская
молодежь, решив, что пришел он "от настоящей советской власти", отстояла
его.
Парнем, возглавившим местную молодежь, был Бахтиор. С того самого дня и
подружился с ним Шо-Пир. Скоро Александру стало известно, что советская
власть в Сиатанге только называется советской властью, ибо она в руках
двоюродного брата Бобо-Калона, самого богатого, фанатичного и знатного сеида
- старого Сафар-Али-Иззет-бека. Когда в Волости установилась советская
власть, этот старик, выполняя тайное решение сиатангской знати, запретил
факирам ходить по тропе, сообщавшей Сиатанг с Волостью: "Кто ступит на тропу
неверных, погибнет для жизни в раю, прокляты будут и он, и дом его, и жена,
и дети, и весь род его!" Но на случай прихода из Волости кого-либо от новой
власти Сафар-Али-Иззет-бек себя самого именовал "председателем ревкома,
сельсовета и большевиков". Сеиды и миры, изредка посещавшие Волость, не
забывали, зайдя в волисполком, произнести славословие "избраннику своего
народа, делающему жизнь бедных людей Сиатанга благословенной".
Волость в ту пору еще не могла направлять своих людей в глухие, почти
не исследованные ущелья Высоких Гор, - пришельцам из Сиатанга верили на
слово и удовлетворялись сведениями о том, что там, как и везде, установилась
советская власть и что никто на нее не посягает. По существу же,
Сафар-Али-Иззет-бек - ставленник сеидов и миров - ничем не отличался от
хана, ибо весь Сиатанг задыхался под его властью, не смея и думать о каких
бы то ни было переменах. И если все же до сиатангских факиров и доходили
слухи о том, что в Волости существует иная - подлинная советская власть,
которую держат в своих руках не миры и не сеиды, а сами факиры, то кто здесь
в те годы осмелился бы вслух заговорить об этом?!
Тем смелее было выступление Бахтиора, заявившего всем, что русского
человека он приютит у себя.
Александр узнал от Бахтиора, как тяжко живется здешним людям под
самозванной властью Сафар-Али-Иззет-бека. И сразу же почувствовал, что не
напрасно, - только от Волости, все в глубь да в глубь диких ущелий, - шел он
добрый десяток дней, ночуя в разных селениях, приглядываясь к людям, ища
среди них человека, который бы приглянулся сразу, вот так, как этот,
искренний в горячих своих речах, страстно жаждущий правды юноша Бахтиор. Да,
Александру сказали в Волости, что трудновато будет ему без опыта и в таком
отдалении одному. Но что, мол, пусть опирается на пролетарское свое чутье да
на совесть; и что уже ежели так твердо решил он жить в "глубинке" и
применить свои силы на пользу революции, то вот пусть идет вниз, по Большой
Реке: "Никого мы пока не посылали туда, не хватает у нас грамотных людей,
места-то, видишь ли, недостигнутые какие!.. Ну а ты все же, когда
обоснуешься где-нибудь там, используй всякую оказию, письма шли, будем тебе
по мере возможности помогать, в памяти тебя держать будем!"
...Тутовый сад у ручья, где ныне стоит дом Бахтиора, принадлежал тогда
одному из миров, позже ушедших в Яхбар. Жалким обиталищем Бахтиора и его
матери была задымленная пещера в скалах. Прожив несколько дней в этой
пещере, Александр Медведев решил остаться в Сиатанге.
Так кончились его долгие блуждания в Высоких Горах. И действительно,
что было делать ему? Возвращаться в родной городок? Других ждали семьи:
родители, жены, дети. Медведева никто нигде не ждал... Возвращаться туда,
где все было разрушено и уничтожено? В тот белостенный маленький городок,
среди бескрайних полей пушистого хлопка, откуда Санька еще с детства смотрел
на столпотворение бледных, как привидения, загадочных снежных пиков... Никто
не знал ни названий их, ни как далеко они простираются... Жители городка
рассказывали самые фантастические истории: будто там, среди ледяных высот,
живет племя страшных бородатых карликов, роющих себе пещеры во льду. Эти
карлики не знают ни трав, ни деревьев, ни обыкновенной человеческой пищи;
едят они только особенные, синие камни, а добывают их, перелетая с вершины
на вершину на крыльях огромных птиц. Многие жители городка клялись и
божились, что видели этих птиц и что однажды, в сильную бурю, одна из таких
птиц упала на главной улице и со сломанного ее крыла соскочил испуганный
карлик, пробежал по всей улице и скрылся под листьями хлопка за городком.
Когда Санька вырос, он понял, что все это сказки, но тайна гор
оставалась тайной. Мечта проникнуть в эти заповедные горы не исчезала, а
укреплялась. Конечно, может быть, не случись того страшного в его жизни, что
произошло позже, когда он стал уже взрослым человеком и обзавелся семьей,
он, вероятно, никогда так и не попал бы в эти горы, разъезжал бы на своем
грузовике по пыльным, знойным дорогам. Но жизнь повернулась иначе, и детская
мечта стала явью: вместе с красноармейским отрядом Александр оказался в этих
горах, боролся здесь с басмачами два с лишним года. Когда отряд в первый раз
из пустынных Восточных Долин, где встречаются лишь кочевники, проник к
Большой Реке и попал в одно из похожих на Сиатанг селений, Александр впервые
увидел вот таких - простых, но необыкновенных людей. И показалось ему тогда,
что, как в детской сказке, из горной пещеры выйдет какой-нибудь карлик,
сядет на птицу и полетит, - кстати, исполинских грифов Санька в Восточных
Долинах навидался немало.
Комиссар Караваев всегда утверждал, что красноармейцы должны дружить с
местным населением.
- Вот дело для нас, товарищи, - говаривал он, - остаться здесь да
помочь этим людям узнать настоящую жизнь. Поняли бы они, что такое советская
жизнь, что такое наш брат красноармеец. Поглядите, козлиными рогами землю
пашут! А как поют! Веселой музыка, верно, никогда не слыхали. Сплясать бы им
по-нашему, под тальянку!
- Известно, дикари! - умозаключил повар отряда Климов, старый солдат,
воевавший еще в русско-японскую, единственный в отряде вольнонаемный и
пожилой человек.
- Не дикари, - пресекал его рассуждения комиссар, - своя в них есть
культура, хоть и забиты они. Посмотрите, сколько в каждом из них гордости и
достоинства! Я вот вас частенько ругаю за грубость. Ведь вам у них поучиться
можно бы обращению... Кто слышал, чтоб они выражались так, как, ну,
например, иной раз, Климов, "отрекомендуешься" ты?..
- Товарищ военком, я же ведь старослужащий! - под обычный общий смех
оправдывался Климов.
- Так вот и будь примером другим, - строго продолжал Караваев, - да
знай, что культура у народа здешнего древняя, добрая, а только, как траву
свиньи, потоптали ханы ее. А теперь народ поднимается, только показать надо
ему, как жить. Разве нет у здешних людей желания жить получше? Бедность
одолевает их, горы мешают им хорошую жизнь увидеть! Разве и среди нас не
бывает отсталых? Вон Медведев - парень боевой, лучший красноармеец,
шоферскую специальность имеет, а в комсомол до сих пор не вступил, и поздно
уже ему теперь быть в комсомоле.
- Не все понимал я до службы в отряде, - обижался Санька.
- А теперь понимаешь? - улыбаясь, спрашивал комиссар.
- Теперь - конечно! В партию сразу вступить не задумался бы, если б...
- Если б что? - живо подхватывал комиссар. - Вступай. Рекомендацию тебе
дам.
- Не об этом я... - смущался Санька Медведев. - А что я сделал для
партии?
И начинался большой разговор о боевых заслугах Медведева, о бесстрашии
его, о тех случаях, когда он один, с кромки ущелья, поддерживал наступление
отряда стрелков и когда, вынеся из-под огня раненого товарища, долго плыл с
ним по горной реке... и когда... Многое припоминал ему тут комиссар и
говорил о том, что главная заслуга - его участие в борьбе с басмачами.
На все это Медведев обычно отвечал скромно и просто:
- Это - по службе.
- Разве служба не дело?
- Нет, надо такое, где я бы сам... от души... чтобы душою за новую
жизнь поборолся я. Стрелять-то всякий умеет.
И даже комиссар не мог разобраться в том, что именно значит это: "от
души". И говорил ему, что разве весь отряд воюет не от души? И что разве
действия отряда не помогут здешним людям стать советскими?
- Когда еще станут! - упрямо отвечал Медведев. - Кабы я сам их сделал
советскими!
- Ишь, чего захотел, а ты сделай, останься среди них, да и сделай! -
шутил комиссар, и все смеялись, а Санька Медведев умолкал, задумывался.
...Комиссар Караваев был убит в бою... Ну, а дальше...
Шо-Пир сидит за столом, вспоминает, что было дальше, а Ниссо и Бахтиор
уже совсем непринужденно ведут беседу.
- Разве ты не можешь купить себе жену, Бахтиор? - как взрослая
спрашивает Ниссо.
Бахтиор силится объяснить, что председателю сельсовета нельзя покупать
жен, а даром кто захочет отдать ему свою дочь? И нет таких здесь, что
понравились бы ему. Для них он просто хороший товарищ, с некоторыми даже
дружит тайком от мужей и родителей: "потому что все они - порабощенная
мужьями и отцами женская часть населения, которую нужно освободить от
гнета"...
Эти слова отвлекают Шо-Пира от его дум. Бахтиор крутит ложкой в
гороховой каше.
- Ты бы, нана, подшила ей рубаху, - говорит Шо-Пир, - посмотри:
запуталась в ней Ниссо.
- А где мое платье? - живо спрашивает Ниссо. - его еще можно зашить.
Ты, нана, не нашла его?
- Не нашла. Дэв унес, - простодушно отвечает старуха. - Наверно, твой
дэв, Ниссо. Не знаю, хороший или худой.
- А ты уверена, Гюльриз, - спрашивает Шо-Пир, - что у Ниссо есть свой
дэв? Может быть, просто платье упало в ручей?
- У каждого человека свой дэв есть! - убежденно отвечает Гюльриз. - Нет
человека без дэва. А в ручей не могло упасть платье: на террасе оставила...
- Темно было, - вставляет Бахтиор. - Может быть, из воды Аштар-и-Калон
вылезал? И теперь в желудке Аштар-и-Калона оно?
- А может быть, и еще что-нибудь похуже, - иронизирует Шо-Пир.
- Хуже желудка Аштар-и-Калона ничего быть не может! - восклицает
Бахтиор.
- А откуда ты знаешь? - щурит глаза Шо-Пир.
- Знаю я.
- А ты видел его?
- Не видел. Если увижу - умру. Кто увидит его - умирает.
- Выдумки все это, Бахтиор, Не стыдно тебе? Председатель сельсовета, в
драконов веришь... Никто не видел их, и никто от них не умирал...
- Правду я говорю, - хмурится Бахтиор, - кто увидит его - умирает.
- Неправда это! - вырвалось у Ниссо. И звонкий возглас ее так
решителен, что все с удивлением поворачиваются к ней.
- А ты откуда знаешь? - поддевает ее Шо-Пир. - А вот я думаю, драконы
все-таки есть, и Бахтиор прав. Что скажешь?
- Я... я... Все может быть... Только... - Ниссо с сомнением глядит
Шо-Пиру в лицо. - Нет, тебе лучше знать.
- Почему, Ниссо, мне лучше знать?
- Потому что... потому что пиры лучше знают...
- А при чем же тут пиры? Разве я пир?
- Ты? Ты больше. Ты - Шо-Пир, повелитель пиров.
Шо-Пир расхохотался так, что Ниссо смутилась: "Что глупого я сказала?"
- Ты слышал, Бахтиор? - сквозь смех говорит Шо-Пир. - Вот, выходит, за
кого она меня принимает... Это надо ж придумать! Словом, я вроде бога... Все
дело, оказывается в моей кличке. Сдержав, наконец, смех, Шо-Пир умолкает в
раздумье. Все ждут, что он скажет.
- Тебе пока этого, Ниссо, не понять, - тихо обращается Шо-Пир к Ниссо.
- Да и никто здесь, пожалуй, не понял бы. Но вот есть такое русское слово:
машина.
Он молчит и опять размышляет о прошлой своей жизни и о прежней, никому
здесь не понятной профессии... Сколько профессий он приобрел в Высоких
Горах! Научился делать двери, кровати, столы, табуретки, стараясь доказать
сиатангцам, что пользоваться ими удобно. Выстроил этот дом, не похожий на
другие, сообразил, как надо закладывать шпуры - взрывать порохом гранитные
скалы; не хуже любого караванщика может вьючить лошадь, верблюда, осла;
научился шить белье из грубой домотканой материи, накладывать лубок на
сломанную руку и изготовлять мази для лечения трахомы; находить путь по
звездам и переменчивым отблескам льдов, свисающих с остроконечных вершин;
делать бумагу из тутового корня; сооружать плоты из надутых козьих шкур...
Кто он теперь? Плотник и врач, портной и охотник... И еще ирригатор. И еще
агроном... Да, не меньше десятка профессий заменили ему здесь ту одну, какою
он жил, пока добровольно не пошел в Красную Армию после т о г о...
При этом воспоминании лицо Шо-Пира передернулось, спокойные глаза
зажглись болью и ненавистью... Но говорить об этом нельзя и лучше даже не
думать! А вот о Красной Армии можно. Бахтиор и Гюльриз, кажется, уже знают
все о скитаниях отряда по горам в погоне за басмачами. Это понятно им. Но
как сделать понятным для Ниссо, для Гюльриз, даже для Бахтиора рассказ о
культуре больших городов, о технике двадцатого века, о железных и шоссейных
дорогах? Как разъяснить им свою профессию, если не только автомобиля, но и
вообще какого бы то ни было колеса никто никогда здесь не видел, и если нет
здесь ни одной дороги, кроме узких головокружительных тропинок, что вьются
над отвесами пропастей?
И, взглянув в глаза Ниссо, внимательные, выжидающие, Шо-Пир полушутя
стал объяснять ей, что там, в далеких и не похожих на эти краях, он был
погонщиком огненных лошадей, - нет у них ни кожи, ни мяса, ни головы, ни
ума, ни сердца, - они сделаны руками людей из железа и дерева, люди ездят на
них там, за пределами гор. Есть места такие широкие, что хоть месяц не
останавливайся, - ни одной горы не увидишь.
- Есть русское слово "шофер", - добавил Шо-Пир после долгого рассказа.
- Называется так человек, который ездит на... ну, скажем, на железных
лошадях и управляет ими. Когда я пришел сюда, - Бахтиор, ты помнишь,
наверное, - Бобо-Калон спросил меня: "Кто ты?" Я ответил "Шофер". А
попробуй, Ниссо, на своем языке сказать "фф". Не выходит, вот видишь? На
твоем языке это выйдет: "пп", вот меня и назвали "Шо-Пир", а я не виноват,
что на вашем языке это значит: повелитель пиров... У нас и слова такого
нет... Смеялись надо мною, Ниссо, потому меня так и назвали... А теперь
скажи, поняла ты, что такое "машина"?
- Не знаю, Шо-Пир, - задумчиво произнесла Ниссо. - Может быть, поняла.
- Ну, когда-нибудь ты поймешь это лучше, сегодня покажу тебе машину
одну... А сейчас объясни, почему ты сказала "неправда", когда Бахтиор
заявил, что увидевший Аштар-и-Калона обязательно умрет?
- Видела его, - тихо произнесла Ниссо.
- Ну? - улыбнулся Шо-Пир. - Во сне?
- Во сне тоже видела... Ночью...
- И осталась жива?
- Вот жива... Теперь его не боюсь...
В разговор вмешалась Гюльриз:
- Не надо говорить об Аштар-и-Калоне... Нельзя говорить!
- А ты мне другой раз расскажешь о нем, Ниссо? - спокойно спросил
Шо-Пир.
Ниссо ответила не сразу и очень серьезно:
- Тебе, Шо-Пир, может быть, расскажу...
После обеда все вместе направились к дому. Ниссо попросила у Гюльриз
большое деревянное блюдо, сказав, что хочет принести собранные ягоды, и ушла
в глубь потемневшего сада. Шо-Пир вошел в дом и вынес из него свой
старенький граммофон.
- Показать ей хочешь? - спросил Бахтиор.
- Молчи, - лукаво подмигнул Шо-Пир. - Клади под платан кошму, пока
Ниссо не вернулась.
Сев на кошму вместе с Бахтиором, Шо-Пир быстро приладил крашенную
голубой краской трубу, выбрал пластинку и, наложив иглу на ее виток,
отодвинулся от граммофона. Гюльриз осталась в доме: она до сих пор с
недоверием относилась к этому "полному дэвов" ящику и предпочитала слушать
издалека.
Едва раздались слова пушкинского "Я помню чудное мгновенье", Бахтиор
вскочил.
- Я позову ее.
- Сядь, - дернул его за рукав Шо-Пир, - и не смотри туда, пусть она
думает, что мы забыли о ней.
Бахтиор вспомнил, как сам он весною испугался, услышав этот голос
впервые. Он едва сдерживал смех. Шо-Пир привалился к стволу платана.
Слова романса разносились над садом, полные властной силы. Шо-Пир не
оглянулся, когда хрустнув веткой, из-за деревьев осторожно выглянула Ниссо.
Бахтиор, сидя спиною к ней, уже давился беззвучным смехом. Ниссо помедлила,
осмотрелась, прислушалась... Осторожно поставила на траву блюдо, полное
ягод, неслышно подошла, остановилась, слушая, присела на край кошмы... Ни
единым жестом не выразила она своего удивления; внимательно вгляделась в
лицо явно не замечающего ее Шо-Пира, перевела восхищенный взор к трубе и,
чуть приоткрыв губы, замерла. Она, казалось, всем существом впитывала
летящий над садом голос.
Когда пение оборвалось, она вздохнула и, встретив испытующий взгляд
Шо-Пира, спросила:
- Шо-Пир, что это?
- Машина.
- А человек где?
- Какой человек?
- Душа которого здесь, - указала Ниссо на трубу.
Шо-Пир не улыбнулся.
- Далеко отсюда. Если пешком идти, надо год идти, - есть город, самый
большой город всех русских и всех народов, у которых советская власть. Этот
город называется Москва. Слышала ты это слово?
- Нет, Шо-Пир.
- Запомни: Москва. Человек, чей голос ты слышала, живет в Москве. А
душу свою в эти непонятные тебе слова вложил великий русский человек,
которого звали Пушкин.
- Он тоже в Москве живет?
- Нет, Ниссо... Умер он... Девяносто лет назад... Что же ты, Бахтиор,
не смеешься, ты же смеяться хотел?
Смущенный Бахтиор ничего не ответил, а Ниссо нетерпеливо спросила:
- А кто его душу кормит?
Шо-Пир сдержал улыбку.
- Тебе это трудно понять, Ниссо. Но я постараюсь тебе объяснить...
И стал объяснять устройство граммофона. Ниссо слушала молча, кивая
головой, и, наконец, сказала, что все поняла. И добавила, что ей непонятно
только, как этот голос может жить без еды и питья. Ниссо успокоилась, когда
Шо-Пир сказал, что в эту машину налито масло и что без масла она не могла бы
крутиться.
- А давно налито? - спросила Ниссо.
- Вот когда делали ее. Очень давно: в Москве.
Потом Ниссо спросила: сам ли Шо-Пир привез из Москвы эту машину, и
Шо-Пир объяснил, что он в Москве не бывал, а машину принес из Волости
Худодод, когда ходил туда весной с письмами, и что в Волости есть хорошие
люди, - прислали в подарок еще много вещей: и чай, и табак, и мыло.
И, объяснив все это, Шо-Пир задумался о Волости, - о тех людях из
волисполкома и партбюро, которым считает своей обязанностью слать с каждой
оказией донесения, именно такие - короткие, сухие, но очень ясные, какие
писал он когда-то командиру и комиссару, выполняя боевые поручения.
Немногословными, деловыми, суховатыми бывали всегда и ответы из Волости, но
Шо-Пир радовался им, как весточкам от родных; эти редкие письма развеивали
всяческие сомнения, укрепляли уверенность в своих силах, направляли всю
деятельность Шо-Пира... Благодаря этим письмам Шо-Пир никогда не чувствовал
себя одиноким, все больше, все органичнее сливая свои мысли и свою волю с
мыслью и волей партии...
Весь вечер Шо-Пир, Бахтиор и Ниссо провели, слушая одни и те же
пластинки, - запас их был невелик. Танцы и марши не вызывали интереса Ниссо,
но по ее просьбе Шо-Пир много раз повторял пластинки с песнями и романсами.
Слушая их, Ниссо думала о таинственной силе Шо-Пира, выводящего в мир
человеческий голос без тела.
Гюльриз все не появлялась. Шо-Пир ходил за нею в дом, но она в своем
похожем на все сиатангские жилища помещении доила козу и, не обернувшись,
заявила Шо-Пиру, что все отлично слышит издали и ничуть не боится машины, а
просто у нее и дома достаточно дела.
Когда Шо-Пир, наконец, отнес граммофон и оставил его в углу своей
комнаты, Ниссо потребовала подробных объяснений - кто такой был Пушкин,
хороший ли он человек? Шо-Пир рассказал, как умел, и у Ниссо составилось
впечатление, что тот, чья душа живет в машине, был самым прекрасным и добрым
из когда-либо живших людей.
Взошла луна. Все отправились спать. Ниссо, как и в прошлую ночь, легла
на кровать Шо-Пира, в его комнате, а сам Шо-Пир улегся на кошме, под
платаном. Ниссо долго лежала, не закрывая глаз, а когда убедилась, что все
уже спят крепким сном, тихо встала, подошла к граммофону, присела перед ним
на корточки, осторожно повернула к себе трубу и приложила к ней ухо. Труба
молчала, но Ниссо продолжала прислушиваться к ней, будто боясь нарушить сон
того, скрытого в ящике... Потом, вспомнив, что Гюльриз оставила на террасе
кувшин с козьим молоком, тихо пробралась на террасу, крадучись, принесла
кувшин и, приставив его к граммофонной трубе, стала заботливо, тоненькой
струйкой лить молоко в трубу.
Молоко с бульканьем исчезло в трубе. Ниссо отвела кувшин, помедлила,
сосредоточенная и суровая, и снова, дав трубе передохнуть, начала лить
молоко.
- Довольно, пожалуй, - сказала она себе. - Завтра, Пушкин, еще тебе
дам! - И поставила кувшин на пол.
Снова приложила ухо к трубе и, расслышав какие-то звуки довольная
улеглась в постель.
"Теперь он будет добрым ко мне, - подумала она и покачала головой. -
Столько времени жил голодным!"
Проснувшись на рассвете, она, не веря своим глазам, увидела на полу
вокруг граммофона огромную молочную лужу. Объятая недоумением и страхом
оттого, что добрая жертва ее не принята, она поспешно вытерла пол найденной
у порога тряпкой и охваченная самыми нехорошими предчувствиями, отнесла на
террасу пустой кувшин.
"Никто не должен знать о том, что случилось сегодня ночью", - решила
Ниссо и, печальная, тревожная, медленно ушла в дальний угол сада, чтобы
провести весь день в одиночестве. Нет, она решительно недостойна ничего на
свете хорошего!.. Наверное, проклятия Азиз-хона тяготеют над ней! А Шо-Пир
все-таки обманул ее, посмеялся над нею: он, конечно, большой русский пир,
очень сильный, повелевающий могущественными дэвами русских. Эти дэвы
по-русски называются "машинами", они бывают разными, злыми и добрыми
большими и маленькими, и, конечно, надо быть очень сильным человеком, чтобы
держать в подчинении этих дэвов! Но почему Шо-Пир ее обманул? Может быть,
просто не захотел ей признаться? Может быть с тем, кто признается, случается
что-нибудь очень плохое? Если так, то она готова простить Шо-Пира, ничего
плохого она не желает ему.
Еще туманны образы сраженья
В умах владык, задумавших его,
Не созваны полки, не взвешены сомненья...
Но сколько юношей в тот час уже мертво!
Так и в горах: висят снега лавины.
Ручей под ними только что рожден,
Но решена уже судьба долины, -
Ее дымов, посевов, песен, жен...
Древняя битва
Бахтиор выглянул из своего шалаша. Солнце еще не показалось из-за горы,
но уже осветило снега на зубцах вершин. Надо было идти на канал.
По обычаю сиатангцев Бахтиор спал под одеялом голый. Поеживаясь в
свежести не согретого солнцем воздуха, стал одеваться. Надел свои мешковатые
штаны, жилетку, накинул халат и по приставной лесенке выбрался из шалаша.
Под платаном, укутанный с головой суконным одеялом, лежал Шо-Пир.
Бахтиор решил его не будить: "Проснется сам, придет позже".
Подумал о Ниссо, конечно крепко спящей в комнате Шо-Пира, и направился
к пролому в ограде, размышляя о том, что для Ниссо надо сделать из камней и
глины пристройку к дому, - скоро начнутся осенние ветры, Шо-Пиру нельзя
будет ночевать в саду. Миновал ограду, легко прыгая с камня на камень, стал
спускаться к селению, над которым уже вились легкие дымки очагов.
Не найдя никого у крепости, Бахтиор сел на камень.
Он уже привык приходить сюда раньше всех и знал, что следующим после
него придет секретарь сельсовета Худодод, за ним с киркой и лопатой явится
Карашир, и они втроем начнут расчищать завал, закрывающий путь воде.
Все остальные явятся позже, гурьбой. Выроют ямку для табака, сунут в
нее соломинку, накурятся всласть и только тогда приступят к работе.
И весь день склоны ущелья над крепостью будут множить скрип и скрежет
переворачиваемых камней, звонкие удары по железу, беспечные разговоры
факиров.
А у сводчатой двери древней, чуть наклоненной над рекой башни весь день
просидит бывший владетель крепости - надменный Бобо-Калон. Он ни с кем не
перемолвится ни словом, и факиры будут обращать на него внимания не больше,
чем на камни, что лежат вдоль тропы.
Солнца все еще не видно, но ширится полоса света, медленно опускаясь по
склонам. Бахтиор ходит по нерасчищенному руслу канала, размечая работу,
присматривая, как и куда свалить каждый камень, стараясь предусмотреть все
трудности, чтобы заранее посоветоваться с Шо-Пиром.
Хитрый человек этот Шо-Пир: никогда ничего не прикажет работающим.
Спросят его, говорит: "Обращайтесь к Бахтиору". А сам слушает, что ответит
работнику, как распорядится работой Бахтиор. Если правильно, Шо-Пир
прикинется, будто и не слыхал его слов. Если Бахтиор даст неверное указание
- отзовет в сторонку: "А ну-ка, подумай еще!" Бахтиор думает, думает, и
Шо-Пир ждет, чтобы спокойно выслушать его мнение, и либо с ним согласится,
либо заставит Бахтиора думать еще.
Многому научился Бахтиор у Шо-Пира и теперь уже хорошо распоряжается
работами сам. Если придется прокладывать другой канал, Бахтиор сумеет,
пожалуй, работать самостоятельно.
По тропе поднимается Худодод с киркой на плече. Он совсем еще юноша,
худощав и тонок, но мускулы у него крепкие, работает хорошо и всегда весел.
Ворочает тяжелые камни, а сам поет песни, легкие песни поет.
Худодод подходит к Бахтиору, живыми, задорными глазами подмигивает ему:
"Здоров будь!" И, воткнув кирку в землю, глядит на тропу, по которой бредут
из селения другие факиры.
Солнце выходит из-за края горы, заливая крепость теплом и светом. И
вот, наконец, на обломках разрушенной башни мелькают загорелые ущельцы. Они
приступают к работе - звенят кирки и лопаты, щелкают и с грохотом валятся
камни.
Но Карашира и еще нескольких строителей канала все нет. Бахтиор
досадует, с нетерпением ожидая их: срывается намеченный распорядок работы,
стоило все утро раздумывать, кого и куда поставить!
Каждый день за кем-нибудь надо бегать в селение, будить, торопить, как
будто люди не понимают, что вода - для них же. И, негодуя на отсутствующих,
Бахтиор поручает Худододу наблюдение за работой, а сам спешит вниз.
В третьей с краю маленькой каменной лачуге живет Исоф. Он еще не стар,
работать умеет хорошо, но характер у него скверный: всегда ворчит, жалуется,
ругается. Бахтиор недолюбливает его, потому что Исоф до сих пор живет по
старым законам.
Бахтиор входит в лачугу без стука. С головой укрытый рваным халатом,
Исоф спит на голых каменных нарах. Очаг Исофа пуст и холоден, - ни посуды,
ни еды в лачуге не видно. С тех пор как жена Исофа, молодая еще Саух-Богор,
ушла на Верхнее Пастбище, никто не будит его по утрам, он готов спать
круглые сутки. Правда, он слабый, много ли могут дать ему три абрикосовых
дерева; даже тутовых деревьев у него нет! Две козы да маленькая овечка - все
лето на Верхнем Пастбище, а посев пшеницы за домом так мал, что даже хороший
урожай прокормит Исофа не дольше месяца.
Все это Бахтиор знает. Но раз ты обещал работать, раз ты ждешь от
Шо-Пира обещанной платы мукой, которую привезет караван, значит, нечего
спать по утрам! Бахтиор сердито толкает Исофа в плечо.
- А... Ты, Бахтиор? - приоткрывает сонное, изуродованное крупными
оспинками лицо Исоф, а выцветшая, взлохмаченная его борода стоит торчком. -
Иди! Зачем спать мешаешь?
- Как ленивый сеид ты, Исоф! - упрекает Бахтиор. - Все работают -
спишь. Ходи за тобой. Вставай.
- Вставай! Вставай! Пусть сгорит вся эта работа! Не рожаю. Успеется! -
Исоф опять сует голову под халат.
Бахтиор сдергивает с Исофа халат и, отшвырнув его в угол лачуги, молча
выходит. Исоф ежится на каменных нарах, лениво поднимается, почесывается,
ищет заспанными глазами халат, накидывает его на плечи и, еще не
окончательно проснувшись, выходит на солнечный свет. Щурясь, глядит на
солнце и, продолжая зевать, медленным шагом направляется к крепости.
А Бахтиор, деловитый, быстрый в движениях, ныряет из лачуги в лачугу,
будя других ущельцев, ругая их и не слушая никаких объяснений. Один за
другим выходят люди на тропу, ведущую к крепости: "Работать, конечно, надо,
но мир не рассыпался бы, если б Бахтиор дал поспать еще!"
Ниже других домов, у нагромождения скал, прилепился дом Карашира,
осененный листвою двух тутовников. Каменная ограда обводит деревья, и дом, и
маленький складень кладовки, вокруг которой бродят, давно сдружившись,
дряхлый осел и две худобокие козы. За оградой, в извилистых проходах между
разбитыми скалами, желтеет дозревающая пшеница. Проходы между обломками скал
похожи на запутанный лабиринт, но пшеница заполнила их своим желтым
разливом, и только один Карашир да жена его Рыбья Кость знают, сколько
пришлось им сюда потаскать земли на носилках, чтобы посеять эту пшеницу.
Проход в ограде завален камнями. Бахтиор перепрыгивает через них,
быстро обходит дом, наталкивается на ораву играющих у порога детей. Они
сразу окружают Бахтиора, но ему сейчас не до них.
- Карашир! - кричит он. - Ты дома?
На пороге возникает хмурая Рыбья Кость:
- Дома он... Напрасно пришел, Бахтиор... Не будет он сегодня работать.
- Почему не будет?
- Смотри! - поджав губы и кивком приглашая Бахтиора войти, Рыбья Кость
отступает от двери.
Бахтиор, пригнув голову, переступает порог и сразу останавливается,
ощутив сладковатый, одуряющий запах опиума. Вглядывается в темноту и
различает в углу Карашира. Хрипло бормоча, свесив с каменных нар руки и
голову, Карашир ловит под нарами нечто, видимое ему одному.
Закашлявшись, Бахтиор выскакивает за дверь и сразу закипает гневом.
- А ты, Рыбья Кость, что смотрела?
Женщина вскидывает на него полные слез глаза.
- Знала я? Откуда я могла знать? Пришла - он уже такой... Вчера весь он
такой, ночь всю - тоже, теперь утро - еще хуже стал!
- Где достал он?
- Не знаю, - нетвердо произносит Рыбья Кость. Решительно и злобно
повторяет: - Не знаю, ничего я не знаю!
- Так. Когда голова вернется к нему на плечи, передашь: мы будем новые
участки делить, я ему участка не дам.
- Как не дашь? - хватает Бахтиора за руку Рыбья Кость. - Пусть твое
дыхание оледенеет, не говори так!
- Не дам! - гневно подтверждает Бахтиор. - Не для курильщиков опиума
земля.
- На дашь? - подбоченилась в ярости Рыбья Кость. - Он богары не сеял,
чтобы строить этот канал. Ты власть - обещал нам землю. Верить тебе нельзя.
За Шо-Пиром идешь! Обоим вам коровий рог в горло!
Бахтиор плюнул, пошел прочь. Он чувствовал себя оскорбленным: сколько
раз уговаривал он Карашира бросить это плохое дело. Тот клялся, божился...
Конечно, никакого участка давать ему не надо. Пусть теперь кормится своим
опиумом! А все этот проклятый купец!
...Торопливым шагом Бахтиор приближался к лавке купца. Мирзо-Хур сидел
на ковре перед лавкой, попивая из пиалы чай. Бахтиор, минуя купца, вошел в
лавку.
- Где опиум?.. Давай сюда опиум! - в бешенстве крикнул он.
Мирзо-Хур отставил пиалу.
- Откуда опиум у меня? Давно не было опиума. Сельсовет постановил не
курить, я подчиняюсь, давно не торгую опиумом. Нет его у меня!
- Нет? Нет? Лжешь, вымя волчихи, лжешь! Не дашь, сам возьму!
И, прежде чем Мирзо-Хур сообразил, что ему делать, Бахтиор подскочил к
полкам, сорвал их одну за другой. Товары грудой рухнули на пол. Купец
кинулся к ним, но Бахтиор уже стремительно расшвыривал их по ковру.
Небольшой мешок с опиумом сразу же попался под руки, и, выскочив с ним из
лавки, Бахтиор опрометью побежал к береговому обрыву. Широко размахнувшись,
швырнул мешок в реку. Ослепленный яростью Мирзо-Хур, выхватив из-под халата
нож, погнался за Бахтиором.
- Вор, проклятый вор! Умер ты, уже умер ты!
Бахтиор увернулся, отскочил, поднял с земли увесистый камень. Губы
Бахтиора дрожали, тело напряглось, как тетива наведенного лука.
- Иди на меня, иди!
И, поняв, что Бахтиор может его убить, купец испугался, отступил.
Бочком добравшись до лавки, Мирзо-Хур ввалился в нее, тяжело дыша,
захлопнул за собой дверь и разразился проклятиями:
- Подожди, презренный! Кровавым дымом обернется тебе этот опиум! Свинья
твою нечестивую душу съест!
Бахтиор медленно опустил руку и, не понимая, как очутился в ней этот
камень, переложил его на другую ладонь. Опомнился, бросил камень и медленно
побрел вдоль берега по неровной тропе. Ему пришло в голову, что, быть может,
он слишком погорячился и надо было поступить как-либо иначе. Недовольный
собой, он размышлял, не осудит ли его поступок Шо-Пир, которому он давно
привык рассказывать все. Может быть, на этот раз умолчать?
Войдя в крепость, он принялся помогать факирам, мрачный и
неразговорчивый. Долго старался не попадаться на глаза Шо-Пиру. А когда тот
сам подошел к нему и спросил: "Где это ты пропадал?" - Бахтиор наклонился
над гранитным обломком, силясь его поднять, и проронил:
- Так, дело одно... Теперь хорошо!
Шо-Пир с недоумением посмотрел на него, понял, что от Бахтиора сейчас
толку не добьешься, отошел к одному из факиров и заговорил с ним о чем-то,
чего Бахтиор, погруженный в свои сомнения, слушать не стал.
Увидав, что Бахтиор успокоился, Шо-Пир вернулся к нему.
- Слушай, Бахтиор, а почему Карашира сегодня нет?
- Не будет он больше работать! - мрачно ответил Бахтиор. - Я
постановление сделал: Караширу участка не давать.
- Ну-ну? - прищурился Шо-Пир. - Ты что это - серьезно?
- Конечно, серьезно! - закипел Бахтиор. - За что землю давать? Обманщик
он! Против советской власти идет.
- Слушай, друг, не глупи! В чем дело?
- Опиума он накурился! Ты понимаешь?
- Но? Это, наконец, черт знает что! Где достал?
- У купца было припрятано, чтоб ему сдохнуть!
- Та-ак! - Шо-Пир примолк. - Ну, вот что скажу тебе... Карашир опиум
курит? Очень худо это. Но постановление твое тебе отменить придется. От
хорошей жизни он, что ли, курит? Самый бедный из бедняков, а ты вдруг -
земли ему не давать! Купец ему опиум сунул? Так ты с купцом и борись. А
ты... Э-эх, голова!
"Сказать или нет? Лучше не говорить!" Бахтиор недовольно скинул с себя
руку Шо-Пира, встал и, увидев, что работающий поблизости Исоф тщетно силится
перевернуть ребристую глыбу, подошел, сунул под нее свою кирку.
Оба принатужились, навалились, глыба медленно перевернулась. Исоф
выпрямился, отер лоб рукавом халата.
- Бахтиор!
- Что тебе?
- Значит, Караширу все-таки дадим участок?
- Дадим, - простодушно улыбнулся Бахтиор. - Правду сказал Шо-Пир,
немножко сердце горячее у меня.
Исоф оглянулся, поблизости работало несколько старых факиров. Надеясь
найти в них поддержку, Исоф решился сказать:
- Еще думаю я... Бобо-Калону участок дать надо.
- Что? - нахмурился Бахтиор. - Внуку хана участок?
- Не сердись, Бахтиор, - заторопился Исоф. - Я думаю так. Вот видишь,
он сидит, на нас смотрит. Мы люди, а он разве не человек? Нам - все, ему -
ничего? Разве правильно это? Тоже бедный сейчас, что есть у него? Нет ханов
теперь, что в нем осталось от хана? Он человек хороший, ничего нам плохого
не делает.
Факиры опустили кирки и лопаты: к такому разговору надо прислушаться!
Бахтиор с ненавистью взглянул на сидевшего у своей башни Бобо-Калона.
- Что раньше носили ему, забыл?
Исоф решил не сдаваться.
- То время прошло... А теперь смотреть на старика жалко.
Гнев снова овладел Бахтиором.
- А он нас прежде жалел? Ничего, живет вот, не пропадает! А ему уж
давно подыхать пора.
- Тише, Бахтиор, он услышит!
- Пусть слышит! - Бахтиор намеренно повысил голос. - Пусть слышит!
Собака он для всех нас, волчий хвост неотсохший... Работал я у него
мальчишкой. Знаю его тухлую душу. Участок ему давай!.. Бороду ему свою
расстели, Исоф, пусть сеет на ней пшеницу.
Исоф взялся за свою кирку. Один из факиров промолвил:
- Не надо Бобо-Калону участка. Прав Бахтиор. Это ты, Исоф, на свою
голову камень положить хочешь.
А Бахтиор тихо выругался и пошел в сторону, отшвыривая ногой мелкие
камешки.
Вечером, возвращаясь вместе с Бахтиором домой, Шо-Пир шел, сунув руки в
карманы и небрежно насвистывая. Бахтиор ветел в пальцах сорванный по дороге
прутик. Не выдержав молчания, кинул в сторону прутик, сказал:
- Шо-Пир, я был у купца, выбросил его опиум.
- Как выбросил?
- Схватил. В реку бросил. Он меня вором назвал, с ножом бросился на
меня. Я чуть не убил его камнем. Что было бы, если б убил?
Шо-Пир ничего не ответил. Он долго шел молча, раздумывая о том, что, в
сущности, Бахтиор прав. Конфискации трудно добиться, - ущельцы еще слишком
нерешительны и робки, чтоб выступить против купца. Долголетняя зависимость и
пристрастие к опиуму кажутся ущельцам естественными. Одной агитации,
пожалуй, здесь мало. Вот если бы...
- Эх, Бахтиор! - воскликнул Шо-Пир. - Беда наша в том, что граница
открыта. Ни одной заставы нет на границе. Была бы застава здесь,
пограничников хоть с десяток, живо прекратились бы все безобразия!
И, взмахнув рукой, грозя кулаком, Шо-Пир вдруг крикнул так, что Бахтиор
шарахнулся:
- Черт бы забрал эти горы! Перевернуть их пора!
Умолк и снова задумался.
Миновав селение, друзья поднимались к своему саду. Подойдя к пролому в
ограде, Шо-Пир остановился и, пристально глядя Бахтиору в глаза, произнес:
- А с купцом, Бахтиор, мы поступим так: будем присматриваться ко всему,
что он делает. Соберем такие факты, чтоб, когда настанет время, выложить их
на собрании все сразу. И тогда мигом, не дав никому поостыть, выгоним купца
отсюда... Согласен?
- Скажи, делать как! Все буду делать! - ответил Бахтиор. - Чтоб воздух
наш он не поганил, проклятый!
Солнце жжет ущелье прямыми лучами, но осень уже чувствуется в прохладе
ветерка. Он набегает волнами, несущими от маленьких полей Сиатанга дробный,
настойчивый рокот бубнов. Стоит только оторваться от вязанья, взглянуть
вниз, на мозаику желтых полей, чтоб увидеть женщин в белых рубашках, здесь и
там ударяющих в бубны. Пока хлеб не сжат, надо с утра до ночи бить в бубны,
отгоняя назойливых птиц, жадно клюющих зерно.
Но, сидя на кошме, посреди террасы, Гюльриз пристально смотрит на
красные, желтые, зеленые и синие нити овечьей шерсти. Четыре деревянные
спицы поочередно мелькают в ее сухих коричневых пальцах. Морщины склоненного
над вязаньем лица глубоки, но волосы старухи еще только у висков побелели;
искусственные, вплетенные в волосы косы кончаются толстыми шерстяными
кистями, окрашенными в густой черный цвет.
Косы не мешают Гюльриз: закинула их за плечи, и косы кольцами лежат на
кошме. Даже плотная белая материя домотканой рубахи не скрывает костлявости
Гюльриз, но в позе ее, в уверенных движениях рук все еще сохраняется
природное изящество женщины гор.
Чулок, который вяжет она, будет без пятки, - вырастет в длинный,
искусно расцвеченный мешок. Рисунок, подсказанный Гюльриз ее вольной
фантазией, не похож на те, другие, неповторимо разнообразные, какими
украшают чулки женщины Сиатанга; искусство вязания таких чулок известно в
Сиатанге издревле, никто за пределами гор не знает его.
Ниссо, поджав голые ноги, сидит рядом с Гюльриз и, помогая ей
разматывать окрашенную растительными красками шерсть, внимательно наблюдает
за чередованием затейливого узора. Ниссо очень хочется перенять от старухи
ее уменье. Уже несколько дней подряд, подсаживаясь к Гюльриз, Ниссо следит
за каждым движением ловких пальцев старухи. А потом украдкой уходит в
дальний уголок сада, усаживается возле каменной ограды под густыми листьями
тутовника и пробует вязать сама. У Ниссо нет хорошей шерсти, и слишком эта
шерсть дорога, чтоб решиться попросить у Гюльриз хоть моток. Ниссо подбирает
выброшенные старухой обрывки разноцветных ниток, связывает их в одну и
учится вязать. Пусть первый чулок будет кривым, испещренным узлами, - Ниссо
свяжет его сама, без посторонней помощи. И когда он будет готов, принесет
его Гюльриз, скажет: "Вот видишь, я тоже умею; теперь дай мне разноцветной
шерсти, я свяжу настоящие чулки, я подарю их..." Нет, она не скажет, кому
она их подарит, но... Пусть теперь Шо-Пир обматывает ногу тряпкой, прежде
чем надеть сапог, - а разве хорошо, если зимой, без шерстяных чулок, ноги
его будут мерзнуть?..
Шумит ручей. Ветерок приятен, - сладкий сегодня воздух... Мысли Гюльриз
- о сыне. Вот ее сын стал взрослым, большим человеком. Конечно, большим, раз
его даже сделали властью! Но непонятная это власть. В прежнее время если бог
дарил человеку власть, то с нею вместе дарил и жену и богатство. Богатство,
жена и власть, как три шерстяные нитки, сплетались в один крепкий шнурок,
имя которому было - счастье. А теперь вот власть у человека есть, а
богатство и жена совсем не родятся от этой власти... Не может этого понять
Гюльриз! Правда, есть теперь у нее с Бахтиором дом и даже сад, - раньше ни
дома, ни сада не было. Бахтиор говорит: "Мы богаты!" Но разве он понимает?
Бедность по-прежнему живет в их доме, земли для посева до сих пор у них нет,
все, что посеял в этом году Бахтиор, - маленький клочок богары, там, высоко
в горах, под самыми снежными склонами...
Задержав на вязанье руки, Гюльриз поднимает лицо и глядит выше селения,
на противобережный склон ущелья; щуря глаза, скользит вверх по склону - по
осыпи, по скалам над ней, высоко-высоко, туда, где, сверкая на солнце, к
верхним зубцам хребта припали снега... Там, под ними, почти неразличимое
отсюда, коричнево-зеленое пятнышко - это богарный посев Бахтиора. Холодно
там наверху: дозреет ли? Не вымерзнет ли на корню?
Гюльриз опускает глаза, продолжает перебирать спицы. Богара даст
Бахтиору хлеба меньше, чем Бобо-Калон давал его своему батраку. Но бедность
еще ничего бы: все кругом живут бедно, даже сам Бобо-Калон не имеет того,
что имел прежде. А вот жить мужчине без жены - разве годится? Будь прежнее
время, когда жен покупали, Бахтиор, конечно, не мог бы купить жены, жил бы
до старости одиноким. Но теперь-то ведь время другое. Вот Шо-Пир утверждает,
что мужчины женятся просто по любви, ничего не платя за жену. Но где взять
такую жену, за которую родственники не потребовали бы никакого товара?
Свобода есть, а свободных девушек нет, - ну, на ком в селении мог бы
жениться Бахтиор? И вот судьба привела к ним в дом эту девушку, - красивую,
совсем не плохую девушку. Шо-Пир сказал: "Не заставляй ее работать, Гюльриз,
пусть отдохнет сначала, привыкнет к нам, сама за работу возьмется..." Разве
Гюльриз хоть слово сказала ей? А она вот уже три дня работает. "Дай, нана,
посуду я тебе вымою! Дай постираю белье..." Тутовые ягоды на крышу выложила,
теперь подсушиваются они. Вчера утром сама сварила для всех бобовую
похлебку, а вечером взяла осла, пошла с ним к осыпи, целый вьюк колючки на
топливо привезла! А теперь вот хочет вязать чулки, - наверно, скоро
научится. Хорошая из нее выйдет хозяйка...
Не отрываясь от вязанья, Гюльриз продолжает свои старушечьи мечтанья.
Вот если бы правильным оказалось, что власть дает человек жену! Ведь и в
доме-то у них Ниссо потому, что Бахтиор - власть... Ниссо молода, почему бы
ей не полюбить Бахтиора? Сильный он, хороший он, лучше него разве есть хоть
один человек на свете? За Ниссо никому ничего не надо платить, - взял бы он
ее в жены, и богатство, может быть. Пришло бы в дом?
Бахтиор идет вверх по долине, туда, где за лавкой купца и за домом
Карашира зеленеет селение Сиатанг. От крепости, через селение, сюда, к
пустырю, скоро побежит вдоль тропы вода нового оросительного канала. И на
будущий год пустырь расцветет посевами и садами, и о голоде можно будет не
думать, - лучше всех заживут в Сиатанге факиры, хорошо придумал это Шо-Пир!
Русло канала на всем его протяжении почти готово, осталось выбрать из
него только крупные камни. Надо пройти посмотреть, много ли еще осталось
работы? Минуя лавку купца и дом Карашира, Бахтиор идет вдоль нового русла, -
оно легло как раз рядом с тропой. Но думает Бахтиор о Ниссо.
С тех пор как она появилась, жить стало как-то приятнее. Прежде, выйдя
утром из дому, Бахтиор о нем за весь день ни разу не вспоминал. А теперь
пойдет куда-либо по делу, так и тянет домой, скорей бы увидеть Ниссо...
Прибежит домой - кажется, тысячу слов сказал бы ей сразу, а увидит ее - и
молчит: странно устроен человек, внутри такие слова живут, а с языка ни
одного не срывается. Только не все люди устроены так: вот Шо-Пир целые
вечера разговаривает с Ниссо, позавидовать ему можно! И Ниссо не дичится, -
слушает его шутки, не обижается теперь, когда он смеется над ней, и задает
ему столько вопросов, что всякий другой человек устал бы на них отвечать.
Бахтиору обидно: почему она держится с ним иначе? Конечно, и к Бахтиору
она относится хорошо, но разве бывает с ним откровенной?.. А вот Шо-Пиру уже
все о себе рассказала. Вчера Шо-Пир сам признался: "Знаю теперь ее тайну,
немудреная эта тайна". Когда Ниссо ушла собирать траву "харкшор" для
масляного светильника, Шо-Пир сказал: "Ни слова не говорите девчонке,
держитесь так, будто ничего не знаете". И рассказал им о Дуобе, и о тетке
Ниссо, и об Азиз-хоне... Сам Азиз-хон купил ее в жены, подумать только! И
все-таки убежала она от него.
Конечно, она взрослая женщина, - как может Шо-Пир обращаться с нею, как
с девочкой? Известно, у русских замуж выходят позже, но все-таки странный
Шо-Пир человек: как не видит он, что она совсем взрослая? Не старухой же
замуж ей выходить!
Вчера Бахтиор спросил: "Что будем мы делать с нею?" Шо-Пир сказал:
"Пусть живет здесь, первую советскую семью сладим". Что хотел он этим
сказать? Бахтиор переспросил его, а он только рассмеялся. Шутит или
серьезно? Никогда его не поймешь. Может быть, он хочет жениться на ней?
И от этой мысли Бахтиора сразу охватила тревога. Но тропа к дому уже
позади, Бахтиор идет узеньким переулочком, поднимаясь к крепости.
Очень смешная Ниссо! Когда Шо-Пир исправлял граммофон, она зорко
следила за ним. И вдруг прошептала: "Наверное, умер дэв!" А он смеялся,
разобрал механизм, снова собрал. Ниссо помогала ему. Дал ей какую-то
маленькую пружинку, показал пальцем: "Поставь сюда!" Она обтерла пружинку,
поставила, и голос начал петь снова. И Ниссо сказала: "Теперь знаю, сама
могу научиться делать таких дэвов!" - и только сказала, голос вдруг
оборвался. Снова разобрали они граммофон, лопнула, оказывается, пружинка, и
Ниссо объявила: "Другую такую же сделать надо, - что тут особенного, просто
железка закрученная!" "Признаться по совести, Ниссо, наверное, умнее меня, -
думает Бахтиор. - Вот ничего я не понимаю в этих железках! А все-таки
граммофон испорчен. Шо-Пир говорит: нужны какие-то особенные инструменты,
чтоб вместо поломанной железки сделать другую, новую... Очень огорчилась
Ниссо!"
Старая, не пробитая еще каменная стена пустующей лачуги прерывает
размышления Бахтиора. Эту стену давно уже должен был сломать Худодод, - она
помешает, надо ему сказать.
Все-таки замечательным будет этот новый канал! Ханский канал огибает
селение поверху. Канавки, отведенные от него, режут селение поперек,
пересекая все сады и посевы - от горы до реки. Река течет внизу, под
береговым обрывом, воду из нее не поднять. А та вода, что бежит от старого
канала поперек селения по канавкам, иссякает на пути к береговому обрыву.
Поэтому с давних времен над рекой располагались самые бедные хозяйства -
хозяйства факиров. Им всегда не хватало воды.
Новый канал проведен вдоль селения, по самой его середине. Все сады и
посевы он оросит водой. Как напитается тогда почва в хозяйствах факиров, как
взойдут хлеба!
Бахтиор прошел уже половину селения; он не может не радоваться,
всматриваясь в новое русло. Хорошо поработали здесь. А сколько было споров
сначала! Там нужно было обрушить ограду сада, стоявшую на пути канала, здесь
пересечь пополам чей-либо посев. Один кричал: "Не хочу строить новую
ограду!" Другой: "Не хочу по моей земле пропускать канал, - меньше будет
земли у меня!" Всех уговаривал Шо-Пир: "Для общего блага!" А ему кричали:
"Какое мне дело? Моя стена! Делай что хочешь, мою стену не трогай!" А
все-таки вот удалось сделать все так, как решил Шо-Пир.
Свернув в узкий проход между каменными оградами, Бахтиор видит группу
ущельцев. Они толпятся в проходе, сидят на кромке плитняка под ветвями
тутовника; разгорячась в споре, они не замечают приближения Бахтиора.
Бледный, всклокоченный Карашир энергично жестикулирует, доказывая что-то
Исофу, нетерпеливо слушающему его.
- А я тебе говорю, - кричит Карашир, - солнце на ребрах! Вот, на
ребрах... - повторяет он, тыча себя большим пальцем в грудь.
- Не на ребрах, неправда, - хмуро перебивает его Исоф, - только с горла
уходит.
- Ленивое у тебя солнце! Считать не умеешь.
- А ты сам-то умеешь? - вмешивается молодой широкоплечий ущелец с
небрежно повязанным куском мешковины вместо чалмы.
Бахтиор подходит вплотную к спорящим, облокачивается на выступ стены,
слушает с интересом.
- Умею. Если не умею - остановите меня! - горячится Карашир. - Сорок
дней солнце на верхушке черепа отдыхало? Да?
Никто возразить не может: по календарному счету сиатангцев солнце,
поднявшись от пальцев ног, действительно стояло на верхушке черепа сорок
дней.
- Отдыхало, конечно, - говорит кто-то в толпе. - А как ты от этих
сорока дней считаешь?
- Считаю как? На сороковой день что делали мы? За два дня до этого у
Сохраба девочка умерла, хоронили ее. Так?
- Так! Так! - раздались голоса. - Правильно. За два дня.
- Через три дня после этого осел Хусмата сломал себе ногу. Так?
- Так! Так!
- В этот день солнце с верхушки черепа вниз пошло. Остановилось на лбу.
Три дня стояло на лбу. Зейнат из-за курицы подралась с Ханым. Это было на
третий день. Правильно? Потом солнце перешло на нос мужчины, три дня но носу
стояло. Во второй день после этого Шо-Пир к башне порох принес, сказал:
завтра башню взорвем, а ты сам, Исоф, тогда говорил: солнце на зубах
остановится - башни не будет! Сказал, помнишь?
- Сказал, - согласился Исоф, - не помню только, на второй или на третий
день.
- Не помнишь? Я помню! Башня рассыпалась, женщина к нам прибежала, -
продолжал Карашир, - солнце третий день на зубах стояло! Разве трудно
считать? Солнце на подбородок опустилось, я на канал не пришел. Это был
первый день солнца не подбородке...
- Неправда! - решительно возражает Исоф. - Это был второй день. Опиум
ты курил, не помнишь.
- Один день я больным лежал...
- Не один день, два дня!
- Один.
- Два, говорю.
Карашир беспомощно оглядывается, замечает Бахтиора, который прислонился
к ограде, молча глядит на спорящих.
- Вот Бахтиор пришел! - торжествует Карашир. - Скажи, Бахтиор, один
день или два?
- Два дня, - усмехнулся Бахтиор. - Зачем спорите?
Все оборачиваются к Бахтиору.
- Я говорю, - торопится Карашир, - через шесть дней урожай пора
собирать. Исоф говорит - через девять. Когда солнце придет на бедра - поздно
будет, сильные ветры начнутся, тогда уже провеивать надо, а разве успеем мы
быков выгнать, вымолотить зерно, если только через девять дней с серпами на
поля выйдем? Хорошо, пусть два дня я больным лежал!
- Что же спорить тут? - насмешливо говорит Бахтиор. - Идите к
Бобо-Калону. Он тридцать лет счет времени в своих руках держит, сами
говорите - мудрейший!
- Так говоришь! - хмурится Исоф и вдруг, растолкав ущельцев, вплотную
подходит к Бахтиору. - К Бобо-Калону почему не идем? А что теперь скажет
Бобо-Калон? Он делал зарубки на башне, каждый шаг солнца на башне отмечал, а
где теперь башня? Все люди знали, где солнце, теперь потерян путь солнца!
Когда урожай собирать - не знаем, когда быков выводить - не знаем, когда
серпы точить - тоже не знаем. Карашир кричит - сегодня солнце на ребрах, я
кричу - на горле, третий кричит - к животу подходит. Где солнце, спрошу я
тебя?
- А что Бобо-Калон говорит? - выпрямляется Бахтиор.
- Бобо-Калон что говорит? Вы башню разрушили, сами теперь за солнцем
следите. Пусть Шо-Пир ваш считает теперь, пусть Бахтиор считает... еще
говорит: если во времени ошибетесь - веры разнесут зерно из-под быков,
сгниет зерно от дождей, все перепутается у вас. Отказываюсь я, говорит, ваше
время считать.
- Ну и пусть отказывается! - оттолкнув Исофа, Бахтиор входит в толпу. -
Я пришел вам сказать: пора с серпами на поля выходить. Счет времени в своих
руках теперь держит Шо-Пир. По-своему он считает, правильный счет у него.
День за днем он считает. Зачем, говорит он, искать, де солнце - на бедрах,
на животе или в печенке, когда созрело зерно? Вы ждете своего дня, а зерно
пропадает. Половина урожая может пропасть, пока вы о солнце спорите. Ходил я
с Шо-Пиром по вашим полям, - зерно уже сыпаться начинает. Завтра точите
серпы. Послезавтра все на поля...
Выслушав Бахтиора, ущельцы заспорили еще ожесточеннее. Потеряли они
путь солнца. Надо найти его. Надо вспомнить все самые маленькие события в
селении, чтобы восстановить потерянный счет... Но отступить от него совсем?
Не первый раз уже Бахтиор заводит разговор о каких-то непонятных никому
месяцах, делит их на столь же непонятные части... Считает дни, как товар:
десятый, пятнадцатый, двадцать третий... Один раз досчитает до тридцати и
начинает счет снова, другой раз почему-то считает до тридцати одного...
Зачем этот новый счет, если всем известно, что после сорока зимних дней,
когда замерзшее солнце, не двигаясь, отдыхает, наступает время пробуждения
солнца? Зачем новый счет, если все знают, что, ожидая, солнце
останавливается лучами на собаке, которая, забившись от холода в угол,
подставляет солнцу свою короткую шерсть? Ей холодно, собаке она визжит и
просится в дом, и все девять дней, пока солнце ее согревает, называются
"временем собаки". А затем солнце переходит на хозяина дома и три дня стоит
на пальцах его ног. И каждому понятно, что "солнце пришло на мужчину" и что
надо выходить на поля, начинать уборку навалившихся за зиму камней... А
потом солнце начнет подниматься, задерживаясь по три дня на подъеме ноги, на
лодыжке, на икрах, под коленом, на колене, указывая людям, когда им надо
пахать, поливать поля, справлять маленькие и большие праздники... Дойдет до
верхушки черепа и, утомленное, замрет на сорок летних дней, чтобы затем
снова пуститься в обратный путь к пальцам ног. Всем от века ведомо точно:
сбор урожая начинается в тот самый день, когда солнце докатится до нижнего
ребра. И если ветры или холода придут раньше, чем нужно, или зерно к этому
дню недозреет, то это воля бога, значит, за что-нибудь он шлет наказание. О
чем же еще говорить? Вот только бы найти этот день! Как можно было разрушить
башню и не перенести куда-либо зарубки Бобо-Калона? Никто не подумал об
этом, и сам Бобо-Калон ничего тогда не сказал. Но Бахтиор - советская
власть, он обязан был об этом подумать; Шо-Пир, которого слушаются ущельцы,
тоже должен был об этом подумать.
- Нехорошо сделал ты, Бахтиор! - неприязненно говорит Исоф. - Мы идем с
тобой, потому что ты советская власть, потому что ты власть бедняков
факиров. Зачем ты спутал наш счет? Как на полях нам работать? Если мы не
найдем наш счет, что с урожаем станет? В другое селение спросить не пойдешь,
- сам знаешь, в каждом селении солнце по-своему ходит, другие там ветры,
холода там другие.
Бахтиор был немножко растерян, хотя и доказывал свою правоту. В самом
деле нехорошо получилось. Он и сам до сих пор никак не мог взять в толк тот
календарь, какой предложил сиатангцам Шо-Пир, - голые числа, ни с чем не
связанные названия, - как разберешься в них? Он говорит: сейчас "август",
что такое "август"? Никому не понятное слово! Как по такому слову считать
работу в садах, на полях и на Верхнем Пастбище? В одном Бахтиор уверен: если
Шо-Пир велит начинать сбор урожая через два дня, значит, так надо сделать.
Если послушаться Шо-Пира, будет лучше для всех, правильно работа пойдет,
пусть свой, русский, счет у него, но не хуже ущельцев он знает, хотя и живет
здесь недавно, когда какие ветры придут, когда зерно начнет осыпаться, когда
яблоки начинают падать, когда снег закроет пути от вымороженных пастбищ...
- Так, - закончил спор Бахтиор. - Значит, через два дня на поля
выходим. Шо-Пир сказал так. А за урожай я сам отвечаю.
- Хорошо, пойдем, - согласился, наконец, Карашир. - Я пойду, если ты
отвечаешь. Все равно в этом году плохой урожай, все голодные будем.
- Не будем голодными, когда придет караван, - коротко заявил Бахтиор и,
не дожидаясь решения остальных, вышел из толпы, направился к своему дому.
Ущельцы попробовали снова завести речь о солнце, но, понимая, что
точность их счета безвозвратно утеряна, наконец решили последовать указанию
Бахтиора: обещал - ну и пусть теперь за все отвечает! Несколько стариков
заявили, однако, что будут считать по-своему и выйдут на поля тогда, когда
сами сочтут нужным. Никто с ними спорить не стал, и все разошлись.
А Бахтиор, вернувшись домой, сообщил обо всем Шо-Пиру. Но Шо-Пир слушал
его улыбаясь и сказал ему, что счет на месяцы - советский, счет дней в
каждом месяце - тоже советский, а потому председателю сельсовета надо, не
боясь ничего, хорошенько понять этот счет, накрепко запомнить его и
постепенно приучить к нему всех ущельцев.
Через два дня почти все сиатангцы вышли на поля для уборки хлебов. Тех
безземельных ущельцев, что работали до сих пор на канале, Шо-Пир поставил на
помощь больным и слабым соседям. Ущельцы поверили, что Шо-Пир рассчитается с
ними мукой, которую привезет караван. Они взялись срезать колосья серпами и
таскать их за спиной на носилках к площадке, облюбованной всем селением для
молотьбы.
Новый канал был почти готов. Чтобы открыть путь воде, достаточно было
еще дня работы. Но Шо-Пир объявил, что праздник открытия канала состоится
после уборки и молотьбы.
Засучив штаны, босоногий, в жилетке, надетой на голое тело, Бахтиор
копошится возле террасы, сортируя принесенные от ручья камни. Он складывает
новую стену, хочет сделать пристройку к дому. Бахтиор ничего не говорит, но
Ниссо догадывается: пристройка - для нее!
Бахтиор трудится уже второй день. Он пользуется тем, что работа на
канале приостановилась и что можно никуда не ходить; он очень старается и не
хочет, чтобы кто-нибудь ему помогал.
Пощелкивают камни, укладываемые Бахтиором, снизу от селения доносятся
звуки бубнов, - они то замирают, то гремят басисто и переливчато,
приближаемые волной ветерка.
Ниссо и Гюльриз сидят рядышком, склонив головы над цветными нитями
шерсти.
Гюльриз продолжает вязать чулок. Ниссо аккуратно подбирает обрывки
шерстяных ниток, зажимает их в кулаке. Шо-Пир все пишет что-то в своей
тетрадке. Задержит карандаш, подумает, зачеркнет написанное, пишет опять. Но
вот встает, заложив ладони на затылок, потягивается, подходит к террасе.
- Плохо, Гюльриз, с урожаем в этом году. Понимаешь, считал я... Если
все, что с полей соберут, на посев оставить, хлеба даже теперь есть нельзя
будет. Начнут его есть - на посев не хватит, что будет селение делать
весной?
- Сейчас яблоки в нас, ягоды, абрикосы, горох, бобы. Зачем трогать
хлеб? - сурово отвечает старуха. - Потерпеть можно.
- Так ты же понимаешь, Гюльриз, люди о лепешках весь год мечтали!
- Мечтали - не ели. Ты говоришь - караван придет?
- Придет - муку привезет, не зерно. Сеять муку нельзя. Голодные все, не
захотят каравана дожидаться, все нет его, видишь! Станут молоть зерно, вот и
не хватит его на посев.
Старуха молчит. Потом рассудительно замечает:
- Думай, Шо-Пир. Твоя голова большая...
- А ты, Гюльриз, думаешь как?
- Зачем спрашиваешь старуху? Что я скажу? Может быть, глупое я скажу.
Только, по-моему, пускай не мелют зерно, пускай подождут каравана.
- Ты думаешь так? - неожиданный ответ старухи показался Шо-Пиру
решеньем простым и разумным. Как это ему самому в голову не пришло? Но разве
можно заставить голодных не есть долгожданного хлеба? Во всяком случае,
слова старухи надо хорошенько обдумать.
- А ты что скажешь, Ниссо?
Ниссо быстро оборачивается к Шо-Пиру: смеется он, что ли, над ней, - ее
спрашивает?
- Ничего не скажу я, Шо-Пир, - тихо отвечает она и расщипывает нитку
зеленой шерсти.
- Эх ты, пуганая! Погоди, мы еще в сельсовет тебя выберем! - И уже
серьезно, Шо-Пир обращается к старухе: - Пожалуй, Гюльриз, схожу сейчас на
поля, посчитаю еще. Самому надоел горох. Сегодня опять гороховую похлебку
нам сваришь?
И, не дожидаясь ответа старухи, идет прочь от террасы, не оглядываясь,
погруженный в раздумье, направляется по тропе к желтеющим внизу посевам.
Гюльриз видит долгий, провожающий уходящего взгляд Ниссо, и спицы в
пальцах старухи мелькают еще быстрее.
Бахтиор, выведя осла, завьюченного пустыми корзинами, ушел к голове
канала за глиной. Посидев недолго со старухой, Ниссо подумала, что теперь,
когда мужчин нет, никто не заинтересуется тем, что она может делать в саду
одна, и направилась в сад.
Прошла его весь и у ограды, на излюбленном своем местечке, вынула
из-под камня начатое вязанье, отряхнула землю с самодельных спиц. С
удовлетворением вгляделась в узор: чулок получался ладный. Никто не должен
был здесь Ниссо потревожить, и она спокойно взялась за работу.
Но за оградой, таясь среди крупных камней, лежал человек. Второй день
уже он наблюдал за Ниссо. Второй день искал случая поговорить с нею наедине.
Злился, теряя время, но вот, наконец, Шо-Пира и Бахтиора нет, девчонка одна,
предлог для разговора придуман...
Кендыри тихонько отполз назад, сделал большой круг за камнями и, выйдя
к подножью осыпи, уже открыто, неторопливым шагом направился к Ниссо.
Увидев идущего к ней человека в сером халате и в тюбетейке, Ниссо
рассматривала его без удивления: наверное, к Бахтиору идет, по делу.
Кендыри неторопливо перелез через ограду и, словно только теперь
заметив Ниссо, свернул к ней.
- Здравствуй, темноглазая! Шо-Пир дома?
- Нет, - небрежно ответила Ниссо.
- Бахтиор?
- Тоже нет.
Кендыри досадливо цокнул языком, постоял.
- Надо мне их... Дело есть. - Устало вздохнув, Кендыри подсел к Ниссо.
- Подожду, пожалуй.
Ниссо, опустив голову, продолжала работать. Кендыри улыбнулся, зубы и
десны его обнажились.
- Хорошо у тебя выходит.
- Плохо выходит, - не глядя на пришельца, равнодушно произнесла Ниссо.
- Не умею еще.
- Неправда, умеешь. Вот этот рисунок - это у тебя что? Цветок Желтое
Крыло? Немножко не так вяжешь - сюда желтую нитку надо, конец листа загнутый
будет, - и Кендыри обвел пальцем орнамент.
- Сюда? Почему думаешь? - живо спросила Ниссо.
- Знаю этот цветок. Красивее будет!
Кендыри замолчал. И пока Ниссо, ведя нитку крутым изгибом, заканчивала
рисунок листа, он молча наблюдал.
- Так? - спросила Ниссо.
- Так. Видишь, совсем красиво... Другие - весь ряд - веди так же. Э!
Некогда мне сидеть... скоро придет Бахтиор?
- За глиной пошел к голове канала.
- Пойти туда разве? - рассуждая сам с собою, продолжал Кендыри. - Нет,
лучше здесь подожду! - Помолчал и снова обратился к Ниссо: - Слышал я, ты с
гор прибежала?
- Да, - чуть слышно проронила Ниссо.
- Хорошо тебе здесь?
- Хорошо.
- Конечно, хорошо. Шо-Пир - человек хороший, Бахтиор тоже хороший,
спасибо им, теперь все мы хорошо живем. Не то что в Яхбаре.
- Почему - в Яхбаре? - спросила Ниссо и впервые внимательно взглянула в
лицо собеседнику. Его прищуренные глаза были устремлены поверх ограды, на
склон горы.
- Потому что раньше в Яхбаре я жил, - будто не замечая подозрительного
взгляда Ниссо, проговорил Кендыри, - ушел оттуда. Если бы тебе там пришлось
побывать, узнала бы, какая там жизнь. Для бедного человека там одни палки, а
воздуха нет. Если бы ты захотела послушать меня, рассказал бы я тебе, как
там плохо.
Подозрительность Ниссо сменилась сочувствием. Она уже готова была
поделиться своими мыслями о Яхбаре, но сдержалась и только спросила:
- Яхбарец ты?
- Нет, - нахмурился Кендыри, - не люблю яхбарцев.
- Я тоже их не люблю, плохие, слышала, люди.
- Много плохих, - убежденно промолвил Кендыри. - Только есть и хорошие.
- Наверное, нет хороших.
- Есть. Знаю одного человека. Тоже ушел оттуда, в Сиатанге живет.
Ниссо задержала спицу.
- Кто же такой? Не знаю.
- Купец один бедный... Мирзо-Хуром зовут... Слышала?
- Не слыхала.
- Разве Шо-Пир и Бахтиор не говорили тебе о нем? - внимательно следя за
выражением глаз Ниссо, спросил Кендыри.
- Не говорили... Не слышала.
Кендыри повернулся к ней.
- Спроси у них, скажут... Добрый он человек, помогает всем нам. Вот,
знаешь, мне тоже помог. Я - брадобрей, нищим сюда пришел, он крышу мне дал,
одежду дал, ничего не просил взамен... Приютил - вот как Шо-Пир тебя. Для
Шо-Пира чулок вяжешь?
- Так, учусь.
- А шерсть у тебя какая?
- Вот видишь, хорошей нет.
Кендыри покрутил между пальцами узловатую нитку.
- Э... Знаешь что? У Мирзо-Хура есть хорошая шерсть. Купил он ее, без
чулок зимой холодно; только связать некому, одиноко живет... Сказать ему -
душа добрая - даст он тебе...
- Платить ему надо... Мне нечем...
- Даром отдаст. Так лежит она, портится.
Соблазн был велик. Ниссо представляла себе большие клубки разноцветной
шерсти, новые, длинные - выше колен - чулки на ногах Шо-Пира. Вздохнула:
- Не возьму даром.
Кендыри понял, что удар его точен. Он сделал вид, что задумался. Он
долго молчал. Затем заговорил вполголоса, медленно: Ниссо, конечно, права,
не желая взять шесть даром, но дело можно устроить иначе: купцу очень
хочется, чтобы кто-нибудь связал ему хоть пару чулок. Если б Ниссо взялась,
он дал бы ей шерсти и на вторую пару. Заработав эту шерсть, она сделала бы
другие чулки себе или кому хочет - например, Бахтиору, или, еще лучше,
Шо-Пиру, который, всем известно, ходит в русских сапогах и будет мерзнуть
зимой.
Забыв о вязанье, Ниссо слушала Кендыри. Сумеет ли она сделать купцу
чулки так, чтобы он остался доволен? Ведь она еще только учится вязать!
Ниссо высказала свои сомнения, но Кендыри заспорил: опасенья напрасны,
он видит по этому начатому чулку, что у Ниссо глаз точный, выдумка есть, -
рисунок получается превосходный.
Кендыри предложил Ниссо сейчас же, с ним вместе, сходить к купцу, -
совсем недалеко. Пока Бахтиор ходит за глиной, они успеют вернуться. И если
Ниссо хорошо сделает чулки, Мирзо-Хур даст ей другие заказы, она станет
зарабатывать, ей не придется даром есть хлеб Бахтиора.
...Вслед за Кендыри Ниссо смело переступила порог лавки. Она немножко
оробела, увидев на ковре чернобородого человека в распахнутом яхбарском
халате. Купец читал какую-то ветхую рукописную книгу. Мирзо-Хур скрыл свое
удивление только после многозначительного взгляда Кендыри.
- Я привел ее к тебе, добрый Мирзо-Хур, - произнес Кендыри. - Девушка
знает твою доброту, я сказал ей, что ты не из тех яхбарцев, которых я так
ненавижу... Прекрасно она чулки вяжет, согласилась сделать тебе... Пойдем, я
сам выберу вместе с тобой ту шерсть, которую ты ей дашь. Самую красивую надо
дать.
Через несколько минут перед Ниссо грудой лежали мотки разноцветной
шерсти, и Мирзо-Хур сказал:
- Бери. Для хорошей девушки ничего не жалко... Свяжешь мне чулки по
своему вкусу...
- Тот рисунок, - серьезно вставил Кендыри, - Желтое Крыло сделаешь так,
как я показал тебе. Не торопись, делай медленно. А почему ты без красных
кос? У нас в Сиатанге без красных кос девушки не ходят...
Ниссо знала это. Но у старой Гюльриз не было красных кос, а черные не
полагаются девушкам. Что ответить этому человеку?
- Дай ей красные косы, Мирзо, - коротко сказал Кендыри. - Пусть
привяжет и будет как все.
- Не надо, - смутилась Ниссо. - Не надо мне кос...
- А! Не скромничай понапрасну! - с ласковой укоризной покачал головой
Кендыри. - Теперь среди нас живешь, какие могут быть разговоры? Возьми.
И, не дожидаясь ответа купца, Кендыри отступил в угол лавки, поднял
крышку китайского сундука, вытянул из груды одежд пару красных кос, белую
рубашку с расшитым шелковой ниткой воротом, плоскую ковровую тюбетейку...
...Растерянная, взволнованная, с мешком за спиной Ниссо вышла из лавки.
- Я к Бахтиору другой раз приду! - сказал ей на прощанье Кендыри. -
Когда сделаешь чулки, принесешь сюда. Да благословит тебя покровитель!
Обойдя сад, Ниссо перелезла через ограду, вернулась к своему укромному
местечку и, зная, что тут никто не видит ее, вытряхнула содержимое мешка на
землю. На траву легло дорогое яхбарское ожерелье: тонкие квадратные
пластинки темно-синего лазурита, соединенные серебряными колечками.
Ниссо подняла ожерелье, разложила его на ладонях, разглядывала с
восхищением: в каждом шлифованном камешке, как звезды в предутреннем небе,
поблескивали золотые точки пирита.
Такое ожерелье носила старшая жена Азиз-хона, и другие жены всегда ей
завидовали. Ниссо вспомнились красные бусы, однажды надетые на нее
Азиз-хоном. Она забыла о них тогда, убегая в ту страшную ночь...
Воспоминание омрачило Ниссо. Разглядывая синие камни, Ниссо сообразила, что
эту вещь не оплатишь никакой работой. С досадой, почти со злобой, подумала:
"Зачем Кендыри положил это?"
И все же надела ожерелье на шею и, перебирая пальцами серебряные
колечки, отбросив в радости все сомнения, пожалела, что у нее нет с собой
зеркальца. Поиграв с чудесными камешками, скинула с себя ветхую рубашку
Гюльриз, надела новое платье, цветистую тюбетейку и, думая только о том,
какая сейчас будет красивая, стала подвязывать к своим черным волосам
шерстяные красные косы с пышными кистями на концах.
Среди черных скал образовалась небольшая круглая площадка. Находясь в
самой середине сиатангской долины, но отгороженная от нее громадой
остроугольных, расколотых страшными ударами гранитных глыб, эта площадка
казалась местом диким и неприветливым. Однако ущельцы утрамбовали ее глиной,
принесенной от головы оросительного канала, приспособили для молотьбы
хлебов.
Несколько хозяйств, объединясь, приводили сюда двух или трех быков и,
рассыпав на площадке ровным слоем колосья, гоняли животных по кругу. Копыта
кружащихся, мнущих колосья быков медленно выбивали зерно. Иного способа
молотьбы в Сиатанге не знали.
Каждое утро ущельцы стаскивали к площадке снопы, рассаживались вокруг
по скалам и, дожидаясь своей очереди, вели бесконечные разговоры.
В тот день, когда Шо-Пир отправился на поле проверить свои подсчеты
урожая, а Ниссо в сопровождении Кендыри побывала у купца, к ущельцам,
сидящим вокруг площадки, спустился Исоф. Снопы за его спиной высились
огромною грудой. Это был весь урожай с крошечного клочка его земли.
Сбросив снопы, Исоф молча присел на камень, тяжело дыша и не вытирая
пота, который крупными каплями катился по оспинам его худого лица. Хотя
Исофу было только тридцать четыре года, он казался стариком.
Здесь же с самого утра сидел Карашир: Худодод обещал ему привести быка
от одного из соседей.
Карашир кивнул на сброшенные Исофом снопы.
- Все, Исоф?
- Все. Весь урожай за год! - мрачно вымолвил Исоф.
- У меня и то в три раза больше будет!
- Не хвались! - слизывая с губ пот, произнес Исоф. - У тебя такой же
голод, как и у меня, будет... Для всего селения покровитель приготовил
голод. А может быть, и еще какую-нибудь беду.
- Почему думаешь так, Исоф?
- Грех на селении нашем.
Ущельцы, сидящие на скалах, переглянулись. Карашир спросил:
- О каком грехе говоришь?
- Что буду тебе отвечать? Установленным пренебрегаешь!
Карашир, сунув руку за овчину, почесал волосатую грудь. Помедлил,
подумал - обидеться ему или нет? Но что все-таки хочет сказать Исоф?
- Все мы теперь забываем об Установленном, - медленно проговорил Исоф.
- Слишком много Шо-Пира слушаемся. Бахтиор стал мудрейшим у нас.
За Бахтиора Карашир обычно вступался, Исоф правильно рассчитал; Карашир
провел пальцами по впалым щекам и сердито буркнул:
- Не вся мудрость в твоем Бобо-Калоне.
- Не вся! Старый судья Науруз-бек тоже человек мудрый. Я сегодня слушал
Науруз-бека. В таком большом деле всем не мешало бы послушать его совета.
Два тощих быка, шурша колосьями, неторопливо ходили по кругу. Шуршание
их копыт мешало ущельцам прислушиваться к словам Исофа. А он, наверное,
хочет сказать что-то важное! Ущельцы, сидевшие на скалах, спустились к
площадке и молча расположились вокруг Исофа. Убежденный, что все теперь
будут слушать его со вниманием, Исоф, свесив с колен коричневые руки и
смотря мимо людей на быков, произнес:
- Кендыри из Яхбара вернулся.
Умолк. Все ждали, что скажет он дальше. Но Исоф не торопился. Что же
тут важного? Кендыри много раз ходил в Яхбар и много раз возвращался. Может
быть, в Высоких Горах началась война? Или, может быть, исмаилитский живой
бог требует непредусмотренной подати от миллионов пасомых? Если так, это
действительно важно; кто из жителей Сиатанга не должен платить подати
Ага-хону? А вот с тех пор как нет в Сиатанге пира, никто за податью не
приходил. Что, если Кендыри принес весть о приближении халифа, который
потребует с сиатангцев все долги сразу?
- Говори, Исоф! - не вытерпел ущелец с седой, будто истлевшей, бородой,
владелец одного из кружащихся по площадке быков.
- Скажу, - поднял голову Исоф, освобождаясь от глубокого раздумья. -
Кендыри вернулся, сказал на ухо купцу, купец рассказал Науруз-беку... Знаете
Азиз-хона?
- Кто не слышал о нем! - вымолвил владелец быка. - Большим ханом был.
- Он и сейчас большой хан, - важно промолвил Исоф. - Весь Яхбар покорен
ему. Тропа в большие города проходит мимо селений его. Захочет - закроет
тропу. Захочет - товары Мирзо-Хура мимо него не пройдут. Человек власти!
Исоф замолчал опять. Когда простой факир, подобный Исофу, начинает
говорить с важностью, надо прислушиваться: наверное, сила появилась за
спиною его. Все ждут, что скажет он дальше.
- Весной молодую жену захотел купить Азиз-хон. Красивую жену взял он
себе в наших горах. Сорок монет заплатил за нее. Любит ее. Хорошо у него
жила. Зовут ее - слышали это имя? - Ниссо.
- Какая Ниссо? - быстро вымолвил Карашир. - Не та ли...
- Я говорю, Карашир! - повысил голос Исоф. - может быть, ты говорить
теперь будешь?
Ущельцы переглянулись. Карашир умолк.
- Та! - хлопнул себя по колену Исоф. - Та самая! Негодная тварь убежала
от Азиз-хона, а мы, дураки, пустили ее в наше селение. Живет у мужчин, а мы
молчим! Гнев Азиз-хона на нас!
Последние слова Исофа прозвучали угрозой. Молчаливые ущельцы
почувствовали ее. Нехорошо, когда большой человек гневается на маленьких...
Каждый из сидящих вокруг Исофа размышлял по-своему, но каждый из них
понимал, что такое дело - совсем не простое дело. Если бы не новая власть в
Сиатанге, следовало бы прогнать женщину, отдать ее Азиз-хону; сказать ему:
не знали мы, кто она. Но женщина сейчас у Шо-Пира и Бахтиора! Все может
кончиться не так просто...
Понял это и Карашир и сказал:
- Может быть, теперь уже не захочет взять ее к себе Азиз-хон? Наверно,
проклял такую жену!
- Проклял? Все равно, сначала захочет вернуть. Что сделает он с
неверной женой потом - какое нам дело? Мы должны вернуть ее мужу.
- Шо-Пир не позволит! - убежденно вымолвил Карашир. - время теперь
другое.
- Плевать на Шо-Пира нам! Чужих слушаем.
- Не чужой он. О нас заботится.
- О себе он заботится! Руки длинные! - раздраженно перебил Исоф.
- Неверно это! - выкрикнул молодой ущелец.
- Неверно это, и я говорю! - вскочил с камня другой.
Карашир осмелел, тоже вскочил с камня и, придерживая овчину, подступил
к Исофу:
- Стыдно тебе так говорить, Исоф! Когда ты был служкой у пира, тебя
ногой били в живот, когда я сеидам навоз собирал, камнями били меня... Кто
бьет нас теперь? Кто помог нам, если не наш Шо-Пир? Три года он здесь живет,
что сделал себе? Быков завел, коров, лошадей, сады? Ничего нет у него!
Гороховую похлебку, как и мы, ест! Бахтиор, скажешь, дом имеет, корову
имеет, сад у него? Плохо это? Неправда, хорошо это: всех нас беднее был
Бахтиор! У тебя, Исоф, больше ничего нет - ты работать не любишь. У меня
больше нет ничего, потому что... знаете все: грех на душе моей, больной
валяюсь, двужизненный дым голову мою кружит, а все-таки сквозь дым вижу я:
вода на пустырь пойдет - для нас. По слову Шо-Пира пойдет, - понимаем мы!
Теперь Шо-Пир женщину себе взял? Хорошо, пусть взял, не у нас отнял ее, сама
прибежала! Почему ему жены не иметь? Или Бахтиор не мужчина разве? Настоящий
мужчина не поделит жены с другим. Живут, как друзья, в одном доме, не
ссорятся, не убивают друг друга, значит, позора в их доме нет, значит, о
свадьбе скоро услышим!
Распаленный Карашир уже размахивал руками перед Исофом, а тот, мрачный,
стоя перед ним с искаженным лицом, напрасно старался его перебить.
- Слушай ты меня, нечестивец! - толкнув в грудь Карашира, прокричал,
наконец, Исоф. - Установленное собаке кидаешь? Об этом не буду с тобой
говорить, о другом слушай! Мирзо-Хур сказал: Азиз-хон закроет тропу, не
позволит ему покупать товары, голод придет, что будем делать тогда? Твоего
зерна, пока солнце до колена дойдет, не хватит. Моего зерна - до лодыжки не
хватит. Как без купца проживешь? Камни будешь варить? Колючей травой восемь
детей прокормишь?
Упоминание о голоде сразу подействовало на Карашира. Гнев его
улетучился. Отступив на шаг, он неуверенно произнес:
- Караван придет...
- Веришь? - язвительно протянул Исоф. - Я не верю. А еще скажу: злоба
Азиз-хона - нехорошая злоба. Из-за проклятой распутницы не надо ее вызывать!
Не я это говорю. Мудрость словами судьи Науруз-бека так говорит. Бога
гневим, Азиз-хона гневим, Бобо-Калона и купца гневим, из-за чего? Из-за
дряни чужой? На нее глядя, наши женщины повернутся спиною к мужьям. В глаза
нам станут плевать. Отдать ее Азиз-хону - делу конец, беды нам не будет.
- Правильно! Отдать! - послышались голоса сгрудившихся вокруг Исофа
ущельцев. - Истину говорит!
Карашир беспомощно оглянулся:
- Кричите! Сельсовет не допустит этого!
- Сельсовет? - усмехнулся Исоф. - Что нам твой сельсовет? Что такое
сельсовет? Твой Шо-Пир говорит: сельсовет делает, как народ решает! Слышишь,
что решает народ?
- Не народ здесь, двадцати человек не будет.
- Двадцати? Хорошо. Пусть весь народ соберется! Весь Сиатанг! Большое
собрание устроим. Увидишь, что скажет народ.
Крики спорящих уже разнеслись далеко. Не понимая, что происходит,
перепрыгивая со скалы на скалу, к площадке сходились другие ущельцы и
вступали в спор.
Люди, которых Ниссо никогда не видела, о существовании которых даже не
знала, здесь, среди черных, беспорядочно нагроможденных скал, решали ее
судьбу. Словно тучи сгущались над головой девушки, не ведающей о приближении
беды. Эта беда была страшнее пасти Аштар-и-Калона.
В узком проходе между иззубренными каменными громадинами показался
Шо-Пир. Увидев его, спорящие разом притихли.
- Что за шум, друзья? - спросил Шо-Пир, подойдя к площадке и оглядывая
взволнованных ущельцев.
Все молчали.
- Может быть, не хотите сказать мне, о чем был спор? Я не стану и
спрашивать.
- Собрание надо, - наклонившись над своими снопами и перебирая их,
угрюмо буркнул Исоф.
- Собрание? Зачем?
- Дела всякие есть.
- Какие? - сказал Шо-Пир так тихо, что его могли бы и не услышать. Но
все услышали и молчали.
- Какие дела, Исоф? - так же тихо повторил Шо-Пир.
Глядя сбоку на пыльные сапоги русского, Исоф проворчал:
- Разные есть.
- Скажи ты, Карашир.
- Я скажу! Твоя Ниссо, Шо-Пир, - жена Азиз-хона. Требует ее Азиз-хон
назад... Вот о собрании разговор - не знаем мы, как народ решит...
Губы Шо-Пира сжались. Ущельцы сумрачно следили за выражением его лица.
Шо-Пир сдержался.
- Что же... Давайте устроим собрание... Только сейчас, пока молотьба не
кончена, некогда собираться. Вот в праздничный день, когда будем канал
открывать, - заодно тогда.
Резко повернулся, пошел прочь от площадки. Худшее из того, что он мог
предвидеть, случилось.
Но, поднимаясь к своему дому, сосредоточенный, злой, Шо-Пир ни на миг
не усомнился в том, что он победит. Будет большая борьба, и надо продумать
все как можно тщательнее. Хорошо уж и то, что ему удалось выиграть время. Во
всяком случае, ни при каких обстоятельствах, никогда, Ниссо не будет отдана
Азиз-хону! Ибо в Сиатанге есть и будет всегда советская власть! А откуда
идет злоречье, ему, кажется, было ясно.
Долго возится Бахтиор, собирая между камнями глину, и, наконец,
наполнив обе корзины, щелкает осла хворостиной. Под желобами старого канала,
среди камней, орошенных падающими каплями, растут маленькие цветы "хаспрох".
Сорвав цветок, Бахтиор закладывает его стебель под тюбетейку, весело
напевает однотонную песенку, одну из тех коротеньких песенок, какие ущельцы
поют всякий раз, когда ничто не нарушает их беспечного настроения:
Из нас двоих беспокойней ветер:
Я терплю, он терпеть не хочет, -
Он трогает лицо твое и трогает волосы,
А я только жду и смотрю на них...
Бахтиор не думает о том, что поет; подгоняя осла, он следит, чтоб тот
не зацепился корзиной за какой-нибудь выступ. Спускаясь через крепость,
Бахтиор мельком взглядывает на старую черную башню. Бобо-Калона не видно, но
он, вероятно, в башне, - Бахтиору хочется петь громче, чтоб старик, услышав,
позавидовал факиру, у которого сегодня так хорошо на сердце.
- "Из нас двоих беспокойней ветер", - громче повторяет Бахтиор и
внезапно меняет песенку:
Козленок бежит по тропе,
Ружьецо заряжено,
И я попадаю в печень!
А может быть, старика нет дома? Но куда мог бы он уйти? Ах, все равно!
Что думать о старике, у которого жизнь на исходе! А вот у Бахтиора она
только еще начинается. Весело жить - солнце такое высокое. Даже осел, топоча
копытцами, весело помахивает хвостом. Камни, смазанные глиной, лягут прочно.
И сложенная Бахтиором стена, может быть, простоит еще дольше, чем стены этой
старинной крепости. Хороший у Бахтиора дом, теперь будет он еще лучше.
Конечно, лучше: в нем теперь слышен смех, очень веселый смех - радостный,
легкий смех.
Я терплю, он терпеть не хочет, -
Трогает лицо твое и трогает волосы...
Бахтиор идет и поет, спускаясь к селению, и цветок под его тюбетейкой
покачивается, щекочет лицо, благоухает... "Трогает лицо твое и трогает
волосы..." Слова песенки входят постепенно в сознание, в сотый раз Бахтиор
повторяет их. Бахтиору приятно, что смысл этих слов теперь по-новому понятен
ему.
Внизу селение. А вот среди скал - круглая маленькая площадка. Два
чьих-то быка ходят по ней, кружась, а у площадки собрались люди. Один бык -
белая шея, белое пятно на левом боку. "Чей это бык?" - думает Бахтиор, не
прерывая песенки. Ах, все равно - молотьба идет так, как надо, все идет так,
как надо... Свежий ветерок тоже дует, как надо, весело дует!
Бахтиору незачем спускаться к площадке: огибает склон поверху, гонит
осла домой... И кровать надо для Ниссо сделать - деревянную, широкую,
русскую, - так, чтоб она заняла половину пристройки, которую сложит Бахтиор
из камней. Теперь Бахтиор - спасибо Шо-Пиру! - уже сам сумеет сделать такую
кровать. "Из нас двоих беспокойней ветер... А я только жду и смотрю на
них..." Слова путаются, Бахтиор напевает, думая совсем не о песенке.
Подходит к своему саду, минует его; осел сам останавливается у камней,
сложенных возле террасы. Сейчас Бахтиор выроет яму, растворит водой глину,
до вечера будет работать... Гюльриз сидит на террасе, вяжет пестрый узор, а
где же Ниссо? Но зачем искать ее взглядом, - наверное, в саду, сейчас
выйдет.
И, сгрузив глину, сбросив халат, Бахтиор принимается за работу.
Из комнаты на террасу выходит Ниссо, и Гюльриз испытующе глядит на
сына, - что скажет он?
Ниссо - в новом платье, со спущенными на грудь красными косами, в
синей, вышитой яркими цветами лотоса тюбетейке, - в самом деле, такая Ниссо
очень хороша, совсем взрослая девушка... Ниссо смотрит на Бахтиора, стоит
рядом с Гюльриз, но ждет, чтобы Бахтиор увидел ее.
И, опустив измазанные жидкой глиной ладони, Бахтиор глядит на Ниссо,
полный недоумения, не сразу понимая, что именно преобразило ее.
Трет ладонь о ладонь, сбрасывая с рук комья глины, медленно подходит к
террасе, поднимается по ступенькам и останавливается перед Ниссо.
- Где ты это взяла? - не скрывая восхищения, произносит он.
Ниссо прямо глядит на него, чуть-чуть улыбается и молчит.
- Скажи, Ниссо! Почему молчишь? Нана, ты ей дала?
- Откуда у меня, сын, такие богатства?
Обе они улыбаются, но зачем шутить, - откуда у Ниссо этот наряд?
- Где взяла? - уже с оттенком тревоги повторяет вопрос Бахтиор.
- Ведь, правда, красивое, Бахтиор? - лукаво дразнит его Ниссо. - Где
взяла, спрашиваешь?.. Скажу! Хороший человек дал.
- Как это дал? Кто мог дать? Шо-Пир?
- Разве, кроме Шо-Пира, в Сиатанге других нет?
- Других? - Сердце Бахтиора сжимается. - Кто тебе это дал? Говори!
- Хороший человек, говорю, - продолжает улыбаться Ниссо.
Бахтиор вплотную подступает к Ниссо, лицо его сумрачно, глаза остры и
тревожны.
- Не шути, Ниссо... Кто дал? Даром дал?
Гюльриз с беспокойством следит за сыном. Ниссо уже не улыбается, в
глазах Бахтиора она никогда не видела гнева. И в ответе ее неуверенность.
- Кендыри зовут этого человека... Приходил сюда...
- Кендыри тебе дал? - Бахтиором сразу овладевает ярость. - Покровитель,
что такое еще?! Почему Кендыри? Откуда знаешь его?
- Почему не знать? Разве плохой человек? - И, пугаясь угрожающего
взгляда Бахтиора, Ниссо добавляет: - Не Кендыри дал, купец дал, ходила к
купцу я... Добрый он...
Бахтиор хватает Ниссо за плечи и, не помня себе, кричит ей в лицо:
- Купец... Платье... Кендыри... Ходила... Сумасшедшая ты... Собака он.
Снимай платье! Снимай, говорю!
Трясет за плечи ошеломленную Ниссо, сбрасывает с нее тюбетейку, треплет
за ворот платья. Ниссо, вскрикнув, пытается вырваться. Гюльриз вскакивает,
кладет руки на плечи Бахтиору.
- Перестань, мой сын! Оставь ее. Ты с ума сошел!
И в тот же миг раздается зычный голос Шо-Пира:
- Бахтиор!
Бахтиор сразу оставляет Ниссо, она опускается на пол, скрыв руками
лицо.
Шо-Пир уже на террасе.
- Что происходит здесь? Ошалел, Бахтиор? В чем дело?
- Бешеный он! - бормочет Гюльриз. - Ой-ио! Сына своего в первый раз
боюсь.
Не зная, куда девать руки, Бахтиор теребит шерстяной поясок. Ему
стыдно, но гнев еще не прошел.
- Вот! Красивая она - видишь? Спроси, где платье взяла? Куда ходила? С
кем разговаривала?
- Ходила! Разговаривала! - передразнивает Шо-Пир. - Ты, может быть,
хан?
Лицо Шо-Пира побагровело. Бахтиору непереносим его взгляд. Гюльриз
делает вид, что продолжает вязать чулок. Подогнув ноги, Ниссо испуганно
смотрит с пола на мужчин. Шо-Пир, смягчившись, обращается к ней:
- Кто дал тебе платье?
- Не сердись, Шо-Пир, - тихо отвечает Ниссо, и большие взволнованные
глаза ее блестят надеждой. - Кендыри сюда приходил, к купцу мы ходили...
Купец дал...
- Купец? С Кендыри, говоришь, ходила?
Зачем Шо-Пир смотрит на нее так? Лучше бы закричал, как Бахтиор! Ниссо
молчит. Ей хочется сказать правду Шо-Пиру, но... ведь именно ему она хотела
тайно приготовить подарок. Сказать про платье... - значит сказать про
шерсть, а эта шерсть...
Гюльриз видит, что Шо-Пир хмурится больше. Она угадывает его мысли и
решает вмешаться:
- Не то думаешь ты, Шо-Пир! Шерсть она вяжет, у меня учится. Купец
заказал ей чулки, шерсть дал, за работу дал плату.
- Нана! - с обидой взмаливается Ниссо. - Я просила тебя...
- Молчи, молчи! Ты просила... - прикрикивает на нее Гюльриз. - Теперь
дело другое - видишь, что получается! Лучше пусть знает Шо-Пир.
- А зачем чулки вдруг понадобились ему? - оборачивается к старухе
Шо-Пир, но Бахтиор не дает ей ответить:
- Пусть снимет платье, я брошу его в нос купцу!
Шо-Пир внимательно разглядывает одеяние Ниссо. Платье идет ей, она
действительно в нем хороша. Шо-Пиру жалко Ниссо.
- Вот что, Бахтиор... Решим дело иначе. Купец дал. Неспроста дал - не
знаю, какой расчет. Но рассудим так: купец дал товар, на то и купец он,
чтобы товары свои продавать. Платье цену имеет, он хочет, чтоб Ниссо
отработала. Но за шерсть и за платье он получит расчет иначе: я сам
рассчитаюсь с ним, а платье пусть останется у нее, пора приодеться ей!
- Как рассчитаешься?
- Мое это дело... А ты, Ниссо, без нас в селение больше не ходи.
- Конечно, - подхватывает Бахтиор. - Пусть не ходит! Незачем ей туда
ходить!
- Не потому, Бахтиор, - перебивает Шо-Пир, возвращаясь к обычной
насмешливости. - Вижу я, какая ты советская власть, готов запереть Ниссо. По
другой причине...
- По какой, Шо-Пир?
- По такой, - Ниссо, слышишь? - есть люди, которые хотят тебя вернуть
Азиз-хону.
Если бы сам Азиз-хон появился вдруг на террасе, Ниссо, вероятно,
испугалась бы меньше. Она побледнела.
- Не пугайся так, глупая, - сказал Шо-Пир. - Хорошо, что мы знаем об
этом. И не тревожься. Ты останешься в Сиатанге. Только, пока я не разрешу
тебе, никуда не ходи. А сейчас вставай! Бахтиор, ты, кажется, глину привез?
Подними-ка вон тюбетейку. Эх ты, вымазал всю!
Был вечер, один из тех тихих вечеров, что бывают только в горах, когда
ущелье, остывая от дневного жара, до краев налито тишиной, когда каждый
шорох, звук скрипнувшего под ногами камня, всплеск ручья на маленьком
перепаде разносятся над долиной, свидетельствуя об ее величавом покое.
Лунный свет медленно овладевал миром. Где-то внизу печально и тихо рокотала
пятиструнка, да время от времени в другой стороне переливалась свирель.
Бахтиор давно взобрался по лесенке в свой шалаш, а Ниссо отправилась
спать в комнату.
Шо-Пир сидел на террасе, спиною к саду, сжимая пальцами колено, и,
легонько покачиваясь, беседовал с сидящей перед ним на ковре прямой и
строгой Гюльриз.
Шо-Пир рассказывал старухе о том, как живут женщины за пределами гор,
там, где навсегда уничтожено Установленное. И пока Шо-Пир ни слова не сказал
о Ниссо, старуха слушала его молча, только поблескивая в лунном свете умными
запавшими глазами. Мысль привлечь женщин к тому собранию, что решит судьбу
Ниссо, казалась слишком смелой даже самому Шо-Пиру. Но он надеялся на
Гюльриз, только она могла ему помочь.
Но вот Шо-Пир сказал все. Молчала Гюльриз, передумывая ту свою заветную
думу...
- Теперь Азиз-хон требует нашу Ниссо... - как будто без всякой связи со
сказанным произнес Шо-Пир. - Как ты думаешь, Гюльриз, отдадим?
- Красивая! - осторожно ответила Гюльриз. - Не забудет ее Азиз-хон!
- А что сделает, если не забудет?
Лучше Шо-Пира понимала Гюльриз, что такой человек, как Азиз-хон, пойдет
на все. Лучше Шо-Пира знала она былое могущество Азиз-хона. В ту пору, когда
Сиатангом владели сеиды и миры, даже Бобо-Калон боялся его, хотя и считал
себя независимым от Яхбара. Боялся больше, чем русского наместника, жившего
со своими солдатами в той крепости, что сейчас называется Волостью. Пусть
Сиатанг считался владением русского царя, Азиз-хон к Сиатангу жил ближе, и
слова его всегда были делом потому, что русские солдаты с винтовками никогда
не приходили сюда... И что Азиз-хону мог бы противопоставить Шо-Пир? А мало
ли что может придумать Азиз-хон, решив любым способом вернуть Ниссо?
Гюльриз ответила:
- Страхом свяжет сердца наших мужчин.
- Чего им бояться?
- Бахтиор - один, ты - один. За тобой мужчин мало, как трава они,
против ветра стоять не могут. Против тебя - обычай, сильные еще у нас
старики; молодые, как старики, есть тоже.
- При советской власти дела решает счет голосов.
- Плохой счет будет у наших мужчин! Мало таких, кто против
Установленного пойдет.
- А ты пошла бы?
- Я женщина.
- Женщина тоже может поднимать руку!
"Что он сказал? Если правильно его понять... Даже десять кругов прожив,
от сиатангских мужчин не услышать бы этого! Но Шо-Пир сказал так, он думает
так, - вот как пристально смотрит, ждет!.."
- От рождения пророка Али такого не было, - наконец тихо произнесла
Гюльриз.
- Советской власти тоже от рождения Али не было, - очень серьезно
сказал Шо-Пир.
- Кому нужна одна моя рука?
- Женщин в селении много. Бахтиор сумеет их сосчитать.
- Сумеет... - полушепотом подтвердила Гюльриз. - Если их много будет.
Думаю я: головы у женщин одинаковы, руки - не знаю, как...
- Если ты пойдешь по домам разговаривать...
Приложив руку к морщинистому лбу, Гюльриз, казалось, забыла о Шо-Пире.
Он слушал дальние переливы свирели.
- Так, Шо-Пир, - твердо произнесла старуха. - Знаю тебя. Ты, когда
чего-нибудь хочешь, стены не знаешь. Но только я по домам не пойду.
- Не пойдешь? - встревожился Шо-Пир. - Как же тогда?
- Не пойду по домам. Не смотри на меня так. Глупая, может быть, я, но
по-своему думаю. В каждом доме мужчина есть. С женщиной один раз я поговорю
и уйду, он потом сто раз ей наперекор скажет; ударит ее, дэвов страха на нее
напустит... Надо иначе делать, по моему разумению. Надо с теми говорить, кто
далеко от мужчин. Половина наших женщин сейчас на Верхнем Пастбище живет,
скот пасет. Ты знаешь закон Установленного: ни один мужчина не может туда
пойти. Даже если жена там родит, не может пойти туда, если пойдет - все
женщины камнями прогонят его. Потому что они - Жены Пастбищ. Скажи, когда
собрание будет?
- Нана! - в волнении, первый раз называя так Гюльриз, вскочил Шо-Пир. -
Лучше и не придумать! Мудрая ты! Иди к ним. Через три дня молотьбе конец.
Один день на канале работать будем. На пятый день собрание надо устроить.
Как думаешь?
- Хорош, Шо-Пир, на пятый... Сядь здесь, зачем стоишь? Вот так...
Завтра я пойду на Верхнее Пастбище, и останусь там. После молотьбы кончается
время летнего выпаса. После молотьбы все мужчины вместе должны подняться на
Верхнее Пастбище. Им надо увести вниз своих жен и свой скот; надо взять
посуду, и вещи, и все, что дал скот за лето... Скажи всем: сначала собрание,
потом пусть идут наверх... А я скажу Женам Пастбищ: есть новый закон -
спускаться в селение и гнать скот без мужчин. И мы придем в день собрания...
- А если побоятся женщины?
- Если женщины побоятся, тогда Ниссо нужно отдать Азиз-хону. Я этого не
хочу, Шо-Пир. Если побоятся женщины, значит, моему сыну не нужна его глупая
мать, значит, мне умереть пора...
Поймав себя на полупризнании, Гюльриз положила костлявые пальцы на шею
Шо-Пира, привлекла его лицо к себе, пытливым, долгим взглядом изучала
выражение его глаз.
Шо-Пир ждал, не понимая порыва старухи.
- Так, Шо-Пир, - голос Гюльриз дрогнул. - Я смотрю на тебя, и я верю
тебе, ты, наверно, святой человек, тебе можно сказать... Знать мне надо: ты
хочешь, чтоб Бахтиор взял в жены Ниссо?
Шо-Пир сам не раз думал об этом. И сейчас, прямо смотря в блестящие
глаза Гюльриз, он, не задумавшись, коротко сказал:
- Да, Гюльриз.
Но сказав так, почему-то сразу почувствовал свое одиночество, душа его
затомилась. Однако он поборол себя. Сняв руку Гюльриз и не отпуская ее,
горячо воскликнул:
- Да, нана, твоему сыну я хочу счастья... Завтра утром иди на Пастбище!
И тихо добавил:
- А мне теперь можно спать...
- Правда, Шо-Пир, время спать! - ласково промолвила Гюльриз и провела
ладонью по мягким его волосам, как будто большая голова Шо-Пира была головою
сына.
Шо-Пир встал и, подумав о том, что за все последние семь лет жизни
никто ни разу не гладил его волос, со стесненным сердцем направился к
платану, под которым его ждала кошма, заменяющая постель.
Лег на кошму. Залитый лунным светом, пробивающимся сквозь листья,
вспомнил далекий, родной, уже семь лет не существующий дом... И тот страшный
день, когда на своей полуторатонке, полной голодных, исхудалых
красноармейцев, он подъехал к этому дому и увидел в саду только обугленные
развалины. За два часа перед тем почтарь из его маленького городка позвонил
по телефону в город и успел сказать: "Скорее! Пришли басмачи!.." В
телефонную трубку был слышен выстрел, и голос почтаря оборвался... Шо-Пир
гнал машину полным ходом. Въезжая в селение, видел пустившихся наутек
всадников, подъехал к своему дому. Но было поздно: в развалинах лежали
обугленные трупы двух женщин, ребенка и старика. Это были жена, мать, отец и
маленькая дочка Шо-Пира. У всех, кроме дочки, оказалось перерезанным горло,
а у дочки размозжена голова... И молодой шофер Санька Медведев, похоронив
близких, уехал из городка навсегда и в тот же вечер вступил добровольцем в
Красную Армию, чтобы бить, бить, без конца бить и уничтожать басмачей...
С тех пор никто никогда не приласкал его. Впрочем, однажды ласковая
рука гладила его плечо. Но это была мужская, загрубелая в горных походах
рука. Разве забудется день, когда все товарищи его, демобилизовавшись,
отправлялись на север? Был вечер в пустынных горах, - каменная долина далеко
простиралась от юрт. Командир, усатый, дородный Василий Терентьич, ввел
Медведева в юрту, приказал всем выйти и, усадив боевого товарища рядом с
собой, завел с ним разговор по душам. "Возвращайся с нами, чего ты блажишь?"
- уговаривал командир, но Медведев молчал и, наконец, упрямо сказал: "Не
поеду, не сердись на меня, Терентьич!" - и все впервые рассказал командиру.
Тот слушал его, пощипывая выцветшие усы, поглаживая ладонью его плечо.
"Понимаю, парень, - сказал, - коли не к кому тебе возвращаться, делай
по-своему. Правильно тебе говорил комиссар. Я и сам привык к этим горам,
кажется, никогда б не расстался... Ну, сыщи себе родимый дом, здесь живи.
Везде есть хорошие люди, может, и правда сумеешь быть им на пользу!"
Вытянувшись гуськом, уходил отряд. Косые лучи закатного солнца освещали
выгоревшие гимнастерки красноармейцев. Они удалялись верхами, и Медведев
готов был уже рвануться за ними, - так больно вдруг стало сердцу. Но он
опомнился, оглянувшись, увидел старого дунганца с жиденькой бородкой,
который стоял за ним, сложив на животе руки, не стесняясь слез, катившихся
по желтому, исхудалому лицу. Это был Мамат-Ахун, целый год скитавшийся
вместе с отрядом проводник, которому тоже некуда было возвращаться и который
решил стать погонщиком оставленных отрядом в кочевом ауле больных
верблюдов... И, глядя на него, Медведев чуть было не заплакал сам.
И вот сколько лет прошло, старая жизнь забыта, даже слова "Санька
Медведев" кажутся чужими, относящимися к кому-то другому, - было бы странно
вместо привычного Шо-Пир услышать вдруг прежнее имя, - а ласка грубоватой
мужской руки словно и сейчас ощущается на плече... И теперь это вот -
неожиданное прикосновение старухи! "Прав был Терентьич! - думает грустный
Шо-Пир, глядя на раздробленный листьями лик луны. - Тут тоже есть хорошие
люди, и что ж - разве не на пользу им я живу?"
Но горькие мысли, которые Шо-Пир всегда умел отогнать, на этот раз
завладели им на долгие часы ночи... И, лежа на кошме, не противясь печальным
раздумьям, Шо-Пир вспоминал всю свою странную, суровую, одинокую жизнь... И,
сам не зная почему, неожиданно для себя задумался о Ниссо... Долго думал о
ней с какой-то заботливой нежностью и постепенно перешел к мыслям о том, чт
и как должен сделать он, чтобы добиться признания всеми ущельцами ее права
жить в Сиатанге... Размышления Шо-Пира стали точными, он снова был
человеком, воздействующим на ущельцев силой своего простого, решительного
ума, человеком, знающим, чего хочет он, и умеющим подчинять себе
обстоятельства так, чтобы они помогали ему идти к ясно представленной цели.
И когда все нужные выводы были сделаны, когда луна закатилась за гребень
горы, а привычный шум ручья снова возник в ушах, Шо-Пир повернулся на правый
бок и погрузился в сон. Но в самый последний миг сознания, услышав храп
Бахтиора, подумал: "А Бахтиор, конечно, любит ее!.."
Как в зало суда, в мирозданье,
Сквозь тяжесть застывших пород,
Легкости высшей созданье -
Мысль - кодекс познанья несет...
...Так встаньте ж! То Жизнь идет!..
Судья камней
По календарю сиатангцев солнце стояло на коленях мужчины, потому что -
впервые этой осенью - вдоль ущелья дул сильный холодный ветер. Это
исполинские ледники напоминали людям о своем существовании. Ночь была с
легким заморозком, и потому факиры в своих просвистываемых ветром домах
просыпались раньше обычного. Проснувшись, они сразу вспоминали, что хлеба
уже убраны и что можно никуда не спешить. Вертясь от холода под рваными
овчинами и халатами, каждый тешил свое воображение размышлениями о том, что
не плохо было бы разжечь огонь в очаге и, присев перед ним на корточках,
набраться на весь день тепла. Но зима была еще далеко, и тратить ветки
колючки из запаса, заготовленного на зиму, мог бы только неразумный и
расточительный человек. Нет, лучше проваляться под своим тряпьем до тех пор,
пока солнце не встанет прямо над крышей дома и лучами переборет холод,
принесенный ветром от ледников.
Только Бахтиор и Шо-Пир в это утро поднялись, как и обычно, рано.
Накануне новый канал был окончен, русло расчищено на всем протяжении - от
крепости до пустыря, и лишь в голове канала осталась огромная каменная
глыба, преграждавшая путь воде. Эту глыбу Шо-Пир решил убрать в
торжественный день открытия канала. Разговоры о советском празднике, о воде,
о новых участках, о большом собрании велись по всему Сиатангу.
Направившись к пустырю, чтобы разметить и обозначить новые участки,
Шо-Пир и Бахтиор зашли сначала к Исофу, затем к Караширу, разбудили их и
вместе с ними пришли на пустырь. Ветер дул непрерывным потоком; казалось
непонятным - откуда берется такая плотная, давящая масса воздуха; камни
пустыря, пропуская ветер в свои расщелины, пели тоненькими протяжными
голосами; слова, произносимые Шо-Пиром, уносились вниз по долине и почти не
были слышны спутникам. Карашир ежился, горбился, кутаясь в лохмотья овчины,
Исоф непрестанно поправлял свою раскидываемую ветром бороду, Бахтиор поднял
ворот халата, и только Шо-Пир шел легко и свободно, словно никакой ветер не
мог проникнуть сквозь туго обтянувшую его гимнастерку.
Шо-Пир любил ветер и в такую погоду всегда становился веселым.
Ни одного облачка не было в небе, оно казалось нежней, чем всегда, и
прозрачность его представлялась тем более удивительной, что несущийся
плотный воздух, казалось, можно было видеть, и не только слышать и ощущать.
Грядя нагроможденных скал отделяла селение от пустыря. Она обрывалась
невдалеке от жилья Карашира. Пустырь - нижняя узкая часть долины - был
сплошь, до самой реки, усеян мелкими камнями. В проходе между скалистой
грядой и обрывом к реке Сиатанг виднелась лавка Мирзо-Хура. Мимо нее
проходила тропа, ведущая из селения через пустырь к мысу, за которым
начиналось глухое ущелье. Купец неспроста поставил свою лавку именно здесь:
ни один человек, поднимающийся от Большой Реки, не мог бы обойти купца
стороной.
Новый канал, пройдя все селение, вступал в пустырь между лавкой купца и
грядою скал. Здесь он разветвлялся на десяток узких, веерообразно
расходящихся канавок; каждой из них предстояло оросить один-два участка.
Канавки по краям были выложены камнями, кое-где подкреплены ветками
кустарника и принесенной из-за крепости глиной.
Бродя по этим, пока еще не тронутым водою канавкам, Шо-Пир и его
спутники складывали на каждом участке каменную башенку. Шо-Пир выискивал
плоский обломок сланца и острым камешком вырисовывал на нем хорошо понятные
сиатангцам изображения.
Карашир и Исоф с недоумением следили за возникающими под рукой Шо-Пира
рисунками.
- Зачем это? - спросил Карашир, когда Шо-Пир поставил на первой башенке
осколок сланцевой плитки с нацарапанным на нем скорпионом.
Шо-Пир отделался шуткой и обозначил несколько других участков
изображениями рыбы, змеи, козла...
Карашир и Исоф продолжали работу, решив про себя, что Шо-Пир совершает
какой-то недоступный их пониманию священный обряд. Когда Карашир,
всматриваясь в укрепленное на одной из башенок замысловатое изображение
дракона, не утерпел и, качая с сомнением головой, осторожно спросил: "Что
будет?" - Шо-Пир коротко по-русски ответил ему: "Жеребьевка", но тут же
рассмеялся и объяснил, что в день открытия канала ущельцы будут тянуть
наугад камешки с такими же точно рисунками.
- Вытянешь Змею - тебе участок Змеи достанется, вытянешь Рыбу - участок
Рыбы.
Карашир сказал, что Шо-Пир это мудро и справедливо придумал, но был
разочарован: в действиях Шо-Пира не оказалось ничего священного и
таинственного.
Затем вместе с Исофом Карашир отстал и долго ходил молча, складывая
новые башенки. А потом подошел к Шо-Пиру:
- Значит, большой праздник будет?
- Конечно, большой! Как же не праздник, когда такие, как ты, бедняки
участки для посева получат?
- Хорошо, большой праздник! - мечтательно подтвердил Карашир. - Баранов
зарежем, плов сварим, гору лепешек на молоке напечем. Ешь целый день! Вот
такой толстый живот у меня будет! - Карашир развел руками и, ткнув пальцев
Исофа, хихикнул: - У него кожи на животе мало, наверное лопнет! А еще,
Шо-Пир, скажи: музыканты будут играть?
- Словом, ты, я вижу, когда-то на ханском празднике был? А мяса там
много ел?
- Сам не был я, Шо-Пир... У сеидов был праздник... Я факир, факиры
рядом стояли, смотрели... Много мяса было... Ио! Наверное, сорок баранов
резали! Теперь все факиры на празднике будут, тоже надо баранов, ну, пусть
не сорок, пусть десять. Нет, знаешь, лучше, пожалуй, двадцать... Где столько
мяса возьмешь?
- А когда тот праздник был, где сеиды баранов брали?
- Своих резали, - быстро ответил Карашир, но осекся: - Нет, не своих -
у факиров брали тогда, у нас брали, мой маленький ягненок тоже на плов
пошел.
- Значит, и теперь у тебя возьмем!
- Хе! - лукаво сощурился Карашир. - У меня нет барана.
- Нет? Ну, и есть ты не будешь! - решительно вставил молча слушавший
Бахтиор.
- Как это? Все будут, а я не буду?
- Почему ты думаешь, Карашир, что все будут? - спросил Шо-Пир. - а
другие где баранов возьмут? Или своих последних зарежут?
Карашир соображал медленно:
- Как же будет?
- Обойдемся и так...
- Праздник без еды? - с досадой сказал Карашир. - Значит, нам, как и
при хане, есть не дадут?
- А кто дать должен?
- Кто праздник устраивает. Власть!
- А власть - это кто? Вы же сами - власть. Ты, кажется, думаешь: у меня
или у Бахтиора сотня баранов есть? Подарить могу?
Карашир умолк. Перед его опущенными глазами были снова только сухие
камни. Совсем нерешительно добавил.
- И музыканты не будут играть?
- Скучный праздник! - сказал Исоф, повернулся спиной к Шо-Пиру, стал
разглядывать далекую ледяную вершину.
- Неужели, когда по вашим участкам вода побежит, скучно вам будет? -
произнес Шо-Пир, укрепляя новый рисунок на только что выложенной башенке.
Все промолчали. Задумчивым казался даже Бахтиор. До сих пор он как-то
не думал об этом, но ему тоже представлялось... впрочем, он был вполне
согласен с Шо-Пиром.
Ставя башенки, расчищая засоренные канавки на следующих участках, все
хранили молчание. Возле башенки, обозначенной изображением Рыбы, Карашир
остался один. Долго ходил вдоль канавки, определяя наклон участка,
представляя себе, как по нему будет разливаться вода; измеряя его шагами,
присматривался к камням, которые предстояло убрать перед посевом. Карашир,
казалось, забыл, что ему сейчас следует участвовать в общей работе. Шо-Пир
окликнул его:
- Что делаешь там, Карашир? Иди-ка сюда! Последняя башенка!
Карашир медленно подошел:
- Шо-Пир!..
- Что скажешь?
- Тот участок - Рыбы участок - мой будет, хорошо?
- Почему так? - сразу возбудился Исоф. - Пусть тогда мне пойдет!
- Нет мне! - горячо воскликнул Карашир.
Шо-Пир остановил их движением руки:
- Что спорите? Сказано - жребий!
- Пускай по жребию мне Рыба будет!1
- Не надо ему! Чем я хуже?
Шо-Пир рассмеялся:
- Идите-ка теперь по домам, кончена наша работа...
Карашир и Исоф, уныло перебраниваясь, ушли; ветер трепал их одежду.
Задумчивый Бахтиор обратился к Шо-Пиру:
- Правду они говорит, Шо-Пир! Без еды какой праздник?
- Я и сам думаю, Бахтиор... Но что можем мы сделать? В будущем году
иначе праздник будем устраивать, а пока... Вот если б караван сегодня или
завтра пришел - лепешек из муки напекли бы, а я бы им русский пирог
приготовил. Не ел, небось, никогда? Беспокоюсь я: черт его знает, не
случилось ли, с самом деле, беды с караваном? Ни слуха о нем. Нехорошо
получается.
- Очень нехорошо, Шо-Пир! Домой пойдем теперь?
- Пойдем, пожалуй...
По расчетам Шо-Пира, караван давно уже должен был прийти в Волость.
Кроме пути вдоль Большой Реки, по которому было десять дней караванного
хода, существовал и другой, соединявший Сиатанг с Волостью, путь - прямиком
через труднодоступный перевал Зархок и далее, к Большой Реке, соседним
зархокским ущельем.
Этим недоступным для каравана путем опытный и бесстрашный пешеход мог
бы достичь Сиатанга из Волости за семь суток.
Шо-Пир знал, что едва караван придет в Волость, оттуда сразу же пошлют
в Сиатанг гонца с сообщением, сколько ослов ущельцы должны направить за
предназначенными им грузами.
Но проходили и семь суток и десять суток, истекали все новые,
перекладываемые Шо-Пиром со дня на день сроки, а ни гонца, ни каравана не
было. Шо-Пир тщетно ждал хоть каких-нибудь известий.
Убежденный, что караван придет, Шо-Пир обещал ущельцам, строившим
канал, расплатиться с ними мукой. Поверив Шо-Пиру, многие из них ради работы
на канале пренебрегли домашним хозяйством. Вместо того, чтобы ставить
капканы в горах, запасаться съедобными травами, сеять неприхотливый,
многосемянный, но вредный для здоровья патук, они половину лета ворочали
камни, прокладывая новое русло. Даже те, у кого были посевы, не могли без
охоты, без заготовки съедобных трав, без новых долгов купцу обеспечить себе
на зиму хотя бы полуголодное существование...
Все свои надежды Шо-Пир возлагал на караван. Письмо, давно принесенное
Худододом из Волости, гласило, что караван покинул исходный пункт еще весной
- значит, должен был прийти обязательно. Мало ли что, однако, могло с ним по
дороге случиться! Во время блужданий с красноармейским отрядом Шо-Пир изучил
хорошо пространства Высоких Гор и потому теперь ясно представлял себе путь
каравана. Высочайшие перевалы, безлюдные нагорные долины тянулись вдоль
неспокойной Восточной границы; проведав о первом караване советских товаров,
рискнувшем направиться к малоисследованным окраинам Советского государства,
сюда могла ворваться какая-нибудь басмаческая банда...
Сейчас, шагая вместе с молчаливым Бахтиором по неровной тропинке,
Шо-Пир убеждал себя, что караван, конечно, обеспечен хорошей охраной и
потому, без сомнения, придет. Значит, нужно добиться, чтобы ущельцы до его
прихода не растратили зерно, - иначе им нечего будет сеять весною.
- Я вот что решил, Бахтиор, - заговорил Шо-Пир. - Надо, чтоб ущельцы
вынесли постановление: собранного зерна не трогать! Как ты думаешь, всем ли
понятно, почему урожай в этом году плох?
- Конечно, понятно: старый канал - воды мало; зимой лавины ломали его;
дождей почти не было; посеяли мало, помнишь, половина народу у купца зерно в
долг брала!
- Вот-вот, это главное: нехватка воды и купец... Если первое понимают
все, а второе...
- Шо-Пир! - неожиданно раздался звонкий голос Ниссо; ни Бахтиор, ни
Шо-Пир не заметили, что идут уже по своему саду.
Ниссо выбежала из-за деревьев.
- Посмотри, как я сделала, готово теперь!
- Что готово? - не сразу понял Шо-Пир, разглядывая ее руки, измазанные
до локтей ярко-красной краской.
- Выкрасила! Смотри!.. Иди сюда! - и осторожно, двумя пальцами, потянув
Шо-Пира за рукав гимнастерки, Ниссо увлекла его за собой.
Бахтиор пошел следом, чуть обиженный: и на этот раз, как всегда, Ниссо
обращалась к Шо-Пиру.
Возле обеденного стола под ветвями платана, натянутое между стволами
деревьев, алело полотнище; с него капала красная краска. Под деревом на трех
закопченных камнях стоял большой чугунный котел, до краев наполненный той
же, уже остывающей краской.
Полотнище было половиной ветхой красноармейской простыни Шо-Пира,
доселе хранимой бережно, а в это утро разорванной им пополам, чтобы сделать
два красных флага.
Рано утром Шо-Пир вместе с Ниссо кипятил в котле сушеный цветок
"садбарг", собранный за лето Гюльриз, чтоб варить из него краску для
шерстяных ниток. Ниссо отлично справилась: полотнище было выкрашено ровно,
без пятен.
Накануне Шо-Пир долго объяснял Ниссо, что такое флаг, и почему он
должен взвиться над новым каналом, и что такое революция, и кто был Ленин,
как заботился он обо всех людях в мире, которые честно трудятся. Ниссо
слушала Шо-Пира с огромным вниманием, шепотом повторяла великое имя и с
таким чувством, будто впервые проникает в сокровенную чудесную тайну,
запоминала каждое произносимое Шо-Пиром слово.
Все чаще в последние дни пыталась Ниссо представить себе громаду
необъятного мира, существующего за пределами видимых гор. Самые
фантастические, сказочные образы возникали в ее представлении всякий раз,
когда, наслушавшись Шо-Пира, не в силах заснуть, она подолгу смотрела на
звездное небо. Чем ближе к порогу неведомого подводил ее своими
удивительными рассказами Шо-Пир, тем скорее хотелось ей проникнуть в это
неведомое, узнать все, о чем до сих пор она никогда не думала.
Она безусловно поверила Шо-Пиру, что красный цвет - цвет свободы и
счастья, и сделала простой вывод: флаг над каналом будет талисманом, несущим
в Сиатанг счастье. И весь день, пока она красила полотнище, ей думалось, что
раз она сама трудится над созданием этого талисмана, прикасается к нему и
первая держит его в руках, то больше всего счастья и свободы достанется ей
самой... Вот почему так радостно она встретила Шо-Пира сейчас, вот почему
волновалась, желая услышать от него, что все сделано ею в точности так, как
нужно! И пока Шо-Пир разглядывал натянутое между стволами полотнище, Ниссо
блестящими от волнения лазами следила за выражением его лица. Шо-Пир был
доволен.
- Хорошо! - медленно сказал он и повторил: - Хорошо сделала! А второе
где?
- Вот! - просияла Ниссо, подскочила к котлу, сунула обе руки в красную
жидкость; осторожно извлекла из нее вторую половину окрашенной простыни и,
разворачивая ее над котлом, подала уголок Шо-Пиру.
- Держи! Крепко держи! - повелительно крикнула она, увидев, что уголок
чуть не выскользнул из пальцев Шо-Пира. - Сразу давай развернем, выше
подними, пусть вода сойдет, иначе будет пятно!
Шо-Пир повиновался, и второе алое полотнище натянулось между стволами
тутовника.
- Вот! - гордая своей работой, сказала Ниссо. - Это где будет?
- А этот мы над новыми участками поставим... Смотри, Бахтиор! Разве
может быть праздник скучным? А? Без красных флагов в самом деле соскучился
я! Смотри: горит! - И, как-то вдруг увидев за малым большое, с вдохновением
добавил: - Ведь мы же с тобой, Бахтиор, революцию делаем!
Бахтиор смотрел не на флаг, а на Шо-Пира. В эту минуту его простодушное
лицо выражало такую чистую радость, что Бахтиор улыбнулся, сам не зная чему.
Шо-Пир, словно вдруг спохватившись, что обнажил свою душу, с нарочитою
грубоватостью произнес:
- А ужин, Ниссо, конечно, забыла нам приготовить, а?
- Не забыла! - самолюбиво отвергла упрек Ниссо.
- Все гороховую похлебку варишь? Ох, надоело! Ну, тащи ее поскорей,
есть хотим. Иди же да руки хорошенько отмой!
Ниссо ушла нехотя, удивленная, даже обиженная внезапной строгостью тона
Шо-Пира.
- Так вот! - решительно повернулся к Бахтиору Шо-Пир. - Я и говорю:
нехватка воды и купец... Это главное. Вода теперь будет, а купец... Надо
сделать так, чтобы на будущий год от купца не зависеть. Запретить всем
молоть зерно, чтоб до прихода каравана потерпели. Караван привезет муку,
раздадим ее, пеки тогда хоть гору лепешек, а пока...
- Как запретишь, Шо-Пир?
- Всего бы лучше: собрать зерно у людей - да под один замок. Но так,
чтоб поняли и сами принесли добровольно!
- Не выйдет это, Шо-Пир! Никто не понесет! Старики скажут: отобрать
зерно у нас хотят. Не поймут!
- Не поймут? Пожалуй, так... Что ж, останется одно: пусть держат у
себя, но обещают не молоть до каравана...
- Если у себя - обещать могут...
- Вот! Ты и поговори со своими теперь же... А на собрании объявим,
попробуем убедить всех! Смотри, Ниссо похлебку несет! Молодец она, без
Гюльриз с хозяйством отлично справляется.
Ниссо осторожно несла на вытянутых руках маленький дымящийся чугунный
котел, сосредоточенно глядя под ноги...
Шо-Пир быстро пошел ей навстречу и взял из ее рук котел.
Ветер дул двое суток без перерыва, выметая из-под оград накопившуюся за
лето пыль, срывая плоды и листья с деревьев, вздымая над селением солому,
выхваченную из прикрытых камнями, сложенных на крышах стогов. В ночь перед
открытием канала он внезапно стих. При большой зеленовато-желтой луне в
селении Сиатанг наступила полная тишина. Утром воздух был особенно чист,
селение казалось умытым.
В туфлях на босу ногу, в накинутом на плечи длинном яхбарском халате
Мирзо-Хур вышел из своей лавки и, прислонясь к обогретой солнцем стене,
долго смотрел на горы, на просыпающееся селение, не белесоватые космы
стремящейся мимо его лавки реки. Кендыри, в одном белье, в белых шароварах и
чесучовой рубашке, шнырял мимо него, налаживая навес над своей цирюльней:
брадобрей в это утро ждал посетителей.
Закрепив навес, Кендыри прислонился к стене рядом с Мирзо-Хуром,
неторопливо направляя на черном каменном оселке большую, кривую, как нож
мясника, железную бритву. Мирзо-Хур, постучав о ладонь маленькой
тыквинкой-табакеркой, высыпал из нее щепотку крупитчатого зеленого табаку.
Заложив табак под язык, протянул тыквинку брадобрею. Кендыри отрицательно
качнул головой, его бесстрастное, всегда недвижное лицо обратилось к
Мирзо-Хуру, и купцу показалось, что презрительные глаза Кендыри о чем-то
спрашивают его. Мирзо-Хур помолчал, привесил тыквинку к поясу, запахнул
халат; подумал, что Кендыри, в сущности, нет никакого дела до его неудач. В
эту ночь купец несколько раз просыпался и все размышлял о том, что расчеты
его на предстоящий день никак не оправдываются. Единственным человеком, с
которым Мирзо-Хур мог поделиться своими сомнениями, все-таки был Кендыри, и
потому, сплевывая зеленую от табака слюну, сдерживая набухшее зелье,
прижатым к нижним зубам языком, Мирзо-Хур невнятно произнес:
- Это у них называется праздник?
- Праздник, - подтвердил Кендыри.
Купец, заложив руки за спину, поковырял пальцем осыпающуюся глину
стены.
- Когда у хана праздник бывал, нас, купцов, он согревал, подобно
благословению покровителя... А этот вот, как ветер над ледниками, - ничего
не несет в себе, пустой! Хоть бы кусок материи продал я, хоть бы тюбетейку
муки или ягод или горсть соли... Ничего!.. Не могу больше жить здесь,
Кендыри! Уйду. Совсем уйду... В Яхбар, в Гармит или еще дальше - куда ноги
осла понесут меня, все равно! В пустыне жить лучше... Ума во мне нет,
прозябаю здесь, тебя слушаю. Зачем это мне?
- Молчи! Ты знаешь зачем! - сухо ответил Кендыри, щуря глаз на
сверкающее лезвие бритвы.
- А, Кендыри, что такое "молчи"? Зачем мне ждать того, чего, пожалуй,
вовсе не будет? Верных в этом мире мало ль, что жить мне среди неверных?
Почему слушал я тебя до сих пор? Можно затратить монету, когда она принесет
десять, можно затратить сто, когда они дадут тысячу. Я трачу, трачу, живу
здесь... Что это дает мне, кроме твоих обещаний?
- Ты не все видишь, Мирзо. У кабана глаза короткие, смотрит вниз, неба
не видит. Ты - человек, почтенный человек, для чего у тебя глаза?
- Я не вижу конца, но вижу разоренье мое. Выгодных дел я не вижу здесь.
Ты, Кендыри, мне хочешь помочь, спасибо тебе, но ты все пока - брадобрей!
- Без брадобрея и борода пророка не обходилась! - бесстрастно произнес
Кендыри. - Погоди, и она растет...
- Я умру прежде, чем она вырастет! Дикому козлу среди камней и тому
каждый день нужно щипать траву.
- У тебя есть трава.
- Это что? О девчонке ты говоришь? Скажи, у Азиз-хона гнев один на нее
или любовь?
- Зачем тебе знать это?
- Хэ, зачем! Гнев один - больше сорока монет не даст, просить нечего.
Любовь - даст сто монет, умно поговорить - двести даст! Как ты разговаривал
с ним?
Кендыри надоели жалобы Мирзо-Хура.
- Хочешь знать как? Хорошо. Я тебе скажу. Я не разговаривал с ним.
- Ты не был у Азиз-хона? - всплеснул руками купец. - Ты же мне сказал:
был.
- Был во владениях его. Ниссо от него убежала, разве не довольно мне
знать?
- Кендыри, я не понимаю тебя! Почему ты не разговаривал с ним?
- Разговаривать - обещать. Обещать - сделать. А девчонка пока еще
здесь.
Мирзо-Хур понял, что Кендыри злится. Всегда, когда Кендыри злился, он
говорил отрывисто. Но Мирзо-Хур хотел выяснить все до конца:
- Сегодня здесь, завтра там будет. Как рассуждаешь? Сегодня собрание.
Верные ходили ко мне, я к ним тоже ходил, думают одинаково: гнать ее надо
отсюда. Свое слово скажут. Я тоже скажу. Ты скажешь, и разве тебя не
послушают? Есть люди - знают: за твоими словами горы. Ты разговаривать
будешь?
Кендыри слушал нахмурясь. Даже всегдашняя застывшая улыбка сошла с его
насупленного лица. Он медлил с ответом, явно испытывая терпение купца.
- Возможно, буду... - наконец неопределенно ответил он и добавил с
досадой: - Довольно об этом, Мирзо. Смотри, народ идет. Я что? - Кендыри
хихикнул. - Брадобрею тоже деньги зарабатывать надо! А ты... хочешь быть
маловерным? Уйти хочешь? Иди! Только, уйдя, с кого получишь долги?
- А живя здесь, я их получу?
- В сто раз получишь, Мирзо! Когда у верблюда большой путь в пустыне,
он семь дней ничего не пьет! А если терпенья нет - дело твое, иди!
Оставив встревоженного купца, Кендыри, помахивая бритвой, встал под
навесом цирюльни, осклабился двум подошедшим к нему надменным старикам.
Купец, пожевывая губами, медленно удалился в лавку.
Острогранный коричневый камень составлял все оборудование цирюльни.
Посетитель, подогнув ноги, усаживался на камень; рядом с посетителем Кендыри
ставил большую деревянную чашку с мутноватой речной водою. Один из двух
пришедших стариков, зобатый, с всклокоченной бородой, сказав слова
приветствия, занял указанное ему место и замер в молчании. Второй старик
присел на корточки и, прислонившись к стене, подставил солнцу свое лицо,
закрыв пораженные трахомой глаза, казалось, задремал.
Кендыри, стоя над стариком, принялся скрести его лицо. Ни мыла, ни
полотенца, ни каких-либо иных принадлежностей не полагалось. Жесткие волосы
старика скрипели; стиснув зубы, он терпеливо дожидался конца операции.
Напрасно было бы думать, что в искусстве бритья Кендыри не знает ничего
более совершенного. Бреясь в одиночестве сам, он пользовался маленькой
сингапурскою бритвою; усердно мылил кисточкою свои тугие длинные щеки и,
глядясь в зеркальце, думал, что если в его лице нет и намека на красоту, то
все-таки даже среди сиатангцев ему не следует быть заросшим щетиною.
Сиатангцев же он брил так, как делал бы это на его месте всякий иной
бродячий брадобрей в пределах Высоких Гор. И сейчас, едва жесткие волосы
зобатого старика притупили бритву, Кендыри, отдернув левый рукав рубашки,
плюнул на свою волосатую руку и стал править о нее бритву так, словно его
рука была самым замечательным оселком.
- На собрание, Науруз-бек, придешь? Невзначай спросил Кендыри
молчаливого посетителя.
- Мимо меня этот день. Что буду на собрании делать?
- Знаю: участка тебе нет, вода канала не для тебя, - произнес Кендыри.
- Но ты приходи. Русский много говорить будет.
- Не для меня будет.
- Может быть, против тебя будет. Волки нападают на стадо, пастухи не
должны бежать.
- У пастухов таких зубов нет. Старый судья теперь не судит, сельсовет
теперь судит. Я теперь не пастух, я овца.
- Старый судья может справедливое слово сказать... Разве ты не
считаешь, что Бобо-Калону тоже нужно участок дать?
- Бобо-Калон бедней всех сейчас, - тихо произнес Науруз-бек и нагнул
голову, предоставляя брадобрею заросшую, морщинистую шею. - Но
справедливости нет. Ничего не дадут ему.
- Откуда знаешь?
- Есть и факиры, которые думают так, как я. Исоф недавно при всех
говорил, через него пробовали мы наше слово. Бахтиор собакой Бобо-Калона
обругал, сам Бобо-Калон слышал.
- Да-а... - протянул Кендыри, берясь за голову старика, - а ты все-таки
приходи. Поговори с Бобо-Калоном сначала. Другие будут дела. Все придут. Так
нужно.
- Если нужно, приду! - согласился Науруз-бек и замолк.
Возясь с всклокоченной бородой старика, Кендыри посматривал на пустырь,
простирающийся за лавкой до осыпи, которой ограничивалась нижняя часть
сиатангской долины. Он давно уже заметил несколько бродивших там ущельцев;
изучая намеченные башенками участки, они, видимо, рассуждали о том, кому
какой участок достанется. Среди этих людей Кендыри видел Исофа и Карашира,
они о чем-то горячо спорили, размахивая руками, сердясь, наклоняясь к
канавкам, перебрасывая с места на место камни...
Кендыри знал, о чем они спорят, и знал, что их спор бесполезен, но он
был доволен: страсти в Сиатанге разыгрываются. С нетерпением ждал он, когда
спорщики приблизятся к цирюльне.
Отпустив Науруз-бека, Кендыри занялся вторым стариком. Науруз-бек тем
временем зашел в лавку, и оттуда слышался приглушенный разговор. Кендыри не
сомневался, что купец говорит о Ниссо.
Брея старика, Кендыри спокойно обдумывал каждое слово, какое он скажет
сегодня на собрании. От этих слов зависит многое в успехе задуманного им
плана - плана, подобного шахматной доске, на которой каждый из ущельцев рано
или поздно станет двигаться сообразно его желаниям. Ошибок с этой сложной и
умной игре не будет, надо только продумать все до мелочей!
Когда второй, торопливо побритый старик поднялся с камня, а яростно
спорящие Карашир и Исоф были уже близко и можно было заговорить с ними, не
повышая голоса, Кендыри произнес:
- Подойди, Карашир! Бороду поправить надо тебе?
- Не надо, - с важностью ответил Карашир, однако подошел ближе.
- Почему не надо? Сегодня праздник. Ничего с тебя не возьму, хочу
сделать твое лицо красивым. Садись! И ты, Исоф, тоже садись, подожди. -
Кендыри подавил смешок и добавил: - Всем, кто участки получит, сегодня даром
бороды брею!
"Кто откажется от бесплатной услуги? - подумал Карашир, сел, скрестив
ноги, на камень, поморщился под бритвой, коснувшейся его шеи. Исоф, все еще
думая об их споре, не решился, однако, продолжать его в присутствии Кендыри
и молча уселся на землю.
- Скажи мне, Карашир, - сказал Кендыри, - с нового участка камни на
спине станешь таскать?
- Почему на спине? Осел есть у меня.
- А если Мирзо-Хур за долги возьмет у тебя осла?
Карашир отодвинулся, отстранил рукой бритву, уставился в склоненное над
ним лицо брадобрея.
- Почему возьмет?
- А что еще с тебя взять?
Карашир уверенно махнул рукой:
- На будущий год богатым сделаюсь. Пшеницы много посею. Хлебом отдам.
- На будущий! - усмехнулся Кендыри, держа над головой Карашира бритву:
- Но в этом году станешь просить у купца еще?
- Не стану! - Карашир повернулся спиною к Кендыри. - Плюю теперь на
купца!
- Плюй, плюй! - нажимая лезвием, произнес Кендыри. - А пока, я слышал,
купец хочет долги потребовать с тех, кто плюет на него.
- Не может этого быть! - прямо сказал Карашир, однако умолк и больше
уже не произносил ни слова. В самом деле, что, если купец потребует все
долги сразу? Просто захочет отомстить за те слова, какие Карашир кинул ему в
лицо прошлый раз? Не только ослом тогда не расплатиться, пожалуй, и козу, и
двух оставшихся кур, и... Карашир начал подсчитывать в уме все свои долги и
даже перестал обращать внимание на боль, причиняемую брадобреем, неторопливо
ворочающим его голову... Карашир подумал, что, пожалуй, зря поругался с
купцом и что, во всяком случае, не следует с ним ссориться больше.
- А ты не отдавай ему ничего, - склонившись к самому уху Карашира,
прошептал Кендыри.
- Как? - Карашир обернулся так резко, что Кендыри едва успел отвести
бритву.
- Так... Разве Шо-Пир тебе до сих пор не советовал этого?
- Шо-Пир? Нет! Как можно?
- Когда скажет он - меня вспомни! - так же тихо произнес Кендыри и
сразу заговорил громко: - Ну вот, теперь ты красив! Иди, а ты, Исоф, садись,
тоже будешь красивым!
Но тут они услышали отдаленный отрывистый звук бубна, которым - было
условлено - Бахтиор сзывал к голове канала всех ущельцев, чтобы приступить к
торжеству открытия. Не захотев дожидаться Исофа и даже забыв поблагодарить
Кендыри, Карашир поспешил на зов.
Из садов и домов селения в узенькие проулочки, слыша настойчивый и
нарастающий дробный звук бубна, выходили ущельцы и устремлялись к тропе,
ведущей в крепость.
Ветер, словно ему была нужна только передышка, задул снова.
Над полуразрушенной стеной крепости, в сплошной струе ветра, трепетал
красный флаг.
Ниссо, оставшаяся дома одна, все утро всматривалась в прозрачную даль,
чтоб увидеть, когда этот флаг появится. Ниссо очень хотелось быть в этот
день на канале, но Шо-Пир велел ей остаться дома и не уходить никуда, пока
не придет за ней Бахтиор или пока с Верхнего Пастбища не вернется Гюльриз.
Впервые в своей жизни Ниссо скучала по людям и, не зная до сих пор скуки, не
понимала, что с ней происходит. Ей хотелось побежать к крепости и увидеть,
как вода потечет по новому руслу; ей хотелось быть вместе с Шо-Пиром; ей не
сиделось на уже привычной террасе, с которой видны были и селение, и река, и
крепость, и пустырь, недавно изрезанный тоненькими канавками. Но Ниссо
слишком хорошо знала, что сегодня решается ее судьба, что ущельцы сегодня
будут много и долго о ней говорить, что сам Шо-Пир беспокоится о том, чем
кончатся эти разговоры. Когда ей приходило в голову, что вдруг, в самом
деле, ее отдадут Азиз-хону, она снова чувствовала себя затравленным
зверьком. Шо-Пир сказал, что этого никогда не будет, но ведь он не бог, он
один, тех людей много, может быть, они окажутся могущественнее его? Все
последние дни Ниссо жила в неукротимой тревоге за свою судьбу; наблюдая за
Шо-Пиром и Бахтиором, она чувствовала, что они тоже тревожатся; Шо-Пир
совсем не смеялся над ней последние дни, был как-то особенно ласков. Ниссо
угадывала, что он думает о ней чаще, чем хотел бы показать ей...
Все утро Ниссо смотрела с террасы вниз; слушала призывный звук бубна,
видела людей, идущих через селение. Они еще не дошли до крепости, когда,
встречая их, над древней стеной взвилась полоса красного флага. "Моя душа в
нем!" - подумала Ниссо и едва удержалась, чтоб не побежать туда. Затем люди
вошли в полуразрушенные ворота крепости, прошли сквозь нее и направились
выше, в глубь ущелья, - гора скрыла их от Ниссо...
Над стеной крепости в сплошной струе ветра трепетал красный флаг...
Ущельцы, собравшиеся на узком каменистом берегу реки Сиатанг, там, где
была голова канала, смотрели на этот флаг, и на сухое русло канала, и на
обломки скалы, лежащей поперек русла, над самым обрывом в реку, и на
Шо-Пира, и на Бахтиора, - все ждали, что будет дальше, и разговаривали между
собой почему-то вполголоса.
Шо-Пир, сидя на краю канала, тоже очень тихо переговаривался о чем-то с
Бахтиором; тот, позабыв, что на его коленях лежит двуструнка, уже не играл
на ней, а только чуть пощипывал жильную струну. Струна под его пальцами
издавала все один и тот же тоненький звук.
Ущельцы - молодые и старые - были в халатах: серых, черных, коричневых.
Босые и в цветных чулках, выпиравших из сыромятной обуви, они сидели и
лежали на камнях вдоль русла канала, а некоторые взобрались на скалы,
взгроможденные над рекой.
Среди пришедших сюда не видно было только Бобо-Калона; он с утра не
выходил из своей башни и явно не желал показываться снующим через крепость
людям. Купец и Кендыри тоже не пришли. Женщин не было ни одной, но Шо-Пир то
и дело поглядывал в сторону верховий ущелья, ожидая появления Гюльриз с
Женами Пастбищ. Тропа, уходящая туда, оставалась, однако, безлюдной. Уже
четверо суток прошло с тех пор, как Гюльриз ушла на Верхнее Пастбище, и
Шо-Пир не знал, что происходит там. Он признавался себе, что если намерение
Гюльриз окончится неудачей, то ему придется увезти Ниссо в Волость и
оставить там, ибо мало ли что может произойти с ней в селении? Как добиться
благоприятного решения участи Ниссо? Все последние дни Шо-Пир продумывал
речь, которую произнесет на собрании, и подбирал в уме доводы, наиболее
убедительные для ущельцев.
Когда все ущельцы собрались, Шо-Пир приступил к делу без всякой
торжественности.
- Сейчас пустим воду! - негромко сказал он, обращаясь ко всем. И,
обойдя обломок скалы, коротким жестом подозвал к себе готовых взяться за
работу ущельцев. - Давайте, товарищи, уберем эту глыбу! А ты, Худодод, иди к
голове канала и слушай. Когда я три раза ударю в бубен, пусти воду в канал!
Человек двадцать, подсунув под остроугольную глыбу ломы и кирки, толкая
друг друга, старались сдвинуть с места последнюю преграду.
Отбросив беспокойные мысли, Шо-Пир тоже навалился на лом.
- Дружней! Дружней! Вот так!
Глыба со скрипом повернулась, ущельцы разом от нее отскочили, она
закачалась, давя мелкие камни, тяжело прокатилась вниз, с грохотом ударилась
в край берегового утеса и бухнулась в реку Сиатанг... Шо-Пир трижды ударил в
бубен. Худодод несколькими ударами лома выбил середину каменной, укрепленной
лозами кустарника стенки, вода мгновенно развалила ее, хлынула из реки в
освобожденное русло канала. Ответвленная от основного, круто уходившего вниз
течения, вода перестал бурлить и, набежав в оставшуюся от сброшенной глыбы
яму, быстро ее заполнила, решительно устремилась дальше, разлилась во всю
ширину канала, понеслась к крепости. Толпа ущельцев молча наблюдала ее
стремительный бег. Карашир вдруг сорвался с места и с криком: "Ио, Али!" -
побежал вдоль канала. И все, кто стоял и смотрел на воду, словно
подстегнутые этим криком, с веселыми возгласами ринулись вслед за Караширом.
Крича: "Вода! Вода! Вода! Вода!" - Карашир как безумный пробежал через
крепость, спрыгнул на тропу, ведущую к селению, и помчался по ней, стараясь
перегнать воду. Ущельцы, крича во весь голос, бежали за ним...
Охваченный общим порывом Бахтиор, зажав под локоть двуструнку, тоже
было устремился за ними, но оглянулся и увидел, что оставшийся один Шо-Пир,
улыбаясь, неторопливо идет вдоль канала; Бахтиор сразу остановился, будто и
не думал бежать, со смехом указал Шо-Пиру на толпу:
- Смотри, Шо-Пир! Как козлы прыгают!
- Даже те, кто до сих пор только рты с насмешкой разевали! - ответил
Шо-Пир. Его голубые глаза заискрились, а сквозь здоровый загар проступил
легкий румянец. - Идем со мной. Большое дело сделано, Бахтиор!
Достигнув селения, вода коричневой змеей пересекла его. Прыгая через
ограды, сокращая путь сквозь сады, рассыпаясь по переулочкам, ущельцы бежали
к раскинутому за селением пустырю. Женщины выбирались на плоские крыши, били
в бубны и перекрикивались, а платья их трепетали на сильном ветру. Дети,
прыгая, суетясь, перебегали путь взрослым, швыряя в воду мелкие камни,
оглашали весь Сиатанг веселым визгом.
Вода понеслась мимо лавки купца. Мирзо-Хур и Кендыри, стоя под навесом
цирюльни, молчаливо глядели на мелькающих мимо них сиатангцев. Сразу за
лавкой вода веером разбежалась по узким канавкам, обрамлявшим участки
каменистого пустыря. Устав от бега, старики, отставая от молодежи и
набираясь степенности, шли теперь, тяжело дыша, уже стыдясь охватившего их
порыва.
Позади всех, вместе с Бахтиором, медленно шел молчаливый Шо-Пир. Он
приблизился к пустырю, когда вода растеклась по всем канавкам, а ущельцы,
уже успокоенные, бродя по каменной россыпи, снова спорили: кому какой
достанется участок... Выбрав среди камней пустыря большую и возвышенную
гнейсовую плиту, Шо-Пир встал на нее.
- Теперь пора! Бахтиор, открывай собрание!
- Собрание! Собрание! - замахав руками, во весь голос завопил Бахтиор.
- Здесь собрание будет. Зовите всех женщин, сами садитесь!
Накануне Бахтиор обошел все дома в Сиатанге и велел ущельцам прийти на
собрание вместе с женщинами. Никто из ущельцев вчера не возражал, но сейчас,
усаживаясь рядом с Шо-Пиром за гнейсовой плитой, как за большим столом,
Бахтиор видел вокруг только мужчин. Впрочем, Бахтиор нисколько не удивился.
Шо-Пир напрасно надеялся, что женщины придут, - вот ни одной не видно: те,
что гремели в бубны, стоя на крышах, снова попрятались по домам; разве
пустит на собрание жену хоть один муж!
Но под грядою скал показалась одинокая женская фигура. Шо-Пир и Бахтиор
вгляделись: это шла, приближаясь к ним, Рыбья Кость.
- Смотри! Жена моя! - подскочил к Шо-Пиру возбужденный и радостный
Карашир. - Я сказал ей: побью, если на собрание не придет!
Шо-Пир отлично знал, что Карашир и букашки зря не обидит и что именно
Рыбья Кость всегда бьет своего мужа.
- Вижу, боится тебя жена! Уж я тебя прошу, пожалуйста, не бей ты
сегодня ее.
- Пришла! Пожалуй, не буду, - важно ответил Карашир и, вполне
удовлетворенный разговором, отошел в сторонку.
По тропе к пустырю приближались четыре женские фигуры. Все со вниманием
воззрились на них, глядя, кто это может быть. Но, когда женщины приблизились
и все узнали в них верных Установленному старух, никто не стал
интересоваться ими, и они уселись на камни поодаль от мужчин. Рыбья Кость
подошла к Караширу и усадила его рядом с собою.
Неожиданно для всех на пустыре показался Бобо-Калон. Он шел, важный и
гордый, как патриарх, не глядя на окружающих, не отвечая на приглушенные
приветствия своих приверженцев. Он шел, опираясь на палку, не перепрыгивая с
камня на камень, а выбирая плавный путь между ними; серебряная пряжка
блистала на солнце, показываясь на туго стянутых шароварах Бобо-Калона
всякий раз, когда ветер надувал полу его белого, с длинными рукавами халата.
Дряхлый сокол покачивался и чуть приподымал крылья, сохраняя равновесие на
плече своего хозяина... Бобо-Калон сел на камень позади всех, положив палку
у ног, и опустил глаза, явно не желая замечать окружающего. Сокол на его
плече задремал. Увидев Бобо-Калона, Мирзо-Хур и Кендыри отделились от стены
лавки и тоже направились к пустырю. Обойдя всех ущельцев и словно не выбрав
подходящего места, они повернули обратно. На их пути сидели Карашир и Рыбья
Кость. Проходя мимо них, купец как бы невзначай наклонился и тихо
пробормотал Рыбьей Кости:
- За Ниссо стоять будешь - все долги потребую!
- Что он сказал тебе? - быстро спросил жену Карашир, едва купец и
Кендыри прошли мимо.
- Сказал: муж у тебя дурак! - огрызнулась Рыбья Кость, и Карашир
недовольно зашмыгал носом.
Купец и Кендыри подсели к Бобо-Калону, что-то сказали ему. Но
Бобо-Калон, насупившись, не поднял опущенных глаз.
- Не пришла нана, - беспокойно шепнул Бахтиор Шо-Пиру, - без женщин
собрание... Как разговаривать будем?
Шо-Пир тревожился не меньше Бахтиора, предвидя, что разговора о Ниссо
не миновать, - неспроста сюда явился Бобо-Калон, неспроста приплелись
закоснелые в древних обычаях старухи, неспроста Мирзо-Хур и Кендыри подсели
к Бобо-Калону... Ну пусть! Как бы там ни было, от их злобы Шо-Пир девочку
убережет, а собрание поможет ему уяснить многое во взаимоотношениях
ущельцев!.. Во всяком случае, следовало отвести разговор о Ниссо на самый
конец собрания: может быть, все же часть приверженцев Установленного до
конца не досидит?
Видя, что на пустыре собрались почти все сиатангцы, что, удобно
расположившись на камнях, они уже ждут с нетерпением, Шо-Пир тихо сказал
Бахтиору:
- Ну что ж, начинай!
Бахтиор поманил к себе Худодода и двух молодых ущельцев, членов
сельсовета. И когда все они подсели к гнейсовой плите заменяющей стол,
Бахтиор наклонился и вытянул из-за камня свернутый красный флаг, спрятанный
здесь накануне, - второй флаг, выкрашенный Ниссо. Туго запахнув халат,
Бахтиор оперся рукою о плиту. Кромка камня пришлась ему чуть выше колен, он
легко вспрыгнул на каменный стол, выпрямился во весь рост и, широко
размахнувшись древком, распахнул красный флаг, сразу подхваченный шумно
затрепетавшим в нем ветром.
- Ио! - крикнул из толпы восхищенный Карашир и сразу умолк: Бахтиор,
требуя тишины, взмахнул левой рукой и быстро, решительно заговорил...
Шо-Пир улыбнулся и, взяв из руки Бахтиора древко флага, вставил его в
расщелину камня.
Сорок три женщины - почти половина жительниц Сиатанга - проводили лето
на Верхнем Пастбище. Жили они в складнях из остроугольных камней, затыкали
сухой травой щели, спали, прижимаясь к теплым бокам овец, вместе с овцами
дрожали по ночам от леденящего ветра, вместе просыпались еще до рассвета. С
рассветом выгоняли овец и коров на пастбище - узкая высокогорная долина
наполнялась блеяньем и мычаньем стада, лениво разбредающегося по склонам,
заросшим альпийскими травами. Даже в середине лета трава по ночам
покрывалась инеем, а иногда и снегом; женщины, выгоняя скот, шли босиком, и
ни одной из них не приходило в голову, что где-либо может быть жизнь без
вечной стужи, ледяных ветров и лишений. Рассвет заливал розовыми тонами
облака, стоявшие в долине густым туманом. Громады облаков неспешно
поднимались, как ленивые многолапые чудища, гонимые ветром на голубое
небесное пастбище; скалистые склоны по бокам долины оказывались черными и
блестели от мириад росинок, игравших в косых лучах солнца; заиндевелая
шерсть овец становилась мокрой, стада окутывались легким клубящимся паром:
солнечное тепло медленно вступало в долину. Жены Пастбищ вместе с животными
радовались теплу, их тела переставали дрожать, вновь наливались жизнью...
Начинался обычный день. На зубах животных похрустывала трава, женщины
заводили тихие песни, рассказывали одна другой сны, вспоминали своих детей и
мужей, забыв о вечно повторяющихся страхах ночи. И вот уже где-нибудь под
скалой занимался огонек костра, в воздухе пахло кизяковым дымком, дымок,
курчавясь, стлался по долине, на углях сипели чугунные и глиняные кувшины,
кипела вода, подбеленная молоком... Женщины собирались вокруг костров,
ломали твердые шарики кислого козьего сыра, насыщались и снова расходились
по долине следить, чтобы какая-нибудь овца не застряла в расщелине между
камней, не утонула в ямах, заполненных стеклянно-чистой водой журчащего
посреди длины ручья, не забежала бы слишком высоко на обрывистый склон...
Вечерами женщины возвращались в задымленные каменные берлоги, доили
коз, овец и коров, бережно несли широкие долбленые чаши, мешали деревянными
ложками молоко, сбивали сметану и масло, наполняли простоквашей кислые
бурдюки, висевшие по стенам на больших деревянных гвоздях; а затем
вечеровали у костров, беседуя о мужчинах, которым вход сюда запрещен, о
любимых животных, о туманах, которые с темнотой вновь подбирались к долине,
о солнце, которое с каждым днем ходит все ниже над ледяными зубцами гор, о
дэвах - добрых и злых, маленьких и больших, смешных и страшных...
Новая ночь заставала женщин лежащими среди сбившихся в кучу овец, -
женщины засыпали не сразу, перед сном им бывало страшно, они думали о
таинственных духах, летающих между высокими звездами, иногда затмевая их.
Они боялись снежных барсов, иной раз подкрадывающихся к оградам летовок,
мяукающих, как огромные хищные кошки... Заснув, наконец, женщины ворочались
до утра, вцепляясь ногтями в теплую овечью шерсть, то одна, то другая охала
и стонала, бессильно борясь со страшными снами...
Над ними завывал ветер, потрескивали висячие ледники, бродила бездомная
холодная луна, стремясь пробиться сквозь темные облака, напитывая их
зеленоватым светом.
Сюда, в эту спрятанную среди горных вершин долину, три дня назад пришла
из Сиатанга Гюльриз. Прежде всего она обошла все стадо, разыскала свою
корову и двух овец, пощупала овечьи бока, потрогала вымя коровы, прошептала:
"Благодаренье покровителю, не болеют!" - и только тогда направилась к
летовке, чтобы отдохнуть после трудного подъема и - еще до темноты -
поспать. Вечером, когда все сорок три женщины собрались в летовке, Гюльриз
рассказала о том, что делается внизу, кто и сколько собрал зерна, кто болен
и кто здоров, о взрыве башни, о новом канале и новых участках, обо всем, что
интересовало каждую проводившую здесь лето женщину. Не все относились к
Гюльриз одинаково, не все разговаривали с нею как с равной. Здесь были две
или три жены обедневших сеидов, здесь была родственница ушедшего в Яхбар
халифа, здесь была племянница судьи Науруз-бека. Остальные были женами и
дочерьми факиров, но некоторые из них не любили Гюльриз за то, что ее сын
Бахтиор не признавал Установленного... Но все-таки все эти женщины жили
здесь одинаковой жизнью и помогали одна другой, все тосковали и мерзли,
вместе пасли стада, вместе боялись дэвов, вместе спали, ели и пили... Каждая
из них уважала старость - а Гюльриз была здесь самой старой, - и потому
слова ее были выслушаны внимательно.
В первый вечер Гюльриз ничего не сказала о появлении в Сиатанге Ниссо.
Но на следующее утро, удалившись на пастбище с женами тех ущельцев, которые
в жизни своей и в делах своих шли за сыном ее, Бахтиором, Гюльриз поведала
спутницам и эту последнюю новость. И сказала, что до сих пор всегда
тосковала без дочери, а вот теперь есть дочь у нее, живет в ее доме... И
описала так подробно прошлую жизнь, горести, печали и беды Ниссо, что всем
стало жалко ее, - старуха Гюльриз хорошо знала, как и чем можно вызвать
жалость у женщин Сиатанга!
И в тот же день весть о Ниссо обошла всю летовку, и каждая из сорока
трех женщин слушала о Ниссо по-своему.
Гюльриз своих затаенных надежд не выдала: зачем женщинам знать, что
Ниссо, может быть, станет женой Бахтиора? Гюльриз понимала, что такое
зависть и недоброжелательство, и разве не самым лучшим мужчиною в Сиатанге
был ее Бахтиор? Но кто может позавидовать или пожелать зла старухе,
захотевшей иметь взрослую дочь - помощницу в хозяйстве, усладу для стареющих
глаз? А потом стала напоминать своим собеседницам жизнь каждой из них - о,
старая Гюльриз знала их жизнь, как свою, - половина этих женщин родилась,
когда Гюльриз уже была замужем! И, заводя задушевные беседы то с одной, то с
другой, говорила:
- Ты, Зуайда, родившаяся в год Скорпиона... Когда ты прожила один
только круг и снова вошла в год Скорпиона - стоила полмешка риса, одного
барана и маленького козленка. Я помню, как купивший тебя твой муж Нигмат
схватил тебя за волосы, когда ты плюнула ему в глаза, и тащил тебя по камням
через все селение домой, как после этого ты две зимы и два лета плакала! А
потом Нигмат чинил старый канал над крепостью и упал вместе с камнями вниз,
и голова его раскололась на две половины, - ты помнишь? В тот день ты совсем
не плакала, ты улыбалась после похорон, когда твой брат Худодод взял тебя в
дом и сказал, что уже не продаст тебя замуж. Я знаю, мечтала ты иметь
хорошего мужа и здоровых детей, а живешь одна, - пройдет твоя жизнь, как
проходит молодость... Пусть добра тебе хочет Худодод, но есть ли в твоем
сердце радость? Скажи, где мечтанья твои?
Широкоглазая, с веснушчатым темным лицом, со спутанными, пахнущими
кислым молоком волосами, Зуайда отвечала:
- Зачем вспоминаешь? Разве не все живем одинаково?
- Что делать старухе, как не вспоминать старое?! - произносила Гюльриз
и, умолкнув, охая и вздыхая, упираясь морщинистыми руками в колени, вставала
с зеленой травы, шла поперек долины и подсаживалась к другой женщине.
- Саух-Богор! По годам ты действительно "Травка Весны", но смотрю я на
твое лицо - от глаз твоих к вискам уже разбежались морщинки... Не закрывай
рукою лицо, чт тебе меня, старой, стыдиться? Брат Исофа, твой муж
Иор-Мастон, хорошим был человеком, ты любила его, и он тоже тебя любил,
зачем только ушел он за пределы Высоких Гор? Ты не веришь, что он жив? Я
думаю, может быть, он жив, только он никогда не вернется! Если бы он не
ушел, разве взял бы тебя в жены Исоф как наследство от брата? Знаю я,
стонешь днем ты от рук Исофа и во сне, по ночам, стонешь, будто тебя душат
дэвы. И что хорошего получилось от того, что дом любимого тобой Иор-Мастона
стал проклятым домом? Разве хорошо, что живешь ты с Исофом? Разве радость
тебе твои дети?
- Для чего вспоминаешь плохое, Гюльриз? - чуть слышно отвечала
Саух-Богор и, срывая травинку за травинкой, покусывала их мелкими, белыми,
как у сурка, зубами. - Боюсь я Исофа, но нехорошо тебе говорить об этом!
- Нехорошо? Ты права! - сурово произнесла Гюльриз. - Пусть я о радостях
твоих поговорю, назови мне какую-нибудь радость, о ней пойдет разговор!
Саух-Богор долго думала, напрасно стараясь отыскать в своей памяти хоть
маленькую радость.
- Неужели у тебя никакой радости для хорошей беседы нет? - подождав
достаточно и всматриваясь в лицо собеседницы острыми немигающими глазами, с
жестокостью спрашивала Гюльриз.
Саух-Богор молча вздыхала, а Гюльриз, покачав головой и ласково
дотронувшись тремя пальцами до худого плеча женщины, поднималась и уходила
по сочной траве долины.
Так два дня ходила она по этой долине, высматривая, где сидят одинокие
женщины, приближалась к ним, как старая хищная птица, клюя их в самое сердце
беспощадными словами и затем оставляя наедине с их думами. Умная Гюльриз
знала, что делает, знала также, что ни одна из женщин не поделится этими
словами со своими подругами, и с жестоким удовлетворением замечала, что на
третий день ее пребывания здесь Жены Пастбищ перестали петь песни - ходили
понурые, словно отравленные. И когда у самой Гюльриз сердце ныло, будто
придавленное невидимым камнем, она радовалась горькою радостью, думая о сыне
своем Бахтиоре и о том, что, если бы не Ниссо, всю жизнь жил бы он
одиноким... С ненавистью думала она о тех, кто хочет отдать Ниссо Азиз-хону,
и говорила себе, что у нее хватит материнских сил добиться, чтобы этого не
случилось.
А под вечер третьего дня Гюльриз рассказала всем женщинам летовки, что
завтра в Сиатанге большое собрание, на котором мужчины будут говорить о
Ниссо, а Шо-Пир будет считать руки тех, кто поднимет их, желая, чтоб у
старой Гюльриз не отняли дочь и не отдали ее Азиз-хону. "Пожалейте меня, -
сказала Гюльриз, - пойдемте утром со мной, поднимем руки, чтоб Ниссо
осталась мне дочерью". И Жены Пастбищ сначала не понимали, чего хочет от них
Гюльриз. Но Гюльриз сказала, что, считая по солнцу, подходит время им уйти с
летнего пастбища и совсем необязательно дожидаться мужчин, которые явятся
сюда, чтобы сопровождать своих жен и дочерей вниз, в селение... Новое время
пришло, и кто осудит женщин, если они явятся в селение сами и на несколько
дней раньше? Ну, пусть будет крик, пусть будут недовольны мужчины, но что
они сделают, если все женщины станут кричать в один голос? Когда от стада
бежит одна овца, ее бьют палками, чтобы она возвратилась к стаду; когда
бежит все стадо, кто удержит его?
Слова Гюльриз выслушали все сорок три женщины, но вместо того, чтобы
помолчать и подумать, стали волноваться и голосить.
Поднялся большой спор. Племянница судьи Науруз-бека вскочила и,
расшвыривая ногами мелкие камни, прокричала, что старуха Гюльриз одержима
дэвами, что речи безумной нечего слушать, что лед рухнет с гор на тех, кто
станет слушать нечестивые слова нарушительницы! И многие женщины закричали,
что никуда не пойдут, ибо ради чего нарушать Установленное? А другие
сказали: уважают они мать Бахтиора, жалеют ее, но тоже никуда не пойдут,
потому что им страшно: ведь, кроме мужчин, есть еще и покровитель; гнев его
одинаково поражает овцу и все стадо и может даже обрушиться на селение и на
мужчин, не укротивших женщин, и на детей, и на сады, и на всю страну гор! Но
Зуайда, Саух-Богор и еще несколько женщин молчали. Гюльриз, казалось, не
замечала их. Она умолкла и, вцепившись пальцами в свои волосы, углубилась в
неотвязные думы. Гюльриз в самом деле казалась безумной.
Долго еще, до глубокой ночи, продолжались крики и споры в летовке. Но
Гюльриз уже поняла: дело ее проиграно. Жены Пастбищ не пойдут завтра вниз;
Ниссо не станет женой Бахтиора, а старость самой Гюльриз будет пуста и суха,
как старость всех сиатангских женщин...
И ночью Гюльриз вышла из летовки и отправилась блуждать по мертвой,
окутанной черным туманом долине и хотела уже одна возвращаться вниз и
подошла к той, единственной, уводящей отсюда тропе. Но, вступив на нее,
подумала, что ночью в тумане можно с этой тропы упасть и лучше уж подождать
до утра.
Постояв над черной невидимой пропастью, старая Гюльриз заломила руки.
Ей показалось, что сейчас, так же как в молодости, ее начнут душить слезы.
Но слез не нашлось, только сухое, прерывистое дыхание вырвалось из горла.
Старуха бессильно уронила руки, повернулась и медленно направилась к
летовке. Вступила за ограду, где дышали спящие овцы, нащупала несколько
тучных, раздвинула их курчавые, пахнущие мокрой шерстью бока, втиснулась в
эту теплую груду, легла...
А на рассвете, когда овцы зашевелились, толкаясь, заблеяли жалобно и
многоголосо, Гюльриз встала и, проталкиваясь меж ними, прошла мимо других
женщин к выходу из летовки.
Все женщины смотрели на нее молча. Но когда она вышла за ограду и
пошла, не оглядываясь, ломая босыми ногами обмерзшую за ночь траву, Зуайда
вдруг выбежала следом и, взмахнув руками, крикнула:
- Гюльриз, подожди!
Гюльриз остановилась, словно раздумывая: стоит ли ей оглянуться?
Прямая, худая, зябнущая на ветру, стояла так, пока не услышала нестройное
блеяние и топот выбегающих из-за ограды овец. Две коровы обогнали Гюльриз, и
она, искоса глянув на них, увидела, что это ее корова и корова Саух-Богор и
что обе они навьючены деревянной посудой, бурдюками с кислым молоком и
рваными козьими шкурами. Гюльриз обернулась, думая, что из летовки выбегает
все стадо, но увидела: плетневые воротца снова закрылись, а по тропе спешат
к ней, подгоняя своих овец палками, Зуайда, Саух-Богор и еще шесть женщин -
те, кто во время спора молчали.
Гюльриз сразу все поняла. Из ее строгих, вдруг заблестевших глаз
выбежали непрошеные слезинки. Она смахнула их и, когда Зуайда подошла и
сказала: "Ночью мы разговаривали... Другие не хотят, мы идем", - сурово
ответила: "Покровитель даст счастье вам, пожалевшим старуху!"
Овцы бежали за ней, подгоняемые идущими сзади женщинами, коровы шли
медленно, погромыхивая посудой. Зуайда, обогнав всех, поравнялась с Гюльриз,
взяла ее за руку и шла тихо, как дочь, ведущая свою мать...
Гюльриз смотрела прямо перед собой и, уронив руку Зуайды, вступила на
выводящую из долины, штопором спускающуюся тропу. Овцы вытянулись гуськом за
старухой, женщины побрели за овцами, долина с зеленой подмороженной травой
ушла вверх, скалы скрыли ее от глаз обернувшейся Саух-Богор, и только синий
дымок летовки вился над ущельем, догоняя женщин, нарушивших Установленное,
поборовших тысячелетнюю боязнь.
Восемь женщин шли за Гюльриз в селение Сиатанг, где в этот день начался
советский праздник. Восемь женщин впервые в истории Сиатанга шли с Верхнего
Пастбища вниз без мужчин, наперекор Установленному, шли по велению своих
иссушенных горем сердец, сами не понимая значения того, что они совершают в
истории Сиатанга.
Ниссо с террасы видела все, что происходило внизу: люди бежали вдоль
канала, крошечные их фигурки усеяли пустырь; потом взвился красный флаг там,
где острое зрение Ниссо различало среди других фигурок - наверно, совсем не
думавшего о ней в ту минуту - Шо-Пира. Кто-то, вероятно Бахтиор, стоял на
камне под красным пятнышком флага и размахивал руками; ветер порой доносил
гул голосов. Потом все кинулись к Шо-Пиру. Ниссо сначала даже испугалась,
но, всматриваясь зорче, различила: ущельцы, тесно его обступив, поочередно
протягивали руки к чему-то черному, что Шо-Пир держал перед собой. Толпа
разомкнулась, и несколько человек разбежались по пустырю, вдоль канавок;
толпа поредела, от нее отделились люди; размахивая руками, суетясь, снова
собрались вокруг Шо-Пира...
Ниссо захотелось есть. Она пошла в кладовку, набрала из деревянной
чашки полную горсть тутовых ягод. Снова стала смотреть. И почему-то теперь
Ниссо не слишком тревожилась о себе, - то ли крошечные фигурки людей,
наблюдаемые так издалека, сверху, казались ей безобидными, то ли просто ей
надело тревожиться... Зрелище занимало, развлекало ее.
Но вот на тропинке показался человек в белом халате. Человек
поднимался, приближался к Ниссо. Она узнала в нем Бахтиора.
Бахтиор, конечно, идет за ней, ей сейчас придется спуститься туда, к
этим людям! Маленькие фигурки внизу сразу стали чужими, жестокими людьми, -
они будут говорить о ней, судить ее, как виноватую, желать ей зла!.. А
Шо-Пир станет кричать на них и бороться с ними, и вообще станет страшно, и
уже сейчас страшно!.. Бахтиор приближается, - что скажет ей Бахтиор? Скажет:
беги, тебя решили отдать... Или скажет другое? Что будет?
Зябко передернув плечами, Ниссо беспокойно оглядела свое новое,
полученное от Кендыри платье, медный браслет на левой руке, - на нем
ослепительно сверкнул солнечный луч, - ждала, перебирая красную кисть косы
дрожащими пальцами...
Бахтиор подошел к террасе.
Чувствуя, что щеки ее горят, Ниссо провела по ним ладонями, хотела
улыбнуться Бахтиору, но улыбка не получилась.
- Ты пришел, Бахтиор?
- Пришел, Ниссо, - просто ответил Бахтиор, - идем вниз, о тебе разговор
теперь. Скользнув по ее фигуре мгновенным, будто проверяющим взглядом,
добавил: - В чужом платье пойдешь?
Разговор о платье уже был утром, Шо-Пир сказал: "Пусть в этом пойдет,
не в рубашке же Гюльриз ей быть перед всеми?" - и Бахтиор согласился. А
сейчас вот опять начинает, к чему это?
- Что было внизу? - спросила Ниссо, и Бахтиор торопливо заговорил.
- Понимаешь, глупые у нас люди! - Бахтиор засмеялся. - Участки делили.
Шо-Пир тебе рассказывал, как будем делить? Вот так делили: он шапку держал,
все по очереди из нее вынимали камни... Карашир участок Рыбы очень хотел,
Исоф тоже очень хотел участок Рыбы. А камень, на котором мы рыбу нарисовали,
достался Худододу. Он пошел смотреть свой участок, а Карашир и Исоф побежали
за ним. Побили его, потом между собой подрались! Карашир дергал бороду
Исофа, Исоф с Карашира овчину стянул. Шо-Пир закричал - знаешь, от такого
крика деревья перестают расти, - побежал, разнял дерущихся, ругать их
начал... Пойдем, разговаривать некогда. Ждут тебя...
Ниссо, однако, еще не собралась с силами, ей хотелось затянуть
разговор.
- А скажи, Бахтиор, тебе дали участок?
- Дали! Ничего, тоже хороший участок. Весной пшеницу сеять поможешь
мне? Скажи мне, Ниссо, поможешь? Вот хорошо мы стали бы вместе работать!
И Бахтиор так взглянул на Ниссо, что она впервые потупилась перед ним,
но сразу вскинула голову и - скорей, только бы он не заметил смущения, -
заговорила:
- Что будешь сеять? Еще скажи, о зерне разговор был? Как решили?
- Спорили очень долго. Одни кричат: "Соскучились животы у нас! Год
ждали хлеба!" Рыбья Кость кричит: "У меня восемь детей!" Еще кричат: "Не
хотим каравана ждать! Есть хотим, лучше через год голод, чем сейчас голод!"
А Шо-Пир, знаешь, что им сказал?
- Наверное, хорошо сказал им Шо-Пир!
- Шо-Пир сказал: "Сейчас не голод! Есть места, где траву едят, вы траву
не едите еще! Лучше двадцать дней на одном туте сидеть, чем голодать всю
зиму и еще целый год. Если начнете есть собранное зерно, на сколько дней его
хватит? Что будете сеять на будущий год?" Вот так Шо-Пир сказал, и один
факир ответил ему: "Это правильно, осел траву под собой ест, на навоз
ложится; мы люди, а не ослы, не надо трогать зерно, не надо его молоть..."
Так сказал, все спорить устали, Мирзо-Хур начал говорить, ему не дали...
- Значит, не будут трогать?
- Не будут. Сказали. Идем теперь, беспокоюсь я, нана не пришла...
Ниссо не хотелось идти.
- Идем, Ниссо, слышишь? - громко, но неуверенно повторил Бахтиор.
- Что будет со мной, Бахтиор? Скажи, Бахтиор?
В словах Ниссо он услышал мольбу и помрачнел.
- Идем... Сам не знаю...
Подавив вздох, Ниссо встала и молча сошла со ступенек террасы. Бахтиор,
забыв об обычае, который требовал, чтоб женщина всегда шла позади мужчины,
пропустил Ниссо и двинулся за ней следом. Ниссо шла по тропе, прикрывая рот
и нос широким рукавом. Ее лицо было тревожным и бледным. Она не скрывала от
Бахтиора своего страха, а он не научился еще находить слова, какими можно
ободрить женщину. И тоже шел молча. "Вот, - думал он, - решат отдать
Азиз-хону... Что будет тогда? Шо-Пир не отдаст. Шо-Пир скроет ее, уведет в
Волость, так сказал он вчера. Что я буду делать? Я тоже пойду... Шо-Пир в
Сиатанг вернется, я не вернусь. Там останусь. Рядом с ней буду жить!"
Красные привязанные косы Ниссо падали ей на грудь, красные кисти их при
каждом шаге ударялись об ее колени и тяжело раскачивались; Бахтиор следил за
пальцами босых ног Ниссо, - как осторожно касались они острых граней камней!
Ниссо шла по тропе покорно, как овечка, которую ведут на заклание.
Мысли ее были о Шо-Пире: хватит ли у него могущества, чтоб не дать ее в
обиду? Приближаясь к пустырю, всматриваясь в толпу сиатангцев, она
выискивала в ней Шо-Пира. И, увидев его, глубоко вздохнула. Над каменной
плитой трепетал флаг. Ниссо пристально вглядывалась в красную волну флага,
подумала, что в неизбежной опасности он ей поможет, и пошла уверенней, а
глаза ее стали дерзкими.
- Большинством решать будем? - спросил Мирзо-Хур, первым нарушив
тишину, какой встретили ущельцы появление Ниссо.
Тишина эта была долгой и напряженной. Она началась, когда Бахтиор
провел Ниссо к Шо-Пиру, Худододу и другим членам сельсовета. Она
продолжалась, пока две сотни глаз, скрестив взгляды на лице Ниссо, на руках
ее, на косах, на платье, изучали ту, о которой все эти дни было столько
разговоров - открытых и тайных, громких и приглушенных, полных зла и добра,
расчета и зависти. Вот она перед ними, как на суде, - неверная жена мужа,
беглянка, рискнувшая обрушить на себя гнев могущественного человека Высоких
Гор... А она красива, это видят все, Азиз-хон не был дураком, купив себе
такую жену! Она, должно быть, смелая: стоит, прикрыв руками только
подбородок да губы, а глаза смотря прямо, дерзко смотрят ее глаза!..
Шо-Пир хорошо понимает вопрос Мирзо-Хура - ехидный вопрос, но что
ответишь купцу? Сколько было разговоров о том, что теперь все дела решаются
большинством.
Шо-Пир думает об отсутствующей Гюльриз, о Женах Пастбищ, обводит взором
сидящих вокруг мужчин и считает немногих, которые могут открыто выступить
против Установленного. И, неприязненно взглянув на купца, Шо-Пир отвечает
резко:
- Большинством!
Тишина продолжается. А купец, сам не замечая того, самодовольно
потирает руки...
"Сейчас говорить или послушать сначала, что скажут? - думает Шо-Пир. -
пожалуй, пусть лучше выговорятся... Послушать надо сначала". Встает,
обращается к выжидающим первого слова ущельцам:
- Товарищи! Вот девушка... Из Яхбара пришла... Мучают там людей, на
советскую сторону они и бегут! Среди нас хочет жить она, как человек. Пришла
к нам за справедливостью и защитой. Пусть узнает, что народ наш свободен,
что справедливость в нем есть. Кто хочет говорить первый?
- Я хочу! - поднялся зобатый Науруз-бек, и все напрягли внимание: давно
уже не говорил перед народом бывший судья. - Ты, Шо-Пир, сказал о
справедливости в нашем народе? Верно это: справедливость в нашем народе
есть, но ты не понимаешь ее. Недавно ты здесь и мало что знаешь. Вот ты не
знаешь, кто сотворил Высокие Горы. А мы это знаем. Их сотворил Молчащий,
когда увидел, что на земле повсюду распространился грех. Он сотворил их,
чтоб было на земле безгрешное место. Тогда вырос в горах наш народ. Зеленая
звезда освещала его своими лучами, только для нашего народа светила эта
звезда. Но однажды в нашу страну пришла женщина. Она пришла из тех мест, где
был распространен грех, и она принесла грех сюда. В ту ночь Зеленая звезда
погасла и упала на землю. Камни, которые до тех пор были зелеными, в ту ночь
почернели... С тех пор наша страна называется Подножием Смерти, в ней только
черные камни, они придавили землю. И разве у нас светлое небо? Взгляни
быстро на небо, ты увидишь, оно черное, и только потом оно покажется тебе
голубым! Оно черное, черное... Все это сделала женщина, пришедшая в наши
горы. С тех пор все потомки ее черны, черны у них души. Ты знаешь, кто эти
люди? Эти люди - факиры... Ты говоришь, наш народ справедлив? Ты не прав.
Справедливы и белы только те, кто произошел не от той женщины, - шана, сеиды
и миры. Ты пришелец, Шо-Пир. Что ты знаешь о нашем народе? Что знаешь ты о
шана, сеидах и мирах? А знаешь ли ты, что миры, шана и сеиды не одеваются в
черные одежды? Что бог запретил им иметь черный скот? Что каждый родившийся
черный ягненок должен быть зарезан? Что если мир придет к кому-нибудь в дом
и в доме найдется для него только черное одеяло, он никогда не накроется им?
Он выйдет из дома, потому что так установлено! Посмотри на нас: мы сидим
вместе здесь - в халатах белых и черных... Кто сидит в черных? Факиры,
потомки греха, потомки женщины, женщины, убившей свет Зеленой звезды. Однако
вижу в белом - факира... Нарочно надел, Бахтиор? Смеешься над Установленным?
Смейся! Твой час придет!
В гневном исступлении Науруз-бек потрясал руками. Его зоб качался под
бородой. Брызжа слюною, он обращался уже не к Шо-Пиру, а ко всей толпе, он,
казалось, готов был наброситься на всякого, кто осмелится ему возразить. Он
кричал:
- Женщина к нам пришла? Ха! Разве это женщина перед нами? Смотрите все
на нее! Она как будто такая, как все. Мы знаем: она жена хана. Но она
рождена от факира, - ее душа черна и презренна. Это только преступное
подобие женщины, совершившее великий, смерти достойный грех. Хорошо, мы
оставим ее, но что будет? Солнце погаснет и упадет на землю, если мы оставим
ее среди нас. Все травы и воды станут такими же черными, какими в тот раз
стали камни. И все люди умрут... И наши горы, ставшие после первого греха
Подножием Смерти, будут теперь Горами Смерти... Этого хочет Шо-Пир? Об этой
справедливости говорит? И вы, факиры, этой свободы ждете? Не слушайте, люди,
Шо-Пира, он безумец! Пусть сами женщины скажут, правильны ли мои слова, -
вот сидят старые, мудрые женщины... Зейнат Богадур, ты мудрая женщина,
встань, скажи свое слово!
Науруз-бек умолк, и одна из четырех старух, ожидавших поодаль, встала,
обратилась к затаившим дыхание ущельцам.
- Я видела во сне три луны, - сказала она. - Три луны на небе я видела
в ту ночь, когда к нам прибежала эта, - старуха протянула костлявую руку,
указывая сухим, дрожащим пальцем на стоящую, как изваяние, Ниссо. - Что это
значит? Так значит: две луны пришли на небо ждать, когда солнце погаснет.
Прав Науруз-бек, правду он говорит. А утром я доила корову, из ее вымени
текло кислое молоко! Значит, трава уже становится черной. Мы не видим этого,
пока еще солнце не погасло, но коровий желудок уже все чувствует, потому что
скотина всегда прежде людей чует беду... Кто объяснит, почему это случилось
в ту ночь, когда в Сиатанге в первый раз появилась эта - бежавшая от
Азиз-хона жена? Кто объяснит?
- Пусть Бобо-Калон объяснит! - послышался голос в толпе. - Пусть
объяснит мудрейший...
- Правильно! - воскликнул, подняв обе руки, Мирзо-Хур. - Я здесь чужой
человек, мне все равно. Я всех готов слушать. Послушаем Бобо-Калона! Скажи
свое слово, Бобо-Калон!
Шо-Пир и Бахтиор переглянулись.
- Бобо-Калон... Бобо-Калон! - кричали в толпе.
- Пусть говорит, черт с ним, - кивнул Шо-Пир Бахтиору, - пусть
выговорятся они до конца! - И, коснувшись руки стоявшей перед ним бледной
Ниссо, сказал: - Сядь и будь спокойна!
Ниссо опустилась на камень.
- Смотри на них, не опускай головы! - прошептал Шо-Пир, и Ниссо,
поставив локоть на каменный стол, подперла подбородок ладонью.
Бобо-Калон встал. Руками оперся на палку, устремил взор поверх всех
сидящих к вершинам гор и заговорил медленно, как бы читая на зубцах вершин
начертанные там и зримые только ему слова:
- Моя борода бела, мои руки сухи, я прожил пять кругов; от года
Скорпиона до года Зайца - пять раз. Глупы те, кто хочет изменить мир,
который вечен и неизменен. Вот эта гора стояла всегда, как стоит сейчас. Вот
эта река, что бежит позади меня, шумела так же, и воды в ней было не больше,
не меньше. И солнце светило, и травы росли, и ночь приходила после каждого
дня, и луна по ночам плыла. Все было всегда как сейчас. Все было так тысячу
лет назад, тысячу лет подряд... Что установлено в мире, люди менять не
должны. Это истина, в ней мудрость и свет. В ней счастье каждого человека...
- И ты думаешь, Бобо-Калон, о своем счастье сейчас? - вдруг язвительно
выкрикнул Бахтиор.
- Яд в твоих словах слышу, Бахтиор, - продолжал Бобо-Калон. - Мое
счастье - в покое души и в созерцании истины... Я думаю о счастье сидящих
здесь. Я думаю даже о тех, кто ныне одержим беспокойством. О белых людях я
думаю и о вас, о черных факирах, думаю, ищущих счастье во лжи. Прав
Науруз-бек: первый грех был от чужой женщины, этот грех погасил свет Зеленой
звезды. Вот опять к вам пришла чужая женщина! Разве в прежнее время был бы у
нас разговор? Такую женщину положили бы в мешок, весь народ бил бы ее
палками, чтоб потом выбросить в реку... Настало время иное: вокруг этой
женщины разговор о справедливости... Но все, что совершается в мире,
совершается по воле покровителя. Вот мое слово: пусть эта женщина останется
здесь, и пусть гаснет солнце и травы становятся черными!
Бобо-Калон сел на камень. Ниссо стало страшно, и она с тревогой в
глазах обернулась к Шо-Пиру.
Шо-Пир, знавший много преданий и легенд сиатангцев, решил, что сломить
направленное на него оружие можно только таким же оружием. Надо было сейчас
же, немедленно придумать что-то необычное, действующее на воображение
ущельцев. Мысль работала с необычайной быстротой... Да, да, все на свете
меняется каждый миг, река прорезает горы, ущелье углубляется и растет, и
ханского канала когда-то не было вовсе, а долина орошалась исчезнувшим ныне
ручьем, а вот теперь есть новый канал, которого не было год назад... Но об
этом потом, а сейчас надо иначе...
- Так! - произносит Шо-Пир, выпрямляясь и выступая вперед. - Выслушайте
меня! Я пришел издалека! Но я тоже кое-что знаю. Мир ваших гор - это еще не
весь мир. Разные есть миры на нашей великой земле. Есть такие: год ехать
верхом - ни одной горы не увидишь. Есть такие: деревьев так много - огонь
зажги, ветром его гони, а все-таки всех деревьев не пожрет никогда. Есть
такие, где и самой земли нет, а только вода, кругом вода, как пустыня -
вода. У вас даже слова такого нет, чтобы назвать мир воды. Каких только
стран нет на нашей земле - есть такие, где солнце полгода не выходит на
небо, дни и ночи темны одинаково, а другие полгода - ночей не бывает, не
спускается солнце с небес...
Шо-Пир запнулся, подумал: "Черт! Мало я книг читал!" Он чувствовал на
себе выжидающие взоры ущельцев. Лоб его покрылся испариной. Он снял с головы
фуражку, вертя ее руках, глядел на нее. Коснулся красноармейской звезды... И
вдруг, подняв фуражку, заговорил быстро, уверенно:
- Вот смотрите! Что это блестит? Смотрите, что это? Это звезда, красная
звезда, вы видели ее на моей шапке много раз. А вы о ней думали? Нет! Откуда
она? Что означает? Я вам скажу... В тех землях, откуда я к вам пришел, было
много бед! Были люди такие, которые... волки были они, не люди: убивали
справедливость на наших землях. Сами - белые, руки у них - белые, а
сердце... Вот, смотрите на ледники ваши: далеко? Как отсюда до ледников -
наши поля. По грудь мою высотой вырастает на них пшеница, такой пшеницы и во
сне не видели вы! Мой народ собирал ее. Все зерно сложить - выше ваших гор
было бы. А люди голодали хуже еще, чем вы. А почему голодали? Те, проклятые,
волчье племя, все отнимали у нас... Миллион! Тутовых ягод на всех ваших
деревьях, наверное, меньше миллиона... А у нас там - много миллионов людей.
Но у тех, проклятых, были ружья, тюрьмы и палачи для таких, как мы, для
миллионов. Правили они нами, горло перегрызали всем непокорным, заковывали в
железные цепи руки и ноги. Боролись мы, восставали, в мученьях умирали. Но
вот пришел человек, мудрейший, великий человек, в мире таких еще не бывало!
В его сердце было любви к справедливости столько, ненависти ко злу столько,
словно весь народ вместил он в сердце свое! И закипела в нем живая красная
кровь, рождая бессмертное зовущее слово - всесильное слово всего народа.
Зажглось оно огромной красной звездою. И лучшие друзья того великого
человека, а за ними тысячи смелых, крылатых духом вознесли над миром красный
свет этой звезды; проник он в миллионы сердец, и вспыхнули они разом, сжигая
везде проклятых насильников, пробуждая в племени справедливость, радость и
счастье, о которых люди мечтали тысячу лет...
"Теперь скажу, - подумал Шо-Пир, - теперь получится! Об Октябрьской им
расскажу, о товарище Ленине, и как в гражданскую воевали, и как..."
- Шо-Пир! Шо-Пир! - схватив за рукав вдохновленного созданием новой
легенды Шо-Пира, горячо воскликнул Бахтиор. - Смотри, идут! Скорее, скорее!
- Что такое? - обернулся Шо-Пир. - Кто идет?
- Жены Пастбищ идут! Смотри!
Шо-Пир, а за ним и все собравшиеся на пустыре сиатангцы обернулись к
последним домам селения, из-за которых вприпрыжку, мыча и гремя деревянной
посудой, выбежали на тропу коровы, подгоняемые женщиной. За нею россыпью, по
камням прыгали овцы. Из-за угла последнего дома показались еще несколько
женщин; они бежали, пронзительными криками понукая овец, стегая их
хворостинами. Женщины явно стремились сюда, к пустырю, на собрание!..
Этого не было никогда! Вся толпа знала, что этого не было никогда. Мир
переворачивался на глазах...
Жены Пастбищ возвращаются раньше времени и без мужчин! Жены Пастбищ
спешат на собрание, не боясь смотрящих на них мужчин. Жены Пастбищ, - не
привидения, не сон и не дэвы, - вот они бегут сюда по тропе, гоня скот, и
первой бежит, размахивая рукавами белого платья, с распущенными по ветру
волосами старуха Гюльриз! А за ней... Каждый из ущельцев всматривается в
женщин, бегущих за ней, - не может быть, чтоб среди них была его жена или
дочь!
И только Шо-Пир стоит, сунув руки в карманы, и уголки его губ
вздрагивают, ему хочется в эту минуту смеяться радостно, неудержимо! Сам
того не замечая, он сжимает большой горячей ладонью плечо доверчиво
приникшей к нему Ниссо.
Коровы мычат, овцы оглашают воздух блеянием, далеко разносятся резкие
женские голоса.
Неужели старой Гюльриз все удалось? Что будет сейчас? Что будет?
Но сдержанная улыбка сходит с лица Шо-Пира: пять, шесть, восемь...
девятая... Овцы еще бегут, но где ж остальные женщины?
Неужели их только девять? Неужели никто больше не покажется из-за гряды
скал?
А эти девять уже приблизились, ущельцы уже различают их лица, но Шо-Пир
глядит дальше, туда, где под скалами виден черный дом Карашира, из-за
которого выбегает тропинка... Она пуста!
Бахтиор тихонько дергает за рукав Шо-Пира, взволнованно шепчет:
- А где же остальные, Шо-Пир?
Шо-Пир проводит рукой по глазам, будто зрение его утомилось.
- Больше нет, Бахтиор! - упавшим голосом говорит он, но, кинув взгляд
на толпу, горячо шепчет: - Ничего, это ничего. Пусть девять! Ты же
понимаешь? И это здорово!
Коровы, добежав до пустыря, разом останавливаются, раздирают тишину
упрямым, протяжным мычанием. Блеющие овцы, наскочив на людей, пугливо
рассыпаются, и женщины бегут за ними, крича на них, стараясь хлесткими
ударами собрать их в кучу.
Шо-Пир видит Саух-Богор и сразу отыскивает взглядом Исофа, - вот он
стоит, застыв, кулаки его сжаты; разъяренный, он весь напряжен, еще минута -
он кинется к жене. Мгновенно оценив положение, Шо-Пир срывается с места,
легко прыгая с камня на камень, бежит сквозь толпу сиатангцев к женщинам,
сгоняющим овец.
И, едва добежав, весело, во весь голос кричит:
- Большой праздник! Слышите, товарищи? Большой праздник сегодня! Наши
подруги пришли! - И так, чтоб все слышали, чтоб никто не успел опомниться,
восклицает: - Саух-Богор, здравствуй! Зуайда, здравствуй! И ты...
здравствуй, Нафиз! И ты... Мы ждали тебя, Гюльриз! Бросайте овец. Идемте со
мною, почетное место вам!
Кто из мужчин в Сиатанге до сих пор так разговаривал с женщинами?
А Шо-Пир, окруженный ими, взяв под локоть Саух-Богор, уже ведет ее
сквозь толпу к тому камню, за которым стоят Бахтиор, Худодод и товарищи
их... И понимает, что уже не кинется на свою жену Исоф. Вот он стоит,
пропуская женщин мимо себя, бледный, с трясущимися губами, негодующий, не в
силах понять, что же это такое: его жену, держа под руку, проводят мимо
него, а он не имеет власти над ней, не смеет обрушить на нее свою ярость!
Саух-Богор идет, опустив глаза, она побледнела тоже, только сейчас
осознает она всю дерзость своего поступка, но Шо-Пир ободряет ее. Другие
женщины жмутся одна к другой, проходя с Шо-Пиром сквозь толпу, под взглядом
мужских глаз.
Справа на камне сидит Бобо-Калон, - Шо-Пир проходит мимо так, будто не
замечает его, но быстрый, мельком брошенный Шо-Пиром взгляд не пропустил
ничего: палка Бобо-Калона переломлена пополам; смотря в землю, он ковыряет
обломком щебень под ногами, а вместо него, выгнув шею и задрав клюв, сердито
смотрит на женщин сокол, сидящий на плече старика... А рядом с Бобо-Калоном,
облокотившись на камень, полулежит Кендыри, невозмутимый и даже, кажется,
чуть-чуть улыбающийся. Чему улыбается он? И так же, как Бобо-Калон, потупив
взгляд, купец Мирзо-Хур поглаживает и поглаживает свою черную бороду.
- Садитесь, гости! - спокойно говорит Шо-Пир, подведя женщин к
гнейсовой, заменяющей стол плите. - Худодод, посади сестру с собой рядом!
Садись, Зуайда... Вот Ниссо, которая вас ждала!..
И, заняв прежнее место, Шо-Пир резко оборачивается к толпе.
Тишины уже нет, - медленный, глухой в толпе нарастает ропот. Надо не
потерять решающего мгновения, этот ропот надо прервать...
- Науруз-бек! Слушай ты, Науруз-бек! - отчетливо и уверенно произносит
Шо-Пир. - Ты кричал, Науруз-бек: "Пусть женщины сами скажут, чьи правдивы
слова!" Зейнат Богадур о трех лунах сказала нам? О скисшем молоке нам
сказала? Старая, мудрая женщина! Вот еще одна старая, мудрая женщина - среди
этих, пришедших к нам, - кто не знает нашей Гюльриз? Здесь спор у нас был,
Гюльриз, что делать с Ниссо? Скажи, Гюльриз, и ты свое слово, послушаем мы!
- Нечего ей говорить! - вскочив с места, подбоченясь, кривя лицо,
пронзительно крикнула Рыбья Кость. - Я тоже женщина, говорить хочу!
Распутница эта Ниссо, от мужа ушла, за двумя мужчинами прячется! Тварь она,
зачем нам такую! Гнать ее надо от нас, гнать, гнать, гнать!..
- Правильно! Зачем нам такую? - подхватил с другой стороны пустыря
Исоф. - Зараза она - наши жены не повинуются нам, Не собаки мы, хозяева мы
наших жен! Азиз-хону отдать ее!
- Отдать! Пусть уходит! - выкрикнул еще какой-то ущелец, перешагивая
через толкнувшуюся в его ноги овцу.
- Камнями бить!
Решающий момент был, казалось, упущен. Но тут сама Гюльриз легко, как
молодая, выбежала вперед.
- Довольно волками выть! - перекрывая все выкрики, возгласила она. -
Меня, старую, слушайте! Кто слушает змеиные языки? Лжет Рыбья Кость,
одержима она, наверно! Не мужчины взяли к себе Ниссо. Я сама взяла ее в дом,
моей дочерью сделать хочу, нет дочери у меня! Пусть живет у меня, пусть
посмотрят все, какой она будет! Силой взял ее себе Азиз-хон, не была она
женою ему, ничьей женой не была. Не ханская у нас власть, новая у нас
власть, какое нам дело до Азиз-хона?
Уронившая лицо на ладони, оскорбленная, полная смятения, ужаса, Ниссо
теперь подняла голову, следит за старой Гюльриз. А Шо-Пир, зная, что дело
решится голосованием, понимает, что расчет на Жен Пастбищ все-таки
провалился; он обдумывает, что надо сказать ему самому, простое, самое
важное. Он знает: ущельцы в своих настроениях переменчивы, язвительная
насмешка и короткая острая шутка сразу всех расположат к нему...Ему
вспоминается комиссар Караваев. Если бы, живой, он был сейчас здесь!..
А Гюльриз все говорила, рассказывая собравшимся о своей трудной жизни,
в которой ни один человек не мог бы найти дурного поступка. Это было
известно ущельцам. Даже самые враждебные Бахтиору люди относились к ней с
уважением и потому сейчас слушали Гюльриз, не перебивая. И когда Гюльриз
кончила говорить и воцарилось молчание, Мирзо-Хур испугался, что уже
подсчитанные им будущие барыши могут выскользнуть из его рук. Он поспешно
встал.
- Ты, Мирзо, молчи, - тихо сказал ему Кендыри. - Не надо тебе говорить.
- Скажу, не мешай, - махнул рукой купец и закричал собранию: - Пусть
так! Как старый соловей, пела нам Гюльриз! Может быть, и красиво пела! Может
быть, эту ханскую жену можно ставить здесь. Может быть, проклятие не падет
на нашу землю. Я чужой человек, я пришел из Яхбара. Там власть одна, здесь -
другая. Но для честных людей повсюду один закон! Вы забыли, Азиз-хон платил
за Ниссо сорок монет. Если у человека убежала корова и прибежала в чужое
селение и чужие люди оставили ее у себя и не хотят вернуть тому, от кого она
убежала, что скажет хозяин? Он скажет: "Отдайте мне деньги, которые стоит
она, иначе вы воры!" Кто же из вас хочет славы: все живущие в Сиатанге -
воры? Дайте мне сорок монет, я отнесу Азиз-хону, тогда не будет беды! Так
сказал я. Что ответите мне?
Довод купца снова вызвал волнение ущельцев: кто мог бы найти у себя
сорок монет?
Снова поднялся Науруз-бек:
- Большинством решать будем! Поднимайте руки. Считать будем руки!
- Считать! Считать! - закричали ущельцы.
И тут с места поднялся Кендыри. До сих пор он держался незаметнее всех.
Но он ясно ощущал: старики говорили то, чего ждал он от них, что ему было
нужно. Но результат ему был нужен другой. Людей здесь, в Сиатанге, для него
не существовало: в затеянной им тонкой игре он относился к ним, как к
фигурам на шахматном поле; Ниссо представлялась ему пока только одной из
пешек... Но именно этой пешкой рассчитывал он кончить большую игру...
Уверенный в себе, встав с места, он очень спокойно потребовал:
- Я говорить хочу!
Казалось бы, Кендыри был всего-навсего брадобреем. Почему бы
приверженцы Установленного захотели внимать ему? Но, услышав его
требовательный возглас, Науруз-бек закричал:
- Пусть говорит! Слушайте Кендыри все!
И покорные Науруз-беку старики мгновенно примолкли. В наступившей
тишине Кендыри не торопясь подошел к Шо-Пиру, улыбнулся ему, молитвенно
сложив на груди руки, обратился к ущельцам.
- Я маленький человек, - тихо начал Кендыри. - Я живу здесь, да простит
меня покровитель, но раньше я жил за Большой Рекой... И теперь хожу туда по
милости Мирзо-Хура. Доверяет он мне свои торговые дела. Маленькие люди любят
слушать разговоры о больших людях. Азиз-хон - большой человек во владениях
своих, и большие о нем идут разговоры. Слушал я, почему не послушать? Так
говорят: купил он себе молодую жену и жил с ней. Жена Азиз-хона была как
лепесток цветка. Но женщины подобны воде; пока стенка кругом, вода
неподвижна, чиста, и в ней отражается небо. Если стенка сломается, вода
убегает из водоема, бежит бурная, мутная, бьется по камням, не находит себе
покоя и сама не знает своего пути: куда наклон есть, туда и бежит, все
ниже... Не закрыл ворот дома своего Азиз-хон. Убежала его жена. Вот она: вы
все ее видите! Разные здесь говорились слова. Говорили, что солнце погаснет,
если в Сиатанге останется женщина, принесшая грех. Но не эта женщина решает
судьбу миров. Что она? Жена, неверная мужу! А разве мало в мире неверных
жен? Разве перестает от этого расти хоть одна травинка?.. Нет! Судья
Науруз-бек был не прав. Он принял пылинку за гору. И Бобо-Калон был не прав.
Гюльриз хочет взять Ниссо в дочери? Старой женщине нужна в хозяйстве
помощница... Жалко нам этого? Нет. Может женщина жить одна? Я слышал о
законах советской власти: по этим законам женщина может жить одна; пусть
живет здесь и пусть работает. Ей тоже можно участок дать: захочет сеять
пшеницу, пусть сеет... Мирзо-Хур говорит: Азиз-хону надо сорок монет отдать?
Ха! Нужна ему жена, которая покрыла себя позором! Не нужна, плевать ему на
такую жену. Он уже купил себе новую - моложе и красивее Ниссо, и заплатил за
нее сто монет. Азиз-хон - богатый человек и могущественный, каждый день он
может покупать себе новых жен! Что ему эти сорок монет! Он может их бросить
под копыта ослу, он может их бродячим музыкантам отдать... Он не вспомнит о
них... А если нужно их отдавать, разве Ниссо сама не может вернуть? Пусть на
ней лежит долг. Что ж? Кто живет без долгов? Разве все вы не должны
Мирзо-Хуру? Разве вы воры, что до сих пор не отдали долгов купцу? Купец
доверяет всем. Дело купца - кредит. Мирзо-Хур уже сказал свое слово, он уже
поверил Ниссо, что она может вернуть долги. Вот она сидит в новом платье!
Его дал Ниссо в долг сам Мирзо-Хур. Он дал ей шерсть, чтобы она вязала
чулки, она уже вяжет их, работает, чтоб отдать долг Мирзо-Хуру. Пусть
работает дальше. Пусть два года работает - она отдаст все долги и те сорок
монет, что Азиз-хон заплатил за нее. Мы знаем: Шо-Пир хочет помочь ей,
Бахтиор тоже хочет помочь, иначе разве решила бы Гюльриз взять себе Ниссо в
дочери? Вот я о себе скажу: я нищим пришел, теперь все есть у меня. Спасибо
купцу, помог мне. Знал он: тот, кто пришел сюда, не уйдет назад. Я не ушел и
все долги ему отдал. Кто из нас не отдаст свои долги купцу? Разве мы не
честные люди? Я вам скажу: он немножко обижен, торговля его не идет, он даже
хочет отсюда уйти, признаюсь вам, он говорил мне. Зачем обижать его? А если
он, правда, захочет уйти? Все долги ему тогда сразу отдавать! Разве можем мы
это? Я спрашиваю: кто мог бы сразу отдать все долги?
Кендыри замолк. Ущельцы молчали. Озадаченный неожиданной речью Кендыри,
не понимая, что заставило его встать на защиту Ниссо, Шо-Пир тоже молчал.
Шо-Пир видел, что речь Кендыри не вызывает ни у кого возражений, Бобо-Калон
молчит, Науруз-бек молчит, и все старики молчат. Шо-Пир чувствовал, что за
словами Кендыри скрывается нечто, совершенно ему не понятное, но вместе с
тем было ясно: Кендыри требует оставить Ниссо в селении. Его доводы вовсе не
так убедительны для тех, кто с таким ожесточением требовал изгнания Ниссо,
однако никто ему не возражает, все как будто согласны с ним... И ведь почти
все, что сказал Кендыри, мог бы сказать и сам Шо-Пир... Во всяком случае,
Кендыри говорил не как враг. Черт его разберет, что тут происходит!
А Кендыри уже оборачивается к Шо-Пиру, открывая свои желтые зубы:
- Ты хотел, Шо-Пир, чтобы все поднимали руки? Считай! Вот моя первая -
за то, чтобы Ниссо осталась. Пусть живет среди нас, свободной будет пусть!
Кто еще поднимет руки за мной?
Кендыри глядит на толпу. И - странное дело - первым поднимает руку
Науруз-бек. Старики в недоумении глядят на него, он кивает им головой, и,
слепо повинуясь ему, они медленно тянут вверх руки. Поднимаются руки
Гюльриз, Саух-Богор и всех пришедших с Верхнего Пастбища женщин... Поднимают
руки бедняки, получившие сегодня участки. Шо-Пир, не веря глазам, видит, что
голосующих за Ниссо уже явное большинство. Бобо-Калон встает и, глядя под
ноги, медленно уходит с собрания. Мирзо-Хур царапает свою бороду, но
молчит...
Ниссо стоит выпрямившись, на лице ее красные пятна.
- Что скажешь, Шо-Пир? - то ли с торжеством, то ли с насмешкой
улыбается Кендыри. - Народ решил: она остается здесь!
Шо-Пир не отвечает ни словом: да, народ так решил, и это хорошо, но
Шо-Пир недоволен собой, - случилось что-то, чего он не может понять. Одно
ясно ему: над приверженцами Установленного Кендыри имеет необъяснимую
власть. Нищему брадобрею, пришельцу из иного мира они повинуются слепо. Кто
такой Кендыри? В чем тайная сила его? Каковы истинные его намерения?
Шо-Пир поднимается и устало заявляет, что собрание окончено. Ущельцы
расходятся медленно, перешептываются. Науруз-бек успокаивает негодующего
купца.
67
С тех пор как три зерна взросли, -
Ячмень, пшеница, рожь, -
Других найти мы б не могли
В опаре всех хлебов.
Три страсти в жителях Земли -
И больше не найдешь -
Страх, вера и любовь легли
В основу всех основ.
Но мы без страха век иной
Основой укрепим двойной!
Встающее солнце
Конечно, Бахтиор все это сделал бы гораздо быстрее, но его уже не было
в Сиатанге, а у Ниссо еще не хватало сноровки: ведь ей до сих пор никогда не
приходилось выкладывать каменные стены! К тому же приготовленные камни были
разной величины, и, прежде чем выбрать подходящий, приходилось перебрасывать
всю кучу, наваленную в углу. Выбрав камень, Ниссо вертела его, прилаживая то
так, то иначе, - ей казалось, что камень не лег достаточно прочно и что под
тяжестью других он обязательно упадет.
Пока день за днем она таскала в корзине камни от подошвы осыпи и месила
глину, - ей представлялось, что выложить стену - самое пустое и легкое дело.
Конечно, эта - третья - стена пристройки будет ничуть не хуже двух первых,
поставленных Бахтиором. Сегодня Ниссо трудилась с рассвета, но к полудню ей
удалось поднять стену не выше, чем до своей груди, и работа становилась
тяжелей с каждым часом, потому что камни приходилось поднимать все выше...
Ниссо работала без передышки: ей хотелось как можно скорее увидеть
комнату готовой, покрытой плоскою крышей, вровень с крышей всего дома. Надо
будет посередине обязательно сделать очаг, хотя Шо-Пир и говорит, что
никакого очага не нужно, зачем, мол, в одном доме два очага? Будь дом
Бахтиора таким же, как все дома в Сиатанге, - одно помещение для всех, -
можно бы и не спорить. Но ведь сам Шо-Пир хочет, чтоб здесь каждый жил в
своей комнате, и если у Ниссо теперь тоже будет отдельное жилье, то как же
не сделать в нем очага!
Ниссо вся измазалась, глина кусочками засохла даже в ее волосах. Если б
Ниссо работала и дальше одна, ей к вечеру не удалось бы выложить стену выше
чем до уровня своих плеч. Но вот сейчас, после того, как Шо-Пир вошел сюда и
укладывает камни сам, а Ниссо только подносит ему те, на которые он
указывает, работа идет с изумительной быстротой. Как ловко он все делает!
Тот камень, который Ниссо несет, сгибаясь, охватив двумя руками и прижав к
животу, Шо-Пир принимает на ладонь, - подбросит его на ладони, чтоб он
повернулся как нужно, и сразу кладет на раствор глины с соломенною трухой. И
камень ложится так, будто местечко поудобнее выбирал себе сам.
- Вот этот теперь, Шо-Пир? - спрашивает Ниссо, дотрагиваясь до
надтреснутого валуна.
Шо-Пир оборачивается.
- Не этот. Вон тот, подлиннее.
- Этот?
И, приняв от Ниссо камень, Шо-Пир продолжает разговор:
- Значит, там, говоришь, трава хуже была?
- Наверное, хуже. Голубые Рога никогда так за лето не отъедалась.
- Может быть, она больна была?
- Нет, не взял бы ее тогда яхбарец у тетки... Там у нас все коровы были
очень худые... А эта... Когда я первый раз ее чистила, я удивлялась: ни
одного ребра не нащупать... И такая большая!
- Положим, больших коров ты и не видела! Вон тот теперь дай... Этот
самый... У нас в России такие коровы есть, - эта теленком показалась бы! Как
в раю, Ниссо, ничего у вас тут хорошего нет... Бревен для крыши и то не
найдешь подходящих.
- А те, Шо-Пир, что вчера принес?
- Это тополевые жердочки-то? Да у нас из таких и дрова нарубить
постыдятся. У нас вот бывают деревья! - Шо-Пир широко развел руки. Затем,
кинув глиняный раствор. Размазал его по кладке.
- Все хорошее у вас, - задумчиво вымолвила Ниссо, подавая новый камень.
- Почему же ты живешь здесь?
- А вот хочу, чтоб у вас все тоже было хорошим! Тебя вот, красавицу
хочу сделать хорошей.
- Меня? - серьезно переспросила Ниссо и умолкла.
Несколько минут они работали в полном молчании.
- Шо-Пир! А как же у вас бывает, если у вас не покупают жен?
- Как бывает? А просто: если кто любит, то и говорит ей: "люблю". И
если она тоже скажет "люблю", то и женятся.
- И все?
- А что же еще? - улыбнулся Шо-Пир. - Свадьбу играют. В книгу запишут,
что муж и жена. И все.
- Сами пишут?.. Вот возьми, этот годится?
- Годится, давай! Сами и пишут: имя свое... И ты будешь замуж выходить
- напишешь.
Ниссо опять замолчала. Слышалось только постукивание камней.
- Никогда замуж не выйду! - решительно сказала Ниссо.
- Почему же так, а?
- Потому, что никто меня не полюбит... Плохая я?
- Чем же плохая ты?
- Конечно, плохая!.. Из-за меня солнце на землю может упасть... Все
люди умрут, я умру, ты умрешь... Я не хочу, чтоб погасло солнце!
- Эх, ты! Только и дела солнцу, что на землю падать из-за девчонок.
Глупые люди болтают, а ты слушаешь!
- Разве Науруз-бек глупый? И Бобо-Калон глупый? Все говорят: он
мудрейший! Я неверная жена, я зараза для всех, очень я, наверное, плохая...
Разве ты не слышал, что про меня говорили? Помнишь, что про меня закричала
Рыбья Кость? Зачем ты мне дом строишь, Шо-Пир? Почему не гонишь меня? Я,
наверное, зло тебе принесу... Знаешь, Шо-Пир, я все думаю... Вот возьми еще
этот камень...
- Эх, Ниссо, ты, Ниссо! Ну, о чем же ты думаешь?
Ниссо нахмурилась: может быть, в самом деле не говорить Шо-Пиру, о чем
она думает? Может быть, он рассердится, если она скажет ему, что ей хочется
умереть? Зачем жить ей, когда она такая плохая? Зачем приносить людям
несчастье? А главное, зачем приносить несчастье Шо-Пиру? Нет, лучше не надо
ему говорить.
- Опять замолчала! Ну, о чем же ты думаешь? Что в самом деле очень
плохая? Да?
- Конечно, Шо-Пир! Так думаю...
- А скажи, кому и что плохого ты сделала? Убила кого-нибудь? Или
украла? Или с утра до вечера лжешь?
- Не знаю, Шо-Пир... Нет! А слушай, правду тебе скажу... Хочу я
убить... Вот так - нож взять и убить, сразу ножом убить!
- Ого! Кого это? Ну-ка дай камень, вон тот... Не меня ли уж?
- Тебя? Что ты, Шо-Пир, нет! - Ниссо кинула такой изумленный взгляд,
что Шо-Пир в этом забавлявшем его разговоре почуял нечто серьезное. - Как
мог ты подумать? Тебя я... - Ниссо чуть не сказала то самое слово, которое
поклялась себе не произносить никогда. - Тебя я... не хочу убивать...
- А кого же?
Ниссо бросила обратно в груду поднятый ею камень, подступила к Шо-Пиру,
с удивлением наблюдавшему за ее вдруг исказившимся лицом, и сказала тихо,
внятно, решительно:
- Азиз-хона я хочу убить... И всех, кто против меня...
- Ну-ну! - только и нашелся, что ответить, Шо-Пир. - Давай-ка лучше,
Ниссо, дальше работать.
Ниссо снова стала подавать камни. Стена уже была высотою по плечи
Шо-Пиру, и он работал теперь, занося руки над головой. Это было неудобно, он
подложил к основанию стены несколько крупных камней, встал на них.
- Нет, Ниссо! - наконец сказал он. - Ты совсем не плохая. Самое главное
- ты, я вижу, хочешь работать; это очень хорошо, что ты никогда не сидишь
без дела. Гюльриз очень довольна тобой. Ты ей помогаешь во всем.
- Конечно, помогаю. Она одна... Ты по селению ходишь, Бахтиор ушел...
Скажи, Шо-Пир, почему так долго нет Бахтиора?
- А ты что, соскучилась?
- Я не соскучилась. Гюльриз говорит: почему его нет так долго?
- Значит, караван еще не пришел в Волость. Бахтиор ждет его там,
наверное...
- Шо-Пир!
- Ну?
- Я не понимаю, скажи...
- Чего ты не понимаешь?
- Не понимаю, почему здесь все люди говорят, что голодные... Вчера -
тебя не было - Зуайда приходила сюда, с Гюльриз разговаривала, со мной тоже
вела разговор: плачет и говорит - голодная. Почему голодная? Яблоки есть,
ягоды есть, молоко есть... Разве это плохо? Когда я в Дуобе жила, мы вареную
траву ели, только вареную траву, и говорили: ничего, еще трава есть! Жадные
в Сиатанге люди! По-моему, тут хорошо!
- Да, конечно... Здесь хорошо... - медленно проговорил Шо-Пир, и ему
вдруг вспомнилось сочное жареное мясо с картошкой и луком - с поджаренным,
хрустящим на зубах, луком, без которого не обходились и дня в
красноармейском отряде. Отряд водил за собой отару скота. Каждый вечер, едва
раскинут палатки... Э!.. Шо-Пиру так захотелось есть, что он провел языком
по губам... Здесь вот, когда Шо-Пир глядит на барана, он забывает, что этого
барана можно зажарить и съесть. Раз в год, не чаще, ущельцы решаются
зарезать барана, - ох, эта каждодневная гороховая похлебка! Да яблоки, да
тутовые сушеные ягоды и кислое молоко... Раз бы пообедать досыта, котелок бы
борща со сметаной, черного хлеба с маслом!
- Конечно, Ниссо, - повторил он, - здесь хорошо. Погоди, вот привезет
Бахтиор муку, станет еще лучше... А помнишь, я тебя спрашивал... Скажи,
Ниссо, почему ты не хочешь вернуться в Дуоб?
- Зачем? Там все люди чужие.
- Но ведь ты там родилась?
- Злые все со мною были там. Азиз-хону тетка меня продала.
- А в Яхбаре тоже все чужие?
- Тоже. Чужой народ.
- А здесь?
-Здесь? Сначала думала: тоже чужие...
- А теперь?
- Бахтиор, Гюльриз, ты... Еще Зуайда, Саух-Богор... Нет, не чужой
народ.
- Как же ты говоришь - не чужой? А я вот русский?
- Ты, Шо-Пир? Ты, наверное, смеешься? Ты и есть самый мой народ!
- А кто же не твой народ?
- Азиз-хон - не мой, Науруз-бек - не мой, Бобо-Калон - не мой, Рыбья
Кость - не мой. Все, кто зла мне хотят, - не мой!
Шо-Пир улыбнулся и даже перестал укладывать камни.
- Ну, я согласен. Только вот Рыбья Кость - не чужая.
- Она не чужая? Что она про меня говорила!
- Ну, глупости говорила, ты еще с ней помиришься.
- С ней? Никогда! - со злобой выкрикнула Ниссо. - Вот чужая, вот
ящерицын язык! Крысу ей в рот!
Шо-Пир опять рассмеялся. Ниссо обиделась.
- Ты не знаешь, Шо-Пир. Она не любит тебя и Бахтиора не любит... Она
Бахтиору даже осла не дала, когда он уходил.
- Как не дала? А где же ее осел?
- Видишь, Шо-Пир! Ты ничего не знаешь, Бахтиор по всему селению ходил,
ослов собирал, так?
- Так.
- К ней пришел тоже. Я же знаю! Ты на канале был, а я с Бахтиором
вместе ходила - помнишь, ты сам сказал: помоги ему согнать всех ослов...
Рыбья Кость не дала. Карашир больной был, опиум курил, мы пришли. Рыбья
Кость нас прогнала, сказала: не дам своего осла. Бахтиор ругался. Мы ушли.
Не дала!
- Почему же он мне ничего не сказал?
- Не знаю. Ты сказал - двадцать пять ослов, мы двадцать четыре собрали.
Когда Рыбья Кость нас прогнала, мы в другой дом пошли - к Зуайде мы пошли.
Брат ее, Худодод, дал последнего... Ничего, он хороший человек тоже... А
Рыбья Кость - как змея, ненавижу ее!
- Ну, насчет нее мы с тобой еще разберемся. Давай-ка дальше работать.
Только вот что: полезай наверх, мне уже не достать, теперь я тебе камни
подавать буду, а ты укладывай. Если я полезу, пожалуй, стена обвалится.
- Не влезть тут, Шо-Пир, камни могут упасть.
- Давай подсажу!.. Э-эх!
Подхватив Ниссо, Шо-Пир вдруг впервые почувствовал силу и гибкость
девушки, безотчетно прижал ее к себе. Но сразу же высоко поднял ее на
вытянутых руках... Она уцепилась за камни и села верхом на стенку. Уловив в
растерянных глазах Ниссо необычный блеск, Шо-Пир сказал себе: "Глупости! Она
же еще девчонка!" - и, резко наклонившись над грудой камней, выбрав самый
увесистый, подал его Ниссо:
- Держи крепко, не урони... Тяжелый!
Ниссо ухватила камень, втиснула его в раствор глины.
Продолжая работать, они молчали. Стена была уже выше роста Шо-Пира.
Отдав купцу своего осла, Карашир так накурился опиума, что трое суток
подряд находился в мире видений. Давнишняя мечта о счастливой жизни томила
его. Ему казалось, что он идет посреди реки, по плечи погрузившись в золотую
воду. Вода приподнимает его и несет вниз с невероятною быстротой. Он
взмахивает руками, и золото волнами разбегается из-под его рук. Он делает
шаг - и целые страны проносятся мимо. То перед ним страна из прозрачных
фиолетовых гор. Карашир видит женщин, живущих внутри этих гор, они движутся
в фиолетовой толще, как рыбы в глубинах озера, - они спешат к берегу, чтоб
увидеть его, могучего и знатного Карашира; он устремляется к ним, но чем
ближе подходит к берегу, тем плотнее становится вода, - и Карашир не может
передвигать ноги; ему кажется, что он увязает в этой золотой и страшной
трясине; он кидается обратно к середине реки, а женщины на берегу смеются...
Течение вновь подхватывает его, он делает шаг, и - проходит, может быть,
вечность - перед ним уже другая страна: горы покрыты коврами, вытканными из
разноцветной шерсти, он приближается к ним и видит: песок по берегам реки -
совсем не песок, а россыпи белого вареного риса, и людей кругом нет, и,
кажется, весь этот рис приготовлен для него одного, стоит только нагнуться;
но едва он приближался к берегу, ковровые склоны гор покрывались полчищами
зеленых крыс, они сбегались к реке и начинали пожирать рис, и Карашир
слышал, как чавкают и хрустят зубами эти неисчислимые полчища... Он в страхе
снова кидался к середине реки, и течение подхватывало его, и по берегам
открывались новые страны... Время исчезло в этом беге по золотой реке,
тысячи стран уже промелькнули мимо, надежды сменялись самым страшным
отчаянием. Карашир то радовался, то кричал от ужаса... Карашир выбрался из
золотой реки только на третьи сутки, когда вода в ней вдруг стала не
золотой, а обыкновенной и очень холодной. То Рыбья Кость, которой надоели
крики и бормотанья мужа, вылила на него три больших кувшина холодной воды.
Но и очнувшись, Карашир долго еще пролежал на каменных нарах, не в
силах приподнять голову, которую раздирала невыносимая боль. Однако он
затих, и Рыбья Кость знала, что теперь, пролежав еще полдня, он, наконец,
придет в себя.
Когда сознание окончательно вернулось к Караширу, он увидел, что Рыбья
Кость сидит на полу и, катая между коленями большой круглый камень,
перемалывает в муку сухие ягоды тутовника. А вокруг нее сидят восемь детей,
ждут, когда мать сунет им по горсти этой сладкой муки.
- Дай мне тоже, - чуть шевеля губами, цедит Карашир и протягивает с нар
волосатую руку.
- Опомнился? - злобно глядит на него Рыбья Кость и отшвыривает его
руку. - Где мука?.. Ну-ка, скажи теперь, где мука?
- Ты... оглашенная! Какая мука? У тебя под носом что?
- Не эта, собачий хвост! Пшеничная мука где? Ну-ка, вставай! - Рыбья
Кость дергает Карашира так, что он падает с нар. - Три дня валяешься... Где?
Карашир садится на полу, припадая к каменным нарам, потирает ушибленный
бок, силится вспомнить.
- Не понимаю, - нерешительно говорит он.
- Не понимаешь? Черви мозги твои съели. Пусто у тебя там, пусто, а?
Потянувшись к Караширу, Рыбья Кость больно долбит его кулаком по лбу.
Карашир отстраняется, он чувствует себя виноватым, он не хочет ссориться с
женой и сейчас боится ее.
- Не помню, - бормочет он, - болит голова...
- Осел где? Где осел наш? Я спрашиваю... Где?
- Осел?
Ага! Теперь Карашир сразу все вспомнил. Как же это было в самом деле?
Он шел на свой новый участок и вел осла. Зачем он повел с собой осла? Ах,
да, он ходил за глиной, чтобы подправить края канавки, потому что вода
просачивалась между камнями. Когда он проходил мимо лавки, купец окликнул
его; он не хотел отвечать, но купец окликнул его еще раз... Он остановился.
Тут-то все и произошло: купец потребовал у него осла за долги, последовала
ссора, а потом купец сказал, что, получив осла, даст в долг до весны целый
мешок муки. А перед тем Рыбья Кость ругалась и требовала, чтоб свое
собственное зерно Карашир размолол на мельнице, а он не согласился, потому
что на собрании решили не трогать зерна, - и Шо-Пир так велел, и Бахтиор, и
все так решили. И купец сначала тщетно уламывал Карашира, а потом как-то так
получилось, что в руках Карашира оказался кулек с опиумом, и он отдал купцу
осла и только просил, чтобы купец дал ему довезти на осле мешок муки до
дому. Купец сказал, что лучше сделать это ночью, чтоб в селении не было
пустых разговоров. Он согласился и, сбросив глину, оставив осла купцу,
вернулся домой и сказал жене, что осла пришлось отдать, но зато ночью они
вместе сходят к купцу и возьмут у него мешок муки... А потом... Что же было
ночью? Нет, он не помнит, что случилось ночью, и вообще больше ничего не
помнит.
- Ты за мукой к Мирзо-Хуру ходила? - спрашивает Карашир, потирая
ладонью разбитый лоб.
- Ходила.
- Где мука?
- Это тебя, собачье племя, надо спросить, где мука! Не дал мне купец
муки.
- Почему не дал?
- Сказал: "Твоя мука твоей и останется, но будет пока лежать у меня. У
тебя сейчас есть свое зерно, когда не будет его, тогда дам".
- А ты объяснила ему, что...
- Что ему объяснять? Смеяться стал, кричал: "Постановление, для дураков
постановление!.. Просто власть хочет себе все зерно забрать, советским
купцам, наверное, его продали, ждут, когда за ним явятся. А вы верите!" Вот
что он сказал! Еще сказал: "Мельница в крепости есть, идите и мелите свое
зерно, пока Бахтиора нет. Ночью, - сказал мне, - иди, чтоб ни Шо-Пир, ни его
прислужники не увидели..." Я ему сказала, что для посева тогда не хватит, он
мне: "Пять лет каждую весну тебе для посева даю, неужели на шестой год не
дам?"
- Дает? Так дает, что теперь и молоть нам нечего!
- Молчи ты, дурак! Он правду сказал: дает все-таки... А теперь я больше
голодной не буду. Тебя ждала, когда дэвы выйдут из твоей головы. Сегодня
ночью снесем наш мешок на мельницу.
- Смеешься? - привстал с нар Карашир. - Против постановления я не
пойду!
- Пойдешь!
- Не пойду!
- Пойдешь! - прошипела Рыбья Кость. - Довольно... Я Бахтиору осла не
дала, боялась, что пропадет! Ты отдал купцу его, пропал он. Теперь молчи,
или уши я оторву тебе! - и она вцепилась ногтями в ухо Карашира. - Пойдешь?
Карашир молча старался оторвать пальцы Рыбьей кости от своего уха. Она
ударила его по щеке и, рассвирепев, стала лепить оплеуху за оплеухой.
Ошалелый, он вырвался, наконец, и, отмахиваясь, пополз на коленях в глубину
нар. Соскользнув с них, опрометью кинулся к выходу, нечаянно наступив на
руку дочки. Девчонка пронзительно взвизгнула, заревела. Рыбья Кость кинулась
к ней, а Карашир тем временем выбежал во двор и, проскочив его, оказался
среди беспорядочно нагроможденных скал. Здесь, слабая от паров опиума,
голова его закружилась, он опустился на землю в расщелине между скалами,
уронил голову на руки, замер в отчаянии. Затем, света не видя от головной
боли, заполз поглубже в расщелину и, скрытый от посторонних глаз, завалился
спать.
Успокоив ребенка, Рыбья Кость вышла искать Карашира. Но, не найдя его
во дворе, вернулась в дом. "Увидит, что я успокоилась, придет сам!" Карашир,
однако, не возвращался. "Надо его найти, - подумала Рыбья Кость, - а то еще
накурится снова!"
Пересекла двор и, углубляясь то в один, то в другой проход между
скалами, добрела до круглой площадки, где ущельцы недавно молотили хлеб.
Здесь Карашира тоже не оказалось. Рыбья Кость повернула обратно и неожиданно
увидела невдалеке стоящую на коленях Ниссо.
Рыбья Кость, крадучись, приблизилась к ней и, скрытая углом скалы,
остановилась. Раздвигая руками щебень, Ниссо собирала в мешок оставшуюся от
обмолота и занесенную ветром соломенную труху. "Вот как, - со злобой
подумала Рыбья Кость, - за чужой соломой охотится!" - и подошла вплотную к
Ниссо.
Ниссо резко обернулась, не поднимаясь с колен.
- Это ты? - едко произнесла Рыбья Кость. - Я слышу шорох - думаю, не
курица ли моя сюда забежала... Что делаешь?
- Крышу обмазывать надо, глина есть, соломы нет, вот собираю, - холодно
вымолвила Ниссо.
- Твоя, наверно, солома?
- Ничья, по-моему... труха это, ветер занес...
- Добрый ветер! От своих отнимает, чужим приносит... Покровитель да
поможет тебе! Слышала я, Бахтиор для своей батрачки выстроил дом? Хорошо
властью быть, можно батрачку взять - никто ничего не скажет... Жалею тебя,
ездят теперь на твоей спине!
Возмущенная Ниссо вскочила:
- Глупости говоришь! По своей воле работаю!
- Для себя или для людей?
- А хотя бы и для людей? Для хороших людей не жалко!
- Это кто хороший? - подбоченилась Рыбья Кость. - Бахтиор, что ли? Был
факир, как мы, власть взял, белый халат надел, теперь разбогатеть хочет?
Из-за него мои дети голодны, сама голодна. Свой хлеб и есть нельзя даже!
- Ничего ты не понимаешь! Шо-Пир объяснял...
- Собака твой Шо-Пир! Для тебя он хороший, для меня собака. Бахтиор
тоже для тебя хороший... Одного мужа мало, еще двух завела! Дрянь ты...
- Я дрянь? Ах ты, змеиная кожа! - вдруг рассвирепела Ниссо, кинулась к
Рыбьей Кости и вцепилась ей в волосы. - Скажи еще - дрянь?!
Рыбья Кость, в свою очередь, вцепилась в косы Ниссо, крича:
- Дрянь, воровка, чужую солому крадешь! Убирайся отсюда!
Таская одна другую за волосы, обе повалились на землю. Если б камни не
были острыми, драка продолжалась бы долго. Но, ободрав себе бок, Рыбья Кость
вскочила первая и с пронзительным криком: "Убить меня хочешь, убить!" -
схватила с земли острый камень, швырнула его в Ниссо. Ниссо уклонилась,
рванулась к Рыбьей Кости, но та, продолжая ругаться, уже скрылась за углом
скалы.
Ниссо вернулась домой злая и недовольная собой. Стоило ей, в самом
деле, связываться с этой полоумной? Рыбья Кость исцарапала руки и плечи
Ниссо да еще разорвала платье. Впрочем, ей тоже досталось. Ниссо с
удовольствием вспомнила нанесенные Рыбьей Кости удары. Уж конечно, Рыбья
Кость теперь по всему селению будет говорить о ней гадости. Пусть! Ниссо
покажет всем, что ей плевать на подобные разговоры. А для Шо-Пира... ну и
для Бахтиора, Ниссо будет делать все, все!
Замешивая принесенную соломенную труху в жидкой глине, Ниссо с
нетерпением ждала Шо-Пира, чтоб вместе с ним обмазать крышу пристройки.
Бахтиор и Худодод, отправляясь в Волость, обещали вернуться не сиатангской
тропой, ведущей от Большой Реки, а более коротким, хоть и трудным путем, -
через перевал Зархок. Тропинка к перевалу, идущая мимо дома Бахтиора,
поднималась зигзагами прямо по склону встающей за садом горы. С утра в этот
день Шо-Пир ушел вверх по тропинке, чтобы где-то на пути к перевалу починить
тот висячий карниз, через который Бахтиору и Худододу будет очень трудно
провести груженых ослов. И вот уже скоро закат, а Шо-Пира не видно!
Не дождавшись Шо-Пира, Ниссо подняла на крышу плоское корыто с
раствором. Подоткнув платье, ползая на корточках, она ладонями размазывала
глину по крыше. Время от времени поглядывала на уходившую вверх от сада
тропинку, - воздух был чист и прозрачен. Тропинка видна издалека; Шо-Пир все
не появлялся. С тех пор как исчезла луна, ветра не было, - осень, казалось,
выпросила себе у зимы еще немного покоя и из последних сил держалась в
сиатангской долине. Но даже и в безветренную погоду дни были холодными.
Ниссо зябла и, думая о Шо-Пире, досадовала, что до сих пор не связала ему
чулки, - ведь там, на пути к перевалу, сейчас еще холоднее. Ведь он не
прожил всю жизнь в Высоких Горах, не привык, наверное, плохо ему!
"Только кисточки сделать осталось, - думала Ниссо. - Домажу вот этот
угол, возьмусь за чулки, завтра ему подарю, не то еще выпадет снег..."
Но и домазывать угла ей не захотелось. Бросив обратно в корыто
зачерпнутую было пригоршню жидкой глины, Ниссо обтерла руки, спустилась с
крыши во двор. Наскоро обмывшись в студеном ручье, направилась к террасе,
чтобы выпросить у Гюльриз моточек синей шерсти.
Подойдя к террасе, Ниссо увидела Гюльриз, стоявшую неподвижно, спиною к
ней. Запрокинув голову, старуха глядела из-под ладоней на зубчатые, облитые
снегами и в этот час окрашенные густым потоком заката вершины горного
склона.
- Что смотришь, нана?
Тут только Гюльриз заметила девушку, потерла ладонью напряженную шею,
тяжело вздохнула:
- Если Бахтиор не придет завтра или сегодня, пропала наша богара.
- Какая богара, нана?
- Вот желтое пятнышко, видишь? - Гюльриз протянула жилистую руку к
горам и повела худым пальцем по очертаниям горящих в закате склонов. - Там
посеял Бахтиор богару. Видишь?
- Вижу теперь, - произнесла Ниссо. - Ничего не говорил он мне. Почему
так высоко?
- Где найдешь ближе землю? Просила его сразу после собрания пойти
принести хлеба, а он: "Некогда, мать! Успею. Сначала в Волость надо
сходить!" Все о других думает, о себе думать не хочет. И Шо-Пиру сказал:
"Ничего, долго еще не пропадет богара". А я знаю - пропадет. Завтра сама
пойду туда; старая я теперь, как взобраться, не знаю. Молодой была - ничего
не боялась.
- Не ходи, я пойду! - не задумываясь, сказала Ниссо.
Старуха оглядела девушку, будто оценивая ее силы. С сомнением покачала
головой:
- Носилки длинные, длиннее тебя. Ты ходила с носилками?
- Никогда не ходила, - призналась Ниссо.
- Тогда как пойдешь? Качаться на скалах надо, на одном пальце стоять,
другой ногой - дорогу искать. Ветер дует, тяжелые носилки за спиной, с ними
прыгать нельзя... Много лет надо ходить с носилками, чтоб научиться лазить в
таких местах. Упадешь - мертвой будешь! Бахтиор подкладки из козлиного рога
к подошвам привязывает, когда ходит на богару. Он взял их с собой, других
нет... Шо-Пир хотел пойти туда, я сказала ему: нельзя, не обижайся, русский
не может так ходить, как мы ходим по скалам. Послушался, не пошел. И ты не
ходи. Я тоже не пойду. Один Бахтиор мог бы, но нет его. Пускай богара
пропадает.
- А что весной будем сеять?
- Не знаю. Шо-Пир сказал: не беспокойся, будем... Откуда мне знать, что
Шо-Пир думает? По-моему, траву варить будем!
- Нана! - горячо воскликнула Ниссо. - Я много ела травы, я могу жить
травой, ты тоже, наверное, можешь... Шо-Пир - большой человек, руки большие,
ноги большие; хорошо есть ему надо, что будет с ним? Пропадет, если траву
есть будет. И Бахтиор тоже - мужчина!
- Вот я и говорила Шо-Пиру! Смеется. Говорит: Бахтиор муку привезет.
- А как ты думаешь, нана, привезет он?
- Не знаю, Ниссо. Мужчины сначала выдумают, потом своим выдумкам верят,
у мужчин всегда в уме надежд много... Я думаю: может быть, не привезет...
Они поговорили еще, делясь сомнениями. Старуха вспомнила прошлые
тяжелые зимы и свою жизнь: как трудно ей приходилось, когда Бахтиор был еще
маленьким, а муж ее, отправившись зимой на охоту, бесследно пропал в снегах.
Ниссо слушала Гюльриз, и в душе ее поднималась острая жалость и к старухе, и
к Бахтиору, и к самой себе. Вот Шо-Пир рассказывает о стране за горами, где
люди совсем не так - очень хорошо живут. Нет, этого, пожалуй, не может быть!
Пожалуй, правда, даже такой человек, как Шо-Пир, просто придумывает сказки!
Хороший он, жалеет Ниссо, хочет развеселить ее!
Гюльриз рассказала, что прошлой весной Бахтиор не захотел взять зерно в
долг у купца, ходил в Волость, принес оттуда мешок зерна, а потом вздумал
лезть вот на эти высоты. Все смеялись над ним, говорили, что он сумасшедший,
а он все-таки полез и расчистил там площадку, засеял, а теперь вот убрать
надо было, а он не убрал - о других заботится, а где слова благодарности?
Недружные люди в селении, как цыплята без курицы! Под крыло бы их всех да
пригреть!
- А ты думать об этом не смей, - старуха показала на зубцы вершин. - У
нас и носилок нет.
- А с чем Бахтиор пошел бы?
- Бахтиор? У Исофа брал он, мужа Саух-Богор.
- Знаю. Ходила к нему с Бахтиором, когда ослов собирали... Нана?
- Что, моя дочь?
- Дай мне немного синей шерсти... На кисточки к чулкам не хватает.
Получив моток, Ниссо отправилась в пожелтевший сад, к излюбленному
камню, но не месте ей не сиделось. Спрятав работу, она выбралась из сада и
побежала в селение.
Саух-Богор приняла Ниссо хорошо, как подругу, и обещала дать носилки,
но только чтоб об этом не узнал Исоф:
- Не любит он тебя! Знаешь, после собрания он так меня избил, что три
дня я лежала. - Саух-Богор показала Ниссо припухшие синяки кровоподтеки. -
Только ты никому не говори об этом, иначе поссорюсь с тобой!..
- Хорошо, не скажу, - ответила Ниссо и с внезапной, неведомой к кому
обращенной злобой добавила: - Только я бы... не позволила бы я, Саух-Богор,
бить себя!
- Ночью приходи, - сказала Саух-Богор, будто не услышав Ниссо. - Исоф в
полночь как раз... - Саух-Богор запнулась. - У стены я носилки оставлю.
Спать он будет ночью!
- Хорошо, я приду ночью, - согласилась Ниссо и подробно расспросила
Саух-Богор, как нужно наваливать груз на носилки, чтоб он не нарушил
равновесия и чтоб не сполз набок, когда, может быть, придется пробираться с
ним в трудных местах.
Довольная и уверенная в себе, она вернулась домой. Шо-Пир был уже
здесь, но очень устал и, едва Гюльриз накормила его кислым молоком и
сушеными яблоками, завалился спать, - все еще в саду на кошме, потому что,
несмотря на холодные ночи, не хотел расставаться со свежим воздухом.
Задолго до рассвета Ниссо выбралась из дому, потихоньку прокралась
сквозь сад, спустилась в селение.
Жилье Саух-Богор находилось на полдороге к крепости. Все небо было в
облаках, скрывших звезды и укутавших ущелье так плотно, что тьма была
непроглядной. Ниссо знала: надо ждать снегопада, в горах снег уже, вероятно,
выпал, и идти, пожалуй, опасно. Но об опасностях Ниссо не хотела
задумываться и убедила себя, что путь к богаре найдет...
Подходя тесным переулком к дому Саух-Богор, она вдруг услышала скрип
камней.
- Тише, кто-то идет. Стой, дурак! - явственно послышался в темноте
голос Рыбьей Кости.
"Что она делает здесь?" Сердце Ниссо забилось учащенно.
- Кто тут? - сдавленным голосом произнес Карашир.
Рыбья Кость оказалась смелей - возникла в темноте прямо перед Ниссо.
Ниссо различила и согнутую под тяжелым мешком фигуру Карашира.
- Ну, я! Идите своей дорогой, - загораясь злобой, ответила Ниссо.
- Это ты? Вот как! - отступила в темноту Рыбья Кость. - Что делаешь
тут? Шляешься по ночам? Смотри, Карашир, вот кого они пригрели: люди спят, а
распутница бродит... Как думаешь, к кому она крадется?
Ниссо чувствовала, что сейчас снова кинется на ненавистную женщину. Но
Карашир сказал:
- Оставь ее, жена. Не время для ссоры.
На этот раз Рыбья Кость послушалась мужа. Бормоча что-то себе под нос,
она исчезла во тьме вместе с тихо попрекающим ее Караширом.
Ниссо двинулась дальше, стараясь догадаться, что за мешок нес Карашир и
куда? Ни до чего не додумавшись, потихоньку, прокралась во двор Исофа,
нащупала оставленные Саух-Богор у стены носилки. С трудом взвалила их на
плечи, обвязалась сыромятными ремешками и отправилась в путь. Никто не
заметил ее, пока она пробиралась к подножью каменистого склона.
Добравшись до подножья склона, она медленно начала подъем, цепляясь за
выступы камней, когда порыв ветра грозил сбить ее с ног. Ветер разогнал
облака, Ниссо поняла, что снегопада пока не будет. Она очень хотела
подняться как можно выше, прежде чем наступит рассвет. Только бы Шо-Пир и
Гюльриз не увидели ее с носилками на этих склонах!
Когда красный рубец зари набух над гребнем противоположной горы, а небо
сразу заголубело, Ниссо, исцарапанная, потная, задыхающаяся, была уже так
высоко над селением, что простым глазом вряд ли кто-либо мог ее обнаружить.
Волосы на ветру хлестали ее раскрасневшееся лицо, взгляд был быстрым и
точным, сразу замечавшим именно тот выступ или ту зазубрину в скале, какая
была нужна, а в тонких, плотно сжатых губах выражалась твердая, упрямая
воля. Пальцы босых ног были такими чуткими, что, казалось, видели то, чего
нельзя было увидеть глазами.
Перебраниваясь, Карашир и Рыбья Кость медленно подымались к крепости.
Миновав полуразрушенные ворота, приблизились к мельнице и удивились, услышав
тихий, протяжный скрип вращающегося жернова. Отведенная из нового канала
вода, журча, бежала под мельницу и маленьким водопадом рассыпалась с другой
ее стороны. Рыбья Кость, нащупав притолоку входа, пригнулась и первая
вступила в длинное, узкое помещение мельницы, к ее удивлению полное людей. В
дальнем углу мигал крошечный огонек масляного светильника, тускло освещавший
сидящих вдоль стен мужчин. Рыбья Кость, не задумываясь, потянула за собой
растерянного Карашира, сдернула с его спины мешок, кинула его на другие
навороченные у входа мешки.
- Много народу вижу, благословение покровителю! - сказала она,
усаживаясь на мешках и вглядываясь в обращенные к ней лица безмолвствующих
ущельцев. - Карашир, тут и тебе место есть!
Карашир, несмело озираясь, сел.
- Как в доброе время собрались, - продолжала Рыбья Кость, обращаясь к
молчащим мужчинам. - Тебя, Исоф, вижу... Али-Мамата вижу... Здоров будь,
справедливый судья Науруз-бек! Да будет светла твоя борода, и ты здесь,
почтенный Бобо-Калон? Другие мелют, и мы пришли... Позволишь ли нам?
- Круг, размалывающий зерно, умножает блага живущих! - спокойно и
наставительно произнес Бобо-Калон. - Покорный Питателю подобен огню, не
нарушающему законов!
Карашир понял, что, придя сюда, он как бы возвращается в круг
почитающих Установленное и что Бобо-Калон напоминает ему об этом. Встретив
взгляд Али-Мамата, племянника бежавшего в Яхбар мира Тэмора, Карашир заметил
насмешку в его мутноватых глазах. И, чувствуя, что, ожидая его почтительного
приветствия Бобо-Калону, все сидящие смотрят на него пренебрежительно,
уязвленный Карашир молчал. Стоило ли два года идти против Установленного,
ссориться со всеми, кто негодует на новую власть, чтоб сейчас, из-за мешка
муки, снова признать себя презреннейшим из презренных, самым ничтожным из
всех сиатангских факиров?
Карашир мрачно смотрел на огромный круг вращающегося жернова, на
деревянную лопаточку, которой Исоф сдвигал в сторону накопившуюся перед
каменным кругом муку, и не размыкал губ. Если б Карашир повернул лицо к
смотревшим не него осуждающими глазами приверженцам Установленного, он,
вероятно, не удержался бы и произнес то, что от него ждали... Но мысли
Карашира закружились, как этот тяжелый жернов; Карашир представил себе
приветливое лицо Шо-Пира, и улыбку его, и дружеское прикосновение Шо-Пира к
его плечу; только разговаривая с Шо-Пиром, Карашир чувствовал себя достойным
уважения человеком, только в общении с Шо-Пиром исчезало в нем привычное
чувство униженности. И вот сейчас, когда впервые в жизни недоступный и
важный Бобо-Калон сам обратился к нему и ждет от него, от ничтожного факира,
ответа на свои слова, Караширу вдруг захотелось показать, что он не тень, у
него есть своя воля, свой ум. Кровь бросилась в голову Караширу, он знал,
что обида, какую он может нанести Бобо-Калону сейчас, - при всех этих всегда
враждовавших с ним людях, - будет жить в Бобо-Калоне до конца его дней...
Вскинув голову, Карашир взглянул прямо в лицо внуку хана, тусклый огонек
светильника отразился в его полных ненависти глазах:
- Почтенный шана, как мельник, ждет подаяния от факиров... Сколько
возьмешь за размол, благородный Бобо-Калон?
Если бы Карашир плетью ударил Бобо-Калона, старик, вероятно, не поднял
бы ладони так стремительно, как сделал это, словно отбрасывая нанесенное ему
оскорбление. Рыбья Кость, закрыв рукавом лицо, кинулась ничком наземь и
потянулась рукой, стремясь почтительно коснуться ног старика:
- Прости его, почтенный шана, дэвы свернули ему язык, наверное, опиум
еще кружит разум его... Закрой слух свой, не знает он, что говорит!
Сжатые кулаки Бобо-Калона, остановившиеся в глубоких орбитах налитые
кровью глаза, трясущиеся от негодования губы испугали Карашира, но, поборов
свой страх, он, сам вдруг разъярившись, схватил за плечи распластавшуюся
перед Бобо-Калоном Рыбью Кость, поднял ее и, как куль муки, выволок наружу,
в темную холодную ночь.
- Иди, проклятая, из-за тебя все! Ничего мне не надо - ни муки, ни
зерна! Убирайся, не место нам здесь!..
И когда Рыбья Кость попыталась кинуться на него, он вдруг в бешенстве
схватил ее за шею и тряс, тряс до тех пор, пока она не сомлела в его руках.
Тут он сразу пришел в себя, поволок ее к водопаду, рассыпавшему брызги за
мельницей, сунул ее голову в струю холодной воды и, когда она все-таки не
пришла в себя, положил на мокрые камни. В темноте он не видел ее лица.
Подумал, что, наверное, совсем задушил жену, уронил голову ей на плоскую
грудь, обнял Рыбью Кость и заплакал...
В темноте у дверей мельницы послышались возбужденные голоса. Кто-то
сказал: "Жалко, поделить лучше". Другой сердито крикнул: "Не жалко". Мимо
Карашира прошел согнутый, с грузом на спине человек - это Али-Мамат пронес к
брызжущей воде мешок с зерном Карашира, а за ним по пятам, подталкивая его
палкой, следовал Бобо-Калон.
- Бросай! - приказал Бобо-Калон.
Из распоротого мешка зерно тяжелой струей посыпалось в воду. Али-Мамат,
должно быть, хотел часть зерна утаить для себя, потому что послышался голос
Бобо-Калона: "Все! Все! И это! Да развеет вода нечистое!" Вода в канале
зашипела, все затихло.
Карашир, уткнувший лицо в грудь Рыбьей Кости, слышал это как бы сквозь
сон. А когда Рыбья Кость с протяжным вздохом очнулась, в темноте вокруг
мельницы уже не было никого. Мерно поскрипывал жернов, стучал по камням
водопад, и Карашир, подумав, что не все еще в мире пропало, принялся гладить
мокрые спутанные волосы жены.
Утром, проснувшись от холода, Шо-Пир скинул с головы ватное одеяло и
увидел, что горы над самым селением покрылись снегом. Этот снег оставили
стоявшие над ущельем ночью, а к утру поднявшиеся высоко, разорванные ветром
облака. В свежей белизне склонов вырезались черными полосами грани отвесных
скал. Селение, однако, еще не было тронуто снегом - желтые, облетевшие сады
волновались под ветром. При каждом порыве его листья долго кружились в
воздухе, неслись над рекой, над домами, над серой пустошью обступающих
селение осыпей...
Прежде всего Шо-Пир подумал о Бахтиоре и Худододе: положение становится
очень серьезным; если они все еще ждут каравана в Волости, надежды на муку
придется оставить; если же они с грузом вышли и снега застали их в пути,
значит, застрянут под перевалом, и нужно собирать народ им на помощь... Но
кто может знать, где сейчас находятся Бахтиор с Худододом? В одном можно
быть уверенным: застряв в снегах, Бахтиор ослов с мукой не бросит, а пошлет
Худодода в селение за помощью. Но ждать, конечно, нельзя, надо пойти самому
или послать кого-нибудь навстречу.
Шо-Пир отбросил в сторону одеяло. Дрожа от холода, быстро оделся;
взошел на террасу, заглянул в комнату Гюльриз. Сидя на корточках перед
очагом, она раздувала огонь.
Гюльриз обернулась, сказала встревоженно:
- Зима спустилась... Где Бахтиор?
- Придет, - скрывая свои сомнения, протянул Шо-Пир. - Наверное, близко
уже! Что, Ниссо еще спит?
- Не показывалась... Значит, спит.
- Устала, должно быть, - сочувственно сказал Шо-Пир, - пускай спит.
Кипяточку бы мне поскорей, Гюльриз. Дела сегодня много...
Когда вода в кувшине вскипела и Шо-Пир, накидав в пиалу сухих яблок,
выпил кисленького настоя, он велел Гюльриз взглянуть, почему, в самом деле,
так заспалась сегодня Ниссо. Гюльриз вернулась на террасу, сказала, что
постель Ниссо смята, а ее самой нет.
- Ты и утром ее не видела?
- Не видела... Не понимаю... Куда ушла?
Шо-Пир несколько раз окликнул Ниссо - никто не отозвался. Уходя из
дому, она всегда говорила старухе, куда идет. Шо-Пир подумал: не случилась
ли какая беда? Как было не сообразить до сих пор, что, возможно, Мирзо-Хур
или приверженцы Бобо-Калона захотят украсть девушку и за хорошее
вознаграждение вернуть ее Азиз-хону? Чего не случается в этих местах!
Однако никаких следов борьбы в комнате Ниссо не было, ночью тишина не
нарушалась ничем. Шо-Пир всегда спал чутко, - он бы проснулся, если б Ниссо
хоть раз крикнула. И все-таки, обыскав весь сад, Шо-Пир не на шутку
встревожился.
"Пойти в селение, искать ее надо!"
Шо-Пир торопливо идет в свою комнату, распахивает шкаф, хватает
завернутое в тряпку охотничье ружье, поспешно ищет гильзы, пыжи, сыплет на
стол из старой консервной банки порох. Этим ружьем, подарком командира
отряда, он здесь почти не пользовался... Шо-Пир сам не понимает, зачем все
это он делает, куда пойдет с ружьем; руки его дрожат...
И когда, появившись на пороге комнаты, Гюльриз неожиданно окликает его,
Шо-Пир, не оборачивается, чувствуя, что он бледен.
- Шо-Пир! Из головы ушло! Я знаю, где она... Сумасшедшая, пошла на
богару, на нашу богару - принести хлеба! У Саух-Богор, наверное, носилки
взяла... Пойди к Саух-Богор, спроси...
Шо-Пир сдерживает неожиданный вздох и резко кладет ружье на стол.
- Неужели туда пошла? Зачем ты пустила ее?
- Разве я пускала ее? Я сказала: и думать не смей! Шо-Пир, ведь она
может упасть... убьется!..
- Наверное, упадет, убьется, - говорит Шо-Пир, но в тоне его не
тревога, а успокоенность.
Гюльриз удивлена: он смеется. Шо-Пиру неловко, что он смеется, но
теперь не стыдно смотреть в глаза Гюльриз. Он знает, в лице его нет
волнения.
- В самом деле, там не трудно сорваться. А правда, Гюльриз, она
все-таки не трусиха?
- Сумасшедшая она! - хмурится Гюльриз. - О Бахтиоре мы беспокоимся,
теперь за нее еще надо бояться, - посмотри, на горах снег!
- Вернется - крепко ей, нана, попадет от меня! - Шо-Пир кладет на место
ружье, порох, гильзы, пыжи. - Пойду к Саух-Богор спрошу. А потом делами
займусь, - надо позаботиться, чтоб Бахтиор с Худододом не застряли
где-нибудь под перевалом.
- Вот хорошо, Шо-Пир! Ой, как я боюсь за него!
И Шо-Пир уходит из дому. И почему-то вспоминает тот день, когда, не
обращая внимания на арыки и колдобины, мчал свой наполненный красноармейцами
грузовик из города в то селение, где басмачи, может быть, еще не успели
причинить зла... Да, да, вот так же думал он о жене, такое чувство испытывал
тогда, выжимая газ до предела.
"Неладно все это!" - наконец заключает Шо-Пир, заметив, что селение уже
недалеко. Смотрит на горы, внимательно вглядывается, ища в высоте крошечное
желтое пятнышко, но там, где оно виднелось всегда теперь, как и по всему
склону, - блистающий снег.
"Как бы в самом деле не сорвалась... хоть и умеют они лазать, как
козы... Ох, и озорная же девчонка!"
И, отведя взгляд от горного склона, заставляет себя думать о Бахтиоре.
Оставшись одна, Гюльриз занялась тканьем, но непрестанно отвлекалась,
поглядывая то на склон, по которому должна была спуститься с тяжелой ношей
Ниссо, то в другую сторону - на тропинку, бегущую с перевала, откуда мог
явиться Бахтиор. Придет или нет? С грузом или без груза будут его ослы?
Вчера Гюльриз поделилась с Зуайдой последней меркой гороха и отдала
Саух-Богор чашку просяной муки, из которой хотела испечь лепешки Бахтиору,
если он вернется ни с чем... Саух-Богор сказала, что муж ее утром уйдет на
охоту, может быть, пробудет в горах несколько дней, может быть, не убьет ни
одного козла, потому что пороха осталось у него всего на три выстрела, а
после собрания купец никому и ничего в долг не дает. Шо-Пир сказал: "Отдай",
- и она отдала муку, хотя, по ее мнению, Исоф мог бы прокормиться в горах и
запасом тутовых ягод... Да он, наверное, и не пошел сегодня, увидев, что
выпал снег, обидно - зря отдала муку!
Сколько дней уже провела Гюльриз в ожидании, сердце ее изныло. А
сегодня ноет оно особенно: перевал закрылся, снег белеет всюду, - страшен ей
этот снег! Старуха думает и о Ниссо и о Бахтиоре. Думает то, о чем только
однажды сказала Шо-Пиру. Не напрасно ль сказала, не лучше ли было б таить
эти думы? Нет, Шо-Пиру можно сказать, у него большая душа, он понял...
Гюльриз вяжет новую рубашку Ниссо, зимнюю шерстяную рубашку. Вяжет
заботливо, как невесте, и задумавшись, уже не глядит ни на склон горы, ни на
тропинку, ведущую с перевала... И вдруг вздрагивает, услышав вдали трубный
крик осла...
Отбросив работу, Гюльриз глядит из-под ладоней на зигзаги тропинки, и
слабое ее сердце бьется сильно, как в молодости: по тропинке, гоня перед
собой тяжело навьюченных ослов, спускается ее сын. Он хромает. Почему
хромает? Но это ничего! Он идет, он жив! А позади идет Худодод. Но кто же
тот, третий, перед Худододом едет на осле? Одет не по-здешнему... Это
чужой... Но Гюльриз сейчас не до любопытства. Она улыбается, всматриваясь в
Бахтиора. Длинная палка мелькает в его руке. Он опирается на нее.
Распахнутый халат развевается на ветру, значит сыну жарко, ведь так и должно
быть: когда человек идет быстро, ему всегда жарко... Ветер доносит песню -
сын поет свою любимую песню, - значит, все хорошо!
Старуха не трогается с места, не машет рукой, - нет у них, ущельцев,
привычки показывать свои чувства. Следует даже придать суровость лицу... Но
как бьется сердце!
Вот он уже близко, ослы топочут копытцами по камням, он их подгоняет:
"Эш! Эш!" - из-под его тюбетейки торчит белый цветок. Откуда зимою он взял
белый цветок? Но он сильно хромает, что могло случиться? Как долго ходил ее
Бахтиор, как устал, наверно!
- Здравствуй, мать! - весело говорит Бахтиор, кивнув головой и
останавливая сгрудившихся ослов на дворе. - Все хорошо?
Старуха кидает быстрый взгляд на того, чужого. Он сидит на осле.
Русские сапоги, зеленые штаны, овчинная дорогая шуба, шапка с наушниками,
каких Гюльриз не видала. Это русский? Нет, это не он, это женщина, из-под
шапки видны длинные черные волосы... Приехавшая устало слезает с осла,
снимает поклажу.
- Благословен покровитель! Хорошо, - отвечает Гюльриз Бахтиору и
дрожащими пальцами помогает ему развязывать узлы арканов, стягивающих туго
набитые джутовые мешки. Мысли Гюльриз ревнивы: "Зачем с Бахтиором женщина?
Ехали вместе. Кто она?" Но тут же старуха соображает: "Русская. Значит, не к
Бахтиору. К Шо-Пиру, наверное... Ну, это ничего... это даже хорошо..."
Гюльриз продолжает развязывать узлы, а сама глядит на ноги сына: обувь
изорвана, пальцы обмотаны тряпьем. Как, наверно, болят его ноги! Сколько
острых камней, сколько снега было на его пути!
- Отчего хромаешь, сын?
- Дурной осел на меня упал! Ничего, удержал его, вон этот! - Бахтиор
указывает на маленького, принадлежащего Худододу осла с окровавленной
мордой; кровь запеклась и на ободранной шерсти.
- Ничего! - усмехается исхудалый, с иссохшими губами Худодод. - Будь
здорова, Гюльриз!
- Здоров будь, Худодод! - Старуха глядит на губы сына - они тоже
растрескались, покрылись коростой. Как ввалились у Бахтиора глаза!
Бахтиор оборачивается к женщине, расстегивающей крючки тесного
овчинного полушубка:
- Товарищ Даулетова, вот моя мать! - и шепотом добавляет матери: - К
нам работать приехала. Другом нам будет!
Гюльриз хочет спросить: "Какая для русской женщины у нас работа? Может
быть, это жена Шо-Пира? Никогда не говорил, что у него есть жена!", но
женщина уже подошла к Гюльриз, приветливо протягивает руку:
- Здравствуй, Гюльриз! Счастье в твоем доме да будет!
"Откуда знает по-нашему, если русская? Хорошо сказала!" - думает
Гюльриз, смущенно протягивая руку. Гюльриз не привыкла к рукопожатиям,
пальцы ее неестественно вялы.
- Спасибо. Добрые слова слышу. - Гюльриз еще больше смущается и, не
зная, как вести себя с приезжей, обращается к сыну: - Долго шли, Бахтиор?
- Пришли! - равнодушно отвечает он. - Товарищ Даулетова, ты садись,
отдыхай.
- Долго, Бахтиор, ты будешь так меня называть? - улыбается Даулетова. -
Говорила тебе: зови меня Мариам!
Бахтиор бормочет в смущении:
- Хорошо, Мариам...
Он сбрасывает на землю первый тюк и толкает осла кулаком. Осел сразу
ложится навзничь, взбрасывает копыта, извиваясь, старается размять и
почесать взмокшую, горячую спину. Худодод кидается к нему, бьет его палкой,
силится поднять на ноги.
- Шо-Пир где? - спрашивает Бахтиор.
- Вниз, в селение, ушел. Сейчас, наверное, придет. - Гюльриз показывает
на вершину горы: - А Ниссо туда, не спросясь, ушла.
- Ушла? Как ушла? - быстро спрашивает Бахтиор, а Гюльриз пытливо
заглядывает ему в лицо: есть ли в сердце сына тревога? Уж очень быстро он
спросил - наверное, есть! И добрые глаза Гюльриз искрятся.
- Богару принести пошла, носилки у Саух-Богор взяла! - говорит она
успокоительно, помогая сыну отвязывать вьюки, и уже по-хозяйски спрашивает:
- Привез что?
- Нехорошо Ниссо сделала! Трудно там! - еще раз взглянув на высокий
снежный склон, Бахтиор мрачнеет; но зачем матери знать его думы? - Муку
привез. Рис привез Шо-Пиру подарок маленький: сахару три тюбетейки, русского
табаку - одну, чаю - одну, пороху - банку. Спасибо русскому командиру,
хороший человек оказался. Много русских туда пришло. Киргизы, узбеки и
таджиков много, вот товарищ Мариам с ними, - Бахтиор кидает улыбку присевшей
на один из мешков Даулетовой. - Все по-новому там, пусть Мариам расскажет.
Далекий был путь. Снега много на перевале...
Даулетова вынимает из кармана полушубка круглое зеркальце, снимает
ушанку, разглядывает свое обветренное, круглое, с выступающими скулами лицо,
заплетает растрепанные косы.
Собрав развьюченных ослов и привязав их к деревьям, чтоб дать им
выстояться, Бахтиор говорит Худододу: "Теперь иди! - и Худодод торопливо
уходит домой, в селение.
- Куда складывать будем? - спрашивает Бахтиор, и Гюльриз советует ему
не трогать мешков, пока не придет Шо-Пир.
Бахтиор садится на кошму, разостланную старухой под деревьями,
приглашает Даулетову сесть рядом. Гюльриз выносит Бахтиору деревянную чашку
с кислым молоком. Он протягивает ее Даулетовой. Мариам, сделав несколько
жадных глотков, возвращает чашку Бахтиору, и он, поднеся к обмороженным,
иссохшим губам, залпом выпивает молоко. Гюльриз очень хочется услышать
рассказ обо всех подробностях путешествия, но Бахтиор уже растянулся на
кошме, его глаза закрываются от усталости. Гюльриз незаметно отходит в
сторону, Бахтиор спит. И, как была в расстегнутом полушубке, спит приезжая
женщина.
Гюльриз уходит в дом, выносит две подушки, бережно подкладывает одну
подушку под голову Бахтиора, другую - Даулетовой. Затем опускается перед
сыном на корточки и замирает в этой позе, не отрывая глаз от его
безмятежного лица и отгоняя согнутою ладонью неведомо откуда прилетевшего
жука.
Весть о прибытии муки мгновенно облетела все селение. Кое-кто
встретился с Худододом, когда он торопливо шел домой, любопытствующие
ущельцы устремились за ним, но, к их разочарованию, войдя в дом, Худодод
сразу же завалился спать; другие видели, как цепочка ослов спускалась по
зигзагам тропы и исчезла в саду Бахтиора. Побросав работу, многие ущельцы
поспешили туда.
Когда Шо-Пир, запыхавшись, подоспел к своему дому, перед каменной
оградой уже толпился народ. Никто не решался нарушить обычную вежливость -
войти во двор или в сад. Но любопытство было неодолимо, и потому, приникнув
к ограде и сидя на ней, ущельцы обсуждали все, что им было видно.
- Пришел! Пришел! - расступаясь перед Шо-Пиром, возбужденно заговорила
они. - Бахтиор пришел, с ним женщина, наверно русская, спит...
- Знаю, знаю! - отмахивался Шо-Пир, хотя еще ничего толком не знал, и,
миновав пролом в стене, обойдя спящих, сказал Гюльриз: - Тише! Пусть спят.
Гюльриз наскоро сообщила все, что знала сама, и очень удивилась, когда
Шо-Пир, всматриваясь в лицо Даулетовой, сказал:
- Не знаю, кто это. Не русская она, наверно таджичка.
Досадуя на ротозеев, Шо-Пир прикинул в уме вес привезенного груза,
ощупал сваленные в кучи мешки, занялся сортировкой.
Затем осмотрев ослов, решил сразу же вернуть их владельцам, толпившимся
у ограды.
Шо-Пир отвязывал ослов, выводил их по одному за ограду; владельцы
тотчас кидались к Шо-Пиру и, окруженные советчиками, принимались деловито
щупать ноги, ребра, шею осла, неизменно при этом вздыхая и рассуждая о том.
Как вреден такой дальний путь, как добрый осел исхудал, как сбиты его
копытца. Зная характер ущельцев, Шо-Пир не обращал внимания на причитания и
жалобы и продолжал выводить ослов, пока на дворе не остались только
маленький, с окровавленной мордой ослик Худодода да широкоухий осел Бахтиора
и еще два осла, владельцы которых отсутствовали. Ущельцы потребовали назад
арканы, потнички и всю амуницию, но Шо-Пир, собрав ветхое имущество в кучу,
заявил, что во избежание путаницы и нареканий вернет все это на следующий
день через Бахтиора.
Затем Шо-Пир ушел в дом. Расчет его оказался правильным: ущельцы,
убедившись, сто смотреть больше не на что, обсуждая событие, удалились.
Шо-Пир велел Гюльриз взять из привезенных продуктов все, что ей
вздумается, и приготовить обильный и вкусный ужин.
Ниссо не возвращалась, и Шо-Пир, присев возле спящего Бахтиора,
составляя в тетради список привезенного, поглядывал на тот склон горы, по
которому Ниссо должна была спуститься в селение.
Спящая на кошме рядом с Бахтиором женщина вызывала недоумение. Шо-Пир
сразу определил, что эта таджичка, судя по одежде, видимо, городская, -
сапоги и полушубок военного образца, ватные, защитного цвета брюки тоже.
Зачем она явилась сюда? Шо-Пиру очень хотелось узнать поскорее новости, но
приехавшие крепко спали. Надо было терпеливо ждать, когда они проснутся.
Под вечер первой проснулась Даулетова. Села, протерла заспанные глаза.
Увидела Шо-Пира.
- Вы товарищ Медведев? - просто и дружески протянув руку, по-русски, с
легким акцентом заговорила она. - То есть вы тот, кого здесь зовут Шо-Пиром?
Привет вам от Швецова.
Шо-Пир сдавил пальцы Даулетовой так, что она, вырвав руку, быстро
замахала ею.
- Виноват! - смутился Шо-Пир. - Это я русской речи обрадовался. Швецов?
Кто это?
- В Волости новый замнач гарнизона.
- Спасибо. Только я не знаю его.
- А он вас знает. Слух о вас далеко идет!
- Ну, скажете! Как в норе живу.
- В Волости знают вас... Только, по-моему, Швецова и вы знать должны. В
отряде Силкова служили?
- Василия Терентьевича? Как же!
- И Швецов там служил. Забыли?
Шо-Пир взволновался:
- Постойте! Швецов? Маленький такой, щуплый?
- По сравнению с вами? Ну, скажем так: худощавый, небольшого роста! -
Даулетова улыбнулась. - "Шуме-ел камыш, де-е-ревья гнулись, а ночка
темна-а-я бы-ы-ла!.."
- А! - обрадовался Шо-Пир. - Ну, значит, тот самый! Без этой песни дня
не было у него! Красноармейцем был, гармонист хороший! Петькой зовут?..
- Правильно, Петром Николаевичем! С ним я приехала. Он меня сюда и
сманил, давно хотелось ему в эти края вернуться.
Подумав: "Здорово! Пошел, значит, в гору!" - и сожалея, что вежливость
велит отложить волнующий разговор о Швецов, Шо-Пир спросил:
- А вы что, работать сюда приехали?
- Ага. Учительницей... Где тут школа у вас?
- Школа? - Шо-Пир был озадачен вопросом. - Какая здесь школа!
- Разве нет? - смутилась Даулетова. - Ну ничего, мы соберем актив
комсомола, организуем школу!
- Комсомол? - еще более изумился Шо-Пир. - Да вы, товарищ... как вас
зовут? Да откуда здесь быть комсомолу?
- И комсомола здесь нет? - в свою очередь, удивилась Даулетова. - А
мне, когда комитет комсомола меня посылал, сказали... Впрочем... - Даулетова
окинула взглядом обступившие Сиатанг горы, селение внизу, иссушенные
осенними ветрами сады. - У нас считали... Мы в карту вглядывались... На ней
река Сиатанг пунктиром намечена, а внизу сказано: "Составлено по расспросным
сведениям". На этой карте Волость и Сиатанг - почти рядом, все те же горы...
Ну, считали, что раз в Волости есть комсомол, то... - Даулетова улыбнулась.
- Кажется, я действительно попала в глухое место...
Проснувшийся Бахтиор старался вникнуть в полупонятный ему разговор.
- Зовите меня Мариам.
- А фамилия ваша?
- Даулетова... А я-то целый год сиатангский язык изучала, думала,
приеду - сразу начну работу со здешними комсомольцами... А тут,
оказывается... - Мариам покраснела. - Вы не думайте, что я о трудностях!
Словом, неясно я себе представляла... Как же вы тут живете?
- А ничего живу. Поглядите: вот дом, вот сад, вот парни, какие у меня в
друзьях! - И чтоб рассеять свое смущение, Шо-Пир так хлопнул по колену
ничего не ожидавшего Бахтиора, что тот испуганно привскочил, а Даулетова
расхохоталась.
- Ничего, Бахтиор! - усмехнувшись, по сиатангски промолвил Шо-Пир. - не
пугайся, это я объясняю, какой ты у меня хороший! - И снова по-русски
обратился к Даулетовой: - А вы, коли к нам приехали, жить у нас будете, сами
увидите, какие тут дела. Советскую жизнь устраиваем!.. Это что у вас, наган?
- В городе дали. Сказали по Восточным Долинам поедете, разное там
бывает. Только не пригодился.
- Ну и здесь тоже не пригодится. Штучка хоть и хорошая, однако в
селение пойдете, снимите ее, а то, пожалуй, вас и за женщину не посчитают.
Скажите, где ж это караван четыре месяца пропадал? Мы думали - крышка!
- Четыреста верблюдов, - на весь край товары везли. Ну, а верблюды,
знаете, пока Восточными Долинами шли - ничего, а поближе к Волости перевал
уже снегами закрыт, зима раньше там начинается, выше вот этого дерева там
снега!
- Знаю, купался в них! Там и летом снег. А как же прошли с верблюдами?
- Про то и речь! Тропинки узкие начались, никак не пройти верблюдам.
- Значит, застряли?.. Над Соленым озером, что ли?
- Именно! Наши на Восточную границу поехали лошадей доставать -
неспокойно там, вернулись ни с чем. А мы месяц под перевалом прождали,
верблюды начали падать, нет подножного корма. Девяносто верблюдов пало.
Назад идти? Швецов говорит: "Не по-нашему это!" Да и позади уже снега
выпали. Мы половину груза под скалами сложили, - теперь весною его возьмут,
- сами вкруговую; километров двести круг сделали; вот и пришли.
- Досталось, значит?
- Ничего, досталось! Сюда, в Сиатанг, знаете, еще несколько работников
ехало: Ануфриев - фельдшер один, толстяк, Дейкин - комсомолец, кооператор.
Во все крупные селения люди назначены были. Только почти все, как добрались
до Волости, там и остались, кое-кто заболел, другие - просто так, до весны,
говорят, проживем, тогда двинемся на места...
- А вы что же?
- А я? Вот с Бахтиором вашим приехала. Хорошая вышла оказия!
Кооператору без товаров и делать здесь нечего, а фельдшер, хоть и отощал в
дороге, а все-таки толстяк, куда ему зимой? Лазать не может, да и трусоват
немножко... Словом, весной сюда явятся.
- Ну, вы, я вижу, молодец! - сказал Шо-Пир. - С Бахтиором-то как?
Сдружились? - и, не заметив, что переходит на "ты", добавил: - Значит,
по-здешнему говорить можешь?
- Говорю! - и Мариам нараспев произнесла всем известную в Сиатанге
песенку:
Горный козленок с тропы на тропу
Прыгает и качается...
Девушка моя легче его.
Глаза, брови, как уголь!
- Вот ты какая!.. А научилась где?
- Райком несколько стариков разыскал - переселенцев из этих мест. Целый
год меня обучали... А Бахтиор? Ну, если б не он, я бы сюда не добралась!
Перейдя на сиатангский язык, Даулетова продолжала рассказывать. Бахтиор
принял участие в разговоре.
Шо-Пир узнал, что в Волость приехал новый секретарь партбюро по фамилии
Гветадзе, человек, хорошо знающий особенности жизни в горах.
- Он сказал мне, - сообщила Даулетова: - "Писать Шо-Пиру не буду, раз
едешь ты, а передай ему на словах..."
И Даулетова подробно перечислила все порученные ей для передачи советы
и указания Гветадзе. Речь шла о работе по разъяснению местным жителям
проводимых в Высоких Горах советских мероприятий: об орошении пустующих
площадей (Шо-Пир с удовлетворением подумал об уже действующем новом канале);
о наблюдении за сохранением поголовья скота; об ожидаемой посевной ссуде; о
подготовке помещений для амбулатории, кооператива, школы; о работе по
раскрепощению женщины... Затем Даулетова стала рассказывать обо всем, что
творится в мире. С грустью подумав, что уже давно не держал в руках ни одной
газеты, Шо-Пир, слушая Даулетову, забыл об окружающем.
Гюльриз, уже в сумерках, позвала всех туда, где на кошме, под платаном,
расставлена была вся имевшаяся в доме деревянная и глиняная посуда,
наполненная сдобными лепешками, изюмом, сливками, колотым сахаром, горками
вареного риса.
- За Худододом сходить надо бы, давно такого пиршества он не видел, -
сказал Шо-Пир. - Сходи, Бахтиор!
- Вот хорошо это, сейчас приведу... Шо-Пир, что будем делать? Темно
уже, а Ниссо нет!
- Ниссо? И верно, где ж это Ниссо?
- И я все думаю! - вмешалась Гюльриз. - Вы разговариваете, забыли, а я
думаю: беда, наверно, случилась...
Но тут, словно только и дожидалась, когда заговорят о ней, в темном
саду показалась Ниссо. Огромная ноша пригибала ее. С трудом переставляя
тонкие босые ноги, Ниссо продвигалась между деревьями, ветви цеплялись за
покрытые примерзшим снегом снопы. Конец ослабшей веревки волочился за
носилками по земле. Шо-Пир и Бахтиор, вскочив, кинулись к девушке; ее
опущенное к земле лицо было скрыто копной разметанных волос. Ветка
тутовника, задев за носилки, нарушила равновесие. Ниссо упала на колени,
снопы прикрыли ее.
Шо-Пир и Бахтиор быстро разметали снопы, и из желтых колосьев
показалась черная лохматая голова. Ниссо откинула назад волосы, и все
увидели ее утомленное лицо, но огромные глаза сияли счастливо и возбужденно.
- Вот! Хлеба тут на десять дней, - сказала она прерывающимся голосом. -
Я не думала, Бахтиор, что ты сегодня придешь...
Обильное угощение не обрадовало, а скорее огорчило Ниссо. Шо-Пир это
понял, нагнулся, обнял девушку в приливе неожиданной нежности, поймал себя
на желании поцеловать Ниссо прямо в полураскрытые губы. Ниссо не
шелохнулась, не опустила глаз; она была полна гордости. Шо-Пир только
потрепал спутанные мокрые волосы девушки.
- Ах ты, барсенок! Кто же тебе позволил идти туда?
- Свободная я... Ты же сам говоришь, Шо-Пир! - горячо выдохнула она и,
взглянув на Даулетову, смутилась, выскочила из груды снопов и побежала к
дому.
- Глядите! Еще бегать может! - рассмеялся Шо-Пир. - Гюльриз, веди-ка ее
сюда. Все в порядке теперь. Есть будем... Э-эх, - заломил он руки, - жизнь у
нас хороша!
Было решено: пока Бахтиор, Худодод и Шо-Пир не выстроят дома для школы,
Мариам и Ниссо поселятся в новой пристройке. Здесь же будут храниться все
привезенные Бахтиором продукты. Шо-Пир обещал на следующий же день заняться
изготовлением деревянных кроватей для девушек, а в эту ночь обе легли спать
на мешках с мукой, застланных кошмами и ватными одеялами.
Чуть не всю ночь проговорили они в темноте, рассказывая каждая о себе.
Двадцатилетняя Мариам решила именно с этой девушки начать свою
воспитательную работу и хотела, применяясь к ее развитию, подружиться с ней.
Ниссо с гордостью чувствовала себя ничуть не менее взрослой и опытной.
- Значит, ты такая же, как и я? - заключила Ниссо.
- Такая же... Только от Азиз-хона не убегала.
- Это потому, что там ханов нет. Но зато ты была очень больна от
голода.
- Да, если б меня не подобрали тогда и не увезли в детский дом, я бы
так и умерла на улице Самарканда.
- Расскажи мне, что такое детский дом и что такое улица Самарканда?
Ниссо слушала не перебивая. Но потом задала сразу столько вопросов, что
Мариам объявила:
- Знаешь, давай лучше я тебе каждый день буду рассказывать о чем-нибудь
одном. Очень много нужно рассказывать. Хорошо?
- Хорошо, - согласилась Ниссо. Помолчала, раздумывая, и сказала: -
Значит, ты за работу свою все время деньги получать будешь?
- Буду.
- Я тоже хочу.
- Будешь, если всему научишься.
- А ты книги, значит, умеешь читать?
- Умею.
- Я тоже хочу. И сама, куда хочешь, ездишь?
- Конечно.
- Я тоже хочу. А как там ездят? Шо-Пир говорил такое слово: машина. Ты
ездила?
- Ездила.
- Вот это я тоже хочу! Расскажи, как на них ездят?
Мариам покорно принялась рассказывать об автомобилях, железных дорогах
и самолетах. Ниссо слушала, наконец перебила Мариам:
- Вот это все ты тоже, как и Шо-Пир, выдумываешь! Сказки это, но я тоже
хочу!.. У тебя есть муж?
- Нет, не хочу замуж.
- Ну, и я не хочу. А ты никакого мужчину не любишь?
- Нет, не люблю.
- А я вот люблю! - горячо воскликнула вдруг Ниссо, сразу спохватилась и
замолчала, прикусив палец.
Мариам в темноте улыбнулась, хотела спросить: "Кого?" - но раздумала и
сказала:
- Давай спать, Ниссо.
- Давай, - глухо ответила девушка, и хотя после этого в помещении
воцарилась тишина, но обе долго не засыпали. Мариам думала о том, что никто
и никогда не должен узнать об ее чувстве. Пусть тот, кто покинул ее в
Самарканде, теперь подумает: куда она делась? Но кого же здесь любит Ниссо?
Бахтиора, наверное? Что она понимает в любви? Когда будет ей, ну, хоть
восемнадцать, тогда, может быть, и пойдем, как это горько и радостно!..
А Ниссо, лежа на спине, глядела в темноту и думала, что напрасно она
сказала Мариам это слово, больше никому никогда не скажет его. Ах, если б
Мариам могла понять, как это радостно и как горько!
Утром, когда Шо-Пир и Бахтиор завели большой разговор о распределении
привезенной муки, девушки еще спали. Гюльриз заглянула к ним и решила их не
будить.
С этой ночи Шо-Пир снова мог спать в своей комнате. Проснувшись раньше
других, наскоро одевшись, он набил трубку привезенной махоркой и с
наслаждением закурил. Не умывшись и не причесавшись, лохматый,
невыспавшийся, он сразу же сел за стол и занялся подсчетами. Раздать
привезенную Бахтиором муку предстояло тридцати двум беднейшим ущельцам.
Шо-Пир решил дать каждому по два пуда - на три месяца, до весны. Этого
кое-как хватит им, при любых обстоятельствах избавит их от голода, от
необходимости варить траву. Двадцать пудов следует оставить в запасе, на
всякий случай. Восемь пудов риса тоже останутся в запасе - выдавать рис
Шо-Пир решил только по праздникам или в виде премий за ту или иную работу.
Составив список ущельцев, которым предстояло получить муку, Шо-Пир велел
Гюльриз разбудить Мариам и Ниссо и, перекинув через плечо полотенце,
отправился к ручью.
За чаем он сообщил, что сегодня будет раздавать муку, и, прочитав
список, предложил Бахтиору сейчас же спуститься в селение, обойти дома
обозначенных в списке и объявить, что мука будет выдана бесплатно и что
каждый должен привезти на своем осле обмолоченное зерно: Бахтиор сохранит
его до весны, а весною возвратит владельцам для посева.
- Пока ты вниз сходишь, я весы сделаю, - сказал Шо-Пир, - а вы,
девушки, пересыпьте муку и разделите ее на равные доли. Потом поможете мне
выдавать ее.
Бахтиор ушел, а Шо-Пир добавил:
- Ну, возьмемся и мы за дело! А то набежит народ, тут такое будет!
Ниссо и Мариам отправились в пристройку. Шо-Пир взял у Гюльриз для
весов два больших деревянных блюда и выбрал из наваленных на дворе тополевых
жердей одну попрямей и потолще.
Ниссо попросила Шо-Пира дать ей флаг. Оба флага после собрания
хранились в комнате Шо-Пира. Шо-Пир сказал: "Это правильно!" - и вынес из
дому флаги. Ниссо вместе с Мариам вывесила их под дверью пристройки;
веселая, возбужденная, поднялась на террасу, вернулась с большим ножом.
- А это зачем? - спросила Мариам, склоненная над мешком и уже
выбеленная мукой.
- Зарубки на столбе делать!
Первыми явились два низкорослых ущельца, которых Ниссо не знала. Они
ничего с собой не принесли - ни зерна, ни мешков. Шо-Пир, прикрывая лицо от
мучной пыли, велел Мариам выдать им по два пуда.
- А почему? - сказала Ниссо. - Где их зерно?
- Вот ты какая строгая! У них нет его и не может быть, они не сеяли
ничего, работали на канале, только теперь получили участок на пустыре. Дай
им! - И Шо-Пир обернулся к ущельцам: - А мешки принесете.
Весы еще не были готовы, и Шо-Пир, определив на глаз вес двух
опорожненных на треть мешков, взвалил их на спину ущельцам. Они ушли
сияющие, преображенные.
Шо-Пир, торопясь доделать весы, оставил девушек одних.
Третьей в помещение робко вошла Зуайда, и за нею просунулась морда
осла. Осел повел ушами, ему не понравилась пыль, он круто повернулся и
лягнул порог двери.
Все рассмеялись. Похлопав по крупу осла, Зуайда сбросила с него два
тяжелых мешка, сама втащила их в помещение.
- Сюда ставь! - сказала Ниссо. - Зерно здесь будем складывать.
И, помогая Зуайде перетащить зерно в угол, добавила:
- Видишь, Зуайда, не напрасно ты руку за меня поднимала, богатство
сейчас тебе дам!
Кивнув Мариам, - не мешай, мол, сама справлюсь, - определила на глаз
вес мешка, приподняла его, стукнула об пол и, объятая облаками мучной пыли,
сказала:
- Бери!
В мешке было не меньше трех пудов. Ниссо это знала. Зуайда смутилась,
но Ниссо повелительно повторила: "Бери!" - и они вдвоем поволокли мешок к
двери. Пока Зуайда, навьючив на спину осла мешок, прикручивала его веревкой,
Ниссо торопливо прошла в глубину помещения, где были сложены рис и сахар, и,
схватив приготовленный кулек, искоса глянув на стоящую спиной к ней Мариам,
вышла наружу.
- Это тебе, Зуайда, еще, - тихо проговорила Ниссо. - Сердце хорошее
утебя. Никому не говори: рассердится Шо-Пир. Приходи ко мне, когда дела не
будет, просто так приходи, всегда моя гостья ты!
Зуайда поцеловала Ниссо, толкнула осла кулаком и пошла за ним следом.
Ниссо вернулась в помещение и деловито сделала три зарубки.
После этого долго не приходил никто. Мариам и Ниссо удивлялись
отсутствию ущельцев.
Шо-Пир, сделав весы, выбирал камни, которые должны были заменить гири.
За оградой он неожиданно увидел Кендыри. "Зачем он здесь?" - подумал Шо-Пир,
а Кендыри, поймав его взгляд, перелез через ограду и спокойным шагом
приблизился к нему. Осмотревшись, как бы желая убедиться, что никто, кроме
Шо-Пира. Не видит его, он почтительно поклонился, приложил одновременно одну
ладонь к груди, а другую ко лбу - так, как здороваются повсюду на Востоке,
но только не в Сиатанге.
- Да будет с тобою здоровье, почтенный Шо-Пир.
- Здравствуй! - продолжая выбирать камни, ответил Шо-Пир. - Ко мне?
- К тебе, если позволишь, Шо-Пир, - сказал Кендыри. - Разговор к тебе
есть. Без чужих ушей поговорить с тобой можно ли?
- Чужих ушей здесь нет. Говори, - Шо-Пир отложил камни, кинул взгляд на
халат и на тюбетейку Кендыри, вгляделся в его неподвижное лицо. - Важный
разговор, что ли?
- Для тебя - важный. - Кендыри постарался не заметить выглянувшую из
дверей Ниссо. - Может, пойдем в дом?
- Пойдем, - согласился Шо-Пир, встал, потер ладонь о ладонь и
направился вместе с Кендыри к дому.
Выходя из помещения, Ниссо увидела Рыбью Кость, сразу насупилась,
презрительно повела губами. Рыбья Кость стояла у порога пристройки, что-то
объясняла Мариам.
- Пришла? Что надо тебе? - с вызовом подступила Ниссо.
- Шо-Пир где?
Ниссо полна высокомерия и надменности.
- Нет Шо-Пира сейчас. Мариам, что она говорила тебе?
- Муку просит.
- Ты тоже хочешь муку получить? - язвительно спрашивает Ниссо.
Рыбья Кость бледнеет от злобы, но, овладев собой, коротко бросает:
- Давай!
- Не дам! Тебе нечего делать здесь!
Мариам с недоумением следит за их разговором. Обе, сжав кулаки, готовы
кинуться одна на другую. Мариам встает.
- Погоди, Ниссо! Кто она?
Ниссо презрительно молчит. Мариам обращается к Рыбьей Кости.
- Ты кто?
- А ты сама кто? - выкрикивает Рыбья Кость.
- Я? Учительницей буду у вас, ты не волнуйся, скажи свое имя - в списке
я посмотрю.
- Рыбья Кость ее имя! - выкрикивает Ниссо. - Разве ты, Мариам, не
видишь? Какое еще может быть у нее имя?! Нет в списке ее, Шо-Пир утром
читал, я помню. Не полагается ей.
- Ты дохлая кошка, с тобой не говорю! - кричит Рыбья Кость. - Дрянь
она, смотри список, жена Карашира я!
- Обе вы бешеные, смотрю, - спокойно, берясь за список, замечает
Даулетова. - Ниссо, перестань! А ты не ругайся. Не знаю, что между вами
такое. Карашир в списке есть.
- Карашир есть, этой змеи нет. Где Карашир? Где его зерно? Они сеяли.
Не принесла зерна - не давать!
Мариам растерянно поднимает глаза на жену Карашира.
- Если ты жена Карашира, то почему, в самом деле, не привезла зерна?
Рыбья Кость, поджав губы, молчит, в угрожающих глазах - гнев; лицо
мучительно дергается, да, она знает - Бахтиор. Придя к ней в дом, сказал
Караширу: "Возьми осла, отвези зерно, получишь муку". Карашир хотел было
признаться во всем, но побоялся ее. Она велела ему остаться дома, пошла сюда
одна, надеясь как-нибудь уладить это, выпросить у Шо-Пира муку. Но всем
распоряжается эта. Кинуться бы на нее, выцарапать ей глаза! Но Рыбья Кость
вспоминает о детях, купец обманул, от него ничего теперь не получишь, дома
ни крупинки муки, ни зернышка, впереди зима... Нет, все что угодно, только
бы получить муку! Рыбья Кость глядит через дверь: полно мешков, даже стены,
даже пол весь в муке - в белой, добротной, пшеничной, - сколько горстей
можно собрать с одного лишь пола! Вся злоба пропала, в глазах только
жадность. Смирившись, она произносит очень тихо:
- У меня нет зерна... Дай муки... Хоть немного муки!
- Как нет? - неистовствует Ниссо. - Не верь ей, Мариам! Спрятала! Есть
у нее, вон, смотри! - Ниссо резко оборачивается, показывает на распростертое
внизу селение. - Смотри, Мариам, тот дом, тот посев, Не меньше других зерна
собрала она. Ничего не дам, врет она! Когда мы собирали ослов, чтобы Бахтиор
пошел в Волость, она нас прогнала.
В глазах Рыбьей Кости слезы.
- Дай! - чуть слышно произносит она.
- Не дам! - отрезает Ниссо.
- Погоди, Ниссо... Пусть Шо-Пир скажет сам. Подождем Шо-Пира.
- Нечего ждать Шо-Пира, скажет то же, что я. Уходи отсюда! Слышишь, или
камнями тебя прогоню!
Рыбья Кость ничего не отвечает. С ненавистью, сквозь слезы взглянув на
Ниссо, она поворачивается, минует пролом ограды, скрывается за камнями.
Явное злорадство Ниссо удивляет Даулетову.
- Ты злая... И я не знаю, права ли ты. Надо было, чтоб она подождала
Шо-Пира. С кем это он говорит так долго?
- Ничего, Мариам, ты не понимаешь! - выпаливает Ниссо.
Ей немножко стыдно: почему Рыбья Кость перестала кричать и заплакала?
Конечно, хорошо, что она так унижена, но лучше было б, если бы не заплакала.
"Нет, - отгоняет Ниссо внезапную жалость, - все врет она, так ей и надо!"
- Ты спрашиваешь, Мариам, с кем разговаривает Шо-Пир? Зовут его
Кендыри, хороший человек, бороды бреет здесь... Помощник купца.
- Все-таки я спрошу у Шо-Пира об этой женщине.
- Спроси, спроси! Она хотела, чтоб меня отдали Азиз-хону...
- Ах, вот в чем дело! - Бросив взгляд на тропу, Даулетова замечает
Рыбью Кость, присевшую на камнях. Ясно: решила дождаться Шо-Пира. Даулетова
ничего не говорит Ниссо.
- Шо-Пир, ты знаешь... Я живу здесь год.
- Знаю, год.
- Я живу у купца. Ты тоже знаешь.
- Знаю.
- Ты ко мне не приходил - бреешься сам. Я к тебе не приходил,
разговоров с тобой не вел. Скажи, почему?
- По-моему, это ты сам мне можешь сказать.
- Для этого я сейчас пришел.
- Видно, за год успел надумать, что сказать?
- Не смейся. Объясню, ты поймешь. Я много ходил по горам, людей видел.
Разную видел власть. Бродячий брадобрей не привык разговаривать с властью;
есть страны, где меня били; в других местах - гнали камнями, думали, что я
вор. В Канджуте я два года лежал в тюрьме, знаешь, почему лежал?
- Откуда мне знать?
- Канджутцы не любят англичан. Любят русских.
- Допустим.
- Это правда. На площади Чальта я брил людей. Распространился слух, что
я хороший мастер. Пришел солдат, сказал: идем к туму, будешь брить его
бороду! Власть приказывает, я пошел, начал брить ему бороду. Он стал хвалить
англичан. Я глупым был, не подумал, сказал: твой народ любит русских! Одна
сторона бороды тума осталась невыбритой, а меня положили в тюрьму. Тюрьма
была под землей, скорпионы, пауки змеи ползали по лежащим. Меня били
палками, - вот след на щеке, вот еще - видишь? - на лбу, еще вот! - Кендыри
распахнул ворот халата, показал красные рубцы на груди. - Другие умирали, я
жив остался. Потом меня выгнали из тюрьмы. Я пришел в Яхбар, болел, во рту у
меня был вкус смерти. Человек сказал мне: идем со мной, будешь брить бороду
Азиз-хона, высокая честь. Я вспомнил Канджут, я знал, какая это высокая
честь. Убежал. Прибежал сюда. Стал жить у купца Мирзо-Хура. Жил этот год у
него, помощником ему стал, в сердце моем была благодарность. К тебе не шел и
к Бахтиору не шел: вы власть. Я вспоминал Канджут и боялся власти. Но я
целый год издали смотрел на тебя и теперь понимаю, что канджутцы, которые
хвалили русских, правду мне говорили и что справедлива советская власть. Я
не понимал, почему ты не любишь купца. Теперь мне ясно почему: он человек
недостойный...
- Ты что? Поссорился с Мирзо-Хуром?
- Я не ссорился с ним. Но бедному брадобрею дорога с факирами, купец
идет другой дорогой. Лицо у меня некрасивое, не смотри на мое лицо - смотри
в сердце. Сердце у меня чистое. Ты удивился тому, что я говорил на собрании?
- Странно было, почему защищаешь Ниссо.
- Купец назвал меня собакой после собрания. Если б у купца была власть,
он бросил бы меня в тюрьму. Старики удивляются, думали: помощник купца
говорит так, значит так надо для Установленного. Все подняли руки за мной.
Теперь ненавидят меня, но уже поздно: Ниссо здесь осталась... Скажи, ты
теперь понимаешь, почему я так говорил?
- Не знаю, Кендыри. Если не лжешь...
- Покровитель видит, не лгу! Зачем ложь, Шо-Пир? Какая мне польза?
- Ну, что ж ты хочешь мне рассказать?
- Хочу сказать: дикий народ в Сиатанге, не видел еще ничего. Я видел
многое. Знаешь, что купец с людьми делает? Понимаю больше, хоть я простой
брадобрей...
Кендыри завел рассказ о проделках купца. Шо-Пир слушал внимательно.
- Теперь скажу главное, - продолжал Кендыри. - Ты хотел, чтобы ущельцы
были сытыми целый год. А купец сделал так, что все-таки будет голод...
- Это почему ж голод?
- Слушай, Шо-Пир! Купец говорил всем: "Караван не придет, никакой муки
вам не будет. Бахтиор и Шо-Пир вас обманывают. Собранное вами зерно они
продали новым, советским купцам; Бахтиор ушел, чтобы привести их сюда:
придут с ружьями, возьмут зерно. Пока не пришли, идите тихонько к
Бобо-Калону, он откроет вам мельницу, мелите зерно, пеките лепешки,
остальное несите мне; вы знаете меня пять лет, я скажу советским купцам, что
вы отдали мне свою муку за долги; у меня советские купцы не возьмут ее - за
мною власть Азиз-хона; не захотят со мной ссориться, уйдут с пустыми руками.
Каждый раз, когда вам надо будет печь лепешки, приходите ко мне, всегда дам,
сколько нужно. А весной я поеду во владенья Азиз-хона и привезу для посева
зерно, как привозил вам пять лет. Зиму будете сыты, а весною получите
зерно..." Так говорил им купец. Понимаешь, Шо-Пир? Купцу они верят больше,
чем верят тебе; за купцом - Установленное, за тобой - разрушение его. По
ночам, чтоб ты не знал, они ходили на мельницу, мололи зерно, а то, что не
успели смолоть, отнесли к купцу. Теперь у половины факиров уже нет зерна. А
вчера пришел Бахтиор с мукой - без советских купцов, с обещанной тобою
мукой, и ущельцы поняли, что Мирзо-Хур подбил их на плохое дело. Теперь
верят тебе и боятся, что купец уедет в Яхбар и увезет с собою зерно. Думают
так, потому что купец взял у них за долги семнадцать ослов; взял у тех,
которые не дали своих ослов Бахтиору, когда он уходил за мукой. Купец
приготовил себе караван. Я, Кендыри, все эти дни жил в горах. Ты знаешь
вверх по ущелью Кривую долину? В ней еще есть трава, там пасутся ослы, для
них хватит, - я, как дурак, пас там этих ослов. Пас их и думал: нехорошее
дело делаю. Каждый день я ходил сюда, Мирзо-Хур передавал мне новых ослов,
взятых за долги, я по ночам уводил их в Кривую долину. Вчера пришел: шумят
ущельцы, потому что Бахтиор вернулся с мукой, потому что у многих теперь
будет советская мука, но нет уже ни зерна, ни ослов, купец уйдет и,
наверное, не придет назад, а что они будут делать весной, когда настанет
время посева? Я, по глупости, много дурного делал. Приносил опиум для купца,
выполнял все его поручения. Но вчера я подумал: правдива моя душа, дела тоже
должны быть правдивы - подчиниться советской власти хочу, жить хочу, как
простой человек, среди простого народа. И вот я перед тобой; все тебе
рассказал. Каждое мое слово - правда. Времена настали такие, когда человек
может правдой жить, с чистым сердцем, с руками чистыми. Иди проверяй, всех
спрашивай - я скажу тебе, у кого сейчас нет зерна, у кого сейчас нет
ослов... К Али-Мамату пойди, к Ширим-Шо пойди, к Исофу пойди, к Рахиму
пойди, к Караширу пойди, к Хайдару, и к Муборак-Шо, и к Раджабу, и к
Богадуру, и к Али-Нуру... Мне нечего больше тебе сказать. прошу тебя об
одном: боюсь мести купца, пусть о нашем разговоре он не узнает. Бедный
брадобрей ищет покоя и мира, верит тебе, как не верил прежде никакой власти.
Дай мне обещание!
- Хорошо, Кендыри, - медленно произнес Шо-Пир. - Это я пока могу тебе
обещать...
И Кендыри, снова приложив ладонь к сердцу и пальцы другой руки ко лбу,
низко поклонившись, ушел, оставив Шо-Пира в глубокой задумчивости. Не
перебивая Кендыри, внимательно слушая все, что он говорил, Шо-Пир следил за
выражением его лица и старался догадаться, так ли искренен Кендыри, как
хотел казаться? Глаза Кендыри были холодны, лицо неподвижно, и все время,
пока он говорил, ничего располагающего не было в этом лице. Но вместе с тем
слова Кендыри были убедительны, и если все, что он говорил, окажется
правдой... Но неужели действительно купцу удалось выманить у ущельцев и
ослов, и зерно, и муку? Если Кендыри сказал правду, нужно немедленно
действовать, много зерна они перемолоть не могли, значит, оно находится у
купца. А если так, то один искусный удар может навсегда избавить сиатангцев
от всех проделок купца.
Шо-Пир выбил пепел из трубки, решительно встал, вышел из комнаты на
террасу.
- Приходил кто-нибудь?
Он не успел получить ответ: в проломе ограды показалась Рыбья Кость.
Она почти бежала, прижимая руки к груди.
- Шо-Пир! - воскликнула она, упав на колени. - Умру я, у мрут мои
дети... Не слушай ее, Шо-Пир!
- Что еще такое? Встань! Рассердился Шо-Пир. - Хан я тебе, что ли?
Встань, говорю, сейчас же!
Рыбья Кость пыталась охватить руками его сапоги. Шо-Пир поднял ее:
- Стой прямо, слышишь?
Рыбья Кость, зажав руками рот, сдерживала рыданья.
- В чем дело?
- Ниссо не дала муки! - сказала Даулетова, прислонившись к косяку
двери. - Вот она тут скандалила. Без зерна пришла.
Ниссо вскочила:
- Она меня дрянью зовет, воровкой зовет, батрачкой зовет, Бахтиору осла
не дала, без зерна пришла, старая падаль она, зачем давать ей муку?
Шо-Пир с изумлением глядел на пылающее лицо Ниссо. Забыв о своих
слезах, Рыбья Кость снова кинулась на Ниссо с бранью, взвизгивая и крича.
Шо-Пир, не зная, как образумить ее, отступив на шаг, ждал, когда она уймется
сама.
- Жизни мне нет, света нет, прокляты будьте вы все, камни варить мне,
что ли? Нет у меня зерна, нет у меня осла, ничего нет у меня, смерть мне, и
детям моим смерть. Пойду разобью им головы, пусть не оживут, пусть черные
дэвы возьмут их души.
- Довольно! - крикнул, наконец, Шо-Пир. - Замолчи! И ты, Ниссо,
замолчи! Отвечай, Рыбья Кость, почему у тебя нет зерна? Где зерно?
- Врет она, спрятала!
- Молчи, Ниссо...
- Покровитель убьет меня, правду говорю! - всплеснула руками Рыбья
Кость. - Осла нет! Зерна нет!
- Где они?
- Горе мне, я не знаю... Только нет их у меня, нет, нет, нет!
- Подожди. Ты не знаешь, я знаю. Ты отдала своего осла Мирзо-Хуру? Так?
Не бойся, скажи!
Женщина потупила взгляд.
- Ну?
- Так, - наконец решилась Рыбья Кость. - Не я отдала. Карашир отдал...
- Я это знаю. Хорошо. Ты либо Карашир на мельницу носили зерно? Мололи
его? Купцу отдали?
- На мельницу носили. Не мололи, не отдали...
- Где же оно?
- Пропало, Шо-Пир. Пропало, совсем пропало. Бобо-Калон велел его в воду
выбросить!
- Как выбросить? А ну-ка рассказывай... Спокойно мне говори, не враги
мы тебе, ничего плохого не сделаем.
И когда Рыбья Кость, сначала волнуясь, причитая и запинаясь, а потом
внятно и просто рассказала всю правду, Шо-Пир, мрачный, но очень спокойный,
обратился к Мариам и Ниссо:
- Видите, какие у нас здесь творятся дела? Ты вот, Ниссо, женские свары
с Рыбьей Костью устраиваешь, я, как слепой ишак, ничего не вижу, а тут...
Э!.. Твое дело, Рыбья Кость, маленькое... Спасибо, что все рассказала.
Узнала теперь купца! Иди вниз спокойно, будет тебе мука... Некогда мне
сейчас. Скажи, хочешь, чтоб снова у тебя был осел? И твоя мука у тебя была?
И чтоб Карашир никогда больше не курил опиума? И чтоб дети твои были здоровы
и сыты, и чтоб ты сама одета была? Хочешь, чтоб было так?
- Поцелую следы того, кто поведет меня по этой дороге!
- Так вот. Следы целовать тебе незачем. А дорога твоя проста. Иди в
селение, расскажи всем, что купец с тобой сделал. Много таких, как ты,
пугливых. Как мыши, вы прячетесь по темным углам... Скажешь еще: я сейчас
приду, всем будут возвращены отобранные ослы, всем будет возвращено зерно,
все факиры от меня получат муку. Скажи всем: Шо-Пир слово дает. А теперь
иди!
- А мука, Шо-Пир?
- Ты слышала? Все тебе будет, если сделаешь так, как я сказал. И не
бойся купца: кончилась сила его...
Не подняв головы, Рыбья Кость пошла к пролому в ограде.
Шо-Пир рассказал Мариам и Ниссо все, что знал теперь о последних
проделках купца.
На тропе показался Бахтиор. Он подошел, запыхавшись, размахивая
рукавами накинутого на плечи халата, взволнованный, возбужденный. Бахтиор
начал рассказывать, что ущельцы идти за мукой боятся: у них нет зерна, и у
многих из них нет ослов. Бахтиор, обойдя дома, убедился в этом и знает, куда
все девалось.
- Все, Бахтиор, известно, - прервал его Шо-Пир. - И вот что я решил,
Бахтиор. Мы сейчас пойдем с тобой в селение. Ущельцы волнуются, и это
хорошо; мы поведем их в лавку купца, все отберем у него. Если мы пропустим
такой момент, мы никогда себе этого не простим.
- Я тоже пойду! - воскликнула Ниссо.
- Хорошо. Только сначала навьючишь на нашего осла два пуда муки и
отвезешь ее Рыбьей Кости. Ты понимаешь теперь, что напрасно ее ненавидела?
- Понимаю, Шо-Пир...
- Ну, так действуй! Пусть прежде, чем пойдем мы к купцу, Рыбья Кость
убедится, что я ей не лгу и что мои обещания - не обещания купца. Ты еще и
во двор к ней войти не успеешь, а уже все селение узнает, что ты привезла ей
муку. И я нарочно именно тебя посылаю: хочу, чтоб Рыбья Кость помирилась с
тобой... Мариам. Закройте здесь все. Больше никому ничего сегодня мы не
будем давать. Идем, Бахтиор!
Таким, как сейчас, - быстрым в движениях, уверенным в каждом своем
поступке, в каждом слове - Шо-Пир бывал прежде, когда его отряд готовился к
боевой схватке, когда все зависело от четкости, стремительности, спокойствия
каждого красноармейца. Шо-Пир ощущал в себе ту давно не испытанную легкость,
ту спокойную приподнятость духа, какие всегда отличали его в дни боев с
басмачами... Это настроение преобразило даже его лицо: сжатые губы, прямой и
строгий взгляд поблескивающих серо-голубых глаз, чуть-чуть нахмуренный
лоб...
Ниссо уже гнала по тропе навьюченного мукою осла. Даулетова запирала на
деревянный замок тяжелую дверь пристройки.
- Я тоже пойду! - крикнула она прошедшему мимо Шо-Пиру.
- Отчего же! Идите! - по-русски ответил Шо-Пир.
Шо-Пир правильно рассчитал. Войдя в селение, он увидел группы
возбужденных ущельцев. То, что прежде каждый скрывал от других, теперь
обсуждалось всеми: власть знает о том, что произошло. Тайное стало явным. И,
уже не думая о последствиях, факиры делились своими сомнениями и высказывали
надежды на то, что власть, может быть, все-таки даст им муку. Только сейчас
для всех становилась ясной система хитрых вымогательств купца. Все понимали
теперь, что наущения Мирзо-Хура о караване неких советских купцов, будто бы
скупивших зерно, оказались ложью.
Приверженцы Установленного расхаживали по селению и, минуя шумные
группы факиров, делали вид, что не слышал язвительных замечаний. Пошепчутся
- успокоятся, думали они. Такие, мол, взрывы гнева факиров бывали и прежде,
с тех пор как появилась новая власть, а шана, сеиды и миры выронили из рук
узду, управлявшую народом. Но гнев факиров подобен внезапному ветру: дай
дорогу ему, он пронесется, как сквозь ущелье, и тишина возникнет сама собой.
Однако, когда в селении появились Шо-Пир и Бахтиор, приверженцы
Установленного сразу сообразили, что на этот раз тишина не возникнет сама
собой и лучше закрыть глаза на все, что может произойти. Скорее добраться до
своих домов и не выходить из них.
Те, к кому подошел Шо-Пир, почувствовали, что им уже не встать тихонько
и не уйти, бежит всегда виноватый, лучше переждать, может, гнев власти
минует их?
Но Шо-Пир, не обращая на них внимания, подсел к факирам, заговорил
просто, приветливо, так, как разговаривают с друзьями. Языки факиров
развязались: размахивая руками, тыча себя в обозначенные худобой ребра,
показывая лохмотья ветхих одежд, факиры изливали душу в жалобах на купца.
- Что будем делать, Шо-Пир?
- Совсем мы нищими стали, голодать будем?
- Зачем купец нас обманывал?..
А из переулочков, из-за оград все подходили люди. Они издали следили за
разговором, сначала с опаской, потом с надеждой. Большой начинается
разговор, надо послушать его!
И толпа растет вокруг Шо-Пира и Бахтиора...
А Шо-Пир отлично все понимает: ему не нужно ни горьких причитаний, ни
гневных выкриков, - он видит нарастающее возмущение; короткими насмешливыми,
язвительными словами он разжигает его. И замечает, что в толпу
протискиваются женщины и слушают жадно и никто их не гонит.
"Пора!" - говорит себе Шо-Пир и легким скачком взбирается на ограду.
Придерживаясь рукой за голую ветку тутовника, обращается к внезапно умолкшей
толпе:
- Боялись вы до сих пор! Чего боялись? Посмотрите, какая мы сила! Кто
помешает вам добиться справедливости? Почему, как рыба на крючок, попались
вы на лживые обещания купца? Год за годом купец вытягивал из вас все: урожаи
хлеба, ягод и яблок, скот, одежду... половину жизни убиваете вы, чтоб отдать
ему долги, а он живет среди вас, руки на животе греет. Он мошенник, вор!
Почему все ваше зерно у него? Почему вы ему отдали последних ослов? Чего
боитесь? Ваши ребра торчат, дети умирают от голода! К черту пустые
разговоры! К черту пустой страх! Никаких нет за вами долгов, ничего вы купцу
не должны! Зерно, украденное им, ваше! Ослы, украденные им, ваши! Шерсть от
ваших овец, шкуры лисиц, пойманных вами в капканы, - все у купца, у вора...
Идемте к нему, возьмем обратно и разделим каждому его добро. Идемте за мною!
Шо-Пир спрыгивает с ограды и, кивнув Бахтиору, решительным шагом
направляется к лавке купца. Толпа, как бурный поток, движется за ними.
Купец, увидев приближающуюся толпу, торопливо выходит из лавки. Он
хочет незаметно обогнуть стену дома. Шо-Пир резко кричит ему: "Подожди!"
Сложив руки на груди, Мирзо-Хур стоит, наклонив голову, как
разъяренный, но испуганный, не решающийся броситься вперед бык. Впрочем, он
только кажется таким: сердце его бьется все глуше и совсем замирает от
страха, приковавшего его к месту. Подойдя к нему вплотную, Шо-Пир видит, что
губы Мирзо-Хура дрожат и что он боится поднять опущенные глаза.
А на плоской крыше лавки появляется Кендыри. Он глядит на толпу. Шо-Пир
успевает заметить: Кендыри усмехнулся одним краешком губ. Скрестив ноги, он
усаживается на крыше в той спокойной и непринужденной позе, в какой
пребывают, предавшись молитве, все мусульмане.
- Ну что ж! - неспешно произносит Шо-Пир. Пришло время, Мирзо-Хур,
рассчитаться с долгами. Открывай свою лавку, мы не тронем тебя, если та
отдашь народу все, что взял у него. Где зерно?
И толпа, растекаясь, кольцом окружает лавку.
Купец неверным шагом входит в нее, распахивает настежь створки дверей.
И первой, промелькнув мимо Шо-Пира, в раскрытые двери вбегает Ниссо.
- Куда ты, Ниссо?
А Ниссо уже юркнула в темную глубину лавки, и через минуту вся толпа
слышит ее звонкий голос:
- Здесь зерно, Шо-Пир, до самого потолка! И мука!.. Муки сколько!..
Половина дома, в которой живет Гюльриз, озарена полыхающим красным
отсветом. В огне очага медленно потрескивает хворост. Тьма висит по углам; в
ней тонут полочки с глиняной посудой, козьи шкуры и одеяла, сложенные в
глубине каменных нар. Четыре закопченных столба, подпирающих потолок,
обозначают квадрат пола внизу и квадрат дымового отверстия наверху. Дым
течет в это отверстие, и когда клубы его на мгновение слабеют, видны звезды.
На каменных нарах вокруг очага сидят и полулежат Бахтиор, Шо-Пир, Мариам,
Ниссо, Зуайда, Худодод, Карашир и Рыбья Кость. У огня на корточках, залитая
красным светом, хлопочет Гюльриз. Вареный рис уже съеден. В большом котле
кипит вода. Гюльриз понемногу вливает в нее из кувшина вечернее молоко,
размешивает его большой деревянной ложкой. Рыбья Кость в новой грубоватой
рубахе необычно опрятна, даже черные, с проседью, волосы ее заплетены в две
жидкие косы. Она любовно смотри на личико спящего на ее коленях ребенка.
Когда Карашир в новом халате верхом на осле торжественно въехал в сад
Бахтиора, а Рыбья Кость, шедшая за ним, внесла в дом ребенка, Мариам
испугалась: лицо ребенка было черным. Рыбья Кость объяснила, что незадолго
перед тем ребенок споткнулся, раскровенив лицо об острый камень, и тогда она
обмазала его смесью сажи и бараньего сала, выпрошенного у одной из соседок.
С трудом добившись у Рыбьей Кости согласия, Мариам целый час осторожно
снимала ватой и вазелином эту "лечебную" мазь. Теперь ребенок мирно спит на
коленях матери, и только три багровые ссадины видны на его безмятежном лице.
Гости пребывают в том приятном состоянии, когда спорить уже никому не
хочется, разговоры возникают и обрываются, и всем доставляет удовольствие
переменный жар очага, нежно обвевающий лица, а тьма, скрывающая углы,
создает особый, суровый уют. Бахтиор, свесив ноги с нар, снова и снова
наигрывает на тихой двуструнке и чуть слышно поет:
Страсть к тебе в печени...
Горный козленок устремился в твою сторону.
Я схватился за голову от страданий!
Вода - по каналу, вода - по каналу!
Понапрасну он старается спасти свою душу.
Все слушают. Бахтиор, полузакрыв глаза, видит перед собой только Ниссо,
сидящую у огня, руки - на коленях, задумчивую, тихую, губы повторяют
напеваемые Бахтиором слова. Бахтиору приятно, что его песня нежит Ниссо, он
поет уверенно, с вдохновением. Ниссо глядит на свои новые мягкие сапоги, не
замечая их. Мысль ее витает далеко, может быть, она представляет себе те
края, о которых теперь часто думает, стараясь проникнуть в тайну большой
жизни, из которой пришли сюда Шо-Пир и Мариам, Бахтиору хочется, чтоб Ниссо
поняла, почему он поет именно эту песню, но как ему угадать мысли Ниссо?
Шо-Пир полулежит на нарах, распахнув свой ветхий красноармейский
ватник. Цветные чулки, подаренные сегодня Ниссо, обтягивают ноги Шо-Пира
выше колен. Он задумчиво всматривается в профиль склоненной над очагом
Зуайды. Как и все, она слушает тихую песню Бахтиора. Ее профиль тонок и
строг, большой лоб отражает игру красного пламени. Шо-Пир глядит бездумно,
но Зуайда словно чувствует его взгляд, быстро поворачивается: что смотрит
он? Теперь ее лицо грубовато: нос слишком широк, глаза несоразмерно малы,
Шо-Пир переводит взгляд на потное, красное лицо Карашира, который привалился
спиной к столбу, закрыв глаза, с выражением блаженной умиротворенности.
Сытый, довольный теплом, черный в своем новом, незапятнанной белизны халате,
он дремлет. Много лет ему, наверное, не было так хорошо!
- А Карашир спит, - произносит Шо-Пир.
Карашир приоткрывает глаза.
- Не сплю.
- Какой он стал важный в новом халате! - посмеивается Шо-Пир.
- Теперь важный! - покровительственно говорит Рыбья Кость. - А там, как
щенок, вертелся!
- Где? - спрашивает Шо-Пир.
- А ты разве не видел?
- Нет. Что делал он?
Бахтиор прижимает ладонью струны:
- Когда я с Кендыри и Караширом из Кривой долины ослов привел...
- Ну? Что было?
- Я тоже не видела, - выходит из своей задумчивости Ниссо.
- Ты, Ниссо, - говорит Бахтиор, - с Худододом мешки из лавки
вытаскивала, а Шо-Пир и Мариам на площадке перед дверьми товары считали.
Когда мы ослов привели, помнишь, все ущельцы из лавки бросились...
- Ну, - говорит Шо-Пир, - я сидеть остался.
- Ты остался, а мы смотрели... Ущельцы все бросились, даже спорить
забыли, кому что дать; прибежали, каждый своего осла обнимает, щупает,
Карашир верхом на осле сидит...
- Я расскажу! - перебивает Рыбья Кость. - Он сидит. Я подбежала: мой
осел! Здоров ли, смотрю...
- Смотришь, - усмехается Карашир. - Шею его обнимает, уши его гладит,
сама плачет, все смеются кругом!
- Не плакала я!
- Плакала! Лицо сморщилось, слезы текут!
- Что ж, текут! - Рыбья Кость прикрывает рукой рот мужа. - Не слушай
его, Шо-Пир! Ведь уже думала, не увижу осла моего. Исоф тоже плакал. А потом
вскочил на своего, как бешеный скачет кругом. Муж мой, дурак, тоже скакать
захотел, а осел под ним не идет. Исоф сам подскакал к нему, начали они
бороться, друг друга за плечи стаскивать. Люди хохочут. Я думаю: всем забава
мой муж, дурак! А сейчас, смотри, сидит важный.
- Пусть поважничает! - говорит Шо-Пир. - Теперь время для него другое
пришло.
- Почему другое?
- А как же? Халат новый, у жены его платье новое, зерно есть - сами
ущельцы долю ему отделили, мешок проса тоже достался ему, опиума больше
курить не будет.
- Почему не будет? - спрашивает Бахтиор.
- Потому что, когда ты, Бахтиор, с ним и с Кендыри ушли за ослами, а
Худодод и Ниссо из лавки все выносили, опиум у купца нашелся. Где ты нашла
его, Ниссо?
- В углу, под тряпьем. Две ковровые сумы, зашитые! Пусть помнит меня!
Продать меня Азиз-хону хотел!.. Шо-Пир, а как теперь с чулками быть, которые
я связала ему? Отдать?
- Очень хочется?
- Он шерсть дал мне... Его чулки... честно будет!
- Что ж, отдай! А только, как думаешь, откуда у него шерсть?
Зуайда коснулась колена Шо-Пира:
- Мы ему шерсть давали. Я сама давала, стригла моих овец.
- Даром? - спрашивает рыбья Кость, ладонью прикрыв от жары ребенка.
- Не даром. Обещал краски мне дать.
- Дал?
- Дал шерсть обратно, сказал: халат сделай, сделаешь - краски дам. Я
халат сделала, ему отдала, до сих пор ни красок, ни шерсти не получила.
- Когда это было? - спрашивает Шо-Пир.
- Прошлой зимой.
- Так что, выходит, этот халат ты просто обратно получила сегодня?
- Не этот, другой... Тот, который я сделала, знаешь, кому сегодня
пошел? Вот он, Худодод, на тебе, когда Шо-Пир тебе дал его, я сразу
узнала...
- А мой, - выпятив грудь, произносит Карашир, - кто сделал?
- Этот? - Зуайда пощупала двумя пальцами полу халата. - Не знаю... Наши
женщины тоже.
- Так как же ты, Шо-Пир, поступил с опиумом? - спросил Бахтиор.
- А тебя, Бахтиор, вспомнил! Взвалил сумы на плечи, люди расступились,
смотрят на меня. По твоему примеру - в реку выбросил.
За стенами, захлебнувшись свистом, пронесся ветер. Дым, спокойно
выходивший в отверстие, заметался, обдал сидящих у очага, снова рванулся
вверх, - все взглянули туда, - звезд в темном небе не было видно.
- А небо в облаках! - заметил Шо-Пир.
- Холодно стало. Мороз, - вымолвила Гюльриз, и Ниссо, подумав о чем-то,
сказала:
- Шо-Пир, а где ты спать будешь?
- Как где? В комнате у себя.
- Все-таки... Ты говоришь, русские дома хорошие, а по-моему, плохие.
- Почему это?
- Вот в твоей половине... Очага посередине нет, а в стене две дыры.
- Окна-то?
- Зачем такие большие?
- Для света.
- А зимой что делать будешь?
- Заколочу.
- Вот и темно.
- Это потому так, Ниссо, что стекол пока у нас нет. ваш караван,
Мариам, привез стекла?
- Привез. В Волости остались.
- Значит, весной здесь будут! Сыграй-ка еще, Бахтиор!
Бахтиор положил пальцы на две струны, щипнул их раз, другой, заиграл.
Склонив голову, ни на кого не глядя, запел. Худодод вынул из своего чулка
деревянную дудочку и стал насвистывать в лад Бахтиору. Его тонкие губы
напряглись, худые щеки надулись. Дудочка посвистывала, переливалась странной
печальной мелодией, и, перебирая пальцами, Худодод изредка подмигивал
Бахтиору, чтоб тот замедлил или ускорил темп.
Резкий порыв ветра распахнул дверь, буйный свист ветра заглушил
мелодию, дым опять заметался, прошел волной по полу, все невольно прикрыли
глаза.
- Вот как задувает! - сказал Худодод, встал и, закрыв дверь, вернулся к
огню.
- Чай готов, - сказала Гюльриз, когда дым рассеялся и огонь очага
отогнал холод, внесенный ветром. - Шо-Пир, наш чай будешь пить?
- С солью, да с салом, да с молоком? Ну нет, Гюльриз! Мне насыпь просто
щепотку чая вот в это кувшин... Вода вскипела в нем?
- Кипит давно.
- И мне оттуда! - сказала Мариам. - привыкла я к сахару.
Гюльриз разлила всем жирное чайное варево. Карашир стал пить обжигаясь.
- Мало! - сказал он.
- Чего?
- Соли еще дай!
Гюльриз протянула ему кусочек розовой каменной соли. Он опустил его в
деревянную чашку.
- И сахару дай!
- И с солью и с сахаром? - изумился Шо-Пир.
- Конечно! - сказал Карашир. - Новое теперь время!
- Вкусно? - прищурился Шо-Пир.
- Конечно! Ханы, наверное, пили такой.
Все выпили чай. Шо-Пир заговорил первым.
- В последний раз так пируем! Завтра раздадим всю муку, ты, Ниссо, с
Мариам жилье свое там устроите, а рис, сахар, все запасы мы с Гюльриз в
кладовку сложим. Сама не бери, Гюльриз, и никому не давай!
- Хорошо, что факиры сюда зерно привезли, - глубокомысленно заявила
Ниссо. - А то опять понесли бы на мельницу. Теперь Рыбья Кость по ночам
спать будет.
Рыбья Кость нахмурилась:
- А ты, неизвестно зачем, по ночам шляться не будешь.
Шо-Пир поднял руку:
- Опять, кажется, решили рассориться?
- Теперь не поссоримся, - серьезно сказала Ниссо.
Бешеный порыв ветра вновь распахнул дверь, посуда зазвенела, пустые
деревянные чашки сорвались с нар и покатились по полу, висевшая под потолком
козья шкура упала на Мариам, пламя очага метнулось...
- Снег! Снег! - закричала Ниссо.
В дверь густыми хлопьями со свистом ворвался вихрем снег, белые хлопья
повалили и сверху, из дымового отверстия.
- Эге! - крикнул Шо-Пир. - Зима!
Все вскочили.
- Потолок закрыть надо! - выкрикнул Бахтиор.
- Корову сюда! - заголосила Гюльриз. - Ослов! На клевер камней еще!
Бахтиор, Худодод, Гюльриз кинулись к двери, прорываясь сквозь воющий
снежный вихрь, выбежали из помещения. Дым, мешаясь со снегом, закружился,
слепя глаза. Рыбья Кость укутала в подол проснувшегося ребенка, согнулась
над ним. Снег врывался крупными хлопьями, влил из дымового отверстия,
кружился в красном дыму, шипел на мечущемся огне очага.
Шо-Пир, Ниссо, Карашир бросились во двор.
Долгое время в снежной темноте, в свисте ветра вокруг дома слышались
озабоченные возгласы, мычала корова, неистово орали ослы. Кто-то затопотал
по крыше. Огромный деревянный щит со скрипом ударился в край дымового
отверстия. Чьи-то руки тащили его, пока отверстие не закрылось... Снежный
сквозняк оборвался. Зуайда стала собирать разбросанную по полу деревянную
посуду.
Гюльриз и Ниссо ввели облепленную снегом корову, поставили ее в стойло,
Бахтиор, таща за загривки двух упирающихся овец, толкнул их туда же. Карашир
и Худодод вогнали в помещение обоих ошалевших ослов, те остановились как
вкопанные, но им не понравился дым, и, топоча копытами, они круто
повернулись и устремились обратно. Худодод защелкнул засов, и ослы остались
стоять мордами к двери.
В помещении стало мокро и дымно. Не имея выхода, дым стлался теперь все
ниже и ниже. У всех слезились глаза. Отряхиваясь от тающих хлопьев, озябшие
люди жались к огню. Гюльриз подбросила в очаг охапку хворосту, но дым сразу
стал едким и невыносимым.
- Гасить надо огонь! - сквозь кашель сказал Шо-Пир. - Ну-ка, Ниссо,
скажи теперь, что русские дома хуже! Да, кстати...
Шо-Пир внезапно кинулся к двери, отодвинул засов, выскочил из помещения
на террасу, кинулся в свою комнату. Здесь, врываясь в незастекленные окна,
свободно кружился снег. Разыскав в темноте давно заготовленные щиты, Шо-Пир
вместе с прибежавшим на подмогу Бахтиором заложил окна. Полез в шкаф,
нащупал глиняный сосуд масляного светильника, поставил его на стол, зажег и,
слушая свирепо завывающий за окнами ветер, принялся обтирать полотенцем
засыпанный снегом стол. Один за другим гости вошли в его комнату.
- Ну вот! - сказал Шо-Пир. - Теперь Сиатанг надолго отрезан от всего
мира.
- Надо домой идти, - беспокойно заявила Рыбья Кость. - Дети одни!
- Куда сейчас пойдешь? - спросила Ниссо. - Пережди ветер.
- Нет, пойду! - сказала Рыбья Кость. - Идем, Карашир. Выводи осла.
- И я пойду! - промолвил Худодод.
- А ты, Зуайда, останься у нас ночевать. Мы в своей комнате на мешках
спать будем.
- Конечно, останься! - подтвердил Шо-Пир.
И Зуайда ответила:
- Хорошо, останусь!
Провожая гостей, Шо-Пир и Ниссо вышли на террасу. Буран в темноте
усиливался. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно.
В этот самый час, погасив огонь в своей опустевшей лавке, купец, в
тысячный раз бормоча проклятья, вместе с Кендыри вышел из дому.
Он решился идти, несмотря на буран, опасаясь, что за ночь тропу к
Большой Реке закроют снега, и тогда ему придется зимовать в Сиатанге.
Кендыри уговаривал переждать буран, но купец остался непреклонным. На
нем были два халата, шерстяная чалма, две пары узорчатых сиатангских чулок,
рукавицы из козьей шерсти. Кендыри был одет так же, как и купец. За спиной у
обоих были большие, туго набитые мешки. К ним были прикручены одеяла и по
три пустые козьи шкуры, которые нужно будет надуть, чтобы переправиться
через Большую Реку. На поясе Мирзо-Хура висел тяжелый мешочек с золотым
песком и серебряными деньгами: четыреста монет, только что выкопанных
Мирзо-Хуром из земли. В руках у путников были длинные палки.
Сгибаясь под ношей, сбиваемые с ног жестким ветром, путники исчезли в
буране. Только отчаяние может заставить людей устремиться такой ночью в
далекий путь.
Нащупав под ногами тропу, Мирзо-Хур вдруг обернулся и с ненавистью
погрозил незримому в снежной буре селению.
Скорей угадав, чем увидев, этот его жест, Кендыри осклабился.
Кто знает, какая мысль могла заставить его улыбнуться в такую минуту!
Идем мы пшеницей, колосья лелеем.
Вся жизнь наша в этих поющих стеблях!
Но помните: стебли доступны и змеям,
Тихонько свистящим: "Ля илля иль Аллах!"
В орошенных долинах
Казалось, нигде в мире нет такой стужи, таких леденящих ветров, как
здесь, в сиатагнском ущелье, на высоте в несколько тысяч метров над уровнем
моря. Куда ни взглянуть - как будто ковром из чистейшей ваты покрыты вершины
и склоны, и только черные прорези отвесных скал, на которых не держится
снег, дают отдых ослепленному сверкающей белизной глазу. Но еще чаще,
покачиваясь, затягивая весь видимый мир, наползает на цепенеющее от холода
ущелье непроницаемый, медленно волнующийся туман.
Отрезанное от всего живого, словно заколдованное, селение слушает
только протяжный злой свист сталкивающихся ветров, шелест лавин, грохот
дробящегося по уступам льда.
Как сохранить хоть немного тепла, если нет даже щепок и в каменном
очаге можно жечь только сырую колючку? У кого от едкого дыма не станут
слезиться и слепнуть глаза? Как защищаться от холода, если в доме нет ничего
теплого, кроме рваного одеяла - одного на всю многочисленную семью, а одежда
ущельца - только халат из козьей шерсти, надеваемый чаще всего на голое
тело? Как согреть свою кровь, если надо скупиться даже на горячую воду,
подбеленную горстью муки, беречь сухие ягоды тута, которых, конечно, не
хватит до далекой весны?
Ущельцы не молятся богу, - их странная религия такова, что не требует
от них никаких молитв; в прежние времена за все селение сразу молился пир, к
нему нужно было только нести последнего маленького козленка, нести все, на
чем в дни приношений останавливался его повелительный взгляд. Бог далек,
богу незачем прислушиваться к жалобам и мольбам ничтожных созданий, - он
слушает только пиров, которые одни умеют разговаривать с ним. Пира больше
нет в Сиатанге, и бедные факиры все реже вспоминают о боге, но дэвы
по-прежнему живут под землей, и в речной воде, и в мятущемся облаке, и в
ветре, пронизывающем каменные жилища, - они страшны и необоримы, они каждому
ущельцу грозят неведомой, но всегда ожидаемой бедой. Их нет только в чистом
огне, ярко пылающем, не лживом и беспорочном, в огне, благосклонном ко всем
живущим, в незапятнанном, неизмеримом, дружественном, могучем и непобедимом
огне... Он убивает злобу дэвов и удаляет проклятие, питает тело, и душу, и
разум... Он кормилец и защитник людей - светлый и зрячий, поющий и
животворящий, достойный созерцания, многоликий, прекрасный, горячий огонь!
Огонь! Огонь! Надежда, услада и радость зимующих в диких обледенелых горах
терпеливых и мужественных ущельцев...
И каждый ущелец в своем жилище оберегает маленький спасительный
источник жизни. Вся семья жмется к очагу день и ночь, дети и взрослые тянут
к нему иззябшие руки, долгими часами безмолвно глядят на него, вслушиваясь в
его многоязычную, всегда неповторимую речь, читая его быстролетные письмена,
как самую мудрую, единственную доступную им, таинственную, прекрасную
книгу...
И чем дольше прячется за мглою холодных туманов отвернувшееся от людей
отдыхающее от летнего пути солнце, тем драгоценней ущельцам каждая, самая
маленькая, искра огня: пусть едкий и горький дым наполняет жилище, сушит
дыхание, пусть слезятся больные глаза, только б никогда не угасал в доме
благодетельный тысячерогий огонь... Пока он живет и пылает, все в этом мире
не страшно, все можно переждать и перетерпеть: весна рано или поздно придет,
туманы развеются, отдохнувшее солнце снова возьмется за свою живительную
работу; селение Сиатанг, пробуждаясь от зимней жестокой спячки, услышит
многошумное пенье воды, бегущей по всем склонам, по осыпям, по каждой
наклонной бороздке в скалах: не сразу, постепенно сдаваясь, растают
нагроможденные зимою снега, освободится от них земля; колеблемый солнцем,
растворится в воздухе легкий прозрачный пар; скажут ущельцы: "Вот солнце
коснулось собаки, которая мерзла всю зиму, и вот уже оно переходит на пальцы
ног мужчины; пора позабыть о зиме!"
И выйдут из своих жилищ, в первый раз за долгое время выйдут все сразу
и разложат по долине большие костры и, очищаясь от накопленных за зиму
грехов, станут с песнями прыгать через эти костры, как прыгали тысячу лет
назад их предки - огнепоклонники. А вечером все вместе отправятся туда, где
теперь живут Бахтиор и Шо-Пир, и поднимутся по тропе еще выше, к тому месту,
где ручей выбегает из скал, и, дождавшись темноты, станут омываться в его
чистейшей, холодной, разбивающейся об их колени воде...
И пройдут еще, может быть, годы, прежде чем древние обычаи сиатангцев
исчезнут вместе с дэвами и страхом перед тайнами всесильной природы...
исчезнут, как исчезли в других, расколдованных новой, советской жизнью
трущобах, где выпрямился, стал бесстрашным, мудрым и гордым победивший
тысячелетнюю тьму Человек!
Длится зима в Сиатанге. Никто никуда не может уйти из селения. Никто не
может прийти в него. Что бы ни случилось в мире, никто в Сиатанге не узнает
о том до весны. Унылое время, кажется, остановилось. Чему можно радоваться
здесь? Кто здесь может смеяться?
Но в бывшей лавке купца Мирзо-Хура слышны смех и веселые разговоры.
Здесь создана первая сиатангская школа. Каждое утро приходят сюда Мариам,
Бахтиор и Ниссо. Каждое утро они встречаются здесь с Зуайдой, Худододом и с
их молодыми друзьями. Разжигают очаг, рассаживаются перед огнем на ковре.
Мариам привезла с собой из Волости три книги: "Об основах ленинизма",
арифметику и букварь. Первая книга - самая интересная: Мариам читает абзац,
переводит или пересказывает его своим внимательным ученикам.
Ниссо уже знает, что все услышанное ею не сказка. Ниссо знает уже так
много, что ей представляется иногда, будто она не раз побывала в Москве, и в
Ташкенте, и даже в Ленинграде: там, где и сама Мариам никогда не бывала.
Ниссо носит на груди подарок Мариам - маленький металлический портрет Ленина
- и гордится: ни у кого в Сиатанге такого нет! В сотый раз Бахтиор просит
Ниссо рассказать всем, как она бросилась в пасть Аштар-и-Калона, просит не
для того, чтобы услышать давно известное, а чтоб все смеялись вместе с
Ниссо. И ему хочется, не отрываясь, смотреть на смеющийся рот Ниссо, такой
чистый, такой недоступный! Подруги Ниссо вспоминают другие истории и
спрашивают Мариам, что выдумали старики и что могло быть в действительности?
Однажды в школе долго царило торжественное молчанье... Зуайда первая
решилась рискнуть здоровьем своего маленького козленка, привела его сюда
после долгих уговоров Мариам. Привязала козленка к двери, сама при всех
сняла с его шеи треугольный кожаный амулет; держа амулет на ладони, поднесла
к огню очага.
Такие амулеты, прежде продаваемые пиром, а в последнее время привозимые
из Яхбара купцом, всякий ущелец носил на своей груди, под мышкой или на
сгибе руки. Такие же амулеты ущельцы вешали на шею скотине. От сглаза, от
дэвов, от смерти, от болезней - от всяких несчастий предохраняли подобные
амулеты. Кто до сих пор рискнул бы навлечь на себя или на свою скотину беду?
Кто решился бы усомниться в святости заключенного в кожаном треугольнике
заклинания?
Мариам взяла у Бахтиора нож. Все затаили дыхание.
- Посмотри, Зуайда, умрет или нет твой козленок! - сказала Мариам,
вспарывая острием ножа амулет.
Вынула, развернула узкую полоску желтоватой бумаги с тайными,
отпечатанными в неведомой типографии знаками.
И заклинание, осторожно передаваемое из рук в руки, обошло круг,
вернулось к Мариам.
- Сколько, Зуайда, заплатила ты за это купцу?
Скрывая волнение, Зуайда рассказала, что амулет был куплен ее покойной
матерью, задолго до появления в Сиатанге купца. Мать, кажется, отдала за
него пиру три курицы. И с опаской, вглядываясь в тайные знаки, Зуайда тихо
добавила, что вот сейчас ей конечно, не страшно, хоть и всякое может
случиться, но если даже козленок теперь умрет, она все-таки не отступится от
своих слов.
- Бросай, Мариам, в огонь!
- Ты сама брось! - улыбнулась Мариам.
- Нет... ты... - прошептала Зуайда.
- Ну, я разорву пополам, ты половину брось и я половину.
Зуайда все-таки медлила, глядела выжидательно. Тогда Ниссо первая
протянула руку:
- Дай брошу я, Мариам!
И, получив кусок бумаги, Ниссо ткнула его в самую середину огня.
Опасливые, настороженные взоры обратились к козленку. Услышав тяжкий вздох
Зуайды, Мариам рассмеялась, но никто не поддержал ее смеха: может быть,
козленок сдохнет не сразу?
Всю неделю после этого, боясь, что козленок заболеет, друзья приносили
Зуайде: кто пучок клевера, кто горсть муки, кто сушеные ягоды, - пусть есть
побольше козленок, нехорошо будет, если он сдохнет. Но козленок не заболел,
и Зуайда неизменно сообщала, что он даже толстеет.
Однажды утром Мариам предложила всем внять с себя амулеты и бросить в
огонь. Возник спор: не следует ли еще подождать? Мариам подняла спорщиков на
смех, они, наконец, решились. Условившись никому до времени не рассказывать
об их тайном сговоре, сняли с себя амулеты и швырнули их на трескучее
хворостье очага.
И если в то утро, выходя из школы, все скрыли друг от друга свои тайные
опасения, то через несколько дней, когда решительно ничто в их жизни не
изменилось, уже вместе потешались над пережитыми страхами и над теми
ущельцами, которые до самой смерти не хотят расстаться с глупыми, ничего не
значащими подвесушками.
- Что еще нужно сделать, - спросила Ниссо, - чтоб я, как ты, Мариам,
стала комсомолкой? По-моему мы все и так уже комсомол!
- Нет, Ниссо, не так это просто делается, - ответила Мариам. - Очень
многого ты не знаешь еще... Подождем весны. Из Волости приедут товарищи, они
скажут, достойны ли вы, сделали ли вы все, чтоб в Сиатанге был комсомол!
- Не понимаю тебя, Мариам! Ты говоришь: комсомол - это те, кто все
может! Кто делает все по-новому! Кто не боится дэвов! Кто добивается хорошей
жизни для всех! Кто даже перед глазами Бобо-Калона не побоится пойти против
Установленного! Кто не верит, что солнце погаснет, и знает, что бога нет.
Кто не лечится сажей с бараньим салом, а лечится твоими лекарствами,
Мариам... Так?
- Так.
- Скажи, Бахтиор, разве мы не такие? Скажи, Зуайда, разве ты не такая?
И ты, Худодод, и вы, сидящие здесь, друзья? Ведь мы ничего не боимся и будем
делать все, все, что надо! Разве мы не такие, как ты, Мариам? Почему ж ты
говоришь нам, что мы еще не комсомол?
Несколько смущенная, Мариам снова завела разговор о комсомольской
организации ее родного города.
И снова возник долгий спор. И все забыли о ветре, свистящем за стенами
бывшей лавки купца, и просидели до темноты, не ели и не пили весь день, и
продолжали спор даже тогда, когда кончился весь хворост и огонь в очаге
потух. Всем казалось, что в мире нет уже ничего неизвестного и недоступного,
- вот только одолеть еще букварь, чтоб каждый мог сам читать книги и писать
углем на бересте так же легко и просто, как могут это делать Мариам и
Шо-Пир.
Каждый день в школе возникали новые споры, и к двенадцати первым
ученикам скоро присоединилось еще несколько юношей и две девушки: подруги
Зуайды, четырнадцатилетние Туфа и Нафиз, уговорившие своих отцов отпустить
их в школу. Их отцы, бедные факиры, - из тех, кто осенью получил участки на
пустыре, - долго не сдавались, но, после того как Шо-Пир поговорил с ними по
душам да еще подарил им по пять тюбетеек рису, согласились. "Хорошо, ходите,
только не смейте снимать с себя амулеты!" - сказали они своим дочерям.
Несколько раз вместе с Бахтиором в школу приходил и Карашир. Вскоре
после исчезновения купца Карашир несколько раз, смущаясь, умолял Шо-Пира
достать для него где-нибудь хоть крупицу опиума. Он клялся, что без опиума,
наверное, умрет: живот болит у него, понос каждый день, не двинуть ни рукой,
ни ногой, очень плохо ему. Шо-Пир, не веря в страдания Карашира, смеялся над
ним, но тот действительно начал болеть. Мариам несколько дней подряд
заставляла его принимать какое-то неведомое ему русское лекарство... Карашир
почувствовал себя лучше, перестал просить опиум, лицо его посвежело. По
утрам он теперь умывался холодной водой. Приходил в гости к Шо-Пиру и
Бахтиору, шутил и смеялся и рассказывал всяческие небылицы, чего прежде как
будто вовсе не умел делать. Новый халат приучил его держаться с
величественной осанкой. Карашир любил объяснять всем, что он не факир, а
сеид, потому что только сеиды носят халаты с такими длинными рукавами, из
которых не выпростать руки.
Все знали: Рыбья Кость перестала бить мужа и только по-прежнему часто
кричит на него. В школу Карашир попросился сам, узнав от Ниссо, что там
ведутся разговоры о новой, хорошей жизни.
Когда первый раз он уселся, почесывая бородку, в кругу молодежи, все
готовы были посмеяться над ним. Но Мариам предупредила насмешки сердитым
взглядом, и Карашир, ничего не понимая из того, что говорилось, чинно и
строго просидел на ковре до вечера и, уходя, сказал, что теперь будет ходить
сюда каждый день.
Скоро его перестали замечать: обычно во время занятий он не произносил
ни слова, но он слушал, так внимательно и вдумчиво слушал, что однажды
поразил всех. Как-то раз, когда Мариам предложила присутствующим написать на
кусках бересты какую-нибудь короткую фразу, Карашир неожиданно взял из рук
Худодода кусочек бересты, на котором тот приготовился писать, и, не обращая
внимания на удивление окружающих, вывел корявым почерком: "Я Карашир -
комсомол", и с важностью протянул бересту Мариам.
Она прочитала вслух, и все расхохотались, указывая пальцами на бороду
Карашира. Крикнув: "Да замолчите вы!", Мариам дружески обняла Карашира:
- Молодец! Честное слово, ты молодец... Хочешь, буду заниматься с тобой
отдельно? Смотрите, как ловко он научился писать!
Польщенный Карашир, оглядев притихшую молодежь, сказал, не скрывая
радости:
- Конечно, хочу! Раньше их в Москву письма буду писать! Теперь хлеба у
меня много будет, в гости к себе позову всю Москву!
Слова Карашира снова вызвали хохот. Он не обиделся и, счастливый,
оглядел всех искрящимися глазами.
С этого дня Карашир в школе стал разговорчивым, и его шутки порой даже
мешали занятиям. С амулетом своим он, однако, не расставался, а когда Ниссо
заметила, что неплохо бы ему последовать примеру остальных, рассердился и,
плюнув себе под ноги, заявил:
- У каждого своя голова, и дэвы у меня свои, что хочу, то и делаю с
ними. И не тебе, Ниссо, глупой женщине, указывать мне мой путь!
Так дом купца стал отличен от всех домов Сиатанга. Казалось, только в
один этот дом свистящая снежными вихрями, насыщенная незримыми дэвами,
унылая, грозная зима никак не могла пробраться.
Будь Бахтиор более уверен в себе, он, конечно, давно дал бы волю своему
чувству. Но он не знал, что можно ему и чего нельзя: смелый и решительный в
обращении со всеми, он с робостью следил за каждым взглядом не понятной ему,
веселой и строгой Ниссо. Ни на что не решаясь, ничего не высказывая, он не
мог побороть в себе неотступного желания все время быть с ней. В сущности,
это получалось само собой: жизнь Ниссо проходила только дома и в школе, -
зимой больше некуда было деться. Короткий путь от дома до школы по
занесенной снегом тропе они всегда совершали вместе. Однако побыть с Ниссо
наедине Бахтиору почти не удавалось, потому что обычно их сопровождала
Мариам. Да и пронзительный морозный ветер постоянно дул с такой злобной
силой, что путникам было не до разговоров.
В школе Ниссо углублялась в занятия, Бахтиор же смотрел на нее, часто
не слушая объяснений Мариам и потому в познаниях значительно отставал от
Ниссо.
Возвращаясь домой, Ниссо всегда стремилась быть поближе к Шо-Пиру.
"Конечно, - думал Бахтиор, - ей интересно слушать все, что рассказывает
Шо-Пир, он знает так много; если б я знал столько, разве все кругом не
слушали бы одного меня?" Он обожал Шо-Пира, считая его выше всех людей на
земле, почитал его силу, знания, ум и авторитет и стал бы врагом каждому,
кто отнесся бы к Шо-Пиру иначе. Сначала, впрочем, он зорко и испытующе
наблюдал за Шо-Пиром: не кинет ли тот особенного взгляда на Ниссо, не
заговорит ли с ней отдельно от всех других, не коснется ли ее руки? Но
Шо-Пир - особенный человек, - казалось, он и не может думать о женщинах!
И когда Шо-Пир говорил о себе, что он только маленький человек, а что
за горами есть действительно знающие, умные, высокие люди, - Бахтиор таких
людей представить себе не мог. Иной раз, открывая свою душу, Бахтиор говорил
об этом Шо-Пиру, а тот добродушно посмеивался: "Ты, Бахтиор, станешь умным и
знающим, таким же большим, как те люди, за пределами гор... И тогда,
наверное, забудешь меня, а если вспомнишь - скажешь: "Вот жил я когда-то в
глухой щели, в Сиатанге, и был там у меня знакомый, так себе человек, но я
по глупости своей думал, что он очень умен!" И, наверное, здорово посмеешься
тогда!"
- Нехорошо шутишь! - горячился Бахтиор. - Хочешь, скажи только слово, я
выну сердце свое ножом, поглядишь тогда, чистое ли оно.
- Ну и дурнем будешь! Кому нужно твое сердце? Возьми-ка лучше букварь
да покажи мне, чему научила тебя Мариам... Посмотрим, так ли ты слушаешься
меня, как говоришь? Двадцать лет тебе, Бахтиор, а до сих пор читать не
научился!
Бахтиор обижался и уходил от Шо-Пира, но потом все-таки возвращался к
нему с букварем и читал по складам, запинаясь, краснея, стыдясь и стараясь
уверить Шо-Пира, что в следующий раз будет читать свободно и гладко.
Как же можно ревновать к Шо-Пиру Ниссо? Ведь она тоже хочет, чтоб
Шо-Пир похвалил ее за беглое чтение! Ведь она тоже хочет узнать у него, как
сделать людей счастливыми. Ведь она тоже думает о больших людях - там, за
пределами гор, - и хочет все о них расспросить. Пусть глядит на него, разве
может она думать о Шо-Пире иначе, чем сам Бахтиор?
Вот как все хорошо получилось: такая девушка живет рядом, в одном доме,
под одной крышей. И разговаривает просто, и никто другой из мужчин не
проводит с ней дни...Как хорошо, что теперь советское время: будь другое
время, разве не вернул бы ее себе Азиз-хон! Разве помечтал бы Бахтиор, что
такая девушка, может быть, станет его женой? Родителей у нее нет - не у кого
просить, и о богатствах можно не думать - никому не надо платить за жену,
хотя Бахтиор готов был бы отдать хоть тысячу овец и баранов, если б были
стада у него...
Но нельзя жениться, если Ниссо не захочет, если она не любит. Как
узнать об этом, не спрашивая ее? На все что угодно готов Бахтиор, только не
на такой вопрос. Разве повернется язык? Может быть, она и не догадывается,
что Бахтиор ее любит?
Вот они вместе спускаются по тропинке. Ветер свиреп. Ниссо говорит:
"Холодно, Бахтиор!" Он скидывает с себя халат, набрасывает на нее так, что
ни головы, ни плеч ее не видно, только смуглые икры над раструбами отогнутых
шерстяных узорных чулок. А он, скрестив руки на голой груди, в одной
рубашке, в белых шароварах, ежась, пробирается сквозь пургу. Ниссо,
наверное, не думает, что ему холодно! Нет, конечно, ему не холодно, ему
хорошо, - ведь не в чей-либо чужой, а в его халат она так доверчиво
кутается. Любит? Не любит?
Вот у него разорвался рукав, и они рядом сидят у огня, и она кладет на
рукав большую заплату; прежде нашивала ему заплаты Гюльриз, а теперь это
делает Ниссо, сама предлагает. Огонь шипит, и пальцы ее быстры, как тонкие
язычки огня, - такие же горячие, должно быть, у нее пальцы. Взять бы их в
свои руки, и сжать, и приложить к сердцу, чтоб почувствовала она, какая
стукотня у него в груди! Нельзя! Можно только молча смотреть на пальцы
Ниссо, на склоненное над шитьем, в прядях растрепанных кос, лицо, - взглянет
ли на него или будет так сидеть молча, задумавшись о чем-то, ему неведомом?
О чем? О чем? Никак не узнаешь этого, пусть думает она, о чем хочет, только
дольше бы пришивала заплату, только не отняла бы небрежно подогнутую ногу,
которой, сама того не заметив, чуть-чуть касается его руки. И если кончит
шить и прямо, чисто взглянет ему в глаза и очень дружески скажет: "Крепко
пришила, Бахтиор, не рви больше, просто надоело мне шить, даже Шо-Пир
говорит, что ты очень небережлив..." - то вот все и кончится, нужно будет
встать, отойти. А все-таки пришивает заплаты ему!.. Любит или не любит?
Вот поздно вечером он приходит в пристройку. Мариам и Ниссо еще не спят
и о чем-то болтают. Сколько могут болтать женщины, всегда у них есть о чем
говорить!
Он вынимает из-за пазухи обтрепанную книжку.
- Хочу я спросить у тебя, Мариам: пятнадцать и три четверти метров
сукна продавец разделил на три части - это по пять с половиной будет?
И знает, что Мариам рассердится, но пусть она думает, что он такой
глупый, - не может правильно сосчитать! Только бы побыть здесь еще хоть
немного, только б увидеть, что глаза Ниссо все такие же, не изменились
ничуть. Скажет ему доброе слово на ночь или, зевнув, промолчит?..
Нет, он сам не заговорит, пусть не подумает она, что он зашел сюда ради
нее! Скажет Ниссо ему слово - любит, не скажет - наверное, не любит!
Как после всего этого высказать Ниссо то, чем всю эту долгую
нескончаемую зиму полны его думы? Нет, никогда об этом он не заговорит с
нею! Странно даже, что у человека от дум голова может идти кругом и что думы
могут мешать ему спать. Никогда прежде не знал Бахтиор бессонных ночей.
Однажды вечером, когда Ниссо и Мариам ушли к Рыбьей Кости, измученный
сомнениями Бахтиор решил открыть свою душу Шо-Пиру и попросить помощи у
него. Вошел в комнату Шо-Пира и остановился в дверях. В табачном дыму,
охватив пальцами голову, Шо-Пир читал за столом ту самую книгу, которую
Мариам переводила своим ученикам в школе.
- Что, Бахтиор? - не оглянулся Шо-Пир.
- Ничего. Так пришел, - Бахтиор на цыпочках подошел к столу, сел на
скамейку рядом с Шо-Пиром и, чувствуя, что тот увлечен книгой, стал вырезать
на столе изображение козла.
- Не порти стол! - наконец оторвался от книги Шо-Пир. - Что делаешь?
- Я думаю...
- О чем?
- Ты большой человек, Шо-Пир... Сердце твое всегда ко мне светлой
стороной обращено, так?
Шо-Пир закрыл книгу: если Бахтиор заговорил столь торжественно, то,
надо полагать, неспроста.
- Та-ак... Вроде луны мое сердце, значит?
- Почему вроде луны? - не понял Бахтиор и, запинаясь от сложности
надуманной фразы, произнес: - Когда лед, как в горах, э-э... лежит на душе,
значит, в душе зима... солнце придет ли?
- По-русски говоря, кошки у тебя скребут на душе - это ты хочешь
сказать мне?
- Вот это! - обрадовался Бахтиор. - Барсы, наверное, не кошки.
- Пусть барсы! В чем дело, говори прямо.
- Плохо дело, Шо-Пир...
- Почему плохо?
- Сказать тебе или нет?
- Тьфу, черт, да ну говори же!
- Прямо сказать... - Бахтиор склонил голову над столом. - Я
сумасшедший, наверно... Скажи, Ниссо, чтобы она за меня замуж пошла!
Шо-Пир поперхнулся махорочным дымом. Он давно уже приготовился к
неминуемому разговору о женитьбе Бахтиора, хотя сам Бахтиор до сих пор
молчал о своих намерениях. Приготовился, потому что давно уже все решил, и,
решив, всю зиму не выдавал себя ни единым жестом, запрещая себе даже
взглянуть на Ниссо лишний раз. Дружба и доверие Бахтиора, надежды Гюльриз,
сама его мысль о создании первой советской семьи в Сиатанге - и все рухнуло
бы сразу, если б он решил не так, а иначе. И, конечно, если бы у Ниссо и
Бахтиора все определилось само собой, он выразил бы радость. Но сейчас...
неужели ему предстоит еще и такое испытание?
- Жениться решил? - выдохнув глубокую затяжку дыма, спросил Шо-Пир.
- Хорошо будет, думаю...
- Конечно, хорошо... Пора! Ниссо еще слишком молода, пожалуй, но это не
беда, подождет. Пусть пока объявится твоей невестой. Что ж, она, значит,
рада?
Бахтиор замялся:
- Я же прошу тебя, Шо-Пир, скажи ей ты... Не знаю я, рада она или нет.
- Но ты не купец и не хан, что покупаешь жену, не спрашивая. Она
сказала тебе, что согласна?
- Ничего ты не понимаешь сегодня, Шо-Пир! - рассердился Бахтиор. - Я не
спрашивал. Ты спроси. Если я спрошу, она скажет "нет"; если ты скажешь,
разве она откажет тебе?
- Дурень ты, Бахтиор! Разве такие дела другие решают? Ты ответь просто:
любишь ее?
- Наверное, люблю.
- А она тебя?
- Вот не знаю.
- Ну так пойди к ней и узнай.
- Как узнать? - печально протянул Бахтиор.
Шо-Пир нахмурился.
- Вот что, Бахтиор... Голова у тебя, вижу я, не на месте. Хочешь со
мной в дружбе быть? Так вот, как друг твой приказываю тебе: сегодня же иди к
ней и прямо спроси. Будь мужчиной! Спроси: "Ниссо, хочешь выйти за меня
замуж?" А потом придешь ко мне и скажешь, какой получил ответ. Не спросишь
сегодня, знать тебя не хочу. И конец разговору. Иди!
И Бахтиор ушел, озадаченный и проклинающий свою глупую голову, из-за
которой на него рассердился Шо-Пир. А Шо-Пир остался сидеть за столом и весь
долгий вечер курил трубку за трубкой так, что вся комната затянулась
сероватым дымом.
К ночи, отставив еду, сердито задул светильник и завалился спать.
Бахтиор не пришел.
Утром заплаканная Ниссо на цыпочках вошла в комнату и, увидев, что
Шо-Пир укрыт с головой, метнулась обратно к двери. Но Шо-Пир спросил из-под
одеяла:
- Ты, Бахтиор?
- Я, - с робостью откликнулась Ниссо, останавливаясь в дверях, спиной к
Шо-Пиру:
- Ты, Ниссо? - сразу скинул с лица одеяло Шо-Пир. - Что скажешь?
- Ответь, Шо-Пир, - не поворачиваясь, резко сказала Ниссо. - если я за
Бахтиора замуж пойду - хорошо это будет?
- Конечно, Ниссо, хорошо. Он человек достойный.
- Не о нем скажи. Обо мне: хорошо?
- Тебе, по-моему, неплохо будет.
- Шо-Пир, - голос девушки дрогнул, - так говоришь мне ты? - Всю тяжесть
ударения Ниссо бросила на это "ты".
Шо-Пир все понял.
Но отступать он не умел. Поборов затрудненное дыхание, он ответил:
- Я, конечно. Бахтиор тебя...
Но Ниссо резко перебила его:
- Ничего не говори больше! Теперь знаю!
И стремительно выбежала из комнаты.
Через несколько минут в комнату вошел сияющий Бахтиор и сообщил
Шо-Пиру, что Ниссо только что согласилась выйти за него замуж.
Шо-Пир сел на постели, крепко сжал руку Бахтиора своей сильной рукою:
- Ну, Бахтиор! Теперь ты настоящий мужчина! Поздравляю тебя!
И вот, наконец, подошла весна. Со спины собаки солнце перекочевало на
пальцы ног мужчины и трехдневными скачками поднялось до его колен. Селение
встречало весну по обычаям старины, - давно минул день прыганья через костры
и омовения в струях ручья; давно сгорели все лучины, воткнутые в косяки
дверей, чтоб в дома не вселился злой дэв; давно остатками муки были
выкрашены стены жилищ: руки искусных женщин разрисовали их. Разноцветные
круги и четырехугольники с пересекающимися в них крестами символизировали
полные вещей сундуки, жирные пестрые точки изображали стада баранов. Козлы,
деревья, птицы и солнце были нарисованы на стенах.
Ущельцы выходили на поля и, выковыривая из-под камней мокрую землю,
разбрасывали ее поверх снега, чтобы он растаял скорее. Очищали поля и
оросительные каналы от низвергнутых снежными обвалами камней. Носили в
корзинах навоз и ровным слоем рассыпали его по пашням. Одевались в
свежевыстиранное белье, в вычищенные снегом халаты и в положенный день -
совсем как в старину у русских на Пасху - красили яйца и бились ими,
загадывая желания; чинили плуги, сделанные из козьих рогов; выводили из
темных воловен отощалых быков, медленно проваживали их по двору и надевали
на них ярмо.
День за днем все готовились к большому Весеннему празднику, когда будет
запахана первая борозда. Даже те, кому в последние дни зимы почти нечего
было есть, припасли к этому празднику тутовые ягоды и муку, скопили масло и
сыр, потому что весь год будет счастливым у тех, кто встретит этот день
сыростью, чистотой и весельем.
Прежде, когда в Сиатанге были лошади, принадлежавшие самым богатым
сеидам, мирам и акобырам, в этот день на пустыре происходили скачки.
Конечно, только сиатангские лошади могли скакать по острым, загромождавшим
пустырь камням. И, конечно, не жалеть лошадей в этот день могли только
сеиды, миры и акобыры. Задолго до Весеннего праздника они начинали
готовиться к скачкам: укутав в одеяла коней, водили их непрерывно ночью и
днем, не давая им спать. Потерявшие резвость кони переставали ржать,
блестящие глаза их раскрывались широко, ноги едва поднимались. Только когда
конь уже не мог переступить брошенную плеть, а проволакивал ее по земле, он
считался совершенно "холодным", готовым к скачкам. Перед бесстрастными
судьями в последний момент его безжалостно избивали, подкалывали ножом, и,
взгоряченный последним отчаянием, чуя смерть, не жалея последних сил, конь
слепо кидался в бешеный бег по каменной россыпи пустыря. И чаще всего это
бывало последней его услугой тщеславному оголтелому всаднику...
Но с тех пор как сеиды, миры и акобыры ушли за Большую Реку и увели с
собой всех лошадей, ущельцы в Весенний праздник обходились без скачек.
Другие развлечения, однако, происходили по-прежнему: стрельба из луков в
яблоко, положенное на вершину столба, и бой в барабаны, и пляски, и взлеты
на гигантских качелях, и борьба связанных веревками людей. К этим играм, к
пляскам и к пиршеству, как бы пробудившись от зимней спячки, азартно
готовились все сиатангцы...
Задолго до праздника ущельцы настругивали веточки тала так, чтобы часть
стружек оставалась на лозе, каждый ущелец должен был войти к друзьям с таким
пучком прутьев и, взмахивая им, сказать хозяйке: "Поздравляю с весной!" - и
ждать, пока, ответив: "И я тебя поздравляю!", хозяйка посыплет ему правое
плечо мукой и отберет у него пучок прутьев. Гость посмотрит, как хозяйка
станет втыкать каждый прут в предназначенное для него место по стенам дома.
Хозяйка знает: каждый имеет свое значение - если он полностью очищен от
коры, значит друг желает дому урожай пшеницы; если кожура висит клочьями,
значит, хозяйке пожелали урожая на рожь; если совсем не очищен, хозяйка
может надеяться на урожай проса...
В этот день каждый, кто хочет что-либо попросить у соседа, подвязывает
к чалме кусок праздничной пшеничной лепешки и, заматывая чалму, опускает
лепешку через дымовое отверстие в руки тому, кому предназначается просьба.
Многие юноши, безрезультатно добивавшиеся руки чьей-либо дочери, еще раз
пытают таким образом счастье, и иногда суровый родитель ради такого дня
дает, наконец, согласие.
Бахтиор тоже с нетерпением ждет этого дня, чтобы перед всем народом
объявить Ниссо своей невестой. Так просила сына Гюльриз: обручение,
состоявшееся в день Весеннего праздника, должно быть признано всеми. До
советской свадьбы еще далеко, Шо-Пир сказал: "Ниссо должна еще подрасти", -
но после такого обручения прекратится всякое злословие по поводу пребывания
Ниссо в доме Бахтиора.
Солнце в эти чистые, яркие дни поднимается все выше. Скоро откроются
перевалы и заваленные зимними снегами тропы. Первой всегда открывается
ущельная сиатангская тропа. По ней от Большой Реки поднимется в Сиатанг
советский караван - часть того большого, что зазимовал в Волости. Шо-Пир и
Мариам все чаще рассказывают ущельцам о богатствах, какие привезет этот
караван. Следуя из Волости вдоль Большой Реки, постепенно уменьшаясь,
караван будет оставлять товары и продовольствие жителям пограничных селений.
Достигнув слияния реки Сиатанг с Большой Рекой, свернет в сиатангское ущелье
и, пройдя еще десятка два километров, придет сюда. Об этом последнем участке
пути, кроме сиатангцев, позаботиться некому, а потому Бахтиору уже пора
собрать людей и пройти с ними до Большой Реки, чтобы исправить разрушенные
зимними обвалами висячие карнизы на тропе, проверить и подготовить ее.
Большие разговоры ведутся о караване. Теперь уже никто не сомневается,
что он действительно скоро придет...
Блаженное время весна! Над селением снова проносятся птицы. Звенит
повсюду вода. Ветры затихли. И только вдали, над ослепительными снежными
пиками, толпятся и курчавятся огромные белые облака.
По размытой, заваленной камнями и снегом, местами почти непроходимой
ущельной тропе пробирался к селению Кендыри. Вместо двух дней он шел уже
четыре. Ему приходилось цепляться за нависшие над обрывом камни, ползком,
приникая к отвесным скалам, огибая зияющие провалы там, где зимою снега
начисто сняли висячий карниз, спускаться по зыбким осыпям в реку и, по грудь
погружаясь в ледяную воду, держась за выступы берегового откоса, обходить
скалистые мысы. Выбираясь снова не берег, Кендыри растирал онемевшие ноги,
развязывал кулек с одеждой и сыромятной обувью и, кутаясь в ветхий
длиннополый халат, шел дальше, иззябший, сосредоточенный, одинокий. На этот
раз на ремне под халатом у него висел новенький парабеллум. Сотня патронов,
укутанная в грязные тряпки, лежала в заплечном мешке.
Перед закатом, на четвертый день пути, обогнув последний мыс, Кендыри
остановился: ущелье перед ним расступилось. Вправо от реки, медленно
поднимаясь, похожая на дольку гигантского яблока, простиралась сиатангская
долина: пустырь, загроможденный камнями, за ним - селение, еще выше - черная
башня крепости... Берег, что тянулся сейчас по левую руку Кендыри, вставал
прямо от воды величественной осыпью, сходящейся конусом под верхними зубцами
горного хребта.
Кендыри присел на камень и принялся разглядывать раскрывшийся перед ним
ландшафт так сосредоточенно и внимательно, словно видел его впервые в жизни.
Смотрел налево - через реку, на осыпь, примеряясь глазом к каждой
выступающей из нее скале, что-то в этой крутизне определяя. Смотрел направо,
правей пустыря, на зигзаги тропинки, ведущей к перевалу Зархок. Скользил
взглядом по зубчатой кромке обступивших селение гор. Смотрел вперед, на мыс,
замыкающий сиатангское ущелье, позади крепости...
Казалось, ему нужно было запечатлеть в памяти каждый изгиб горных
склонов, каждую бороздку, по которой можно было бы подняться из Сиатанга к
вершинам хребтов или спуститься от них к селению.
Он что-то рассчитывал, молча и неторопливо, и закрывал глаза, словно
запоминая в уме план местности.
Наконец Кендыри встал и, превозмогая усталость, двинулся дальше. Над
лавкой купца колыхался в легком ветерке красный флаг. Прежде чем подойти к
дверям, Кендыри обошел дом купца. Убедившись, что никто за ним не наблюдает,
отодвинул деревянный засов, заглянул внутрь лавки. В помещении было пусто,
на полу лежал старый, отобранный у купца ковер. Закрыл дверь, помедлил в
раздумье и направился к дому Бахтиора. Долго поднимался по тропе, огибающей
гряду скал. Миновал пролом ограды, остановился, ища взглядом людей.
Из дома вышел с большим деревянным циркулем в руках Шо-Пир, такой, как
всегда: в защитной гимнастерке, в старых, заплатанных сапогах. Он затеял
новое дело - решил выстроить рядом с домом Бахтиора большой дом для школы.
Составил план и теперь шел вымерять выбранную им для расчистки от камней
площадку.
Придав лицу безразличное выражение, Кендыри направился прямо к
удивленному его появлением Шо-Пиру.
- Здоров будь, почтенный Шо-Пир! - касаясь ладонями груди и лба, низко
поклонился Кендыри. - Давно не видел меня!
- Думал, и не увижу, - равнодушно промолвил Шо-Пир. - Один?
- Конечно, один, кого еще надо?
- Да тебя и одного достаточно... Что же не остался там?
- Разве ты, Шо-Пир, забыл тот наш разговор? Нечего делать мне там!
- Зачем же тогда уходил?
- Ай, Шо-Пир, разве бедный человек может всегда делать, что хочет? Вот
смотри!
Кендыри сунул руку под халат, вынул и потряс на ладони маленький
кожаный мешочек.
- Что это?
- Богатство мое, Шо-Пир. Трудно бедняку заработать, но вот восемь монет
за большие труды. Когда купец уходил, я хотел здесь остаться. Очень противно
было мне смотреть на купца, злой он был, слюной брызгал от злобы. Но ты
помнишь. В тот день зима началась. Уходит купец, говорит: мало осталось у
меня, пешком ухожу, прах земли этой от ног своих отряхну, но одному идти
страшно и не унести все на своих плечах. Иди со мной носильщиком, хорошо
заплачу. Знаешь, Шо-Пир, денег много еще у него оказалась, из земли выкопал,
потом уж я это узнал, за Большой Рекой, в Яхбаре. Вот, сын собаки, мерзавец!
Я все-таки не хотел идти, он говорит: десять монет дам. Неслыханные деньги
для таких бедняков, как я! Подумал я: что плохого, если бедняк заработает
десять монет? Пошел с ним. Вернуться уже нельзя было: зима. Весны ждал, вот,
тропа еще не совсем открылась - я здесь. Никуда больше не хочу отсюда...
Бороды буду брить, возьму работу, какую скажешь.
- Н-да... - протянул Шо-Пир. - Ну что ж, твое дело. Жить где намерен? В
лавке купца теперь школа у нас.
- Хорошее дело - школа! Где скажешь, Шо-Пир, там жить буду. В ослятне
рядом с лавкой нет школы
- В ослятне нет, - нахмурился Шо-Пир. - Ну что ж, живи там, если грязь
не страшна тебе.
- Выбросить можно грязь. Спасибо, Шо-Пир, какое еще жилье бедному
брадобрею нужно? За Большой Рекой еще хуже жил, здесь проживу, дом себе из
камней сложу... Может быть, побрить тебя нужно?
- Нет уж, сам...
- Твоя воля... Пойду я. Спать очень хочу, четыре дня вместо двух шел,
такая сейчас тропа...
- Очень испорчена? - заинтересовался Шо-Пир. - Ну-ка, расскажи, где и
что там обрушилось?
Кендыри подробно перечислил все повреждения на тропе и в заключение
осведомился:
- Чинить будем, Шо-Пир?
- А как же! Каждый год чиним.
- Вот хорошо это! Мало ли путников захотят пройти, голову сломать
можно... Прости, почтенный Шо-Пир, помешал я твоей работе, пойду. Спасибо,
спасибо!
И, мелко кланяясь, прижимая ладонь к груди, Кендыри долго пятился,
прежде чем повернулся к Шо-Пиру спиною. Затем неторопливой, усталой походкой
направился вниз, в селение. Наступала вечерняя темнота.
"Черт его знает, не нравится мне этот тип! - озабоченно размышлял
Шо-Пир. - Нелегкая его принесла. Была б граница закрыта, не позволил бы я
никому шляться взад и вперед. Жаль, от меня это не зависит!"
Повернулся, подумал, что продолжать в темноте работу уже не стоит, и
пошел в дом сказать Бахтиору, что в селение снова явился Кендыри.
Ночь, темная и безлунная, застала Кендыри в старой башне у Бобо-Калона.
Мигающий огонек светильника играл густыми тенями на стенах убогого жилища
ханского внука. Квадратное помещение внутри башни походило на большой и
мрачный склеп. Живя в нем, Бобо-Калон не сделал решительно ничего, чтоб
скрасить суровую неприглядность толстых и глухих каменных стен. Старинная
кладка основания башни местами расселась, щели между камнями были оплетены
паутиной... В одной из этих щелей Кендыри, разговаривая с Бобо-Калоном,
заметил м аленькую головку змеи, - ее внимательные острые глазки, не мигая,
глядели на Кендыри, и он думал, что старик, вероятно, к этой змее привык,
может быть, приручил ее, иначе она не выглядывала бы из щели так спокойно и
равнодушно.
Придя ночью к Бобо-Калону, Кендыри не спрашивал его, как провел он
минувшую зиму: весь облик исхудавшего, похожего на мумию старика говорил о
его жизни. Старик принял Кендыри внимательно, почти милостиво, - Бобо-Калон
знал о Кендыри больше, чем знали другие сиатангцы, и потому заговорил с ним,
как с равным. Прежде всего старик рассказал, что его сокола зимой разорвали
волки. Однажды утром, открыв дверь башни, Бобо-Калон увидел в снежных
сугробах четырех матерых волков, потерявших от голода всякий страх. Может
быть, они ждали утра, что напасть на него самого? Прежде чем Бобо-Калон
успел закрыть дверь, сокол вылетел и, то ли вспомнив свои старые охотничьи
повадки, то ли защищая хозяина, кинулся на волков. Вцепился когтями в
загривок самого сильного и долбил его мозжечок до тех пор, пока не был
сожран, с клювом и перьями, собратом ошалевшего волка.
Бобо-Калон рассказал об этом негромко и спокойно.
Скрестив ноги на рваной кошме, Кендыри и Бобо-Калон сидели лицом к
лицу. Светильник, поставленный на выступ стены, освещал с одной стороны их
лица, и огромные тени их фигур переламывались на неровных камнях
противоположной стены, но были почти неподвижными, потому что собеседники
только изредка чуть-чуть наклоняли головы.
Кендыри высказал все, что ему было нужно, и теперь ждал ответа, но
Бобо-Калон, повергнутый его предложением в большое раздумье, все еще говорил
о другом, и Кендыри слушал, не перебивая, почтительно, как будто в самом
деле рассуждения старика представлялись ему мудрыми и важными.
- Что думали те, - говорил Бобо-Калон, - кто, одержимый заразою
беспокойства, приходил к нам, чтобы завоевать наши земли? Они приходили и
уходили: наши горы, ветры, снега и реки, наше острое солнце были сильнее их.
Они строили крепости, брали у нас рабов, грабили наши селения, которые были
близко от их крепостей, делали нам худое. Так поступали предки Азиз-хона и
эмирская власть, а еще раньше - те, поклонившиеся огню, а до них - уйгуры. У
них было оружие - у нас его не было. Мы говорили, что мы покоряемся им. Мы
отдавали им кое-что от нашей бедности, - дьявол с ними, пусть отдавали, как
маленькое наказание за наши грехи, их тоже присылал к нам бог. Но у себя, в
своих домах, в своих ущельях, у своих рек, до которых им не добраться, мы
жили, как прежде, - разве могли они хоть что-нибудь изменить в
Установленном? Зараза их беспокойства не трогала нас! Согласен ли ты со
мною?
- Говори, Бобо-Калон, я слушаю... - глядя на головку полузакрывшей
глаза змеи, произнес Кендыри.
- Ты сам знаешь, как это было: придет к нам человек от их власти, - дай
ему десять баранов, дай несколько коров, корми его, принимай, прикладывай к
сердцу обе ладони, говори ласковые слова, улыбайся заодно с ним, проводи с
поклонами до поворота тропы. А потом плюнь на землю, вымой руки в чистой
воде, проси пира помолиться за тебя, раздели убыток на всех по закону нашему
и забудь пришельца. Целый год пройдет, пока он явится снова, ломая себе ноги
на наших тропинках.
Хорошо! Но вот пришел к нам этот Шо-Пир - и не взял себе ничего. Я
подумал: дурак, наверное, и смеялся. Но смех начал сохнуть на моих губах,
когда он остался жить здесь, и я увидел другое - очень страшное, чего и до
сих пор не хотят видеть многие. Он остался жить здесь, и ему для себя ничего
не было нужно. Но началось то, чего не было за тысячи лет. В нашу страну,
сквозь горы, сквозь воду рек, сквозь ветры и облака, стало пробираться
беспокойство. Как болезнь, он начало трогать наших людей. Я поразился, когда
увидел у нас первого человека, охваченного им, ничтожного человека и
презренного - это был Бахтиор, кто запоминал тогда его имя? Мы смеялись над
ним, когда он стал повторять глупые речи Шо-Пира. Мы думали: он накурился
опиума, проспится! Но Шо-Пир не ушел, остался жить среди нас. А Бахтиор не
проспался. С того самого дня он стал сумасшедшим...
- Вам нужно было его убить, - равнодушно произнес Кендыри.
- Мы не убили его. Я сам не хотел. Я сказал: если надо, покровитель его
покарает. Я сказал: отвернем от него свои уши. Но он все говорил, кричал,
что хочет искать счастья, повторяя слова, которым его научил Шо-Пир. А мы не
обращали на это внимания. Думали, когда-нибудь выскочит тот дэв, что
вселился в него. Сначала Бахтиор говорил, что будет искать счастья для себя.
Потом дэв в душе его вырос, он стал говорить, что надо искать счастья для
всех. Мы хотели его прогнать, но этот Шо-Пир за него заступился. Что могли
мы сделать против ружья Шо-Пира? Помнишь - при тебе уже было, - он выстрелил
над головою сеида Сафар-Али-Иззет-бека, который хотел ударить его? Где
Сафар-Али-Иззет-бек сейчас? Ушел от нас, ушел к Азиз-хону, как многие ушли
он нас во владения его. Не стало им жизни здесь. А русский остался, а
Бахтиор остался. И наши факиры стали слушаться их, - сначала молодые, совсем
глупые, прожившие меньше, чем по два круга; потом женщина эта, старая
ведьма, родившая Бахтиора; потом даже нескольких стариков коснулась эта
болезнь. И мир нашего ущелья перевернулся. И вот рушится все, каждый день
рушится Установленное, как в прошлом году рухнула моя башня. А я должен жить
и видеть это! Но все предопределено, и я принимаю такую жизнь как испытание,
посланное мне покровителем. Так есть, и я мирюсь с этим, - свет истины да
сохранится в моей душе! Ты смотришь на эту змею, вот она сейчас закрыла
глаза, я тоже закрываю мои глаза на жизнь, окружающую меня. И то, чего ты
хочешь сейчас, мне не надо. Мой свет: созерцание истины.
- А разве ты не хочешь сохранить Установленное? - вкрадчиво спросил
Кендыри. - Все истина то, что ты говорил. Но ведь рушится Установленное,
неужели твоя рука не поддержит его?
- Установленное - в душах людей. Ты говоришь мне: согласись, стань
ханом. Можно меня сделать ханом, но души людей, изменивших Установленному,
нельзя сделать верными хану.
- Души людей можно вычистить, их можно вывернуть, как овчину.
- Чем?
- Страхом, наказанием, очищением кровью...
- Моему народу крови я не хочу! - сурово произнес Бобо-Калон. - Если
должно им быть наказание, то от бога, не от моих рук.
- Твои руки станут исполнителями воли бога.
- Нет. Воля бога в том, что есть. Человек ничего не должен менять
своими руками, это было бы беспокойством, беспокойство нарушает
Установленное. Пусть все будет, как есть.
Кендыри уже чувствовал, что сломить упорство Бобо-Калона ему не
удастся, и начал терять терпение. Тень от его руки теперь плясала на стене,
и Бобо-Калон смотрел на тень, но Кендыри не замечал этого.
- Хорошо, Бобо-Калон! Твою старость я уважаю. Но если бы ты закрыл
глаза и, пока они будут закрытыми, вдруг повернулось бы все, и когда ты
откроешь их и увидишь, что Установленное вновь торжествует в твоих глазах,
разве не сказал бы ты нам: все изменилось за время моего короткого сна, души
людей очищены, - свет истины в том, что есть.
- Кто это сделает? Азиз-хон?
Пусть Азиз-хон.
- Он яхбарец. Какое ему дело до Сиатанга? Он в Сиатанге или Шо-Пир,
разве не все равно? Черная ли собака, рыжая ли собака - все равно собака.
Мой народ под чужим мечом.
- Он придет и уйдет.
- А зачем он придет? Слышал я: Властительный Повелитель не хочет войны.
Почему один Азиз-хон ее хочет, если не нужен ему Сиатанг?
- Он женщину хочет, да простит его бог.
- Из-за женщины война?
- Не война. Пример всем. Придет и возьмет эту женщину снова уйдет. Но
после него здесь советской власти не будет, как и ты, он ненавидит новое, и
он уничтожит его, потому что владения Азиз-хона рядом. Бахтиора не будет,
Шо-Пира не будет, все нарушители узнают, что такое карающая рука
Установленного. И если ты станешь ханом, власть твоя будет тверда, факиры
будут знать: Азиз-хон близко, и он твой друг и всегда может снова прийти,
чтобы тебе помочь. Сами горы наши будут хранить торжество Установленного,
как хранили его всегда, ты сам сейчас говорил мне о величии и неприступности
наших гор. Подумай, Бобо-Калон!..
Кендыри исподлобья следил за старческими, морщинистыми веками
Бобо-Калона и подумал о том, что эти веки, в сущности, так же сухи, как кожа
змеи, дремлющей в щели между камнями стены. И подумал еще: какие слова надо
было б найти, чтоб рассказать об этом там... в уютной квартире, на тихой
городской улице, где женщина, распространяющая сладковатый запах духов,
поглядывая на свои полированные узкие ногти, будет недоверчиво слушать его.
Ей понадобится много усилий, чтобы вызвать в небогатом своем воображении
невиданные и почти невероятные горы, из которых ее собеседнику помогло
выбраться живым только чудо...
Эта мимолетная мысль исчезла, потому что Бобо-Калон уже медленно
приподнял свои тяжелые веки, и надо было слушать его.
- Нет! - сказал Бобо-Калон. - Хочу только покоя. Мудрость моя не велит
мне быть ханом.
- Может быть, ты еще подумаешь, Бобо-Калон?
Бобо-Калон нахмурился:
- Я думаю один раз. И говорю один раз. Я сказал тебе.
Больше просить Бобо-Калона не было смысла. Кендыри скрыл досаду.
- Да будет так. Но глаза свои ты закроешь?
- Глаза мои старые. Не видят уже ничего.
- Твое слово, Бобо-Калон, камень. Спасибо тебе. Прошу тебя еще об
одном: молчание ты обещаешь мне?
- Молчание - язык мудрых. С кем еще разговаривал ты?
- Только с судьей Науруз-беком.
- Что сказал он?
- Сказал: согласен. Он снова будет судить людей. Слово его - тоже
камень.
- Я знаю. Скажи, Мирзо-Хур вернется сюда?
- У Мирзо-Хура не кончены здесь расчеты. Что еще надо знать тебе,
Бобо-Калон?
- Ничего больше...
Распрощавшись с Бобо-Калоном, Кендыри поднялся и, пригнувшись под
сводом низенькой двери, вышел из башни в темную, непроглядную ночь. Он был
очень недоволен беседой, старик оказался упрямей, чем можно было ожидать.
Но, еще не выйдя за стены крепости, Кендыри придумал новый способ
воздействия на старика и, усмехнувшись, сказал себе: "Осла и того можно
сделать ханом, если накрутить ему хвост!"
Через несколько дней в селение Сиатанг явился оборванный странник.
Полуголый, в рваной и грязной чалме, исхудалый и босоногий, он показался бы
всем, кто мог встретить его на тропе, одним из тех отрешенных от мира
прорицателей, которые, посвятив свою жизнь созерцанию и мысленному
сосредоточению, презирают свое тело, подвергают его жестоким испытаниям,
помогающим избавляться от земных страстей и влечений. Такие одержимые
бродяги встречались прежде на всех тропинках Высоких Гор. Жители диких
ущелий почитали их как святых и верили в их способность отделять душу от
тела, заклинать птиц и животных, превращать камни в пищу и вызывать любого
из дэвов, обитающих в тайных пределах мира, невидимого и недоступного
непосвященным. С тех тор как в Высоких Горах возникла советская власть,
такие люди появлялись в селениях все реже. Уже несколько лет подряд ни один
из них не заглядывал в Сиатанг, но и сейчас, увидев странника, никто из
ущельцев не удивился б ему, подумав, что путь этого человека далек и надо
бросить ему подаяние, ибо не сделавший этого может навлечь на себя
несчастье.
Странник, однако, предпочел никому в селении не показываться и, вступив
по тропе в долину, ждал вечера, отдыхая среди тесно сдвинутых скал.
Истощенное лицо его было коричневым, маленьким, сморщенным. Хотя иссохший
этот человек не был еще стариком, жилы на руках его и на плоских икрах
выступали, как толстые лиловатые жгуты.
Каждый вечер Кендыри раскладывал около своего жилища костер и долго
варил в маленьком, принесенном с собою чугунке сухие ягоды тута, полученные
им от ущельцев, которым он брил бороды. В приспособленной им для жилья
ослятне не было очага, поэтому, естественно, маленький, сверкающий перед
лачугой в темноте костер ни у кого не вызывал удивления. Съев свою скудную
пищу, Кендыри удалялся в ослятню и засыпал на соломе, брошенной прямо на
землю.
Дождавшись темноты, странник долго всматривался в полыхающий на краю
селения огонек и, наконец, побрел к нему стороной от тропы, по камням,
пустыря, где к этому часу не осталось ни одного из ущельцев, весь день
расчищавших свои новые, полученные в минувшем году участки.
Издали узнав в склоненном перед костром человеке Кендыри, странник
присел на камень и, вслушиваясь в далекие голоса, доносившиеся из объятого
тенью селения, ждал, пока погаснет костер. Тогда, быстро и осторожно, он
вошел в ослятню и у самой двери присел на корточки.
- Кто здесь? - резко произнес Кендыри, уже расположившийся спать.
- Я, Бхара! - сказал странник. - Покровительство, убежище и спасение!
- Так, спасение, заслуга, дыханье крестца! - спокойно ответил Кендыри.
- Питателю трав и всех растений, привет солнцу, привет луне, привет
пречистому, привет всемирному! - скороговоркой произнес странник, касаясь
большим пальцем - соответственно произносимым словам - сердца, лба, волос и,
с последним словом охватив пальцами голову, а потом скрестив руки. - Меня и
тебя! - вслух добавил он, так как Кендыри в темноте не мог видеть его
жестов.
- Говори! - сказал Кендыри, и странник, не шелохнувшись, продолжая
сидеть на корточках, заговорил звенящим, высоким, почти птичьим голосом.
- Азиз-хон ждет ответа Бобо-Калона. Все готовы. Ружья, которые ты
обещал, пришли на семи лошадях, на восьмой приехал ференги, с ним два
человека пешком. Денег не понадобилось, ференги сказал: не надо. Ференги
остался у Азиз-хона, ждет твоих слов... Азиз-хон велел передать тебе: ждать
долго нельзя, воинам истины надо платить деньги за каждый день. Азиз-хон
истратил уже все свои, взял еще у купца Мирзо-Хура, купец плачет, говорит:
разоренье, все много едят; просит Азиз-хона: скорее, скорее; ференги кричал
на него. Мирзо-Хур говорит: если воины истины простоят на месте еще
пол-луны, это ему не окупится... Ференги мне отдельно сказал, велел передать
тебе: Азиз-хон боится, что обо всем узнает Властительный Повелитель, с
русскими войны он не хочет. Азиз-хон боится его немилости. Если долго не
начнем, Властительный Повелитель нашлет на Азиз-хона своих солдат, воины
истины тоже боятся этого. Ференги велел Азиз-хону закрыть проходы в горах,
чтоб Властительный Повелитель ни о чем не знал. еще сказано, узнать у тебя,
где будут костры...
- Это все?
- Все, Поднимающий руку времени, все...
- Сколько ружей привез ференги и какие они?
- Девятнадцать "мартини", на каждом надпись "Ма-Ша-Аллах". Тридцать три
новых, - говорят, их путь лежит через три моря и океан, - не видел раньше
таких ружей - одиннадцать зарядов.
- Патроны к ним есть?
- На каждое сто. Воины истины очень довольны. Ференги учит их, как
стрелять новыми...
- Хорошо, - сухо и повелительно заговорил Кендыри. - Иди сразу. Скажи:
Бобо-Калон обещал стать ханом, благословляет Азиз-хона за помощь. Судья
Науруз-бек будет, уже составляет список грехов. Когда Азиз-хон придет, все
верные помогут ему. Азиз-хону отдельно скажи: женщина здесь, не уйдет. Самое
главное, что скажешь ты Азиз-хону: ждать надо, терпеливо ждать, ждать, пока
от меня приказания не будет. Пусть риссалядар держит воинов на короткой
узде. Шо-Пир скоро за караваном уйдет. Начнем, когда придет караван. Бахтиор
для каравана будет чинить дорогу, когда починит - можно будет ехать верхом.
Ничего сейчас пусть не делают, ни одного человека пусть не выпустят никуда
из Яхбара, сами - ждут у Большой Реки. Два костра будут в горах над устьем,
три костра - над селением здесь. Свое дело, Бхара, ты знаешь. Купцу скажи:
пусть не плачет, большой караван придет, все окупится. Ференги скажи: пусть
следят за тропой. Когда Шо-Пир мимо устья пройдет, пусть ференги сразу идет
сюда. Теперь слушай внимательно. Скажешь ференги отдельно, точно скажешь
ему: "Волк, входящий в стадо до того, как проснулись пастухи, попусту съест
овец". Повтори!
- Волк, входящий в стадо до того, как проснулись пастухи, попусту съест
овец! - звенящим голосом повторил странник.
- Он поймет. Скажешь так. Помнишь все?
- Помню все, как дважды рожденный.
- Хорошо. Иди. Тебя не видел никто?
- Никто.
- Пусть не видят.
И, пробормотав во второй раз те же слова привета, странник Бхара
выскользнул в ночь и исчез.
Кендыри вытянулся на соломе и очень скоро спокойно заснул.
Утром он встал, как всегда, долго правил свою железную бритву и,
наблюдая, как ущельцы один за другим выходят на свои участки, стал зазывать
их голосом просительным и протяжным. Но и в этот день, как всегда, мало кто
из ущельцев соглашался бриться, - ведь до Весеннего праздника бороды
вырастут снова, и тратиться на бритье никому пока не хотелось.
Поля и сады селения окончательно освободились от зимнего покрова.
Только в затененных местах, среди скал, у подножья осыпей, сохранились еще
груды зернистого, посиневшего снега. Они медленно твердели и оседали.
Некоторые из них обычно удерживались в таких щелях между скалами до середины
лета, как упрямые свидетели отлетевшей зимы.
Сверкающие белизною вершины уже избавились от туманов. Погода
установилась ясная. Воздух был необычайно чист. На деревьях уже набухали
почки. Никто в селении больше не думал о дэвах, все радовались солнечному
теплу; мир и спокойствие природы не нарушались ничем; все чаще в селении
слышались девичьи песни, вечерами здесь и там разливался тихий рокот
двуструнок и пятиструнок. Вокруг вдохновенных музыкантов собирались соседи,
и всем было весело, и все говорили о пахоте и о севе, о новых товарах, какие
к Весеннему празднику привезет караван, о прошедшей зиме, деревьях и травах,
наливающихся соками новой жизни.
С наступлением темноты вдоль оград осторожно пробирались влюбленные
юноши, и не было таких преград и запретов, какие могли бы помешать им
перемолвиться словом с молодыми затворницами, ревниво оберегаемыми
родителями. Ибо разве можно уследить за девушкой, идущей к реке с кувшином
на голове или ищущей среди скал убежавшего из загона козленка? Разве можно
не спать всю ночь, чтобы поймать свою дочь, когда бесшумно и осторожно она
выскальзывает среди ночи на плоскую крышу дома, потому что ей тесно и душно
лежать под одной овчиной с матерью на жестких каменных нарах и потому что в
прохладе ночного воздуха только ей предназначен тихий настойчивый шепот
скрытого темнотой смельчака?
Только Ниссо не выбирается по ночам из своей пристройки, и Бахтиор
напрасно блуждает по своему саду. "Выйдет или не выйдет она?" Ну, конечно,
зачем ей выходить к Бахтиору, когда никто не запрещает им все дни проводить
вместе? Все решено, никуда не уйдет от него невеста, не изменит своему
обещанию, надо только ждать, ждать, быть спокойным, верить, что каждые сутки
приближают тот заветный, нестерпимо далекий срок. Лучше даже, пожалуй, не
жить здесь пока совсем уйти куда-нибудь из селения, пробродить как можно
дольше в одиночестве, чтоб незаметней сократился этот долгий срок!
Вот почему Бахтиор с радостью согласился на предложение Шо-Пира:
собрать бригаду факиров и отправиться с ними вниз по ущельной тропе, чтобы
проверить ее всю - от селения до Большой Реки, починить карнизы, расчистить
завалы, подготовить путь для долгожданного каравана, за которым скоро
отправится в Волость Шо-Пир.
Бахтиор взялся за дело. Вместе с Шо-Пиром поговорил он с ущельцами, год
назад строившими канал. Тех из них, которые согласились идти на тропу,
Шо-Пир обещал наградить товарами. Другие за такую же награду взялись
подготовить к пахоте и вспахать участки ушедших на работу товарищей. Больших
споров на этот раз не возникло, обещаниям Шо-Пира теперь верили безусловно.
Собрав кирки, лопаты, ломы, взяв с собой на полмесяца муки и риса из
запасов, сохраненных до весны Шо-Пиром, шесть ущельцев во главе с Бахтиором
однажды утром вышли из Сиатанга.
В числе ушедших был Карашир, и Рыбья Кость долго кричала ему вслед,
чтоб он получше подвязал к своей спине джутовый мешок, - зацепится за скалу,
растеряет рис и муку. Карашир даже не обернулся. Что, в самом деле, ведь не
накурившись же опиума идет он, чтоб не разбирать пути? Пора бы отучиться
приставать к нему с глупостями!
- Грустно тебе? - спрашивает Мариам молчаливую Ниссо, когда, проводив
Бахтиора и оставшись одни, девушки взялись за приборку дома.
- Не грустно, - в задумчивости говорит Ниссо.
- А о чем ты думаешь? Ведь он скоро вернется.
- Ничего ты не понимаешь, Мариам! - Ниссо устремляется к двери.
- Подожди, Ниссо, что с тобой? - останавливает ее Мариам. - Почему
сердишься? Чего я не понимаю?
- Ничего! Совсем ничего!
Ниссо редко бывает такой: в тоне ее раздражение, досада.
- Сядь, Ниссо. Куда ты хочешь идти? Скажи мне, что у тебя на душе?
Разве я тебя не пойму?
- Сколько времени живем вместе, - с обидою отвечает Ниссо, усаживаясь
на край постели, - а вот не понимаешь! Не хочу тебе говорить!
Мариам подсаживается к ней, обнимает ее:
- По сердцу скажи!
- Я думала, жизнь моя будет счастливой, а вот... Ты говорила всегда, -
волнуется Ниссо, - свободная я... Сама я тоже думала так, с тех пор как
осталась здесь. А теперь вижу: нет для меня свободы...
- Почему же, Ниссо? Что случилось?
- Ничего не случилось! Зачем замуж я выхожу?
- А кто же тебя неволит? Разве не хочешь ты? Ведь ты его любишь?
- Кого я люблю, кого?
- Что за разговор? Бахтиора!
- Вот видишь, Мариам, я знала, не надо нам говорить. Не люблю Бахтиора
я... Хороший он, очень хороший... Вот не люблю!
- Но ведь ты же сама согласилась выйти за него замуж?
- Согласилась, правда... Он любит меня...
- Ничего не понимаю... А ты?
- Видишь, не понимаешь! - Ниссо почти со злорадством взглянула на
Мариам, но сразу потупила взгляд. - А я... Я совсем не люблю его...
- Кого же ты любишь? - Мариам сама уже была взволнована разговором.
- Никого! - освобождаясь от руки Мариам, ответила Ниссо.
Но ей все-таки необходим был совет подруги.
- А если б любила, что делать мне?
- Выходить замуж.
- А если б он ничего не говорил мне?
- Кто он?
- Никто. Так, хочу знать, как бывает, когда мужчина женщине не говорит
ничего.
- Тогда женщина сама должна сказать ему все, узнать, что он ответит...
Ниссо насупилась, встала. Мариам увидела в ее глазах гнев.
- Нет, Мариам! Никого не люблю я. Слышишь? Никого! Никого!
И Ниссо выбежала за дверь. Мариам, наконец, показалось, что все ей
стало понятным. Она поднялась, в раздумье вышла из помещения. В солнечном,
но еще не зазеленевшем саду не было никого. Шо-Пир возился на площадке,
выбранной им для нового дома школы, заготовляя дверные косяки. Гюльриз
поодаль доила корову. Ниссо не было видно нигде.
Мариам направилась было к Гюльриз, но, не дойдя, повернула обратно,
почувствовав, что ни о чем сейчас не могла бы говорить со старухой...
Через несколько дней Шо-Пир собрался уходить в Волость. Позвав к себе
Худодода, он в присутствии Мариам и Ниссо сказал ему, что до возращения
Бахтиора все обязанности председателя сельсовета Худодод должен взять на
себя. Шо-Пир дал ему самые подробные указания и добавил, что при всяких
сомнениях он должен советоваться с Мариам и что вообще ему следует
рассказывать Мариам обо всем происходящем в селении. Худодод охотно обещал
Шо-Пиру делиться всем с Мариам, к которой и сам относился с большим
уважением, и просил Шо-Пира не беспокоиться ни о чем.
В самом деле, что могло бы беспокоить Шо-Пира? Жизнь в селении
протекала тихо и мирно, погода стояла прекрасная, все ущельцы думали только
о предстоящей пахоте, до пахоты никаких ссор и споров быть не могло, а
Шо-Пиру обязательно нужно пойти в Волость: кто лучше его знал все нужды и
потребности Сиатанга, кто мог бы отобрать из зимовавших в Волости товаров
самые необходимые для селения?
- Одно дело важное есть, не знаю, как справишься с ним, Худодод, -
сказал в заключение Шо-Пир. - Зерно надо разделить между факирами, пусть
чистят и сортируют его.
Услышав разговор о зерне, Гюльриз, молча вязавшая чулок, решила
вмешаться.
- Шо-Пир, стара я, может быть, не то думаю, но я скажу, а ты решай сам.
Не надо трогать зерно, пусть лежит, как лежало, в пристройке.
- Почему Гюльриз?
- Народ наш ссориться будет, дин скажет: "Мне больше", другой скажет:
"Мне"... Без тебя, Шо-Пир и без Бахтиора большой крик будет. Сеять не скоро
начнем, вернуться успеешь, сам тогда и начнешь делить.
- Это верно, пожалуй. Ты, Гюльриз, видишь далеко. Конечно, Худодод, так
будет лучше.
- Я сам тоже так думаю! - согласился Худодод. - Время есть, успеем.
- Ну, все тогда... Завтра утром пойду.
- А мне можно с тобой пойти? - неожиданно спросила Ниссо, и смущенные
ее глаза заблестели.
- Что ты, Ниссо, зачем?
- Волость хочу посмотреть, - опустив глаза, тихо сказала Ниссо. - Какая
там жизнь...
"Милая ты моя девочка!" - чуть было не сказал Шо-Пир, спохватился,
ответил:
- Нет, Ниссо, не надо тебе идти. Бахтиор беспокоиться будет. Другой раз
как-нибудь. Все вместе пойдем... Ну, осенью, что ли... Хорошо?
Ниссо хотела ответить громко, но голос ее дрогнул:
- Хорошо... Как хочешь...
Шо-Пир собирался недолго. Он вырезал из дерева круглые пуговицы и
пришил их к вороту заплатанной гимнастерки, подбил к ветхим сапогам подметки
из сыромятины, начистил глиной красноармейскую звезду на фуражке, стараясь
не стереть остатков красной эмали, сунул в заплечный мешок несколько
лепешек... Затем позвал Мариам в свою комнату и передал ей тщательно
смазанный, хранившийся у него всю зиму наган.
- Возьми его с собой, - предложила Мариам. - Дорога большая, мало ли
что бывает?
- Дорога спокойная, знаю ее, - ответил Шо-Пир, - озорства здесь не
бывает. Для охоты вот возьму с собой ружье... А это твое. Тебе выдано. У
себя и держи. Да и лучше: вы тут, женщины, одни остаетесь... Ничего,
конечно, не может быть, а только сам знаю: с этой штукой чувствуешь себя
как-то уверенней. Не носи только зря, не к чему...
Мариам согласилась оставить наган при себе. Шо-Пир надел ватник,
вскинул ремень ружья на плечо и сошел с террасы.
- Подождал бы до завтра, Шо-Пир, - сказала Гюльриз. - Закат уже, кто на
ночь выходит?
- Пойду. К ночи я полпути до Большой Реки сделаю, заночую под камнем, а
завтра с утра наших где-нибудь встречу, посмотрю, как Бахтиор там
работает... меня провожать не ходите! - добавил он, увидев, что Ниссо и
Мариам хотят выйти с ним. - Один, один, давайте руки свои!
И, наскоро пожав всем руки, Шо-Пир быстрым шагом направился к пролому в
ограде.
- Счастливо! - крикнул он, обернувшись уже за оградой. - Дней через
двадцать ждите... Не скучай тут, Ниссо!
И оттого, что последнее слово Шо-Пира было обращено к ней, Ниссо
улыбнулась. Отойдя в сторону от всех, обойдя дом так, чтобы ее никто не
видел, она долго смотрела, как уменьшающаяся фигурка Шо-Пира медленно
пересекала развернутую чашу сиатангской долины и как, наконец, исчезла за
мысом, вдвинувшим свои скалы в пенную реку.
Ниссо, конечно, не могла знать, что Шо-Пир унес с собой такую же грусть
расставания, но не хотел ничем выдать себя.
Едва стемнело, Ниссо и Мариам легли спать. Ниссо чутко прислушивалась к
дыханию Мариам. Убедившись, что Мариам спит, Ниссо с зажатым в руке платьем
осторожно выскользнула за дверь и уже здесь, под открытым небом, оделась.
Затем, настороженная, прокралась через двор к недостроенному дому новой
школы, ввзяла с подоконника еще засветло приготовленный кулек и, как была,
пренебрегая прохладой ночи, тяжело дыша от волнующего сознания
недопустимости своего поступка, торопливо вышла из сада.
Больше всего она опасалась, что Мариам проснется или что кто-нибудь
встретится ей, пока она не минует селения. Только пройдя пустырь и
приблизившись по береговой тропе к мысу, Ниссо перестала прислушиваться и
озираться. Она и сама не знала, что она делает, устремляясь вслед за
Шо-Пиром. Она не шла, а почти бежала, ширя во мраке глаза, слышала только
биение своего сердца, почти не обращая внимания на тропу, каждую минуту
рискуя сорваться в пропасть. Только природный инстинкт, только кошачья
ловкость горянки помогали ей обходить препятствия, почти не глядя на них,
ступая босыми ногами только на те камни, которые не обрушились бы вместе с
ней вниз, и в глубине души она была признательна Бахтиору, который исправил
эту тропу так, что нигде не надо было вступать в холодную воду.
Так, не останавливаясь, не замедляя шага, до крайности напрягая свое
молодое неутомимое сердце, Ниссо спускалась все ниже по этой ущельной тропе
вдоль шумной реки Сиатанг. Только бы не пройти мимо спящего где-нибудь
здесь, уже недалеко, Шо-Пира! Ниссо не думала ни о том, что она скажет
Шо-Пиру, ни о том, что он сделает, проснувшись и увидев ее, - ни о чем не
думала Ниссо, кроме того, что вот увидит его, увидит...
Там, где ущелье чуть расширялось и вдоль берега высились когда-то
упавшие скалы, Ниссо задерживалась и, проникая во все расщелины, ощупывала
их в темноте руками. Нет, он не здесь, значит дальше. И Ниссо устремлялась
дальше.
К середине ночи Ниссо ушла уже так далеко от селения, что усомнилась:
не прошла ли она все-таки мимо Шо-Пира? Остановилась, представила себе
каждый камень пройденного пути, и решив: "Нет, этого не могло случиться", -
снова поспешила вперед.
В одном месте Ниссо обратила внимание на особенно темное пятно среди
скал, чуть повыше тропы, и сразу поняла, что это, должно быть, пещера.
"Там!" - безошибочным чутьем определила она и, цепляясь за камни, полезла
вверх. Поравнявшись с нижним краем пещеры, замерла и прислушалась. Только ее
слух мог сквозь шум реки уловить мерное дыхание в глубине большой, некогда
выдолбленной водою пещеры. "Он, - подумала Ниссо и испугалась. - А вдруг
Бахтиор? Ведь Бахтиор со своими людьми ночует тоже где-нибудь на тропе!" И
как раньше это не пришло в голову? Напрягая слух, Ниссо определила, что в
пещере спит только один человек, - значит, он!..
Подтянувшись на руках, Ниссо очутилась в пещере. Мелкие камешки под ней
зашуршали.
- Кто здесь? - разом проснувшись, крикнул Шо-Пир, и Ниссо не увидела, а
почувствовала, что в руках у него ружье.
- Шо-Пир, это я... - прошептала она. И только тут поняла все безумие
совершенного ею поступка. Метнулась было назад, чтоб уйти, чтоб как можно
скорее исчезнуть, бросить Шо-Пиру только кулек с чаем и сахаром, чтобы
Шо-Пир ее не узнал, не заметил... Но уже было поздно.
- Ниссо!.. Почему ты здесь?.. Что случилось?
Ниссо молчала, но сердце ее, казалось, готово было разорваться от
волнения и стыда.
- Что ты? Что?.. Ну, что ж ты молчишь? - Шо-Пир придвинулся к ней, шаря
рукою в темноте. Нащупав локоть Ниссо, скользнул пальцем по ее руке,
добрался до прижатых к лицу ладоней.
- Что плачешь, Ниссо? Что с тобой? Ну, говори же, что?
- Я... я не плачу, Шо-Пир... - прошептала Ниссо. - Ничего не
случилось... Не знаю я, почему... Просто так... я пришла... Сахар тебе
принесла... чай... Большая дорога...
- Ты безумная! - пробормотал Шо-Пир. - Ты... - Но упрека не получилось.
Он привлек плечи Ниссо к себе, почувствовал ее голову на своей груди, стал
гладить растрепанные мягкие волосы. - Успокойся, Ниссо! - только и нашел он,
что сказать, и волнение девушки мгновенно передалось ему. Ниссо притихла на
его груди, и он ощутил быстрое биение ее сердца. Кровь бросилась ему в
голову, все решения его, вся рассудительность готовы были полететь к черту.
"Нет, нет... - наконец удалось ему поймать спасительную мысль. - Ей только
пятнадцать лет!" - И эта мысль сразу решила все. Резким движением Шо-Пир
отстранился от Ниссо, встал, решительно подошел к выходу из пещеры, раскинув
руки, уперся ладонями в шершавые стены.
Ниссо различила его фигуру, смутно выделяющуюся на фоне противобережных
скал. Долго стоял он так, ощущая на своем разгоряченном лице слабое дыхание
прохладного ветерка. Распахнул ватник, расстегнул ворот гимнастерки. Затем
резко повернулся, сделал два шага и снова сел рядом с Ниссо, взял ее
холодную руку.
- Вот что, Ниссо... Давай поговорим по душам... Разве ты Бахтиора не
любишь?
- Очень хочу любить его, Шо-Пир... Не люблю, - тихо и печально
вымолвила Ниссо.
- Зачем же ты согласилась выйти за него замуж?
Ниссо долго молчала и ответила еще тише:
- Ты помнишь, я спросила тебя... Я спросила: ты хочешь этого?
- Глупая! Да разве могу я этого хотеть или не хотеть: только сердце
решает твое...
- Мое сердце... - прошептала Ниссо и повторила громко, с досадой: - мое
сердце... Разве ты не понимаешь?..
- А если я понимаю, то что?.. Я хочу сказать тебе, Ниссо... Сколько лет
тебе, знаешь?
- Пусть знаю. А почему мне не рано выходить замуж за Бахтиора?
- Потому... Потому... - Шо-Пир тяжело вздохнул, взволновался. - Невеста
еще не жена... Есть советский закон... - И, усмехнувшись своим словам - вот
поди объясни ей все, - сознавая всю нелепость своего положения, сам на себя
рассердился: - Ну нельзя, Ниссо, и нет разговора. А Бахтиору можешь не
считаться невестой, если не хочешь. Все равно, не скоро дождался бы он
свадьбы, может, и сам передумал бы... А то, что мне ты хочешь сказать, -
проживешь три года еще, тоже, может быть, передумаешь...
- Не передумаю я никогда!
- Подожди!.. Ты не сердись на меня... Я о счастье твоем забочусь... Ну,
и довольно спорить. Знаешь что? Скоро рассвет. Тебе поспать надо!..
- Шо-Пир! - с обидой, гордо сказала Ниссо. - Я тебя люблю!
- Ну и любишь, и ладно!.. Хочешь знать, я и сам тоже... Ну, словом,
понимаешь... Нечего больше тут говорить... - Шо-Пир чувствовал себя
смущенным; и хотя был полон нежности, принял в растерянности этот
добродушно-снисходительный тон. - Будем жить, как живем. Коли любишь,
подождешь два-три года, а обо мне не беспокойся, никуда я не денусь! Вот
тогда и поговорим... Хорошо?
- Как хочешь, Шо-Пир, - покорилась Ниссо. - А ты другую... ну, не знаю
кого... не полюбишь?
- Нет, нет, никого, успокойся, пожалуйста... И хватит об этом, давай
спать, Ниссо, возьми ватник мой, посмотри, вся дрожишь, в платье одном
прибежала!
Шо-Пир скинул с плеч ватник и, когда Ниссо свернулась калачиком на
голом камне, накрыл ее, заботливо подоткнув полу ватника ей под бок. Провел
рукой по ее волосам, неловко поцеловал в лоб и, оставив одну, отошел к
выходу из пещеры. Сел на краю, закурил трубку и так, не шевелясь, скрестив
на груди руки, просидел до рассвета, не зная, спит или не спит Ниссо.
Звезды над ущельем слабели. Небо светлело. Когда стало возможным
различать тропу, Шо-Пир обернулся к Ниссо, увидел, что она спит, с давно не
испытанной нежностью долго глядел на нее. Наконец оторвав от нее взгляд,
протянул руку за ружьем и заплечным мешком, подумал, захватил также кулек с
сахаром. Вынул из мешка две лепешки, положил их на камень; затем соскользнул
на тропу и, вскинув ремень ружья на плечо, пошел по тропе быстрым,
решительным шагом.
Ниссо, накрытая ватником Шо-Пира, продолжала спокойно спать.
Ровно через сутки после ухода Шо-Пира к Кендыри явился новый бродяга.
Шел он не по ущельной тропе, а по вершинам первого ряда встающих над
Сиатангом гор. Он долго спускался по осыпи, управляя, как кормовым веслом,
длинною палкой, которая помогала ему сохранять равновесие в стремительном
беге по щебню, плывущему вместе с ним вниз. Все жители Сиатанга видели этого
человека и, обсуждая, кто он, удивлялись, почему он избрал столь опасный и
трудный путь. Не скрываясь ни от кого, пришелец спустился на каменную
россыпь пустыря. Работавшие на новых участках ущельцы, оставив кирки, с
любопытством разглядывали его рваный и короткий, не достигавший невероятно
грязных колен, халат, его обмотанную шерстяными веревками обувь, его рыжую,
из домотканой холстины чалму. Пришелец был молод и худощав, но не был похож
на голодного человека. Загорелое и обветренное, все в пятнах грузи лицо, нос
с горбинкой, темные, но не черные брови никак не определяли его
национальности. Он прошел мимо ущельцев, бросая на них быстрые равнодушные
взгляды, сказал по-сиатангски одному из них: "Здравствуй... Где у вас живет
человек по имени Кендыри?" И когда ущелец указал ему на сложенную из
неровных камней ослятню, торопливо направился к ней.
Кендыри встретил его у порога. Подойдя вплотную к брадобрею, пришелец
всмотрелся в его холодные глаза и, чуть-чуть уголками губ улыбнувшись,
заговорил по-сиатангски:
- Нет жизни честному человеку во владениях Азиз-хона! Был у меня дом,
пшеница была, корова была, восемь овец, жена, трое детей - все отнял у меня
проклятый хан... Жену избили камнями, дети умерли один за другим... Я
сказал: месть ему, смертный враг он мне, пойду на советскую землю, вот где
жизнь таким беднякам, как я... слышал я, живет в Сиатанге бедный брадобрей
Кендыри, тоже было плохо ему, ушел, теперь там хорошо живет... Приду к нему
и скажу ему: давай вместе жить! Дорогу сюда искал, ноги мои болят, чуть не
замерз в горах. Трудно было, страшно мне было, снежных барсов боялся, дэвов
боялся. Ветер большой там, снега. Не знаю сам, как пришел. Дашь ли мне ложе
рядом с твоим?.. Вот спасибо людям этим, показали, где ты живешь!
Пришелец поклонился двум любопытствующим ущельцам, которые вслед за ним
подошли к жилью Кендыри и стояли в почтительном отдалении, прислушиваясь к
его возбужденным словам.
- Благословен покровитель! Не хотел отрывать от работы вас! Да придет к
вам урожай пшеницы!
- Та-ак... - протянул Кендыри, - в ослятне живу, не погнушайся моим
жилищем, иди ко мне, ложись, отдыхай! Потом разговаривать будем.
Сложив на груди руки, пришелец, низко нагнувшись, переступил порог.
Ущельцы вернулись к работе и стали пересказывать всем только что слышанные
слова...
- Черт бы их подрал, отстали!.. Наконец-то я могу говорить на
человеческом языке! - воскликнул пришелец, убедившись, что ущельцы ушли. -
Трудно даже вам объяснить, как эта тарабарщина осточертела мне!.. Вы сразу
меня узнали?
- плох бы я был, если б не сразу узнавал "паломников"! - усмехнулся
Кендыри. - Какого дьявола такой трудный пусть вы избрали? Садитесь на... на
землю! Как вам нравится моя квартира?
- Надеюсь, когда-нибудь в одной из столиц вы примете меня в лучшей...
не хотел идти по тропе - там эти, ваши, работают...
- Видели их?
- Видел сверху - дней на десять им еще хватит работы. Успеем?
- Думаю, как раз... Об этом поговорим позже... Расскажите, какие
новости т а м. Давно вы из города?
- После вашего отъезда недель через шесть уехал. Месяц блуждал в
восточных провинциях, пока по вашему делу не вызвали. Ничего особенного.
Угощать меня вы намерены? Есть хочу просто необычайно... Чем вы питаетесь
тут?
- Прекрасно питаюсь, - усмехнулся Кендыри. - Могу сварить вам чудесную
похлебку из гнилых бобов с примесью нескольких граммов первосортной
сиатангской муки. Хотите?
- Я это предполагал. Мне этот самый Бхара, - как вам нравится стиль его
выражений? - приблизительно описал ваше положение. Я и решил о вас
позаботиться, - не следовало, конечно, нести с собой мелочи, не принятые в
обиходе здешних ущельцев, но вы, уверен, меня не осудите!
Пришелец развязал свой холщовый мешок, извлек из него консервированный
паштет, две банки сардин, бутылку виски, коробку сигар.
- Вы действительно хороший компаньон, дорогой мой ференги! - с
удовольствием сказал Кендыри. - Кстати, как вас теперь зовут? Но давайте мы
все-таки прикроем это мешком.
- Зовут меня Шир-Маматом. "Шир" - это тигр, и вполне по-здешнему... Но
неужели у вас нет ни рюмок, ни хлеба? - прикрывая продукты мешком, покачал
головою пришелец.
- А разве бедным брадобреям позволено иметь это?
- Придется из горлышка. Вы не больны, надеюсь?
- Так же, как и вы? - Кендыри пальцем вдавил пробку в бутылку и подал
ее гостю: - Пейте!.. До сих пор вы, кажется, предпочитали коньяк?
- А теперь я изредка получаю подарки от одной очень далекой, но
дружественной нам фирмы.
- И думаете, крепче? - прищурился Кендыри.
- Виски?
- Нет, фирма!
- Вы, как всегда, догадливы! - улыбнулся ференги. - Дальновидность -
качество весьма положительное. Выпьем за это качество и за здоровье...
этой... Ниссо. Вы прекрасно сумели использовать обстановку!
- Да, эта девчонка помогла нам очень... Но об этом потом, потом... -
Кендыри вскрыл консервы ножом, с наслаждением хлебнул из бутылки глоток,
аккуратно обрезал кончик сигары, повертел ее в руках. - Неужели "гавана"?
- Первосортная, мой друг. Специально таскал с собою для таких
отверженных "маячных смотрителей", как вы... Нравится?
Кендыри, затянувшись дымом, полузакрыл глаза. Помолчал. Захватил двумя
пальцами жирную сардину, сказал:
- Курить, кажется, полагается после еды, но я слишком хочу и того и
другого!
- Чего бы сейчас вы хотели еще? - с улыбкой промолвил ференги.
- Ванну, мой друг... Эмалированную белую ванну с горячей водой и
душем... Кстати, как удалось вам превратить в такой достопочтенный вид ваши
колени? Да и весь вы, будто бегемотовой шкурой обтянуты!
- Состав очень прост: глина, немножко золы. Полезно еще - несколько
капель растопленного бараньего сала с песком. Каждый день втирание в кожу.
Только сначала нужно создать общий фон. Еще проще: не жалеть сердца и
два-три месяца загорать на хорошем солнце... А вы как устраиваетесь!
- Ну, я ведь не европеец! - усмехнулся Кендыри. - Цвет моей кожи
естественный. Но тоже кое-что применяю. И вот мечтаю о ванне, о доброй,
хорошей ванне!
- Что ж! Сделаем дело, приезжайте к нам в отпуск, я приготовлю ванну и
подарю вам халат.
- Спасибо. Если уж мне придется быть в отпуске, я надену все что
угодно, кроме халата. Довольно мне халатов и здесь... Только вы счастливей
меня, вы, конечно, скоро назад, вам и отпуск дадут, а мне... Чувствую, что
года два еще придется мне жить среди этих варваров.
- Зато и ценят вас немножко иначе!
- В конце концов, мой друг, какой толк мне от доброй оценки? До этой
зимы я совсем не скучал. Даже, знаете, казалось, что другой мир мне виделся
только во сне... Знаете, я недоволен нашей системой. С юности приучают нас к
самой цивилизованной жизни; привыкаешь, забываешь, что ты не был европейцем
когда-то. А потом опять перевоплощайся в дикаря! Душой-то ведь уже не
перевоплотишься! Вот порою и начинаешь томиться. После того как провел две
недели в нормальных условиях... эти две недели в нашем городе, - лучше бы их
вовсе не было. Только начал очухиваться - и опять... Еще острей теперь это
чувство... Вот бы нашего общего друга, который, сам никуда не выезжая,
только начальствует в городе, на мое место! Как вы думаете, что запел бы он?
- А он, между прочим, высказывал огромное желание побывать здесь. Но
ему ведь нельзя!
- Почему?
- Глаза не позволяют.
- Разве он стал плохо видеть?
- Ну, зрение-то у него по-прежнему превосходное! Но разве забыли вы?
Глаза у него не такие, как у нас с вами, - слишком светлые.
- А! Это правда... Но и туземцы здешние тоже иной раз попадаются
сероглазые... Иногда даже за русского можно принять.
- Все-таки признан неподходящим. А вам, мой друг... трудно, конечно,
советовать... Но я бы на вашем месте спортом занялся или, скажем, охотой.
- Благодарю вас! - язвительно сказал Кендыри. - Не хотите ли вот эту
железную бритву метать в диких архаров? В прошлом году у меня кремневое
ружье было, я ходил с ним, чувствовал себя куперовским охотником, а
теперь... Забрал его у меня купец, не хотелось огорчать скрягу...
- Кстати, где ваш парабеллум?
- В земле, конечно... Пейте еще!
Так, болтая, они оборванные, грязные, похожие на бродяг с аллахабадской
улицы, провели часа полтора, прежде чем приступить к делу. Кендыри начал
первый:
- Этого Шо-Пира не видели?
- Как же! Прошел он солдатским шагом... Потому я к вам сюда и явился.
- Давайте обсудим план?
- Давайте. Только, как человек новый, я хочу сначала яснее представить
себе ситуацию... Мне кажется, я не совсем понимаю смысл вашей комбинации.
Азиз-хон нагрянет сюда. А потом?
- А потом сюда нагрянут русские красноармейцы.
- А зачем предупреждать русских?
- Пожалуйста, объясню. Гарнизон в Волости - двадцать один человек. С
караваном осенью пришло еще десять. Сколько могут они выделить по тревоге?
- Человек двадцать, я думаю.
- Правильно. Я на такое количество и рассчитываю. Меньше, чем десять
человек, в Волости они не оставят. Явившись сюда, эти двадцать человек будут
легко перебиты. Русские, конечно, на этом не остановятся, пошлют за
подкреплением в гарнизоны Восточной границы, там уже два порядочных поста у
них установлены. Сниму солдат оттуда. Пока они подойдут сюда, пройдет
примерно не меньше месяца. Тогда тут загорится грог, и на этот раз перебиты
будут доблестные воины Азиз-хона, - конечно, он раньше не уйдет отсюда...
- А почему не уйдет? Кстати, чисто психологический интерес: он
действительно любит эту девчонку?
- Девчонку-то он любит... И если бы не она... словом, первый
побудительный фактор - она... Первый, но далеко не главный. Тайные
соображения у него более, я бы сказал, прозаические. Их ни он и никто другой
не высказывает. Дело в том, видите ли... С тех пор как сиатангская знать
эмигрировала в Яхбар, лишилась своих земельных и прочих доходов и обеднела,
заезжим купцам ни здесь, ни в Яхбаре нечего делать. Карман Азиз-хона
опустел, ему не с кого брать подорожный налог. В глазах своего
Властительного Повелителя почтенный правитель Яхбара потерял какой-либо вес.
Вот он и хочет вернуть всех эмигрантов сюда, надеется, что все обернется
по-старому...
- Но неужели у него хватит глупости предполагать, что большевики
допустят на своей территории, - даже на таком невзрачном ее клочке, -
устранение советской власти? И неужели не понимает, что весь вопрос только в
том, какой срок понадобится им для переброски сюда вооруженной силы?
- В широком смысле он, конечно, дурак, потому что надеется на иное...
Но тут... Во-первых, я всячески постарался укрепить в нем эту надежду...
Во-вторых, он настолько ограничен, что ему представляется, будто весь мир
кончается пределами этих гор и что сами горы помешают проникновению сюда
какой бы то ни было вооруженной силы. Он думает, что его пятьдесят три
винтовки - мощь непобедимая. Воображаю, какая рожа была у него, когда он
получил эти винтовки! Ну и, конечно, придя сюда, он не станет особенно
торопиться назад. Достаточно будет уверить его, что скоро сюда придет еще
один караван... Он поставит здесь местного хана, объявит его своим вассалом
и будет тут пировать до тех пор, пока его храбрецы не сожрут всех имеющихся
в округе баранов. Да и я постараюсь убедить его подольше растянуть приятные
празднества здесь. Ну и никто виноват не будет, когда через месяц
подкрепления русских начисто перебьют его воинство.
- Перебьют, конечно... А дальше?
- А дальше? Миссия наша будет считаться блестяще выполненной. Весь этот
месяц в дипломатических кругах России будут негодовать: басмачи, Яхбар
напал! Весь мир узнает, что на границе тут происходит драка. Понимаете сами,
вряд ли в переговоры России с Властительным Повелителем, которые должны
происходить в течение ближайшего месяца, посольствам обеих сторон удастся
внести нотки подлинной дружественности. За это время наше правительство
вполне успеет использовать обстановку и получить от Властительного
Повелителя те плоды, каких столько времени и столь безуспешно пока
добивается...
- План ваш великолепен, делает честь вашей репутации. Но представьте
себе на минуту: эти двадцать человек не выйдут сюда из Волости?
- Вам, мой друг, стыдно не знать психологию русских большевиков. Они
обладают скверной для них привычкой: стоит им услышать, что где-нибудь туго
приходится кучке самых не нужных им туземцев, как они тотчас же кидаются им
на помощь... Выйдут, конечно, сядут на лошадей в ту самую минуту, когда вы
сообщите им, что к Сиамангу приближаются басмачи, и помчатся сюда карьером.
- Хорошо. А если здесь их перебить не удастся?
- Двадцать-то человек? - презрительно усмехнулся Кендыри. - Одних
привезенных вами винтовок, как сообщил мне Бхара, больше пятидесяти.
Прибавьте сюда кремневые ружья, да помножьте все это на внезапность удара из
хорошей засады, да на рельеф гор, да на помощь наших здешних сторонников...
- А на последнее вы рассчитываете?
- Безусловно, рассчитываю. Но и прочего недостаточно разве? Да я и сам
надеюсь дать Азиз-хону кое-какие тактические советы...
- Вы правы, конечно. Согласен... Теперь хочу услышать ваши
распоряжения...
- Пожалуйста... Прежде всего несколько точных цифр. Караван выходит из
Волости вниз по Большой Реке. До слияния Сиатанга с Большой Рекой караван
пройдет восемь дней, вверх по реке Сиатанг сюда - еще два. Нам важно, чтоб
Азиз-хон захватил караван именно здесь - это в интересах купца и в интересах
наемников. А затем незамедлительно должны явиться и красноармейцы. Дабы не
допустить случайного распространения каких-либо нежелательных нам вестей,
надо, чтобы события происходили в быстрой последовательности, с минимальными
промежутками. Таким образом, допустим, караван вышел из Волости первого
числа. Сюда он придет десятого. Значит, Азиз-хон должен занять Сиатанг
накануне - девятого, а красноармейцы явятся сюда одиннадцатого, максимум
двенадцатого. Если караван пройдет сюда десять дней, то красноармейцы на
галопе и на рысях, - я рассчитал переходы - сделают этот путь в шесть.
Шо-Пир ушел в Волость. Вы, мой друг, направляетесь туда сегодня же. Вы не
объявляетесь там никому и следите за выходом каравана. Через пять дней после
его выхода вы, запыхавшись и истекая п том, являетесь к начальнику
гарнизона, говорите ему, что только что прибежали от Азиз-хона и что тот
выступает на Сиатанг с бандой. Они садятся на коней, мчатся сюда и являются
как раз тогда, когда это нам нужно. Ну, может быть, на день позже - неважно,
но не раньше, ни в коем случае не раньше.
- А как Азиз-хон узнает о дне прихода сюда каравана, чтобы явиться сюда
на день раньше?
- Это просто. Едва караван станет на последнюю перед устьем Сиатанга
ночевку, Бхара, следящий за ним с вершины, разложит наверху костер. Дозорные
Азиз-хона увидят его, и в ту же ночь Азиз-хон начнет переправу через Большую
Реку, а к следующей ночи, за день до каравана, будет здесь... Обо всем этом
я условился с Азиз-хоном сам, и Бхара уже сидит где-нибудь над тропою... Вся
эта машина работает безошибочно при одном условии: вы являетесь к начальнику
советского гарнизона ровно в час истечения пятых суток после выхода каравана
из Волости.
- А что делать мне дальше?
- Ну-ну... Должен предупредить вас... Вам, вероятно, больше ничего не
придется делать, потому что, надо думать, вас арестуют до выяснения, но ведь
вы кто? Несчастный, бежавший от Азиз-хона бедняк. Самый ваш поступок
реабилитирует вас, просидите недельки две, месяц, и вас отпустят. Конечно,
вы рискуете, но в этом случае... Даже если б вам пришлось умереть, вы умерли
бы в роли бедняка, не так ли?.. Ведь я должен остаться чист...
- В этом вы, конечно, не сомневаетесь?
- Ни секунды. Я знаю вас.
- Спасибо. Это все?
- Все. Давайте допьем виски и выкурим по сигаре... Да. А если говорить
об этой девчонке... Если б не она, мне пришлось бы искать другие
способствующие нам обстоятельства, и, может быть, всю операцию пришлось бы
проводить где-либо в другом месте. Я просто использовал выгодный случай.
- Как вы думаете, что он сделает с нею?
- Не знаю. Это неважно.
- Это, конечно, неважно... А как вы подковали купца?
- О, здесь была долгая подготовка. Я сначала организовал его разорение,
помог его изгнанию. Дальнейшее понятно: желание возместить себе все
убытки... С прочими - с эмигрантами, скажем, - дело обстояло весьма обычно и
просто. Остальное сделали деньги и обещания. Я считал, что самое главное во
всей подготовке - добиться полной изоляции владений Азиз-хона. Если б об
этом деле хоть что-нибудь узнал Властительный Повелитель, то все
предприятие, конечно, сорвалось бы из-за его нежелания осложнять свои
отношения с Россией. Возможно, он даже прислал бы своих солдат и арестовал
бы Азиз-хона, чтоб предупредить его выступление. Такая изоляция, с вашей
помощью, нам удалась. Не так ли?
- Удалась, безусловно. Властительный Повелитель пребывает в святом
неведении. Выпьем, может быть, за его здоровье, "товарищ брадобрей" Кендыри?
- Последний глоток за него, согласен, мой добрый "господин ференги"!
- Теперь мне пора идти.
- Идите, идите. От души желаю удачи... Вы хорошо сделали, что
показались тут всем. Покажитесь еще раз.
- Обязательно. Это пригодится для будущего... Да, чуть не забыл, для
будущего допроса: селение во владениях Азиз-хона, из которого я бежал,
называется Чорку, знаете его? На южной границе. Там вы стригли мне волосы, и
там я вам жаловался, и вы мне расписали вашу блаженную жизнь в Сиатанге. А
теперь я пришел к вам и сказал о подготовляющемся налете банды, и вы
направили меня в Волость, и я, не зная дороги, немного плутал, задержался в
пути... Так?
- Так... Вы вполне предусмотрительны... И мне пришло в голову... Знаете
что? Хотите взглянуть на эту покорительницу ханского сердца?
- Отчего ж... Она действительно хороша собой?
- Вот увидите... Кстати, эта встреча тоже может вам пригодиться для
дела. Пойдемте вместе.
Кендыри и его гость вышли из ослятни и направились вверх по тропинке,
мимо скалистой гряды, к дому Бахтиора. Ущельцы смотрели на оборванного,
грязного спутника Кендыри и сочувственно говорили о нем. Всем казалось
естественным, что, когда у человека там отнимают жену, и дом, и весь скот,
великое счастье выбраться на советскую сторону...
Подойдя к дому Бахтиора и увидев на террасе Мариам и Ниссо, Кендыри
принял смиренный вид и провел спутника сквозь пролом в ограде.
- Здравствуй, Ниссо! Товарищ Даулетова, здравствуй, - сказал Кендыри с
тем выражением легкой надменности, какое могло показаться естественным при
разговоре с женщинами. - Шо-Пир дома? К нему пришли мы...
- Шо-Пира нет, - ответила Ниссо. - Разве не знаешь ты?
- Что могу знать я? Целый день жду у своих дверей, не придет ли
кто-нибудь побрить бороду. Никто не приходит. Хорошо, нет у меня жены, если
б была - чем стал бы кормить?.. Шо-Пир где?
- В Волость ушел Шо-Пир, - сказала Мариам, разглядывая спутника
Кендыри.
- Бахтиора нет тоже?
- Не пришел еще, на тропе работает. Что скажешь, кто это с тобой?
- Дело есть, - досадливо цокнув языком, произнес Кендыри. - С властью
поговорить хотим... Вот из Яхбара прибежал человек, плохая жизнь там была...
Расскажи о себе, Шир-Мамат!
Шир-Мамат, низко кланяясь, причитая, со слезой в голосе, повторил
историю своих бедствий.
- Поговорить ему надо с властью, дело важное есть.
- Внизу, в селении, живет Худодод, - ответила Мариам, - он секретарь
сельсовета.
Кендыри глядел на своего спутника в тупом и долгом раздумье.
- Нет, - сказал он наконец. - Шо-Пира надо.
- А зачем надо? - спросила Мариам. - Может быть, я дам тебе совет?
- Нет, не женское дело... Ничего, Бахтиор вернется, я сам скажу... А
ты, Шир-Мамат, иди. Придешь в Волость, Шо-Пира увидишь там... Прости, Ниссо,
нарушили мы твой покой, прости, Мариам.
Пробормотав благословение пророку, оборванец ушел, оставив Кендыри на
террасе.
- Напуганный человек! - сказал Кендыри, смотря ему вслед. - Застанет ли
там Шо-Пира, как думаешь, товарищ Даулетова?
- Наверно, застанет. А о чем все-таки беспокоишься ты?
- Ни о чем, ни о чем... Если застанет Шо-Пира там, - ни о чем. Хороший
человек, очень хороший, себя не жалеет... Дай мне немножко муки, Ниссо, есть
нечего мне совсем.
Ниссо молча прошла в пристройку, вернулась с полной тюбетейкой муки.
Кендыри подставил ей полу своего халата, сказав: "Благословенна будет твоя
доброта!", и ушел, бережно зажимая рукой приношение.
- Странный человек этот Кендыри! - задумчиво произнесла Мариам.
- По-моему хороший, - ответила Ниссо. - А Шо-Пир не любит его... Живет
тихо, ничего плохого не делает, очень бедный... Не знаю, почему не любит его
Шо-Пир!..
- Да, да, да... Сто раз - да.
И тысячу раз!
Свободны и будем свободны!
А если сегодня пришла к нам беда,
То - ярче огонь неопущенных глаз,
Свободы огонь благородный!
Непокоримые
Весенний праздник приближался. Уже несколько дней подряд приходила
Ниссо на пустырь помогать Худододу, который в отсутствие Бахтиора взялся
подготовить к пахоте его участок. Мариам, оставаясь дома, перевешивала
посевное зерно и по списку рассчитывала, сколько надо дать каждому, чтобы не
было обид. Кроме того, в заботе о приеме гостей, ожидаемых сюда с караваном
Шо-Пира, Мариам приспосабливала для них пристройку. За лето будет построена
новая школа, в ней следует выделить комнату для амбулатории. Пока же
толстяку фельдшеру придется принимать больных у себя... Лавка купца вполне
годится для кооператива. Гюльриз с утра до вечера толкла в деревянной ступе
ядрышки абрикосовых косточек, сбивала масло, варила из тутовых ягод халву,
готовя к празднику обильные угощения.
О своем ночном свидании с Шо-Пиром Ниссо умолчала, и Гюльриз
по-прежнему была уверена, что в день праздника состоится торжественное
обручение. Мариам кое о чем догадывалась, но не спрашивала Ниссо. А Ниссо,
мучаясь сомнениями, с нетерпением ожидала возвращения Шо-Пира, который
должен все решить мудро и правильно.
Участок Бахтиора был самым дальним и примыкал к подножью осыпи. Поэтому
камней на нем было больше, чем на всех остальных.
Худодод и Ниссо неустанно таскали на себе камни, складывая их по краям
участка в высокие башенки. Маленькое поле Бахтиора с каждым днем становилось
ровнее.
Зная, что после прихода каравана у Бахтиора будет мало времени для
работы на участке, Худодод и Ниссо решили заранее сплести большую
корзину-волокушу. Такими волокушами ущельцы заравнивали пахоту после
распашки плугом и посева. Однажды утром, нарезав в крепости кустарник, Ниссо
возвращалась, сгибаясь под тяжестью огромной вязки. Навстречу ей по тропе
поднимался Науруз-бек. Ниссо не могла посторониться, а он не пожелал
уступить ей дорогу. Нахмуренный, мрачный, злобно смотря на девушку, он
толкнул ее локтем так резко, что Ниссо, потеряв равновесие, упала.
- Ты сумасшедший! - гневно крикнула Ниссо, вставая. - Зачем ты меня
толкнул?
Науруз-бек в бешенстве поднял кулак:
- Молчи, пока цела, нечисть! Мозоли на глазах у тех, кто глядит на
тебя! Думаешь. Всегда будешь воровать ханский кустарник? Погоди, скоро
прогуляются эти прутья по твоей спине!
- Опиума накурился ты, что ли! - дерзко ответила Ниссо. - Что ты
пристал ко мне?
- Уйди прочь, змея! - закричал Науруз-бек. - Не хочу плевать в глаза
один, скоро все плевать в глаза тебе будут! Слышишь? Уйди с дороги!
Науруз-бек нагнулся, поднял камень. Испуганная Ниссо отскочила, не
понимая, что происходит со стариком, - до сих пор он всегда проходил мимо
нее молча. Науруз-бек пошел вверх к крепости, а Ниссо с ненавистью глядела
ему вслед, пока он не вошел в башню Бобо-Калона. Затем медленно, все еще
думая о нанесенном ей оскорблении, собрала рассыпанные прутья.
- Не знаю, что с ним такое! - задумчиво сказал Худодод, когда уже
внизу, на участке, Ниссо рассказала ему о Науруз-беке. - Вчера Исоф тоже
вдруг без причины стал кричать на меня - тихим был до сих пор, тут так
кричал и ругался, что я ушел от него, как от одержимого. А другие сказали
мне, что перед тем он долго бил Саух-Богор, лежит она дома. Давно уже этого
не было... Еще один старик вчера в Зуайду швырнул камнем, чуть не разбил ей
голову. Не понимаю, что с ними? Свирепыми стали, как в старое время...
Наверное, потому, что нет Шо-Пира, не боятся меня. Вот придет Шо-Пир,
поговорит с ними иначе!
В эту ночь жители Сиатанга, - многие из них с пали уже на крышах, -
увидели высоко на горе, примерно там, где в прошлом году была посеяна богара
Бахтиора, - загадочный, долго пылавший костер. "Кто бы это мог быть? -
рассуждали между собою ущельцы. - Кажется, никто из селения на охоту не
уходил, да и где взял бы охотник столько ветвей для костра?" Никакой тропы в
этом месте нет, случайный путник, даже заблудившись, вряд ли мог забрести
туда... Кое-кто из ущельцев, всматриваясь в таинственный, мерцавший в высоте
огонь, даже подумал о дэвах...
Ниссо, Мариам и Гюльриз спали в доме и ничего о костре не знали. Но в
середине ночи они проснулись от далекого грохота барабанов.
- Что такое? - первая вскочила с постели Ниссо. - Мариам, проснись,
слышишь?
Мариам вскочила, прислушалась.
- Может быть, караван идет? - сказала Ниссо.
- Нет, какой караван! У каравана - колокольчики, а это барабаны.
- В разных местах они, это наверху где-то! - с недоумением проговорила
Ниссо. - Выйдем, посмотрим!
Обе девушки выбежали за дверь. Грохот барабанов в ночной тишине
раздавался все громче - монотонный, угрожающий. Ниссо и Мариам сразу увидели
мелькающие высоко в горах огоньки, - уже три костра поблескивали в разных
местах недоступных склонов.
- Мне страшно! - прошептала Ниссо. - Что это, Мариам?
- Сама не знаю, Ниссо, - таким же шепотом ответила Мариам, обняв за
плечи подругу. - Смотри, просыпаются люди!
Внизу, в селении, здесь и там замелькали огоньки. Тревога охватывала
Сиатанг, а барабаны продолжали рокотать, мерно и глухо дробя тишину звездной
ночи. Эхо этого рокота уже перекатывалось по склонам.
- И-и-и! - прорезал ночь далекий пронзительный крик.
- Ниссо, Мариам, где вы? - выбежав на террасу, тревожно прокричала
Гюльриз. - Идите сюда, что-то плохое будет!
- Мы здесь! Сейчас, - ответила Мариам.
Ничего еще не понимая, с занывшим от тревоги и страха сердцем, Мариам
забежала в пристройку, крикнула:
- Одевайся, Ниссо!
Быстро одевшись, сама извлекла из-под подушки наган, дрожащими пальцами
стала вставлять патроны... Выбежав из пристройки, девушки присоединились к
Гюльриз. Внизу, в селении, заполыхал большой костер, и отсюда видно было,
как мимо него пробегали маленькие черные фигурки людей.
В темноте под террасой послышался треск камней. Девушки шарахнулись от
человека, взбежавшего на террасу.
- Это я, Кендыри, не бойтесь меня!
- Стой, Кендыри! - крикнула Мариам. - Что происходит?
- Басмачи пришли! - сказал возбужденно Кендыри. - Басмачи... Азиз-хон
пришел, я прибежал сказать вам... Бежать тебе надо, Ниссо!
- Куда бежать? Что ты говоришь? Откуда знаешь? - испуганно проговорила
Гюльриз.
- Спокойными будьте! - произнес Кендыри. - Они еще далеко, время есть.
Там они, где их барабаны. Сверху идут. Я Худододу сказал, он собирает людей.
Теперь вам говорю. Шо-Пир скоро придет сюда. Они убьют его; и тебя, Ниссо,
убьют, если ты останешься здесь. Я бежать не могу, ногу ушиб. Надо навстречу
Шо-Пиру пойти. Бахтиор тоже где-нибудь там. Ниссо, а тебе надо спрятаться!
Все сказал! Вниз теперь пойду!
Одним духом высказав все это, Кендыри, хромая, сбежал с террасы.
- Постой, Кендыри, постой! - крикнула Мариам, но он уже исчез в
темноте.
Ошеломляющее известие так взволновало Ниссо, что в первую минуту она не
могла говорить.
- Что будем делать, Мариам? Что нам делать? - воскликнула Гюльриз. -
Бежать надо в горы, прятаться!
- Нет! - крикнула Ниссо. - Вы оставайтесь здесь, вам ничего не будет. Я
побегу, я одна побегу туда, Шо-Пиру надо сказать, убьют Шо-Пира!
- О, мой сын, мой сын! - заломила руки Гюльриз. - Что с ним будет!
- Не кричи, нана, - с неожиданным спокойствием произнесла Ниссо.
- Я тоже с тобой, - сказал Мариам.
- Нет, ты оставайся. По тропе нельзя бежать, схватить могут, надо по
скалам. Ты не можешь по скалам. И ты не можешь, Гюльриз. Оставайтесь здесь!
И, вырвавшись из рук Мариам, Ниссо спрыгнула с террасы и помчалась
бегом к гряде скал. Где-то в вышине раздался отрывистый резкий звук
ружейного выстрела. Громкое эхо перекатилось по склонам.
Едва Ниссо достигла гряды, из-за темной скалы на нее набросились три
человека. Прежде чем она успела крикнуть, один из них накинул ей на голову
мешок. Ниссо забилась, но ее повалили на камни. Еще два человека подбежали
сзади. Мгновенно скрученная веревками, Ниссо осталась лежать, как куль.
- Тихо! - прошептал на ухо одному из бандитов Кендыри. - Спрячьте ее, а
потом принесете в башню. Я пойду вниз.
Барабаны, неслыханные в Сиатанге со времен ханских войн, гремели с
назойливой, удручающей монотонностью, не приближаясь и не удаляясь. Над
долиной медленно всходила луна, освещая мечущихся по селению ущельцев.
Десятка три факиров с женами и детьми собрались во двор Худодода. Волнуясь,
крича, размахивая руками, они обсуждали, что делать. Их жены суетились,
успокаивая плачущих детей. Худодод бегал по домам, собирал оружие, но, кроме
четырех старинных фитильных ружей да десятка дедовских боевых луков, у
факиров не нашлось ничего. Они тащили во двор Худодода кирки, ломы и просто
палки. Все знали, что у стариков, приверженных к Установленному, можно было
бы собрать еще с полдюжины ружей, у Науруз-бека было даже ружье,
заряжающееся с казенной части, но когда Худодод с несколькими ущельцами
сунулся к старикам, - дома их оказались запертыми изнутри.
Худодод, полный отчаяния, прибежал к своему дому, но не нашел и
половины людей, только что наполнявших его двор.
Факиры, гонимые страхом, давя и обгоняя друг друга, уже бежали по
тропе, ведущей мимо крепости к Верхнему Пастбищу. Матери с детьми на руках
задыхались от бега.
Едва они миновали крепость, откуда-то сверху раздались частые выстрелы
из скорострельных винтовок. Пули защелкали по тропе. Факиры в смятении
ринулись обратно к селению. Только три молодых ущельца, вооруженных
фитильными ружьями, залегли на краю тропы. Они заметили в лунной мгле, на
скалах, мелькающие белые пятна и, раздвинув подпорки своих первобытных
ружей, послали вверх несколько пуль. Худодод присоединился к ним, но чуть не
был раздавлен трескучим каскадом посыпавшихся сверху камней. Обвал перекрыл
тропу, отрезал отступление. Поняв, что ничего уже предотвратить нельзя,
Худодод решил пробраться к Верхнему Пастбищу.
И пока факиры, схватив на руки детей, крича на своих голосящих в ужасе
женщин, бежали в селение, четверка отъединенных от них молодых ущельцев
ползла между скалами, пробираясь от тени к тени, стараясь укрыться от
цокающих по камням пуль. Когда, наконец, все четверо добрались до головы
канала, яростная стрельба прекратилась. Прижимаясь к отвесным скалам,
избегая освещенных луною мест, они прокрались до следующего мыса, за
которым, сжатая тесниной, река неслась навстречу, гремя сталкивающимися на
дне валунами. Лунный свет сюда не проникал. Тропа лезла вверх по отвесному
склону. Здесь не было никого.
И, поднимаясь по этой тропе, Худодод трезво обдумал план действий:
дождаться на Верхнем Пастбище наступления дня, затем подняться на
водораздельный хребет; найти среди льдов и снега спуск в соседнее,
параллельное сиатангскому ущелье Зархок; выйти этим ущельем к Большой Реке
и, встретив там идущий из Волости караван, предупредить об опасности.
Опрокинутые ружейным огнем и кинувшиеся назад факиры, вбежав в селение,
рассыпались по садам, прыгая через ограды, чтобы как можно скорее достичь
пустыря, пересечь его и устремиться вниз по ущельной тропе. Всем казалось
теперь, что басмачи явились не снизу, а от Верхнего Пастбища и с боковых гор
и что путь к Большой Реке чист.
В самом селении раздавались выстрелы. Одна из женщин упала, пробитая
пулей. Ее предсмертные крики неслись над долиной. Толпа уже разбегалась по
каменной россыпи пустыря, по залитым лунным светом новым участкам. Кто-то,
добежавший до первого мыса, перекрывая вопли отчаяния, детский плач и
проклятия, кричал: "Сюда, сюда, сюда, сюда!" И все кинулись на этот призыв.
Но едва рассеянная по пустырю толпа сомкнулась у мыса и узкой струйкой
потекла по ущельной тропе, как впереди послышались угрожающий свист и топот
несущихся навстречу коней.
Новый вопль отчаяния, умножаемый отзвуком скал, прозвучал над толпой,
повернувшей вспять. Давя друг друга, стремясь вырваться из проклятой
западни, люди уже ничего не соображали. Какой-то маленький мальчик сорвался
с тропы и с визгом полетел прямо в бурлящую реку. Вода сразу накрыла его.
Обезумевшая мать кричала: "Марод! О, Марод! Мой Марод!", - но толпа влекла
ее за собой, и ее вопли терялись в общей разноголосице.
Топот коней и угрожающий рев басмачей приближались. Едва факиры
выбрались с тропы на пустырь, мимо них, сверкая в лунном свете клинками
сабель, стреляя во все стороны на полном скаку, промчалась цепочка передовых
всадников. Полы их халатов развевались над крупами храпящих, взмыленных
лошадей. Устрашающий крик: "Уррур, уррур!" - и пронзительный свист сменили
вопль припавших за камни факиров, а в глубине ущелья, за мысом, раздались
медные переливы трубы.
Через несколько минут десятки рассвирепевших всадников носились по всем
переулкам селения, ударами плетей загоняя в дома всех, кто попадался на
дороге. Другие всадники выгоняли из-за камней замеченных ими факиров. Дети,
мужчины и женщины, подхлестываемые плетьми, закрывая руками головы, падали,
поднимались, бежали и снова падали, уже не крича, не прося пощады, а только
стремясь как можно скорее добраться до ближайшего дома... Несколько человек,
обессилев, остались лежать на камнях - избитые, окровавленные, раздавленные
копытами.
Немногим ущельцам все же удалось ускользнуть от басмачей незамеченными.
Они теперь ползли вверх, по осыпи, стараясь не выдать себя ни стуком камней,
ни словом, ни шорохом. Осыпь над ними вздымалась все круче, но они вразброд,
в одиночку, ползли все выше, сами не зная куда.
Вскоре грохот барабанов затих. Костры на вершинах погасли. Сиатанг был
всецело в руках басмачей. Оставив в селении только десятка полтора
всадников, которые теперь разъезжали по переулочкам спокойным и неторопливым
шагом, банда заняла крепость и расположилась в ней. Во дворе крепости
запылал огромный костер. Несколько басмачей суетились здесь, свежуя и
потроша приведенных из ближайших домов баранов, - уверенные в своей
безопасности, басмачи собрались перед ночлегом заняться едой.
Первым из жителей селения в крепость вошел Науруз-бек. Приветствуя
басмачей поднятыми руками и почтительно кланяясь, рыская глазами по
сумрачным лицам сидящих вокруг костра, он искал среди них Азиз-хона. Ни
самого Азиз-хона, ни его приближенных среди ворвавшихся в селение басмачей
пока еще не было, и на Науруз-бека никто не обращал внимания. Перестав
кланяться, беспокойно поглядывая по сторонам, Науруз-бек прошел к башне
Бобо-Калона, но, увидев перед дверью в башню двух стариков, положивших
винтовки поперек колен, не решился подойти к ним. Он отошел в сторону,
скрестив на животе руки, уселся на камень и, чувствуя на себе
подозрительные, недоброжелательные взгляды, замер, полузакрыв глаза и
стараясь всем своим видом показать, что он готов терпеливо и сколько угодно
ждать, пока кто-нибудь из басмачей сам заговорит с ним...
Утром, едва взошло солнце, крепость преобразилась. Басмачи готовились к
торжественному въезду в Сиатанг Азиз-хона и его приближенных. Двор крепости
был застлан коврами, кошмами и паласами, собранными со всего селения. Между
мельницей и новым каналом выросла большая, европейского типа палатка -
подарок ференги Азиз-хону, привезенный в Яхбар вместе с оружием. Над
палаткой развевалось зеленое знамя ислама, а скаты ее были завешаны узкими
персидскими ковриками. По углам высились четыре шеста, украшенные
метелочками из ячьих хвостов и шелковыми разноцветными тряпками. От палатки
до пролома в крепостной стене, где прежде были ворота, басмачи, расчистив
камни, выложили коврами дорожку.
Всем распоряжался тучный бородач в полосатом сине-красном халате,
затянутом широким поясом с серебряными украшениями. Шерстяную его шапочку,
подобную чулку с туго завернутыми краями, окручивала пышная черная чалма.
Это был риссалядар - начальник конного воинства. Широко расставив колени, он
сидел у входа в палатку и, гнусавя, отдавал короткие приказания.
Внутри палатки полулежал на подушках молчаливый и сосредоточенный
Бобо-Калон. Погруженный в раздумье, он, казалось, не интересовался ничем.
Еще ночью Кендыри очень спокойно предложил ему признать себя ханом и
встретить правителя Яхбара подобающим образом, ибо отказ нанесет гостю
тяжелое оскорбление. Оно вынудило бы Азиз-хона изгнать из селения всех
сиатангцев, увезти за Большую Реку и там раздать басмачам их дочерей и жен.
Бобо-Калон до рассвета раздумывал, а при первых лучах солнца сказал Кендыри:
"Да будет так: я хан!" Кендыри, ответив, что всегда верил в высокую мудрость
Бобо-Калона, перестал обращать на него внимание. Теперь, до приезда
Азиз-хона, старик мог думать, о чем ему было угодно.
Сам Кендыри, соорудив справа от палатки небольшой навес и наскоро
оборудовав свою незатейливую цирюльню, оборванный и, как всегда, грязный,
сидел теперь под навесом на камне и неторопливо подбривал бороды подходивших
по очереди басмачей. Казалось, ничто в мире, кроме работы по своей
специальности, его не интересовало; да и сами басмачи не догадывались,
почему риссалядар разрешил презренному сиатангскому брадобрею поставить
цирюльню вплотную к роскошной ханской палатке.
Десятка два басмачей с самого рассвета занялись подготовкой населения к
торжественной встрече. Во главе с Науруз-беком, которому был дан высокий
вороной конь, басмачи разъезжали по домам приверженцев Установленного и,
встречаемые низкими поклонами и благословениями, объясняли церемониал
встречи. Затем всадники устремились к домам факиров, угрозами и плетьми
выгоняли их из домов и сгоняли к бывшей лавке купца, - женщины должны были
взять с собой бубны, мужчины - двуструнки и деревянные дудочки... Толпа
факиров, окруженных всадниками, расположилась возле лавки в ожидании
дальнейших приказаний. На лицах некоторых факиров темнели багровые полосы.
Дети жались к ногам матерей, толпа молчала, и только изредка пробегал тихий
шепот, тотчас же привлекавший внимание настороженных всадников.
Снова появившись перед толпой, Науруз-бек велел всем при появлении хана
петь "радостными, тихими голосами", бить в бубны, играть на двуструнках,
свистеть в деревянные дудочки и возглашать хвалы благодетелю, явившемуся
спасти жителей Сиатанга от неверия и попрания Установленного. Все знали, что
после торжеств и отдыха Азиз-хона будет происходить суд над теми, кто "вел
народ по тропе разрушения Установленного", а потому никто не решился хоть
словом возразить Науруз-беку.
Когда с ущельной тропы вылетели карьером несколько новых всадников и,
промчавшись мимо толпы, устремились к крепости, там сразу же вновь забили
барабаны. Приверженцы Установленного вышли к пустырю и расположились рядами
вдоль тропы. Их жены и матери появились на крышах домов в чистых одеждах.
Басмачи, горяча коней, растянулись цепочкой от крепости до пустыря.
За мысом послышался протяжный и резкий звук медной трубы - Азиз-хон
приближался.
Едва группа торжествующих всадников гуськом выехала из-за мыса, над
крепостью раздались частые залпы ружейных выстрелов, барабанный бой
участился, над долиной поплыл густой, дробный, неумолкающий рокот бубнов, -
женщины на крышах поднимали их над головами. Науруз-бек и его сподручные
врезались на конях в толпу факиров, крича: "На колени, презренные! Пойте и
радуйтесь!" Толпа, подстегиваемая плетьми, повалилась на камни, нестройно и
тихо запела. Приверженцы Установленного, не глядя на толпу, прошли мимо нее
и, встав по обочинам тропы, пересекающей пустырь, воздели руки в молчаливом
приветствии.
Азиз-хон, окруженный своими людьми, медленно приближался. Он сидел на
белом тонконогом и легком коне, покрытом блестящим чепраком с серебряной
вышивкой. Хан был одет в зеленый просторный халат, расшитый золотыми
узорами. Под парадным халатом виднелся второй, исподний халат бухарского
шелка. Широкие бархатные шаровары были заправлены в мягкие красные сапоги с
необыкновенно высокими каблуками и угловатой подошвой. Голова Азиз-хона была
обмотана маленькой расшитой золотом зеленой чалмой. Весь этот пышный наряд,
надеваемый только в исключительных случаях, годами хранился в сундуке, но
кто посмел бы напомнить сейчас об этих годах неблагополучия хана? Он был так
же великолепен сейчас, как в былые времена своего могущества.
Одно только странное обстоятельство мешало сейчас торжественному
великолепию Азиз-хона: белая, запятнанная кровью повязка, проходя наискось
от левого уха, пересекала его лицо, закрывала щеку, половину припухшего рта
и весь подбородок. Правый, болезненно прищуренный глаз непрестанно
подергивался. Сохраняя надменный вид, Азиз-хон, наверно, терпел сильную
боль.
Смотря на него, сиатангцы стремились угадать, что именно могло так
повредить лицо хана? Проступающие сквозь повязку пятна крови были свежи,
значит, это случилось с ним недавно, пожалуй, уже после ночи...
Азиз-хон ехал спокойно, не глядя по сторонам, упиваясь собственным
величием и уготованной ему торжественной встречей. По левую руку своего
господина на большом сером коне восседал Зогар. Порочное и бледное лицо его
было полно высокомерия и жестокости. Зогар был в голубой безрукавке, надетой
поверх белой муслиновой рубашки, в красных штанах и в рыжих сапогах такого
же покроя, как у самого хана.
Следом ехали в белых сиатангских халатах два старика. Один из них,
красивый, дородный, поглядывал по сторонам маленькими хитрыми глазками, -
это был халифа, доверенное лицо бежавшего из Сиатанга пира. Другой, дико
осматривавшийся, худой и прямой как жердь, с важностью нес свою крашеную
бороду, седые волосы которой на вершок от корня были рыже-красного цвета.
Сиатангцы сразу узнали сеида Сафара-Али-Иззет-бека, двоюродного брата
Бобо-Калона, покинувшего Сиатанг два года назад.
За этими двумя стариками, охраняемые чернобородыми воинами, следовали
прочие дряхлые представители прежней сиатангской знати. В шепоте лежавших
вдоль тропы факиров слышались имена: сеид Мурсаль-и-Хосроу, мир
Масан-Шахзаде, мир Хаким-Шукрулло-Назар, сеид Фахр-Али...
Вереница всадников замыкалась караваном тяжело навьюченных ослов,
сопровождаемых десятком молодых, бедно одетых, вооруженных кремневыми
ружьями басмачей.
Толпа коленопреклоненных факиров выражала свою радость, видимо, слишком
сдержанно и нестройно, потому что вскоре послышались свист плетей и удары
палок. Женщины сильнее ударили в бубны, двуструнки запели громче, перекрывая
чьи-то сдерживаемые всхлипывания и плач. Никто из знати не глядел на
факиров.
Едва Азиз-хон проехал мимо лавки купца, самые старые приверженцы
Установленного низко склонились перед ним. Несколько стариков выступили
вперед, подбежали к коню Азиз-хона, один за другим, пригибаясь к стремени,
целовали его. Азиз-хон милостиво опустил правую руку, и старики,
приноравливая свой шаг к ходу коня, лобызали эту протянутую им руку.
Пропустив всю процессию, приверженцы Установленного двинулись за ней к
крепости. Барабаны и бубны неистовствовали. Воины, появившись на кромке
стены, приветствовали едущих поклонами и нечленораздельными возгласами.
В полуразрушенных воротах, там, где начиналась устланная коврами
дорожка, Азиз-хон задержал своего коня и внушительно поглядел на палатку.
Риссалядар, обеспокоенный повязкой, пересекавшей лицо Азиз-хона, поднял
полог палатки, и из нее вышел Бобо-Калон. Вышел, остановился, выпрямился,
глядя на пожаловавшего к нему высокого гостя. Строгий и молчаливый, в
сравнении с Азиз-хоном слишком бедно и просто одетый, Бобо-Калон не сделал
ни шага вперед. Всем на миг показалось: дружеская встреча не состоится. Но
Азиз-хон медленно спешился, отбросил повод и, стараясь изобразить
приветливую улыбку углом припухших губ, пошел по ковровой дорожке,
молитвенно сложив на груди руки. Бобо-Калон сложил руки так же и, опустив
глаза, пошел навстречу ему. Сойдясь на полпути, оба остановились. Азиз-хон,
преодолевая боль, пробормотал:
- Благословение верному! Счастливы глаза мои, видящие тебя, друг мой
Бобо!
- Милостив покровитель к нам, добрый Азиз!..
Протянув правые руки, они, по старинному обычаю, поцеловали один
другому пальцы. Затем оба откинулись и как бы залюбовались друг другом.
Повязка Азиз-хона мешала ему поцеловаться, но они все-таки обнялись и
прикоснулись щекой к щеке.
Сердечность их встречи была отмечена всеми. Сопровождавшие Азиз-хона,
спешившись и бросив поводья прислужникам, один за другим подходили к
Бобо-Калону, почтительно здоровались с ним.
Увидев Кендыри, скромно стоявшего под навесом цирюльни, Азиз-хон указал
пальцем на бритву и коротким жестом приказал Кендыри последовать за ним в
палатку.
- Что с тобой, мой дорогой хан? - тихо спросил Кендыри, когда полог
палатки опустился за ним. - Ты упал с коня?
- Нет... Так, маленькое дело одно! - опускаясь на подушку и избегая
объяснения, поморщился Азиз-хон. - Надо сбрить волосы, кровь у меня...
Кендыри быстро размотал окровавленную повязку, внимательно осмотрел
рваную рану и синюю опухоль, обезобразившие лицо хана.
- Зубы повреждены?
- Да. Три зуба выбиты.
- Нехорошо это! - Кендыри выглянул за полог палатки, негромко сказал: -
Чистой воды светлому хану и шелковую чалму!
Зогар внес воду, снял со своей головы чалму и удалился.
Кендыри промыл рану, сбрил волосы вокруг нее и, разорвав по длине
чалму, стал перевязывать лицо хана.
- Она здесь? - тихо спросил Азиз-хон.
- Здесь, в башне. Здорова, - коротко ответил Кендыри.
- Спасибо. Другое все хорошо?
- Все прекрасно. Можешь, мой дорогой хан, отдыхать. Тебе дня три не
следует разговаривать и воздержись от жесткой еды.
Азиз-хон встал, вышел из палатки. Кендыри, почтительно согнувшись,
юркнул в свою цирюльню. - Угощения сюда! - повелительно сказал риссалядар, и
под звон и уханье дикой музыки повара внесли в круг расположившихся на ковре
гостей огромное, в полтора метра длиной, деревянное блюдо с дымящимся
пловом. Другие принесли на плечах большие бурдюки с прохладительным питьем
из кислого молока, смешанного с водой и сбитого в бурдюке вместе с маслом.
Зогар вернулся с перекинутым через руку белым, расшитым золотыми
цветами халатом и молча передал его Азиз-хону. Коснувшись плеча Бобо-Калона,
Азиз-хон встал и, морщась от боли, обратился к нему:
- Другу моему, брату моему по истинной вере, сиатангскому хану
Бобо-Измаил-Каландар-Калону да не покажется слишком бедным мой скромный
подарок! Почет от всех нас тебе, мудрый и достойный Бобо-Калон!
Бобо-Калон встал и еще раз обнял Азиз-хона, накинувшего на его плечи
халат. Затем глубоким поклоном ответил на поклоны всех вставших при этой
церемонии гостей. Он не произнес в ответ ни одного слова, только приложил ко
рту сдвинутые лодочкою ладони, будто шепча в них что-то, предназначенное
одному Азиз-хону.
Все снова расселись на ковре. Пиршество началось.
После того как Ниссо выбежала из дому и была схвачена басмачами,
Мариам, ничего не знавшая об ее судьбе, бросилась в комнату Шо-Пира, вынула
из его стола немногочисленные бумаги сельсовета, побежала с ними в сад,
торопливо спрятала их под камнями и вернулась к Гюльриз. Обе они сначала
хотели бежать в селение, чтоб присоединиться к Худододу и быть со всеми, но,
услышав где-то около крепости частую стрельбу и крики бегущих факиров,
Мариам поняла, что факиры уже покинули селение и, вероятно, пробились на
тропу, ведущую к Верхнему Пастбищу. Гюльриз советовала Мариам бежать.
- Я старая, кто меня тронет? Если придут сюда, Ниссо здесь нет и никого
нет. Они придут и уйдут. Что им здесь делать? А ты беги, спрячься среди
камней - от камня к камню, тихонько, иди отсюда подальше...
Будь Мариам опытней, она, конечно, приняла бы этот разумный совет. Но
она заявила, что в доме - зерно, она будет его охранять и что нельзя
оставить Гюльриз одну. И сурово сказала еще, что будет стрелять, если
басмачи придут сюда. Ведь они не знают, кто здесь стреляет: женщина, или
мужчина, или, может быть, несколько человек, - вот, у нее больше сотни
патронов: всходит луна, скоро можно будет увидеть каждого, кто попытается
приблизиться к дому. До утра продержится, а утром басмачи уйдут...
Мариам помнила дерзкие и всегда короткие ночные налеты басмачей в тех
краях, откуда приехала сюда, - налеты, происходившие несколько лет назад...
Но Мариам забыла, что там басмачи всегда боялись быстрого приближения
красноармейцев, а здесь опасаться было некого...
Оставив Гюльриз в доме, Мариам вбежала в пристройку, принялась ворочать
мешки с зерном, наваливала их к двери и к единственному окну. Но она не
успела кончить эту работу: в саду внезапно появилась орава всадников. Мариам
притаилась за мешками, надеясь, что всадники проскачут дальше. Но они,
вооруженные саблями и винтовками, подскочив к террасе, остановились,
ругаясь.
- Э, презренные! - закричал один. - Выходите все, кто здесь есть!
Другие спрыгнули с коней, держа винтовки наперевес, кинулась в дом.
Мариам услышала голос Гюльриз: "Никого, никого здесь нет, одна я, старуха!",
затем какую-то возню, ругань, короткий пронзительный крик Гюльриз, треск
ломаемой двери... Тогда, не вытерпев и уже не думая о себе, Мариам
прицелилась из нагана и выстрелила в одного из сидевших на лошади басмачей.
Вскрикнув, он схватился за левый бок, отчаянно выругался, склонился, сполз с
лошади. Оставив его, вся орава мгновенно рассыпалась в разные стороны и
исчезла. Мариам подумала, что басмачи не вернутся, но услышала крадущиеся по
крыше дома шаги и тихие голоса, - там обсуждали: откуда мог произойти
выстрел? Раненный в бок басмач, лежа перед террасой, стонал. Стараясь
освободиться от повода, запутавшегося на его руке, лошадь мотала головой.
Пока басмачи обшаривали дом, Мариам лежала не двигаясь среди туго
набитых зерном мешков. Ей было жарко, она утирала ладонью потный лоб.
Тоскливое ощущение отчаяния и страха томило ее. Ей хотелось куда-нибудь
уползти, стать невидимой. Но скрыться было некуда: если б она выбежала во
двор, то, конечно, сразу была бы поймана. Преодолевая страх, закусив до боли
губы, она решила защищаться до конца.
Обогнув пристройку, несколько басмачей подползли к дверям и к окну.
Направив винтовку в щели между мешками и притолокой, басмачи дали несколько
выстрелов. На Мариам с потолка посыпалась глина. Сунув руку с наганом в
щель, Мариам ждала. На мешок легла чья-то рука. Мариам сразу же нажала
спусковой крючок. С пробитой насквозь рукой, разразившись проклятиями,
басмач откатился в сторону. Град ответных выстрелов оглушил Мариам.
Выпущенные в упор басмаческие пули, взрезая мешки, застревали в зерне,
другие с коротким свистом прошли под потолком, но ни одна из них не задела
Мариам.
Уже не помня себя, она выпускала пулю за пулей туда, где, по ее
предположению, стояли приникшие к стене басмачи, и вдруг почувствовала, что
наган дал осечку. Покрутив барабан, убедилась, что все гильзы пусты.
Дрожащими пальцами Мариам разорвала картонную коробочку с запасными
патронами. Попробовала ногтями извлечь из барабана пустые гильзы, но они не
поддавались. Стала выталкивать их маленьким шомполом...
Не слыша стрельбы, басмачи тоже перестали стрелять. В нетерпеливом
волнении Мариам выталкивала из барабана гильзу за гильзой, ни на что больше
не обращая внимания. Если бы она взглянула наверх, она увидела бы голову
басмача, который по крыше подполз к дымовому отверстию; он соскользнул на
мешки, легким прыжком кинулся на Мариам. Схваченная сзади за шею, Мариам
беспомощно забилась, стараясь освободиться, изо всей силы сжимая теперь уже
бесполезный наган. Но басмач так сдавил ее горло, что она захрипела, руки ее
бессильно упали, и, выронив наган, она потеряла сознание.
- Э! Не стреляй сюда! Я схватил ее! Больше никого нет! - прокричал
басмач, отваливая мешки.
...Если бы эти басмачи не приняли Мариам за Ниссо, которая могла быть в
этом доме, они, конечно, тут же убили бы ее. Но радуясь, что нашли и забрали
беглую жену Азиз-хона, рассчитывая на хорошую награду, они ограничились
проклятиями да несколькими ударами плетей по телу лежащей перед ними
женщины.
Убедившись, что в доме никого больше нет, оставив лежать на террасе
сшибленную ударом кулака в грудь Гюльриз, басмачи положили Мариам поперек
седла, привязали ее, подошли к лежащему под террасой, давно умолкшему
басмачу, перевернули его, ощупали. Он был мертв. Коротко переговариваясь,
взяли труп на другое седло, вскочили на лошадей и шагом тронулись вниз, в
селение. Раненый басмач, обмотав руку сорванной с головы чалмой, ехал
позади, издавая короткие стоны и вполголоса бормоча проклятия.
Мариам очнулась в башне Бобо-Калона, не понимая, ни где она, ни что с
ней. Руки и ноги ее были связаны, тело жгла нестерпимая боль. Мариам
застонала. В затуманенное сознание проник повторяющий ее имя голос Ниссо.
Все громче, все настойчивей Ниссо твердила:
- Мариам... Мариам...
- Я тут, Ниссо, - через силу произнесла Мариам. - Где мы?
- В башне, Мариам... В крепости... Ты уже давно здесь. Без памяти была?
- Наверно.
- А кости у тебя целы?
- Кажется, да. Я стреляла. Убила одного или двух.
- Ты тоже связана?
- Да... Тебя избили?
- Нет, мешок на голову, - сразу как выбежала... Держали в камнях, потом
сюда... А нана жива?
- Не знаю. Закричала, упала... Ты можешь ко мне подползти?
- Попробую.
Ниссо сделала усилие, перекатилась, легла рядом с Мариам.
- Давай я веревки твои перегрызу. Хорошо?
- Хорошо.
Ниссо, изворачиваясь, коснулась лицом руки Мариам.
- Повернись на бок, можешь?
Мариам тяжело повернулась, застонала.
- Больно тебе?
- Очень...
- Ты мокрая... Ты в крови?
- Может быть... Так удобно тебе? Грызи!
Ниссо нашла зубами веревку, связывающую руки Мариам. Отплевываясь,
тяжело дыша, отдыхая, она, наконец, перегрызла узел, и Мариам со стоном
развела занемевшие руки.
- Тут змеи, - сказала Ниссо. - Когда ты лежала, как мертвая, одна по
лицу моему проползла. Но не укусила меня. Теперь попробуй ты развязать мои
руки. Вот они, на!.. Тебе больно опять?
- Ничего... повернись так, чтоб я достала. Вот так!
Мариам довольно легко развязала узел шерстяной веревки. Освободив руки,
Ниссо нащупала пальцами тело и лицо Мариам.
- Длинные ссадины. Вздулись. Плетьми тебя, да?
- Наверно. Не помню я... Слышишь? Барабаны тут рядом теперь... Что мы
сделаем, если сюда войдут?
- Не знаю. Как ты думаешь, они нас убьют? Наверно, убьют.
- Меня убьют, я стреляла... Тебя Азиз-хон, наверно, к себе возьмет. Ты
его видела?
- Не видела... Я не дамся. Пусть меня тоже убьют!
- А если они нас будут сначала мучить?..
Развязывая узлы на ногах Мариам, Ниссо долго молчала. Веревки с ног
Мариам спали. Ниссо занялась развязыванием своих. Мариам попробовала сесть,
но, застонав, откинулась на спину.
- Я не хочу, чтоб они меня трогали, - сказала Ниссо.
- А что сделаем мы?
- Знаешь, что?.. Лучше мы сами друг друга убьем... Они войдут, а мы уже
мертвые... Вот! Не будут нас мучить... Мне умереть не страшно.
- Мне тоже не страшно.
- А может быть, сначала попробуем убежать?
Мариам промолчала. Она знала, что не может двигаться. Потом сказала: -
Пощупай стены!
Ниссо поползла к стене, встала, шаря в темноте по неровным камням сухой
кладки. Обошла кругом всю стену, приблизилась к двери. За дверью слышались
мужские голоса. Ниссо прислушалась. Касаясь стены, тихо вернулась к Мариам:
- Нет, Мариам. Убежать нельзя... Знаешь... Мне очень хочется жить!
- И мне тоже... Вот не думала никогда, что так будем!
- Я тоже не думала... А как мы можем друг друга убить? Если я возьму
камень - может быть, из стены выворочу его - и ударю тебя... Нет, Мариам, я
не могу тебя убивать... Может быть, ты меня можешь?
Мариам ничего не ответила. Обе долго молчали.
- Знаешь что, Мариам?.. Я хочу тебе сказать. Теперь можно сказать... Я
люблю Шо-Пира... Как ты думаешь, что будет с ним? Убьют его тоже?
- Не знаю, Ниссо... Может быть, он спасется.
- Он сильный. Если на него нападут, он многих сначала убьет... Я его
люблю...
- Я знаю, Ниссо. Я догадывалась... А он тебя?
- Он меня?.. Он... теперь скажу тебе, - он тоже! Он сам сказал мне.
Ночью, тогда, когда он ушел, я к нему прибежала... Там, на тропе...
- Там, на тропе, Бахтиор, Карашир и другие, - задумчиво произнесла
Мариам. - Неужели их всех убили?
Снова наступило молчание.
- Я думала, я буду счастливой, - сидя рядом с подругой, промолвила
Ниссо. - Я уже, знаешь, почти счастливой была...
- А что бы ты делала, если б не это?
- О! Я много бы делала! - горячо воскликнула Ниссо. - я бы замуж пошла
за Шо-Пира. Я бы сказала ему: поедем в Волость, потом дальше, еще дальше...
В Москву... Все увидела бы, узнала, как большие люди живут. Я училась бы
там... как добиться, чтоб в мире не было больше черных душ. Я... я не знаю,
что я бы сделала, только очень много хорошего!
- А тебе Бахтиора не жалко?
- Если б не это?
- Да, если бы не это...
- Ничего, он другую невесту нашел бы... Он хороший... А теперь...
Мариам мне страшно!
- Да, Ниссо. Это, наверно, конец... Если я умру, а ты будешь жива...
Мало ли что бывает, вдруг ты будешь жива...
- Нет, я не буду жива.
- Я говорю: если... Если ты будешь жива, ты никогда обо мне не
забудешь?
- Никогда, Мариам...
- Тогда ты поезжай в Уро-Тепа, пойди в райком комсомола. Там есть один
человек. Мухамеджанов Ирмат. Черные глаза у него, волосы черные... Скажи
ему, как я умерла... И еще скажи, - голос Мариам зазвучал совсем тихо, -
скажи: я любила его... Скажешь?
- Почему ты так говоришь, Мариам? Меня тоже убьют...
- Может быть, Ниссо, может быть... А если нет - скажешь?
- Если нет, скажу... Мариам, что нам делать сейчас? Ты не можешь
встать? Тебе все еще больно?
- Больно.
- Где?
- Везде, Ниссо... Голова, грудь, живот...
- Проклятые псы, что они с тобой сделали! Если б я только могла убить
Азиз-хона... А если мы сразу откроем дверь и вдруг выбежим? Пусть драка,
пусть нас сразу убьют, так лучше...
- Конечно, лучше... Поцелуй меня, и я попробую встать!
Ниссо осторожно обняла подругу, прижалась к ее губам, отодвинулась и,
ощутив на своих пальцах ее липкую кровь, обтерла руки о платье.
- Вставай, я помогу тебе...
Мариам, сдерживая стон, встала на колени, затем, с помощью Ниссо, на
ноги.
- Я сразу кинусь на дверь, а когда дверь откроется, ты выбегай, хорошо?
- Хорошо... Давай поцелуемся еще раз.
Подруги обнялись.
- Я... я... Знаешь, Мариам? Солнце хотела я еще раз увидеть! Ну, пусть
так, ничего. Стоишь?
- Стою!
Ниссо отошла в глубину помещения, разбежалась, ударилась в дверь. Дверь
сразу распахнулась. Ниссо выскочила из башни. Мариам сделала шаг, упала...
С криком: "Э-э! Держи!" - два сидевших за дверьми басмача кинулись к
Ниссо. Она опрометью помчалась дальше. Впереди пылал огромный костер,
окруженный сидящими басмачами. Басмачи сразу вскочили, схваченная ими Ниссо
забилась, царапаясь, кусаясь, стараясь вырвать у кого-нибудь из них нож...
Держа Ниссо за руки, за плечи, за горло, ворча в ярости и ругаясь
вполголоса басмачи мгновенно скрутили ее и, обмотав всю веревками, поволокли
к башне. Другие втащили в башню накрепко связанную Мариам.
Дверь захлопнулась. В башне стало темно. Лежа ничком на каменном полу,
Ниссо плакала. Мариам опять была без сознания и чуть-чуть стонала.
Полдня продолжалось пиршество. Несколько раз Азиз-хон посылал гонцов к
выходам из долины, - туда, где стояли дозорные. Гонцы возвращались и
сообщали, что ничего нового нет. По ущельной тропе вниз и вверх разъезжали
патрульные.
От одного к другому передавалась весть о местонахождении каравана.
Караван уже подходил к устью реки Сиатанг, во второй половине дня должен был
вступить в ущелье и остановиться на ночь на той единственной площадке, где в
реку впадал маленький приток.
Прийти в селение караван мог поздним утром следующего дня. Гонцы
сообщили Азиз-хону: караван состоит из тридцати вьючных лошадей и тридцати
девяти ослов, с Шо-Пиром идут еще двое русских - один маленький, тощий,
другой толстый и большой, все время подсаживающийся то на лошадь, то на
осла; у каждого из русских есть ружья, и еще одно ружье есть у главного
караванщика. Девять других караванщиков безоружны. В караване никто ни о чем
не подозревает.
Получив эти сведения, Азиз-хон приказал риссалядару с наступлением ночи
поставить в ущелье засаду.
Пиршество кончилось. Басмачи насытились жирной пищей. Азиз-хон объявил,
что всем надо поспать, ибо большие дела нельзя решать, не отдохнув
хорошенько с дороги. Самые почетные люди расположились в палатке на
принесенных из селения подушках и одеялах. Остальные басмачи, кроме
дозорных, разлеглись спасть на кошмах и на коврах, а то и просто на камнях
под стенами. День был тихий и солнечный, небо безоблачно, беспокоиться было
не о чем, и скоро в крепости послышался мирный храп десятков басмачей.
Левый глаз Азиз-хона совсем заплыл. Азиз-хон надвинул на него край
повязки хотел было тоже лечь спать, но решил сначала взглянуть на Ниссо.
Вышел из палатки, медленно пересек двор, не обращая внимания на басмачей,
торопливо вскочивших на ноги, чтоб дать дорогу своему хану: они почтительно
склонились, один услужливо распахнул дверь, - солнечный свет ворвался в
помещение башни. Азиз-хон остановился на пороге, увидел Мариам и Ниссо,
лежащих рядом и обмотанных веревками от шеи до ног. Обе девушки зажмурились
от яркого света.
Азиз-хон молча смотрел на Ниссо одним прищуренным, немигающим глазом.
Не поднимая головы, сжав губы, Ниссо встретила взгляд Азиз-хона, и он,
разглядывая девушку, лежащую перед ним, не мог понять, есть ли в ее глазах
страх, - они горели лихорадочным блеском. На груди, на боку, у бедра платье
Ниссо было разорвано. Заметив синие рубцы под веревками, Азиз-хон пожевал
губами, обернулся к часовому и негромко сказал:
- Развяжешь ее, принесешь воду и плов!
Часовой услужливо поклонился и побежал и риссалядару. Не взглянув на
Мариам, Азиз-хон повернулся, вышел из башни, и второй часовой сразу же
закрыл дверь. Медленной поступью направляясь к палатке, Азиз-хон
сосредоточенно думал. Он все еще не решил, как поступить с Ниссо. Он думал о
том, что всего правильнее было бы ее убить, и не просто убить, а долго и
мучительно истязать, но что это успеется, а сначала он все-таки ею
потешится, пока ему не надоест. И если она перед всем народом покается и
станет молить о милости, - может быть, он и увезет ее к себе. Но там он
прикажет вырыть для нее яму, чтоб только один солнечный луч проникал сквозь
щель крышки, на которую навалят камней; девчонка будет жить в этой яме и
думать только о нем, и плакать, и молить о пощаде или о смерти, и пусть это
длится годами, пока он не умрет. Конечно, женой его ей уже не быть, она
опозорила его, и этого простить нельзя, но пусть все Высокие Горы знают, как
он наказал ее, даровав ей жизнь, пусть все почитают его и устрашаются.
Но сначала ее надо судить, судить перед всеми и добиться ее покаяния -
угрозами, страхом, чем угодно добиться, чтоб видели все, что он милостив,
даруя ей жизнь.
Войдя в палатку, в круг спящих стариков, Азиз-хон лег на приготовленное
для него ватное одеяло, но, единственный из всех, так и не мог заснуть.
Пролежав в раздумье часа два и раздражаясь от боли, причиняемой раной,
Азиз-хон толкнул ногой спящего рядом Зогара и, когда тот поднял голову и
лениво протер глаза, произнес:
- Скажи риссалядару, пусть зовет сюда весь народ. Решать дела будем!
Настал час, когда сиатангцы и Азиз-хон со всем его воинством
встретились лицом к лицу. Величественный, в пышных одеждах, скрестив ноги и
сложив на животе руки, Азиз-хон восседал на груде подушек перед своей
палаткой. По левую его руку небрежно развалился, поджав бескровные губы,
Зогар - единственный юноша среди стариков. Справа от Азиз-хона в глубокой
задумчивости сидел прямой и строгий Бобо-Калон. Он был в дарственном ханском
халате, расшитом по вороту золотом и серебром. Вся остальная знать вместе с
вернувшимися мирами и сеидами расположилась на коврах тесным полукругом. За
ними и по концам полукруга сидели и стояли с винтовками воины риссалядара.
Напротив, вдоль крепостной стены, молчаливо теснились жители Сиатанга;
впереди, на паласах и на коврах, - приверженцы Установленного, за ними, на
камнях, нарушители древних законов - факиры с женами и матерями. Басмачи
согнали их всех поголовно, в селении остались только дети да те избитые
накануне ущельцы, которые не могли ходить.
Десять воинов расхаживали по крепостной стене, держа наготове винтовки
и следя за ущельцами.
Середина крепостного двора оставалась пустой, и только в самом центре
его, на большом квадратном ковре, разложив перед собою свитки рыжеватой
бумаги, сидели халифа, Мирзо-Хур, Науруз-бек и риссалядар.
Под правым скатом палатки, в своей цирюльне, отдельно от всех пребывал
в невозмутимом спокойствии Кендыри, и никто не обращал на него внимания. С
холодным интересом постороннего наблюдателя оценивая происходящее, Кендыри
подумал, что важностью приготовлений к предстоящим церемониям Азиз-хон хочет
поразить воображение сиатангцев.
Среди факиров были Зуайда, Рыбья Кость и Гюльриз. Голова Гюльриз была
обмотана белой тряпкой, под ввалившимися глазами набухли тяжелые синяки. Она
до сих пор ничего не знала о Бахтиоре и, хотя верила, что он жив, не могла
избавиться от мучительной тревоги.
В глубине двора, вдоль канала, на длинной коновязи стояли расседланные
лошади басмачей. Несколько коноводов, расхаживая вдоль натянутого аркана,
подсыпали лошадям прямо на камни зерно, - то заветное, хранимое ущельцами
всю долгую зиму посевное зерно, которое на рассвете было перевезено
басмачами из разграбленного дома Бахтиора. Еще не тронутые мешки его
навалены высокой кучей над стеной мельницы, превращенной басмачами в ханскую
кухню. Перед мельницей валялись требуха, копыта и окровавленные шкуры
зарезанных ханскими поварами овец и баранов...
Ущельцы угрюмо смотрят на остатки своего скота, на рассыпанное зерно,
из-за которого целый год было столько споров и разговоров. Уцелевший скот
ущельцев согнан в старый загон выше крепости, но ущельцы понимают: ни одной
кровы, овцы и козы им уже не вернуть. Каждый из факиров думает теперь о том,
что напрасно было так скупиться в еде, так выхаживать самого маленького
козленка, беречь малую горсть зерна. Лучше было бы не голодать всю эту
тяжелую зиму, лучше было бы самим съесть все это, чем видеть, как их
богатство в один день уничтожается ненасытной оравой насильников... Каждый
из факиров вспоминает сейчас свой тяжелый многолетний труд, свои разговоры с
Шо-Пиром и Бахтиором, и ссоры в семье, и рухнувшие надежды на большой
урожай, на спокойную - наконец-то сытную - жизнь... В один день, подобный
внезапному урагану, все пошло прахом. Больше надеяться не на что. Прежняя
жестокая жизнь вернулась. Вот сидят перед факирами бежавшие от них сеиды и
миры, которые ничего не простят им, ничего не забудут, мстительности которых
не будет конца...
Перешептываться больше не о чем. Факиры думают одну думу, поглядывают
на винтовки воинов и молчат. И даже многие приверженцы Установленного
спрашивают себя: станут ли они жить лучше? Зерно и скот, вся утварь, все
имущество уже взяты из их домов воинами и, нет сомнения, возвращены не
будут!
Последователи Бобо-Калона всегда считали его справедливым и мудрым,
знали, что он не любит чужих людей, но почему он сидит сейчас по правую руку
Азиз-хона в подаренном ему дорогом халате? Почему молчит и спокойно смотрит
на все нанесенные ущельцам обиды, на расхищение, на все это беззаконие,
творящееся вокруг? Неужели же этот старец, нищавший на их глазах,
единственный из всех знатных людей не захотевший покинуть Сиатанг, таил в
себе жажду мести? И вот теперь, когда час мести пробил, он торжествует так
же, как все сеиды и миры, как сам, презирающий сиатангцев, по-прежнему
могущественный Азиз-хон? О чем пойдет разговор сейчас? Зачем плетьми и
угрозами согнаны сюда все ущельцы? Каких повелений им надобно ждать? К какой
расплате готовиться?..
Тишина. Только среди шепчущихся воинов слышен сдержанный смех. Чего еще
ждет Азиз-хон?
По стене к покосившейся древней башне пробираются два басмача с кругами
тонкой и крепкой шерстяной веревки. По выступам камней, помогая друг другу,
они карабкаются на башню. Взоры всех ущельцев обращаются к ним, - зачем они
лезут на башню? Что будут делать там? Все выше, с камня на камень, - вот они
уже на верхней площадке, разматывают веревку, возятся там... Кое-кто из
факиров уже начинает догадываться, но еще никто себе верить не хочет...
Вдруг две длинные веревки, развившись, падают с башни, с той стороны, в
какую башня наклонена. Немного не достигнув земли, концы веревок повисли в
воздухе. Третий басмач подходит к основанию башни, хватается за концы
веревок, неторопливо скручивает их в петли. Те двое, наверху, подтягивают их
повыше, - теперь от петель до земли примерно полтора человеческих роста. И
все сразу понятно ущельцам, и шепот волной бежит по испуганной толпе, и у
каждого мысль: "Кого?.." И снова напряженная тишина.
Петли покачиваются. Два басмача наверху разлеглись на тесной площадке,
лениво наблюдают за всем, что происходит внизу, посмеиваясь,
переговариваются.
Неожиданно начинает говорить сидящий в центре двора халифа. Все сразу
поворачиваются к нему. Откинув назад бородатую голову, халифа слегка
закатывает глаза, - вот, мол, я, посланец неба, и само небо ниспосылает
произносимые мною слова.
- Благословен покровитель! Пять раз благословен покровитель! - медленно
тянет он. - Да будет неприкосновенной святость божества, разлитого в душах
творений! От земли и до неба, от праха до солнца, от безглазого стебля до
тайны великого разума прославим, верные, непостижимую волю его!.. И да
обрушится гнев его на неверных, отступников от вечных законов его!.. Ветер
неразумия промчался по нашей земле, неся с собой греховное облако. Но снова
видны звезды и светит луна: я вижу ваши просиявшие души. Возблагодарим же
могущественного владетеля и поборника истинной веры, прославленного в
Высоких Горах Азиз-хона и всех воинов истины за то, что прогнали они
вставшее над вашими душами облако! Ночью случилось это, и все вы видите -
новым светом сияет благословенный день! Счастье вновь касается вас... Вновь
тверды и незыблемы великие достоинства Установленного, еще вчера
попиравшиеся неверными, да опустится на них карающая рука покровителя! По
закону истины, вы, простые, немудрые люди, освобождены от молитв, ибо только
посвященный удостаивается общения с непостижимыми силами. По закону истины,
за всех вас молится только обладающий словами святости, пир, а вы лишь
несете ему десятую долю ваших урожаев и ваших доходов. Каждый год, в прежние
времена, получал я от вас эту священную подать и нес ее пиру. Четыре года
суждено было мне не ступать на тропу, ведущую в Сиатанг, и за четыре года
множество грехов накопилось здесь... Но пир молится за вас, отдавая носителю
живой души бога вместо вашей подати часть своего имущества. Да будет
прославлена доброта пира! Но сегодня настал час, когда все, что отдано
пиром, вы добровольно отдадите ему, ибо кто захочет навлечь на себя гнев
покровителя, когда пир перестанет возносить ему молитвы за вас? За четыре
прошедших года и за один год вперед вы все отдадите сразу - половину
имущества каждый. Бог милостив, оставшаяся у вас половина да разрастется во
много раз, вы станете богатыми и счастливыми! У кого нет зерна - отдаст
скот. У кого нет скота - отдаст халаты и шкуры. Разве вы сами не знаете, что
вам достойней всего отдать? Так ли, верные, спрашиваю я вас? Благословит
покровитель вас, отвечайте!
Сощурив устремленные на толпу ущельцев глаза, халифа благоговейно
коснулся своей бороды и умолк...
Даже приверженцы Установленного, опустив головы, хранили молчание.
- Отвечайте! - блеснув маленькими глазками, повторил халифа.
Никто, однако, не решался нарушить молчание. Исоф исподлобья взглянул
на рассыпанное перед лошадиными мордами зерно, на ковры, украшающие палатку,
на требуху возле мельницы и шумно, протяжно вздохнул...
- Ты хочешь что-то сказать? - быстро обратился к нему халифа. - Как
твое имя, мужчина?
- Зачем тебе мое имя? Ничего не хочу сказать!
- Разве тебе сказать нечего? - вызывающе произнес халифа. - Разве ты не
считаешь великим для себя счастьем отдать половину твоих богатств носителю
живой души бога?
- Нет у меня богатств, - проговорил Исоф, - воины истины уже взяли моих
овец.
- Разве ты не сам отдал их на угощение хана?
- Взяли! - упрямо ответил Исоф. - Ковер тоже взяли, вот - висит на
палатке. Посуду взяли. Больше нет ничего...
- Скажи, - вкрадчиво произнес халифа, - у тебя жена есть?
Исоф понял, к чему клонится вопрос, и промолчал. Халифа наклонился к
купцу, Мирзо-Хур что-то прошептал, и халифа, кивнув головой, продолжал:
- Ты молчишь? Вижу я - след греховного облака еще на твоей душе!
Ничего, я скажу сам. Разве твоя жена Саух-Богор - не богатство твое? Скажи,
Исоф, где твоя жена?
- Не знаю, достойный! - помрачнел Исоф. - Я верен Установленному, и
жена моя тоже верна. Но сегодня ночью она убежала в горы. Когда воины истины
пришли и было темно, не знала она, кто пришел, испугалась, убежала...
Халифа очень тихо спросил риссалядара:
- Разве кто-нибудь убежал?
- Врут они, достойный! - скрыв злобу зевком, так же тихо ответил
риссалядар; ему не хотелось признаться, что "воины истины" отказались
взбираться за беглецами по склону осыпи.
- Хорошо! - объявил халифа. - С тобой, Исоф, мы еще поговорим после...
Я вижу - другие молчат, я знаю, когда радость приходит, комок в горле бывает
от радости, сразу трудно найти слова... Сегодня вечером вы, верные, начнете
носить свои приношения сюда... Да благословит вас покровитель! С вами хочет
поговорить почтенный купец Мирзо-Хур.
Все было понятно и так. И ущельцы продолжали молчать, когда, водя по
бумаге пальцем, Мирзо-Хур занялся перечислением всех накопленных сиатангцами
долгов: называя ущельцев по именам, он долго читал длинный список, в котором
были отмечены каждая горсть тутовых ягод, щепотки сухих растительных красок,
иголка, каждая мелочь... И чем дальше читал он, тем безразличней становились
лица ущельцев: чтоб отдать халифа и купцу все, что они требовали, факиру не
хватило бы труда целой жизни...
Но когда после купца, встав во весь рост, заговорил судья Науруз-бек и
объявил, что, по закону верных, должники и растратчики своего имущества
должны продать дочерей и жен, - глухой ропот поднялся в толпе ущельцев "Нет
такого закона!" - закричали они. - Давно уже нет!"
Женский вопль: "Воры! Грабители!" - прозвучал пронзительно и дерзко.
Выбежав на середину двора, Рыбья Кость подскочила к купцу и, разрывая на
своей груди рубаху, в ярости прокричала:
- Продавай меня! Бей меня! Убивай меня! Где мой Карашир? Где Ниссо? Где
Мариам? Смерть вам и проклятье на вас, черные псы!
И Рыбья Кость вцепилась в черную бороду купца. Риссалядар поднял руку,
и несколько басмачей кинулись к Рыбьей Кости. Она увертывалась, но не
отпускала бороды Мирзо-Хура. Басмачи оторвали Рыбью Кость от купца, но она,
отбиваясь, плевала им в лица. Ее наотмашь хлестнули по плечам плетью. Она
упала. Выворачивая ей руки, орава басмачей потащила ее через двор. Толпа
ущельцев ринулась вслед, но, увидев стволы поднятых винтовок, смешалась,
отхлынула, медленно отступив, застыла у крепостной стены.
- Отойдите! - в наступившей тишине произнес Азиз-хон, и басмачи,
неохотно опустив винтовки, отошли на прежнее место.
- Вот падаль! - сдавленным голосом сказал Науруз-бек, указывая на
брошенную к подножью башни и уже связанную Рыбью Кость. - Вот зараза
мерзости! Кто не знает ее, кто не знает преступного мужа ее, Карашира?
Таких, как она, мы будем судить, да не осквернится ваш взор, достойные, -
Науруз-бек поклонился свите Азиз-хона, - созерцанием неверной! Время
начинать суд!
Азиз-хон сделал короткий жест. Науруз-бек поспешил к нему и,
склонившись, выслушал тихие приказания. Азиз-хон кивнул риссалядару, и тот
вывел два десятка "воинов истины". Они окружили толпу сиатангцев, взяли
ружья на изготовку.
Науруз-бек вернулся на середину двора. Сел рядом с халифа. Мирзо-Хур,
потирая сильно потрепанную бороду, прошел по двору, со вздохом опустился за
спиною Бобо-Калона.
Дверь башни раскрылась, басмачи вывели Мариам и Ниссо. Руки их были
связаны за спиной. Два басмача держали Ниссо за локти, третий шел сзади,
касаясь ее спины лезвием кривой сабли. Так же вели и Мариам. Бледные, в
изорванных платьях, девушки жмурились от яркого света. Мариам с трудом
передвигала ноги. Ниссо шла, вскинув голову, ступая по земле с такой
удивительной легкостью, будто не затекшие ноги, а одна лишь воля несла ее
вперед. Маленький значок с портретом Ленина блестел на ее груди.
Тишина в крепостной площади стала полной. Басмачи провели девушек к
ковру, лежавшему посередине двора, и повернули их лицом к Азиз-хону. Тот
кивнул головой, и Науруз-бек велел развязать Ниссо руки. Колени Мариам
подгибались, но один из басмачей, приставив к ее горлу конец сабли, вынудил
Мариам выпрямиться.
- Благословен покровитель! - молитвенно прижав ладони к груди, затянул
Науруз-бек. - Благословен покровитель! Благословенна милость его, карающая
неверных для спасения верных! Вот перед вами две женщины, начнем об одной из
них разговор. Вот она, смотрите на нее все: человеческое имя у нее - Мариам,
дочь Даулета, мы не знаем его, но будет проклят час, когда презренная тварь
зачала от него это отродье дьявола! Зачем она пришла к нам? Кто она? Не
хватит дня, чтобы перечислить ее преступления и грехи. Бесстыдная, она
пришла к нам в мужских штанах! Все видели это! В день после прихода сюда,
вместе с ненавистными Шо-Пиром и Бахтиором, она грабила здесь! Научившись
сама писать на языке неверных, она смущала жен и дочерей факиров, учила их
богопротивной грамоте! Она кричала всем, что она комсомол. Мы не знали
прежде такого слова, теперь знаем его! Не хочу перечислять всех мерзостей,
которые делала стоящая перед вами! Скажу одно: ночью она совершила
неслыханное в Высоких Горах преступление! Убила одного из достойных воинов
истины, да будет священна память его! Выстрелом из маленького ружья убила
защитника веры, нашего воина Лютфулло! Он лежит там, за крепостью, мертвый,
на похоронных носилках. Завтра воины истины в горести и печали понесут его в
Яхбар, чтоб похоронить на родной земле, как святого! Душа Лютфулло - в раю!
Смотрит на нас, ждет справедливости и отмщения. Это отродье дьявола хотело
убить и другого воина истины. Покровитель отвел нечистую пулю от его сердца.
Только руку пробила пуля ему. Иди сюда, Якуб! Покажи свою рану!
Науруз-бек умолк и торжественно простер руку к сидящим перед башней
басмачам. Один из них встал. Все увидели его обмотанную окровавленной
тряпкой руку. Мариам чуть покачивалась, напрягая силы, чтобы не опустить
подбородок, подпертый острием басмаческой сабли. Если б она попыталась
сказать хоть одно слово, острие впилось бы ей в горло.
Ниссо видела перед собой только вздувшиеся синеватые рубцы на шее
Мариам. Бледное лицо Ниссо казалось спокойным.
- Сюда, Якуб! Подойди сюда! - крикнул Науруз-бек.
Нагнув голову, плотный и коренастый басмач медленно подошел к Мариам,
остановился, тупо смотря на нее.
- Возьми, Якуб, нож! - ласково произнес Науруз-бек. - Смерть придет к
ней не от твоей руки, но по праву твой удар будет первым! Смотрите, верные!
- продолжал Науруз-бек. - Пусть видит каждый великую справедливость
милостивого покровителя, смертью карающего нарушителей Установленного...
Этой женщине - смерть, смерть, смерть! Славьте волю покровителя, верные,
радуйтесь! Нет чище святыни, чем гнев его, уничтожающий ядовитые зерна
неверия! Вынь глаза ей, Якуб!
Толпа сиатангцев ахнула. Басмачи подхватили отшатнувшуюся Мариам. Ее
пронзительный, душераздирающий крик замолк под ладонью басмача, сдавившего
ей рот. Другие басмачи сжали руки и плечи метнувшейся к Мариам Ниссо.
Якуб спокойно и деловито проткнул ножом оба глаза Мариам. Кровь,
заливая ее лицо и пальцы зажавшего ей рот басмача, брызнула и полилась на
землю. Два резких выстрела остановили рванувшихся было вперед ущельцев.
Истерические вопли женщин пронеслись над толпой, над крепостью, над всей
сиатангской долиной. А басмачи, забрызганные кровью, уже волокли девушку к
башне. Подтащив свою жертву к болтавшейся веревке, накинула на шею Мариам
петлю...
Науруз-бек, оставшийся посреди двора, махнул рукой. Два басмача
засуетились на верхней площадке башни, потянули веревку.
Мариам взвилась над землей, медленно кружась и раскачиваясь. И когда
безжизненное тело Мариам, вытянувшись, затихло, а веревка перестала
раскачиваться, вновь наступила беспредельная тишина. По окаменевшим лицам
ущельцев струился пот, ни один из них не мог перевести дыхания. Ниссо,
лежавшая теперь ничком на ковре, дрожала мелкой дрожью...
Азиз-хон спокойно сидел на подушках. Бобо-Калон смотрел в землю.
Гильриз, впившись зубами в руку, почти беззвучно стонала. Кендыри,
бесстрастно разглядывал повешенную, брезгливо думал о том, что его работа
сопряжена с необходимостью сталкиваться с непонятными зрелищами, но что в
конце концов до всего этого ему нет никакого дела.
- Так! - словно напоминая о своем существовании, громко произнес
Науруз-бек. - Воля покровителя совершилась... Да возрадуются сердца ваши,
верные!.. Теперь поговорим о другой. Поднимите, воины истины, нечестивую
жену, посягнувшую на честь славного в Высоких Горах Азиз-хона! Встань,
Ниссо! Встань и смотри!.. Перечислять грехи твои мы не будем. Видишь вторую
петлю? Для тебя она приготовлена. Что скажешь ты нам?
Ниссо, поставленная на ноги, дико озиралась.
- Оставьте ее! Оставьте! - вдруг неистово прокричала Гюльриз и, прежде
чем кто-либо успел ее задержать, стремительно перебежала двор, упала плашмя
перед Азиз-хоном. - Оставь ее, хан, убей меня, не трогай ее, зачем тебе ее
жизнь? Я взяла ее себе в дочери. Нет дочери у меня, довольно крови тебе,
возьми мою старую кровь, дай собакам ее, разве ничего в тебе не осталось от
человека? Пощади Ниссо ради красоты ее, посмотри сам - как цветок она.
- Перестань, нана! - раздался окрик Ниссо. - У кого в ногах ты
валяешься? Кого просишь? Встань, пожалей меня в последний мой час! Встань,
не хочу твоего унижения! Пусть смерть, не боюсь ее. Встань, нана, встань,
встань, слышишь, встань!..
Все смотрели теперь на гневное лицо выпрямившейся Ниссо. В ее
презрительной гордости чувствовалась такая сила, что даже державшие Ниссо
басмачи отпустили вдруг ее руки. Топнув ногой, Ниссо резко крикнула еще раз:
- Встань, нана, или я прокляну тебя!
И Гюльриз медленно встала и, никем не задерживаемая, протянув вперед
руки, как завороженная, подошла к Ниссо. Нежно, как может это сделать лишь
мать, Гюльриз обняла Ниссо, поцеловала в лоб, прошептала: "Благословенной ты
будешь вовеки!" - и так же медленно отошла от нее. Лицо Гюльриз сморщилось,
она закрыла его руками и пошла, не видя перед собою пути, сгорбившись,
шатаясь из стороны в сторону... Ущельцы молча расступились. Зуайда, вся в
слезах, обняла рукой плечи старухи, легким усилием заставила ее сесть на
снятый одним из факиров рваный халат. Гюльриз опустилась, бессильно уронив
голову, и Зуайда склонила эту седую голову к себе на грудь.
Все басмачи и даже сам Азиз-хон безмолвно наблюдали за нею. А Ниссо
стояла теперь, повернувшись к толпе ущельцев, прямая, печальная и невыразимо
спокойная. Все позабыв, Кендыри любовался ею. Только Науруз-бек, теребя
бороду, сердито пожевывал сухими губами. Два басмача снова взялись за локти
Ниссо: она не противилась.
- Что велишь сказать, Азиз-хон? - нарушив тишину, неуверенно произнес
Науруз-бек.
- Пусть она подойдет сюда! - сказал Азиз-хон.
Басмачи толкнула Ниссо. Она повернулась, спокойно подошла к Азиз-хону.
Остановилась перед ним, смотря в его не закрытый повязкой глаз.
Азиз-хон сдвинул повязку с припухших губ.
- Понимаешь ли ты, что достойна только смерти?
- Пусть! - решительно произнесла Ниссо.
- Тебя повесят, как ту.
- Пусть! - с вызовом повторила Ниссо.
- Разве ты жить не хочешь?
Ниссо нахмурилась.
- Тебя ненавижу!
Азиз-хон поморщился, но сдержался.
- Женская ненависть подобна женской любви... Изменчива и быстро
проходит... Посмотри вокруг себя, на достойных и праведных. Посмотри в их
глаза: все решили одно. Ты совершила преступление, за него тебе - смерть.
Нет другого закона перед лицом покровителя. Но ты была одержима безумием, в
твою душу вселились дэвы, и в законе есть истина: дэвов можно изгнать
покаянием и раскаянием. Раскайся и поклянись, что хочешь быть верной, - я
дам тебе жизнь! Сам попрошу святого пира, чтоб он вознес за тебя молитвы
нашему покровителю, может быть, покровитель захочет совершить чудо, вернуть
тебе разум... Пади предо мной и проси!
Ниссо молчала, губы ее дрожали: милость Азиз-хона была для нее страшнее
смерти, она поняла, что случится с нею, если она останется жить.
- Пади! - с тихой угрозой повторил Азиз-хон. - Велика моя милость!
Теперь в Ниссо закипела злоба: вот Азиз-хон перед всем народом почти
просит ее! Пусть скажет еще раз, пусть скажет, - она посмеется над ним!
- Пади! - в третий раз сказал Азиз-хон.
Ниссо продолжала молчать. Глаз Азиз-хона, наливаясь бешенством,
округлился, морщины на лбу сошлись. Он чувствовал на себе взгляды сотен
людей, он и так позволил себе слишком много, - люди станут смеяться над ним.
Тут Зогар, уже давно с ненавистью следивший за каждым жестом Ниссо,
сорвался с места, подскочил к Ниссо и с такой яростью рванул ее за руку, что
она упала прямо на ноги Азиз-хона.
- Повинуйся, проклятая, с тобой говорит сам Азиз-хон!
- Так! Так! - схватив Ниссо за руки и не давая ей встать с колен,
проговорил Азиз-хон. - Когда-нибудь ты научишься послушанию. Отойди, Зогар!
Я вижу, она надумала каяться... А это что, что это у тебя на груди?
Отпустив руку Ниссо, Азиз-хон потянулся к маленькому значку с портретом
Ленина. Ниссо схватилась рукой за грудь.
- Не трогай, достойный! - сзади прокричал Науруз-бек. - Это знак
комсомола. Не прикасайся к нему!
- Покажи, покажи! - отнимая от груди руку Ниссо, медленно произнес
Азиз-хон. - Я вижу лицо человека... На сердце носишь его? Зогар, подойди
сюда, возьми его осторожно, растопчи ногами... Значит, ты, презренная,
комсомол?
Напряжение Ниссо прорвалось. С дикой яростью она вырвала руку из руки
Азиз-хона, схватила значок и, прежде чем Азиз-хон успел отстраниться, с
силой вонзила припаянную к значку булавку в лицо Азиз-хона; если б он не
успел ударить ее по руке, булавка проткнула бы ему глаз.
- Да, я комсомол! А ты... ты...
Но Ниссо уже схватили сразу несколько человек и отшвырнули от
Азиз-хона. Она упала. Зажимая щеку рукой, в бешенстве, с пеной у рта,
Азиз-хон даже не мог кричать; он только взмахнул рукой и, весь трясясь,
указал на виселицу. Науруз-бек, сдержав самодовольную усмешку, кивнул
басмачам. С винтовками наперевес они подбежали к Ниссо и волоком, по камням,
потащили туда, где свисала с башни веревка.
Осыпая Ниссо ругательствами, подняли ее на ноги, набросили на шею
петлю. Шум прошел по толпе ущельцев. Дико закричала Гюльриз.
Вдруг, стремительно перебежав двор, ударами кулаков растолкав басмачей,
Кендыри оказался рядом с Ниссо и ухватился за еще не затянутую петлю.
Рассеченная бритвой петля слетела с шеи Ниссо...
- Подожди! Подожди! - крикнул Кендыри опомнившемуся, взмахнувшему
саблей басмачу. - Слушай, скажет тебе Азиз-хон!
Басмач в нерешительности опустил саблю. Повелительно подняв руку,
Кендыри закричал:
- Мудрый, прославленный Азиз-хон, не предавайся минуте гнева! Эту
женщину надо казнить, но не сейчас и не так... Слишком велики ее
преступления! Ее надо водить по всем селениям твоим, чтобы весь твой народ
плевал ей в глаза. Положи ее в башню сегодня, подумай... Да не покажутся
тебе непочтительными слова бедного брадобрея! Да прольется милость твоя на
меня!
Не привык Азиз-хон, чтобы ему приказывали. Он еще трясся от бешенства и
сейчас хотел только немедленной казни Ниссо. Никому другому не позволил бы
он в эту минуту вмешиваться в его дела, никому... кроме Кендыри... Лишь пять
человек здесь - Бобо-Калон, Мирзо-Хур, халифа, риссалядар и Науруз-бек -
знали о Кендыри то, что было скрыто от прочих. Для остальных слова Кендыри
были дерзкой просьбой нищего брадобрея.
Азиз-хон слишком хорошо понимал свою зависимость от этого человека и
противиться ему не посмел.
- Хорошо! - смиряя себя, сказал Азиз-хон к безмерному удивлению всех. -
Истину слышу в словах презренного бедняка; нет хана, который не прислушался
бы к голосу истины, даже исходящего от червя! Пусть не я один, пусть весь
мой народ плюнет ей в глаза... Отведите в башню ее!
Едва Ниссо была водворена в башню, Азиз-хон поднялся с подушек, резко
откинул полу палатки, вошел в нее, оставив воинство и ущельцев.
Науруз-бек в растерянности и даже смущении не знал, что ему делать
дальше. Ущельцы тихо, вразброд выходили из крепости, их никто не удерживал.
Толпа редела.
Среди разделившихся на кучки басмачей возникли приглушенные разговоры.
Шептались и приближенные Азиз-хона.
Риссалядар порывисто встал, вышел на середину двора, приказал часовым
никого из крепости не выпускать.
Все теперь ждали появления Азиз-хона.
Он, однако, из палатки не выходил. Заглянуть к нему не решались.
Тело повешенной Мариам раскачивалось на легком ветру. В камнях за
башней бежала избитая Рыбья Кость. На нее не обращали внимания.
Вдруг на полном скаку в крепость ворвался всадник: он соскочил со
взмыленного коня, закружился, ища Азиз-хона, растолкав всех, нырнул в
палатку.
Азиз-хон выглянул из палатки, жестом подозвал риссалядара, коротко
сказал ему:
- Караван не остановился на ночь. Убери всех. Поезжай туда!
И сразу начался переполох. Басмачи заметилаись по двору, переругиваясь,
размахивая оружием, торопливо седлая коней. Риссалядар вскочил в седло и, на
ходу заряжая винтовку, рысью выехал из крепости. За ним устремились десятка
два всадников. Другие окружили толпу сиатангцев и, яростно крича, погнали
всех к селению.
Пообещав смерть каждому, кто выйдет из дому, басмачи помчались дальше
по пустым переулочкам, вдогонку за риссалядаром.
В одиночку и группами всадники выносились из крепости, нахлестывая
коней, не обращая внимания на камни и рытвины, - всем хотелось как можно
скорее промчаться за первый мыс ущельной тропы, чтобы не опоздать к захвату
верной и богатой добычи. Халифа, Науруз-бек, купец Мирзо-Хур, видимо хорошо
зная повадки басмачей, тоже уселись в седла и во главе с Азиз-хоном выехали
сдержанным шагом. Явно недовольные полученными приказаниями, в крепости
остались лишь несколько басмачей, охраняющих башню и награбленное имущество.
Двор крепости опустел. Мрачный и одинокий, за весь день не проронивший
ни слова, Бобо-Калон остался сидеть среди накиданных перед палаткой подушек.
Кендыри, выйдя из-под навеса своей цирюльни, расхаживал по двору, заложив
руки за спину и поглядывая то на следы пиршества, то на потемневший,
обезображенный труп качающейся в петле Мариам, то на сидящих возле башни
басмачей.
Кендыри размышлял о Ниссо и о том, что заставило его отвести от нее
петлю. Больше всего он был занят сейчас продумыванием дальнейших ходов
искусной, точно рассчитанной и пока безошибочной дипломатической игры.
Обученный целиться далеко, он рассчитывал на живую Ниссо как на весьма
убедительную запасную рекомендацию... Судьба каравана его мало интересовала.
Неожиданно Кендыри заметил за башней, среди камней, нависших над
берегом, взлохмаченную женскую голову. Она тотчас же скрылась, но Кендыри
стал искоса наблюдать, якобы разглядывая вершину горы. Охранники сидели с
другой стороны башни и видеть ничего не могли.
Женская голова в камнях на мгновение показалась опять, - Кендыри узнал
Зуайду, но, заинтересованный причиной ее появления, решил не показывать, что
видит ее. Припадая за камнями, Зуайда осторожно пробиралась все ближе.
Кендыри отошел к палатке, сел на камень и, упершись локтями в колени, будто
бы в крайней усталости, закрыв ладонями лицо, продолжал сквозь пальцы
наблюдать. Он понял: Зуайда пробирается к лежащей у подножья башни Рыбьей
Кости. Конечно, Зуайда подвергала себя опасности: если б кто-нибудь из
оставшихся басмачей заметил ее, разговор был бы очень коротким. Чтоб
добраться до Рыбьей Кости, Зуайде предстояло выползти из-за камней и
пересечь открытое, метров в десять шириной, пространство двора. Выглянув
из-за последнего камня, Зуайда долго и настороженно осматривалась - больше
всего ее, очевидно, беспокоил Кендыри... Но он не вставал с места, не
двигался и, казалось, совсем забылся.
Зуайда решилась. Пригнувшись, неслышно касаясь земли, она подбежала к
Рыбьей Кости. Напрягая все силы, подняла ее на руки, потащила обратно к
камням...
Кендыри, сообразив, что и этот случай может ему пригодиться, порывисто
встал, закашлялся. Зуайда на бегу оглянулась, Кендыри заметил ее испуганный
взгляд. Она споткнулась, вместе со своей ношей упала и замерла, глядя на
приближающегося Кендыри затравленными глазами.
Кендыри изобразил на своем неподвижном лице улыбку, приложил палец к
губам, отвернулся, неторопливым шагом прошел сторонкой. Ему важно было
только, чтоб Зуайда знала: он видел.
Когда Кендыри, обойдя башню, снова вернулся к тому месту, ни Зуайды, ни
Рыбьей Кости среди камней уже не было. Кендыри самодовольно подумал, что в
искусной игре у него появился новый, небольшой, но вовсе не лишний козырь.
217
Перед лицом твоих врагов
Ты в этот час - один.
Ну, что ж! Кто шел на тех врагов,
Все были, как один.
Прибавь к ста тысячам шагов, -
Достойный шаг один.
И осветится весь твой путь
Бессмертием, как Млечный Путь!
Смерть героя
Слуга Азиз-хона, Мир Али, - тот самый Мир Али, который когда-то увел из
селения Дуоб мать Ниссо, Розиа-Мо, - вторые сутки дежурил с пятнадцатью
басмачами в скалах, там, где река Сиатанг впадает в Большую Реку. Азиз-хон
велел ему, не обнаруживая себя, пропустить караван на ущельную тропу и затем
незаметно идти за караваном по пятам, чтобы отрезать путь к отступлению.
Мир Али в точности выполнил приказание Азиз-хона: караван спокойно
повернул от Большой Реки на сиатангскую тропу и углубился в ущелье; следом,
крадучись, двинулись басмачи.
К концу дня растянувшийся караван находился примерно на середине пути
от устья реки Сиатанг до селения. Впереди ехал верхом Шо-Пир. Он был доволен
своим путешествием в Волость. Хотя ему и не удалось повидать секретаря
партбюро Гветадзе, который уже с месяц странствовал, знакомясь с ущельями
верхних притоков Большой Реки, караван назначенных для Сиатанга товаров был
составлен отменно: в нем было все необходимое ущельцам. Помог Швецов,
принявший Шо-Пира как старого, закадычного друга. И хотя впервые за
несколько лет Шо-Пир снова стал в Волости Александром, да не Александром, а
Сашей Медведевым, он ясно осознал, что не тот он теперь, - и опытней, и
самостоятельнее, и умнее стал он с тех пор, как пришел в Сиатанг.
То и дело поворачиваясь в седле бочком, Шо-Пир поглядывал на идущих за
ним завьюченных лошадей.
Местами тропа была так узка, что высоко подтянутые вьюки проходили с
трудом. Левая их половина нависала над клокочущей внизу рекой, правая -
цеплялась за отвесные скалы. Лошади, пугливо кося глазом, шли по самому краю
обрыва, камешки из-под копыт сыпались в реку. Шо-Пир останавливал караван,
спешивался, вместе с караванщиками осторожно проводил лошадей через опасное
место поодиночке. Дважды за минувший день на неверных и узких карнизах
пришлось снимать вьюки и, балансируя над пропастью, переносить их на плечах.
Следом за Шо-Пиром на крупном осле ехал зимовавший в Волости дородный
фельдшер Ануфриев. Он не привык к горам, страдал головокружением, охал,
бледнел всякий раз, когда тропа вилась над пропастью. Пешком идти ему было
тяжело, ехать на лошади над такими отвесами он боялся, и потому Шо-Пир еще
три дня назад, отдав его лошадь под вьюк, предложил ему одного из самых
сильных и спокойных вьючных ослов, из тех, что шли в хвосте каравана.
Ануфриев почувствовал себя лучше, меньше жаловался на судьбу и даже вступал
в непринужденные беседы с Шо-Пиром, когда тот шел рядом, закрепив повод
своего коня на луке седла и предоставив коню идти без всадника.
Позади каравана, замыкая его, ехал верхом комсомолец Дейкин, посланный
в Сиатанг, чтоб организовать там первый советский кооператив. К трудностям
пути Дейкин относился с полным безразличием, настроение его было прекрасным,
грозная красота ущелья нравилась ему. Мурлыча себе под нос песенку, он с
удовольствием разглядывал острые зубья гранитных вершин, косматые перепады
реки, камни, на которые осторожно ставил подковы его маленький конь,
растянувшихся перед ним длинной цепочкой ослов, лошадей вдали, то и дело
исчезавших за ближайшим, огибаемым тропой мысом.
Чем больше приближался караван к селению, тем чаще фельдшер Ануфриев
задавал Шо-Пиру бессмысленные вопросы: какую квартиру получит он в Сиатанге;
не будет ли протекать крыша во время дождей; можно ли там достать ковры,
чтобы завесить стены обещанной ему комнаты; одолевают ли там самого Шо-Пира
блохи и комары?.. Фельдшер давно надоел Шо-Пиру, но, думая о том, что,
сбавив жирок, Ануфриев постепенно привыкнет ко всему, чего сейчас опасается,
и не желая ссориться с ним, Шо-Пир отвечал на все вопросы с неиссякаемым
благодушием.
- Так ты говоришь, - спрашивал фельдшер, - Даулетова сама амбулаторию
мне приготовила? А скажи, как с одою там будет: канавку мне подведешь или
ведрами придется таскать? Для больных, знаешь, воды много нужно, ведрами,
пожалуй, не натаскаешься!
- Можно и канавку, - думая о другом, отвечал Шо-Пир, положив руку на
круп шагающего осла. - Напрасно, товарищ Ануфриев, беспокоишься!
- А что, скажи-ка на милость, Даулетова жизнью своей довольна? Не
верится мне, чтоб так уж удобно устроилась.
- А что ей надобно особенного? Довольна, устроилась... Живем душа в
душу.
- Ну, да что ей! - ворчливо соглашался фельдшер. - Девка молодая, не
то, что я... Если б не заработок, разве б я поехал сюда? А она так, от прыти
одной стремилась. Насилу уберегся от нее осенью. Тащит меня к вам - и
никаких!.. Девушка напористая, даже бояться я стал ее! Как еще полажу с ней
в Сива... Сио... Тьфу, черт, никак не запомнить этих названий! Словом, в
Сиютюнге твоем, а?..
Но тропа становилась узкой. Шо-Пир вынужден был выйти вперед, взять
своего коня за повод, внимательно рассчитывать, можно ли здесь пропустить
вьюки без задержки? Снова бледнея, Ануфриев отставал от него, и Шо-Пир
радовался, что болтовня фельдшера оборвалась.
Приглядываясь к местности, Шо-Пир определил: скоро, вот, кажется, за
следующим мысом, будет пещера, где девятнадцать дней назад он расстался с
Ниссо... Все эти дни он думал о Ниссо беспрестанно.
Шо-Пир постарался отвлечься от неотступных мыслей, представил себе
Весенний праздник, который наступит послезавтра. Хорошо, что караван
подоспеет в Сиатанг как раз к этому событию. Конечно, сегодняшний переход уж
очень велик, следовало бы где-нибудь переночевать и прийти в селение завтра,
но единственная годная для ночевки площадка осталась позади. Нет, лучше
двигаться без задержки: вечерняя тьма придется на широкий участок пути, а
потом выйдет луна, лошади чуют тропу, не сорвутся, к полуночи, пожалуй, до
селения дотянутся...
Далеко опередив караван, Шо-Пир смотрит вперед, вдруг останавливается:
ему чудится далекий крик. Действительно, кто-то кричит непонятно где -
впереди, что ли? Или, может быть, Дейкин кричит в хвосте каравана?
Шо-Пир озирается, прислушивается. Сверху на тропу падает маленький
камень, конь Шо-Пира испуганно пятится. Что за чушь?.. Шо-Пир, закинув
голову, смотрит наверх, долго вглядывается в высокие скалы, замечает на
одной из них фигурку человека в халате, - человек размахивает руками, должно
быть, хочет обратить на себя внимание...
"Кого это нелегкая туда занесла?" - соображает Шо-Пир, стараясь
представить себе, как мог забраться человек на эту высь. Зрение у Шо-Пира
прекрасное, ему кажется... Нет, в самом деле... Ну конечно же, это
Карашир... Что ему делать там?
Шо-Пир машет ему рукой.
Карашир кричит во весь голос, но ветер относит его слова. Он снова
кричит, надрываясь, показывает рукой в сторону селения Сиатанг.
- А... а... и!.. А... а... и... А... и... ооо! - слышится Шо-Пиру.
Карашир повторяет и повторяет свой крик, Шо-Пир видит, как Карашир
пересекает себе горло ладонью и жестами старается изобразить, будто бы
держит в руках ружье. Шо-Пир напрягает слух, размышляет и, наконец, скорее
догадывается, чем слышит:
- Басмачи!.. Басмачи!.. Азиз-хон!..
И тогда сам выкрикивает те же слова, и Карашир подтверждает их кивками
головы и взмахами рук. Шо-Пир оглядывается; из-за мыса выезжает на осле
фельдшер Ануфриев, за ним тянется весь караван. Шо-Пир машет рукой, веля
Караширу спуститься, но сразу же понимает: здесь спуститься нельзя.
В грозную весть не хочется верить! Но само появление Карашира на этих
скалах подтверждает ее. Лицо Шо-Пира краснеет, он снимает с плеча винтовку,
полученную им в Волости, заряжает ее. Карашир, убедившись, что его
предупреждение понято, исчезает. Шо-Пир ищет его взглядом, но скалы наверху
пустынны, как прежде.
Шо-Пир сразу становится прежним - быстрым в расчетах, готовым встретить
опасность, уверенным в себе красноармейцем. Он мгновенно оценивает
обстановку: тропа узка, даже повернуть караван в этом месте нельзя; слева -
обрыв к реке, справа - отвесные скалы. Любая засада здесь грозит каравану
гибелью, всякая паника приведет к неминуемой катастрофе, - испуганные лошади
начнут сталкивать одна другую с тропы. Обстрел сверху, камни, сброшенные
оттуда, были бы неотвратимы, но наверху - Карашир, значит, басмачей там нет,
и, очевидно, им туда не пробраться, засада где-то впереди. Значит,
продвигаться вперед нельзя, но если удастся благополучно дойти до пещеры,
люди в ней могут укрыться. Басмачи вряд ли захотят уничтожить вьючных
лошадей, - они предпочтут захватить караван. Укрепиться самим в пещере,
перегородить камнями тропу впереди и позади каравана, - и можно
отстреливаться... Три винтовки - у Шо-Пира, у Дейкина, у Ануфриева;
охотничье ружье, переданное Шо-Пиром старшему караванщику. Патронов
маловато, - по двадцать на винтовку, всего шестьдесят.
Тронув повод, Шо-Пир едет дальше торопливой юргой, снова оставляя
караван позади. Лицо Шо-Пира сосредоточенно, он едет, зорко осматриваясь, ко
всему готовый, решительный. Огибает мыс, - тропа все так же узка. Вот над
тропою в скале зияет пещера, - всего в караване тринадцать человек, пожалуй,
уместятся!
Доехав до пещеры, Шо-Пир соскакивает с коня, перегораживает перед ней
тропу большим камнем, сворачивает другие, строит баррикаду. Караван тем
временем постепенно подтягивается. Шо-Пир видит недоумевающие, озадаченные
лица.
Через несколько минут все в караване узнают новость. Фельдшер Ануфриев
бледен, его пухлые губы дрожат, от испуга он заикается. Бормочет, что надо
бросить караван, самим бежать назад по тропе. Дейкин тоже бледен, но
сохраняет спокойствие; караванщики мрачны и насуплены... Все, однако,
безоговорочно повинуются приказаниям Шо-Пира. Самое главное: хвала Караширу,
нападение уже не будет внезапным! Люди поспешно снимают вьюки, оставляют их
на тропе между лошадьми, - так давки не будет, а если какая-нибудь лошадь и
погибнет, то груз сохранится. Вход в пещеру наполовину заваливают камнями -
прикрытие для стрельбы готово. Оставив людей в пещере и наказав им в случае
нападения отстреливаться, Шо-Пир отправляется на разведку. Бредет вперед по
тропе, ищет малейшей возможности взобраться на скалы - туда, откуда кричал
Карашир; может быть, засада еще где-нибудь далеко, может быть, тропа
свободна даже до самого селения, - сверху ее будет видно, солнце еще не
село.
Но, отойдя совсем недалеко, Шо-Пир слышит позади себя, - там, где-то за
караваном, выстрел, за ним другой, третий... Неужели басмачи оказались
сзади? Шо-Пир поворачивается, бежит назад. Где-то близко, кажется, над самым
ухом, раздается выстрел, проносится пуля, Шо-Пир слышит ее свист... Значит,
они и здесь, впереди!
И пока Шо-Пир бежит к пещере, пули щелкают по камням перед ним и позади
него.
- Скорей, скорей, - кричит Дейкин.
Шо-Пир хватается за протянутые к нему руки, его втягивают в пещеру. В
глубине, забившись в угол, стуча зубами, скорчился фельдшер.
- Бери винтовку! - кричит Шо-Пир, видя, что винтовка фельдшера лежит у
него под ногами.
Ануфриев берется за винтовку, беспомощно вертит ее в руках.
- Эх ты, курица! - кричит Шо-Пир. - Отдай ее Мамаджану, если сам не
умеешь!
Ануфриев охотно протягивает винтовку рослому караванщику. Тот, оскалив
в улыбке зубы, спокойно задвигает затвор, приваливается к камням,
закрывающим вход в пещеру. Из-за мыса впереди вырывается всадник; Шо-Пир
тщательно целится. Взмахнув руками, но не выпуская винтовки, всадник падает
с лошади. Ударившись о выступ скалы, летит дальше и исчезает в реке.
Выстрелы сыплются из-за мыса вдоль тропы: подсеченный конь Шо-Пира встает на
дыбы, пытается повернуться на двух ногах и навзничь валится под обрыв. Снизу
доносится глухой и короткий плеск.
- Не стреляй зря! - тихо говорит Шо-Пир Дейкину. - Береги патроны!
Видишь, не подобраться сюда им...
Тропа впереди пуста. Позади - до самого мыса - стоят лошади каравана,
разделенные снятыми вьюками. Вьючных ослов за мысом не видно.
Следующая пуля сбрасывает в реку стоящего под пещерой осла, на котором
ехал Ануфриев. Басмачи прекращают стрельбу, должно быть, поняв, что
укрывшихся в пещере людей пулями не достать. В тишине слышны только
сдавленные всхлипывания Ануфриева. Забившись в угол пещеры, он лежит, закрыв
лицо руками.
Осторожно выглянув из пещеры, Шо-Пир видит: от лошади к лошади, от
вьюка к вьюку, пробираются ползком несколько басмачей. Да, это они ловко
придумали, - но пусть подберутся поближе. Шо-Пир толкает в плечо Дейкина.
Мамаджан тоже заметил их.
Подкравшись к последнему вьюку, три басмача стреляют почти в упор. Но
Шо-Пир хорошо укрыт. Он просовывает винтовку между камнями, щурится, ловит
мгновение. На мушке возникает бритая голова басмача. Шо-Пир плавно дожимает
спусковой крючок, - голова исчезает, пронзительный крик...
- Ага! Один есть!
Пули двух других щелкают по каменному своду пещеры.
- Вот я им... - Дейкин в горячности привскакивает, но возглас его
обрывается стоном, винтовка валится из рук, он падает.
Кровь заливает бледное, зеленеющее лицо Дейкина.
- Ануфриев, слышишь, чертов сын, погляди, что с ним!
Отвернувшись от Дейкина, Шо-Пир направляет винтовку на подскочившего к
пещере басмача. Стреляет в его блестящий коричневый лоб. Басмач приседает,
вьюном вертится на тропе, срывается, исчезает.
Третий уползает, пробираясь от вьюка к вьюку.
Снова тишина. Ануфриев дрожащими пальцами расправляет окровавленные
волосы Дейкина. Дейкин мертв. Ануфриев бессмысленно глядит на него, вызывая
негодование Шо-Пира.
За мысом, впереди, возникает большая белая тряпка. Кто-то, укрытый за
скалой, долго машет ею, наконец выходит, продолжая крутить тряпкой над
головой, - тучный белобородый старик в чалме, в шелковом сине-красном
халате, опоясанном ремнем с серебряной бляхой.
Это риссалядар. Никто в пещере не знает его. Он идет спокойно,
неторопливо. Оружия при нем нет.
Шо-Пир подпускает его шагов на двадцать:
- Стой!.. Что надо тебе?
Старик останавливается, поднимает руку:
- Я знаю, кто ты... Не стреляй... Говорить с тобой буду... Слушай ты, и
люди твои пусть слушают!
Шо-Пир хочет нажать спусковой крючок, но Мамаджан кладет руку на ствол
его винтовки:
- Зачем стрелять? Стрелять можно потом... Давай слушать!
Караванщики глядят на старика, наваливаются один другому на плечи.
Оглянувшись, Шо-Пир видит, что Ануфриев торопливо навязывает на свой рукав
повязку с красным крестом.
- Ты что это делаешь, фельдшер?
- Докторов они не убивают, я знаю! - побелевшими губами бормочет
Ануфриев.
- Эх ты! - Шо-Пир поворачивается к риссалядару: - Говори, послушаем!
- С тобой, Шо-Пир, - высокомерно, скрестив руки на груди, произносит
риссалядар, - двенадцать человек. Уже, наверное, есть мертвые... Сам
Азиз-хон, да будет с ним мир, велел мне сказать тебе: нас много, двести
человек, двести винтовок. У тебя и твоих людей - три. Наша власть - в
Яхбаре, наша власть - в Сиатанге. Все люди Сиатанга славят волю нашего
Азиз-хона - бог помог ему зажечь свет истины в Высоких Горах. Кто поможет
тебе в Высоких Горах? Безумен ты и люди твои, противясь воле нашего хана.
Пусть день просидите вы здесь, - все равно, конец ваш придет. Мы не будем
стрелять, не будем посылать воинов истины под ваши пули. Мы зажжем большой
костер, вы задохнетесь, как мыши в норе. Что помешает этому? Но милостив
Азиз-хон, и вот вам слова его: зачем убивать покорного человека? Пусть
живет, мы не тронем его. Говорю тебе, Шо-Пир, говорю твоим людям: отдайте
нам ваши ружья, ни один волос с ваших голов не падет. Вот смотри: священное
"Лицо веры", - риссалядар вынул из-под халата какую-то ветхую книгу в
изорванном кожаном переплете, - высокую клятву на этой книге дает наш хан, и
я даю с ним. Глядите, моими губами касаюсь ее, да будут святы произносимые
над нею слова! Отдайте ружья, идите с миром, куда захочется вам. Да
благословит покровитель милость нашего великого хана! Как верблюды, у
которых через ноздри не продета веревка, свободны вы!
- На книге клятва, - прошептал над ухом Шо-Пира Мамаджан, - не стреляй,
начальник. Кто в бога верит, не нарушит клятву над книгой... Скажи ему:
пусть отойдет, мы подумаем.
- Нечего думать тут! - гневно крикнул Шо-Пир. - Ты с ума сошел,
Мамаджан!
Мамаджан оглянулся на караванщиков, и все они разом заговорили:
- Пусть отойдет, подумаем мы! Правду он говорит!
- Конечно! - нетерпеливо закричал, поднимаясь от трупа Дейкина,
фельдшер. - Нечего горячиться тут, дорогой товарищ. Скажи ему: пусть идет,
посовещаться надо!
И, почувствовав, что убеждения сейчас бесполезны, с горечью воскликнув:
"Эх, дураки вы все!", Шо-Пир махнул рукой риссалядару:
- Иди! Подождешь ответа!
Риссалядар повернулся и важно зашагал к мысу, за которым ждали его
басмачи.
В пещере начался ожесточенный спор. Напрасно негодовал Шо-Пир; напрасно
доказывал, что басмачи все равно перережут пленных; напрасно убеждал, что
продержаться в пещере можно несколько дней и что помощь рано или поздно
придет, - вещь если Карашир сумел предупредить о нападении, то, несомненно,
и сейчас он не сидит наверху сложа руки... Жители гор, караванщики, поверили
клятве на книге, Ануфриев трусил бесстыдно и откровенно. И когда Шо-Пир
заговорил о том, что погибнуть в бою почетной смертью лучше, чем
подвергнуться истязаниям и пыткам в плену, - никто не захотел его слушать.
- Сиди здесь, если тебе угодно! - злобно заявил фельдшер. - А мы пойдем
и свои две винтовки сдадим. Надо быть дураком, чтобы лезть на рожон.
Останемся здесь - наверняка крышка, сдадимся - вернее, что будем живыми... И
нечего тут разговаривать, - разве не люди они? На кой черт им резать нас?
Караван нужен им, а не мы! А коли нам каравана не отстоять, то чего без
толку из себя корчить героев? Я - фельдшер, вот красный крест, ты думаешь,
это им непонятно? И кончим разговор, вот белая тряпка, показывай им!
Вынув из аптечной сумки, висевшей у него сбоку рулон бинта, Ануфриев
рывком руки распустил его и сунулся было к выходу из пещеры.
- Постой! - схватил его за руку Шо-Пир. - коли так, ваше дело, каждый
за себя решать будет. Кто хочет - идите. Я здесь остаюсь и винтовки своей не
отдам. Один защищаться буду, а патроны свои мне передайте...
- Если мы не сдадим патроны... - начал было Ануфриев, но Мамаджан
перебил его:
- Хорошо, начальник! Патроны - тебе... Твое дело - смерть, видим мы...
Ничего, ты храбрый человек, в раю будешь... Жены, наверное, у тебя нет,
детей нет. У нас жены есть, дети есть, жить хотим... Придем в Волость,
командиру расскажем... Давай руку, начальник.
И Мамаджан схватил, крепко пожал руку Шо-Пира, потом в неожиданном
порыве склонился и поцеловал ее.
- Не сердись на нас. Молиться за тебя будем! Когда жизнь и смерть на
скале встречаются, храбрым высокий путь!
Один за другим караванщики пожали руки Шо-Пира. Последний из них
промолвил: "Милостив к тебе будет Аллах!"
Ануфриев тоже было протянул руку, но Шо-Пир презрительно произнес:
- Они фанатики, а ты, сукин сын, трус! Иди лизать пятки хану!
И, не препятствуя молча снесшему оскорбление фельдшеру выкинуть из
пещеры белую ленту бинта, Шо-Пир сунул в карманы все предоставленные ему
патроны, сел за камнями, прикрывающими вход в пещеру, положил на колени
заряженную винтовку. Насупясь, молча смотрел он, как, выйдя из пещеры, один
за другим караванщики, замыкаемые фельдшером, шли гуськом к мысу. Несколько
басмачей во главе с риссалядаром вышли навстречу им, взяли у Мамаджана обе
винтовки, проводили пленных за мыс.
Охотничье ружье Шо-Пира с десятком набитых дробью патронов осталось в
пещере. Шо-Пир положил его рядом с собой, навел на тропу винтовку и, тяжело
вздохнув, приготовился к защите.
Вскоре басмачи вновь перешли в наступление. Они подбирались по тропе и
слева и справа; несколько человек, переплыв реку, заползли на
противобережные скалы, прямо против пещеры, и стреляли оттуда. Надежно
укрытый камнями, Шо-Пир посылал пули только наверняка, считая каждый
израсходованный патрон.
Сумерки быстро сгущались, сливая в темные пятна очертания скал.
Поглощенный стрельбой, Шо-Пир думал только о том, как бы не дать кому-либо
незаметно подобраться к пещере.
Стрельба басмачей то затихала, то становилась яростной и ожесточенной.
Несколько раз они пытались подбросить к пещере охапки сухого кустарника, но
Шо-Пир сбивал каждого, кто приближался. Вырванные с корнем кусты повалились
откуда-то сверху, ложились на тропу под пещерой, груда их все вырастала, и
помешать этому Шо-Пир не мог. "Но, - подумал он, - зажечь костер им все-таки
не удастся".
Когда куча кустарника поднялась до уровня пещеры, Шо-Пир, схватив за
ствол охотничье ружье, высунулся из-за прикрытия, надеясь сбить эту кучу
прикладом. Басмачи только того и ждали - Шо-Пир сразу же был осыпан пулями.
Что-то кольнуло его в левое плечо, он не подумал, что это пуля, но левая
рука сразу повисла. Он подался назад, увидел на гимнастерке кровь. Понял,
что ранен, выругался и быстро разорвал на себе гимнастерку. Сумка фельдшера
валялась посреди пещеры; но басмачи снова стали стрелять.
Боясь потерять силы, Шо-Пир положил ствол винтовки на камень. Теперь
стрелять было неудобно, и, увидев на противоположном берегу басмача, Шо-Пир
в первый раз промахнулся.
Тоскливое чувство овладевало им. Было уже совсем темно, - Шо-Пир
понимал, что скоро мушки не будет видно. Угрожающие крики басмачей надоели
ему, но он продолжал отстреливаться, зная, что патроны уже на исходе.
Сверху на груду ветвей кустарника неожиданно полилась какая-то
жидкость. Несколько капель брызнуло на Шо-Пира, - это был керосин. Шо-Пир
сообразил, что басмачи захватили тот керосин, что был навьючен в железных
бидонах на ослов, оставшихся позади каравана... Он понял еще, что теперь
конец близок. Перед его лицом огненной полосой промелькнули зажженные клочья
ватного халата, куча кустарника вспыхнула, затрещала, едкий дым повалил в
пещеру. Шо-Пир сразу же стал задыхаться, слабость одолевала его, глаза
заслезились, стрелять он больше не мог...
Сознавая, что погибает, Шо-Пир, широко размахнувшись, выбросил из
пещеры винтовку. Кружась в темном воздухе, она полетела в реку. Шо-Пир
здоровой рукой стянул с себя сапоги, выскочил из пещеры, ступил босыми
ногами прямо в пылающий костер, оттолкнулся, сделал сильный прыжок и головой
вниз полетел в черную, бурлящую внизу реку. А ущелье огласилось ревом
торжествующих басмачей.
Когда взошла луна, вновь завьюченные лошади каравана, сопровождаемые
воинством риссалядара, потянулись дальше, вверх по ущельной тропе. Вьюки,
оставшиеся от убитых лошадей, были распотрошены басмачами. Подгоняемые
плетьми, полураздетые и разутые, со связанными руками, фельдшер и
караванщики брели между всадниками. На шее каждого пленника лежала петля,
веревки тянулись к седлам погонщиков.
Дикие, ледяные вершины гор, среди которых до сих пор нечего было делать
человеку, оказались единственным убежищем для беглецов, спасающих свою жизнь
от воинства Азиз-хона. Фирны и ледники, объятые морозом, заиндевелые
зубчатые скалы не знали весны, - они были так же неподвластны теплу, как и
человеку. И те, кто до сих пор боялся горных дэвов и воющих страшных
метелей, пробирались теперь по двое, по трое и поодиночке к каменным кручам
водоразделов. На счастье беглецов, в последние дни метельные тучи курились
только над самыми высокими пиками. Погода стояла ясная, ветры по горным
склонам притихли. Все путники стремились к долине Большой Реки, надеясь
найти приют в приграничных селениях, расположенных на пути к Волости.
В середине дня Саух-Богор и две ее подруги увидели на соседнем
скалистом гребне ученицу Мариам - Туфу и ее мать. Перекрикиваясь через узкую
котловину, они решили соединиться и, потратив несколько часов на преодоление
преград, которые их разделяли, сошлись на другом склоне хребта, вознесенного
над рекой Сиатанг.
Карашир, скитавшийся по скалам уже второй день, дав знать Шо-Пиру о
басмачах, шел вдоль того же склона к селению. Он решил выбрать такое место,
откуда можно было бы, устроив обвал, задавить басмачей камнями. Над собою,
на фирновом скате, Карашир заметил людей: они пробирались гуськом,
освещенные заходящим солнцем. Приняв их сначала за басмачей, Карашир
спрятался, долго следил за ними. Они приблизились; он увидел, что это
женщины, узнал Саух-Богор. Вышел из-за скалы, закричал, замахал руками.
Когда изнемогающие от усталости женщины, наконец, добрались до
Карашира, он торопливо рассказал им о караване и объяснил, как хочет помочь
Шо-Пиру.
Уже начинало темнеть. Послышалось эхо идущей внизу перестрелки.
Женщины и Карашир направились к реке Сиатанг, пока еще невидимой,
скрытой внизу под ступенями огромных обрывов. Когда, наконец, путники
увидели реку, перестрелка уже прекратилась.
Тьма сгущалась, и было непонятно, что происходит внизу. Где-то в черной
бездне заиграли отсветы красного пламени. Женщины гадали: "Кто разложил на
тропе костер?"
Уже отсюда можно было столкнуть камни, они увлекли бы другие, обвалом
обрушились бы на тропу, скрытую от глаз темнотой и откосами скал. Но огонь
внизу мог быть костром каравана.
Решили дождаться луны.
Тут Карашир рассказал, что случилось с ним накануне утром, когда он
вместе с Бахтиором и ущельцами, починив последний карниз, собрался
возвращаться в селение.
Бахтиор послал Карашира вперед, чтобы он разыскал под одним из карнизов
оброненный лом и, найдя его, дожидался бы всех на тропе. Карашир ушел;
хотелось напиться чаю со всеми и вовсе не хотелось лезть под карниз по
отвесным скалам. Но Бахтиор велел, - он пошел. Долго занимался тщетными
поисками. Досадуя на Бахтиора, собрался уже вылезть на тропу, но увидел на
ней вооруженных всадников, притаился посмотреть: кто они? Всадники проехали
мимо. Карашир вылез на тропу, пошел навстречу Бахтиору. Неожиданно снова
услышал цокот копыт, опять притаился. По тропе ехали басмачи, очень много
басмачей. С ними - известные Караширу, бежавшие из Сиатанга сеиды и миры и
важный чернобородый всадник в богатой одежде, с окровавленной повязкой на
лице - наверное, сам Азиз-хон. Карашир услышал: сеиды ругали Бахтиора...
Когда проехали, Карашир долго сидел за камнем. Проскакал одинокий басмач, и
никто больше не появлялся. Карашир вышел и в том месте, где оставил
товарищей, не нашел никого. Тропа была забрызгана кровью. Карашир очень
испугался, решил спрятаться среди скал, нашел лазейку - взобраться наверх.
Вот здесь, под ним, сейчас этот найденный им трудный путь! Выбрался
сюда, просидел весь вчерашний день и сегодня, наблюдая за тропой: басмачи не
раз ездили по ней в обе стороны... А потом показался караван, и тогда
Карашир закричал Шо-Пиру...
Взошла луна. Отсветов костра уже не было. Карашир и женщины осторожно
двинулись вниз. Река заблестела внизу, и в лунном свете удалось различить
извитую нитку тропы. Все было тихо там - ни каравана, ни басмачей, Таясь,
соскальзывая с камня на камень, рискуя сорваться, путники спустились к
тропе, вышли на нее невдалеке от пещеры. Прижимаясь к скалам, чутко
прислушиваясь, подобрались к пещере, заглянули в нее, нашли холодный,
оцепеневший труп Дейкина, извлекли его на лунный свет, убедились, что этого
человека не знают, но он, наверное, русский, может быть, друг Шо-Пира.
Карашир сказал, что надо искать остальных наверху и внизу: наверное,
прячутся в скалах.
Луна поднималась все выше, заливала ярким светом ущелье. Карашир
осмотрел все вокруг, заглянул с тропы вниз. Скала уходила отвесом в реку,
тут спуститься было немыслимо. Но левее, там, где кончался карниз,
отброшенная мысом река окаймлялась полосой берега, загроможденной камнями.
Над ними на крутом, но доступном склоне темнели кусты облепихи.
Карашир направился к мысу, найдя вертикальную трещину, сполз по ней,
как по узкой трубе, достиг борозды, переходящей в крутую осыпь; скатился по
ней к реке.
- Шо-Пир!.. Шо-Пир!.. - осмелев, кричали наверху женщины, и голоса их
тонули в шуме реки, и никто им не отзывался.
Карашир побрел по береговой кромке. Входя в воду там, где кромка
исчезла, придерживался за зубья острых скал. Нашел на камнях окровавленный,
превращенный в мешок костей труп басмача, стянул с него сломанную пополам
саблю. Дальше, запутавшись в ветвях одинокого куста облепихи, висела
одиннадцатизарядная басмаческая винтовка. Карашир снял ее, убедился, что она
цела, и, хотя в магазине не осталось патронов, обрадовался, почувствовав
себя сильным.
Выбрался на освещенное луной открытое место, позвал женщин, показывая
им винтовку и саблю.
Они медленно спускались от тропы, а Карашир, обогнув мыс, направился
вдоль реки. Он шел дальше и дальше, уже теряя всякую надежду... Пройдя,
наверное, больше километра, испуганно остановился: на маленькой песчаной
отмели ничком лежал человек. Его босые ноги, освещенные луной, резко
выделялись среди мелких камней. Человек лежал неподвижно.
Подумав: "Мертвый", Карашир осторожно подошел, нагнулся и узнал
Шо-Пира. Бережно перевернул его, вгляделся в бледное, безжизненное лицо,
стер с него кровь и песок, тронул неестественно согнутую левую руку Шо-Пира:
она оказалась сломанной. Волнуясь, Карашир приложил ухо к груди Шо-Пира,
долго вслушивался и вскочил, закричав:
- Бьется!.. Великий покровитель, еще бьется!
И сразу, пронзительно, во всю силу своего голоса стал звать:
- Сюда, идите сюда! Шо-Пир еще живой, здесь!..
Никто не откликнулся. Карашир опрометью побежал назад, ошалело прыгая
через камни, скатываясь в быструю воду, одолевая ее течение, снова выбирался
на камни, продолжая кричать:
- Э! Э! Сюда!..
Наконец женщины услышали его.
На песчаной отмели они окружили лежащего без сознания Шо-Пира,
обрызгивали его лицо, вливали в рот воду по каплям.
Когда, наконец, Шо-Пир в первый раз глубоко вздохнул и с трудом
приоткрыл глаза, Карашир умиленно сощурился и чуть было не заплакал.
Сознание медленно возвращалось к Шо-Пиру, он застонал, закрыл глаза и,
превозмогая слабость, снова открыл их. Узнав Карашира и склоненную над ним
Саух-Богор, попытался приподнять голову, но, застонав, опять впал в забытье.
Получив известие о том, что яхбарский хан собрал банду басмачей для
перехода границы в районе реки Сиатанг, начальник волостного гарнизона
приказал своему помощнику Швецову немедленно, с двадцатью саблями, выступить
в операцию.
Ровно через час Швецов, взяв с собою гарнизонного врача Максимова,
выехал вниз по Большой Реке. Два ручных пулемета системы "шош" и старенький,
но надежный "максим", две сотни патронов на каждого бойца, галеты на
полмесяца, неприкосновенный запас фуража в передних седельных кобурах да
старая, девяностых годов, десятиверстная карта этого района, составленная,
как значилось по ней, "по расспросным сведениям", - вот все, чем располагал
маленький отряд для дальней и рискованной операции.
Красноармейские отряды в Сиатанг еще никогда не заходили. Этот
малоисследованный район считался спокойным.
Пятые сутки отряд с предельной для коней быстротой продвигался по
долине Большой Реки. Важно было либо предупредить налет, закрыв устье реки
Сиатанг, либо - если басмачи уже перешли границу - полностью их уничтожить.
Яхбарец, сообщивший о банде, не мог дать точных сведений о ее численности,
сказал только, что банда небольшая, но имеет европейские винтовки неведомого
ему образца.
Швецов хотел взять перебежчика с собой, но тот сказался больным, его
одолевала рвота, ехать он явно не мог.
После четвертой ночевки, выехав еще до рассвета, Швецов ранним утром
переправился через устье реки Зархок. Здесь к нему подбежал какой-то старик
в рваном халате и жестами объяснил, что в его саду спят два человека,
прибежавшие из Сиатанга.
Это были Худодод и его товарищ - Абдураим. Достигнув Верхнего Пастбища,
они с невероятными трудностями перевалили закрытый снегами водораздел и по
ущелью реки Зархок спустились сюда, надеясь пересечь путь каравану Шо-Пира,
предупредить его о налете банды. Они явились еще затемно, совершенно
измученные, и, узнав, что караван прошел мимо трое суток назад, в полном
унынии повалились спать. Два других спутника Худодода отморозили ноги и
остались лежать в селении Зархок.
Подложив под себя старинные фитильные ружья, Худодод и Абдураим спали,
накрытые одним одеялом. Швецов разбудил их. После долгой и трудной беседы, в
которой Худодод, поясняя свои, не понятные для русских, слова, старался
изобразить местность острым камешком на земле, Швецов понял, что отсюда,
кроме пути вдоль Большой Реки к устью реки Сиатанг, есть в селение Сиатанг и
другой путь, более короткий, хотя в это время года почти недоступный. Он
ведет вверх по ущелью Зархок, до середины его. Там, над маленьким
одноименным селением, где остались спутники Худодода, существует перевал, не
обозначенный на десятиверстной карте и даже в летнее время доступный только
для пешеходов. Могут ли сейчас там пройти лошади?
Худодод, выражая сомнение, качал головой, долго думал, припоминая
каждую преграду на этом опасном подъеме. Наконец объяснил, что "если люди
смелые, и лошади смелые, и сердца у них крепкие, и снег поверх головы им не
страшен", то отряд, пожалуй, пройдет.
Поверив Худододу, прельщенный перспективой замкнуть басмачей в
сиатангском ущелье, Швецов составил план действий. Младшего командира Тарана
с пятью бойцами и тяжелым "максимом" он решил направить вдоль Большой Реки к
устью реки Сиатанг. Таран должен был, закрыв ущелье снизу, отрезать банде
путь отступления. С остальными бойцами и врачом Максимовым Швецов решил
взять перевал, конечно басмачами не охраняемый, выйти к селению сбоку и
внезапной атакой нанести банде решающий удар. Швецов предупредил Тарана,
что, если перевал Зархок одолеть не удастся, весь отряд вернется сюда и
двинется на соединение с Тараном.
Худодод, невзирая на усталость, взялся провести Швецова через перевал.
Абдураим присоединился к Тарану.
Разделенный на две неравные части, отряд разъехался в разные стороны.
Худодод получил лошадь, на которой были привьючены пулеметные диски, - бойцы
разобрали их по рукам. Он ехал вслед за Швецовым, жуя на ходу галеты и на
поворотах разглядывая сухой, строгий профиль русского начальника. Худодод
размышлял о том, что этот человек, пожалуй, не испугается перевала, но
русских красных солдат слишком уж мало, и как бы басмачи не перебили их
всех...
К двенадцати часам дня, оказав в маленьком селении Зархок помощь
обмороженным товарищам Худодода, отряд Швецова выступил к подножью перевала.
Снеговая вершина над перевалом, тонувшая в облаках и тумане, казалась
бесконечно высокой. Кроме двух-трех других облачных островков над соседними
вершинами, в голубом небе не было ни единого пятнышка.
Покручивая желтоватые усы, насупившись, Швецов приказал начать подъем.
Красноармейцы спешились, повели коней в поводу. Неразработанная, заваленная
мелкой щебенкой тропинка поднималась по осыпи крутыми зигзагами. Местами ее
пересекали широкие полосы рыхлого снега. Чем выше, тем глубже становился
этот угрожающий лавинами снег, скоро он скрыл под собой тропу. Люди и лошади
вязли, проваливались, спотыкаясь о скрытые снегом камни. Тропинка
поднималась все круче. То справа, то слева под ней открывались обрывы.
Все чаще приходилось останавливаться для передышки. Красноармейцы,
тяжело дыша, хватали воздух напряженно открытыми ртами. Увязая в снегу, кони
резкими скачками старались выбиться, но проваливались еще глубже - по брюхо.
Красноармейцы вытаскивали их, проваливались сами, падали и поднимались.
Острые камни в кровь резали коням ноги, на снегу оставались ярко-красные
пятна.
В опасных местах, там, где снег перекрывал не только тропинку, но и
глубокие расщелины между скалами, Худодод и Швецов выходили вперед,
разрывали снег руками, стараясь нащупать твердую почву. Бойцы, повалившись
как попало, тем временем отдыхали. Селение Зархок, окутанное легкой
голубоватой дымкой, было уже далеко внизу, но расстояние до вершины,
казалось, ничуть не уменьшалось. На невероятной крутизне тропинка терялась
совсем. Справа и слева выделялись заиндевелые острозубые скалы.
Бойцы держались за хвосты лошадей, но лошади, спотыкаясь, уже не
оставались на месте, а, соскальзывая, скатывались вниз. Каждую минуту любая
из них вместе с уцепившимся за ее хвост красноармейцем могла сорваться в
пропасть, но пока, прокатившись несколько метров, они все же удерживались,
вставали, вновь и вновь лезли вверх.
За четыре первых часа подъема никто не разговаривал. В морозном,
прозрачном, как будто стеклянном воздухе слышались только отрывистые
понукания да произносимые вполголоса, с хрипотцой, ругательства и ободряющие
слова. Пот струился по бледным от усталости лицам, вороты гимнастерок были
расстегнуты...
В пять часов дня, когда отряд одолел первый подъем и достиг небольшой,
заваленной громадными камнями площадки, Швецов приказал сделать привал, но
запретил курить. Бойцы повалились на снег. Лошади в непреоборимой усталости
тоже ложились рядом с людьми; другие стояли по колено в снегу, привалившись
на бок. Видно было, как туловища их подавались взад и вперед от частого и
напряженного дыхания.
Худодод, сидя на круглом камне и запрокинув голову, с беспокойством
вглядывался в темное облако, сползавшее навстречу отряду. Оно спускалось,
как опрокинутая круглая чаша, наполненная грязной растрепанной ватой. Швецов
подошел к Худододу, положил ладонь на его плечо, подмигнув глазом, указал на
облако, тихо спросил:
- Ну как, парень, думаешь?
Смысл вопроса Худодод понял и, цокнув языком, покачал головой. По его
мнению, дело оборачивалось неладно.
Через полчаса, одевшись в шинели, красноармейцы снова поползли вверх. С
гор потянул холодный ветер; налетая порывами, он дул все сильнее. Мелкая
ледяная пыль, бросаемая ветром, со злобной силой била по лицам, рассекала их
в кровь. Изможденные бойцы садились на снег, закрывая глаза руками,
набрасывая на головы полы шинелей; переждав порыв ветра, вставали, ползли
снова, подталкивая обессиленных лошадей. От ветра и снежной пыли глаза
слезились, слезы, смешанные с кровью, выступавшей из рассеченных льдинками
лиц, тут же заерзали, причиняя острую боль...
Швецов понимал, что, если ветер хоть немного усилится, катастрофа
неизбежна. И раздумывал: не лучше ли, пока не поздно, пока люди еще не
окончательно обессилели, повернуть назад? Но мгновениями в разрывах
мятущегося темного облака уже виднелась седловина перевала. До него
оставалось не более трехсот метров. Швецов взглянул на часы, - было восемь с
половиной часов вечера, солнце уже давно скрылось за гребнем горы, с
неприятной быстротой надвигались сумерки.
Швецов опасался, что, даже достигнув перевала, но попав в свирепую
снежную бурю, отряд окажется в ледяной ловушке и, потеряв в темноте и
снежном буране направление, замерзнет. Он снова подошел к Худододу и молча,
глазами, спроси его: продолжать ли путь? Худодод, сам вконец измученный, не
отрываясь смотрел на подступившее вплотную облако, прислушивался к ветру,
напряженно думая, что-то рассчитывал. Потом оглянулся на растянувшихся по
склону красноармейцев, облизнул свои окровавленные губы и решительно махнул
рукой, показывая: надо идти. Швецову нравился этот молодой и решительный
парень: чувствовалось, что ему, безусловно, можно довериться.
И, повернувшись к бойцам, Швецов закричал:
- Еще немного, ребята! Облако расходится, скоро ветром его унесет!
Бойцы ничего не ответили, но сидевшие на снегу приподнялись и снова
медленно поползли вверх.
И в самом деле, чем ближе подбирался отряд к гребню, тем слабей
становился ветер. Облако поредело, кое-где сквозь него показались звезды, и
Швецов в душе благодарил Худодода за верное предсказание и силу духа.
Через час отряд выбрался на перевал. Швецов закричал "ура", но тут же
провалился по грудь в снег.
На ровной площадке перевала, сбившись в кучу, красноармейцы лежали до
тех пор, пока дыхание не наладилось. Холод заставил их встать.
Предусмотрительный Максимов вытянул из кобуры седла большую флягу со
спиртом, дал отпить каждому бойцу. Один только Худодод отказался, хотя и
промерз не меньше других.
Отряд снова пошел вперед, чтоб выбраться из полосы снегов и где-нибудь
пониже найти среди скал площадку для ночного привала.
Меньше всего желая рисковать собою, Азиз-хон не пожелал углубиться в
ущелье, проехал два первых мыса и, найдя на тропе достаточно широкое место,
расположился здесь со своим штабом в ожидании известий о взятии каравана.
Скула Азиз-хона нестерпимо болела; полулежа на кошме, он, сняв повязку,
примачивал рану холодной водой. Никто не решался с ним разговаривать, все
сидели в безмолвии, взирая на шумящую внизу реку и с возрастающим
нетерпением ожидая гонцов, посланных Азиз-хоном к риссалядару.
Тот первый гонец, который привез известие о близкой победе, о пленных,
о русском докторе - "толстом, большом, плачущем, как женщина", - уехал с
приказанием Азиз-хона привезти доктора.
Мирзо-Хур, подсев к халифа, шептал ему на ухо, что теперь, пожалуй,
можно поверить: все расходы скоро будут возмещены. Халифа, возлагавший на
караван свои, пока никому не высказанные надежды, слушал молчаливо. Искоса
наблюдая за ними, Науруз-бек припоминал свои заслуги и, предвидя, что эти
двое, конечно, захотят его обделить, обдумывал, как оградить себя от обмана.
Время шло к вечеру. Косые солнечные лучи отступали вверх по
противоположному склону. Поглядывая вдоль тропы, все ждали: вот-вот взятый
караван появится из-за мыса... Несколько басмачей, оставленных Азиз-хоном
при себе, все чаще взбирались на крутую осыпь, стараясь сверху высмотреть
приближающийся караван. Последние лучи солнца соскользнули с зубцов
встающего над ущельем хребта, тени над рекою сгущались. Долгое ожидание
раздражало Азиз-хона. Он беспрестанно менял примочку и перебирал агатовые
четки.
- Едет! - увязая в мелком щебне, скатился с осыпи забравшийся выше
других басмач.
Все всполошились. Но на тропе показался только один торопливый всадник,
вооруженный винтовкой и кривой саблей. Обогнув мыс, он подскакал к
Азиз-хону, спрыгнул с седла.
- Где караван? - резко спросил Азиз-хон. - Пленные где?
- Наши воины, достойный, столпились на дороге... Пленным никак не
пройти.
- А почему нет каравана? Что делает риссалядар?
- Тот один, что остался в пещере, - гонец отступил на шаг, - стреляет!
- Что ты хочешь сказать? Не взяли еще каравана?
- Не взяли еще, почтенный... Тот, один...
- Один, один! - закричал Азиз-хон. - Сто воинов, шестьдесят винтовок
одного взять не могут? Что ты лжешь мне, собака? Отправляйся назад!
Риссалядару скажи: взять живьем русского, привести сюда. Пленных тоже сюда!
Гонец, вспрыгнув в седло, поскакал назад, рискуя сорваться с тропы.
Наступила тьма. Все молчали. Азиз-хон, страдая от боли, лег, положив
руки под голову. Над ущельем заблистали звезды. Зубчатые вершины сдвигались
так близко, что небо казалось извилистой звездной рекой.
Наконец подскакал второй всадник. Размахивая саблей, он закричал:
"Слава покровителю! Взят караван! Идет сюда, скоро здесь будет!"
Азиз-хон не обрадовался.
- Пленные где? Тот русский где? Почему с коня не слезаешь?
Обескураженный гонец скатился с лошади:
- Идут тоже, милостивый... А тот русский... В реку бросился, утонул...
- Взять не могли? Собачьи хвосты! - выругался Азиз-хон. - Сиди здесь...
Гонец отошел к басмачам, охраняющим лошадей, зашептался с ними.
Тьма сгустилась совсем. Каравана все не было. Забинтовав с помощью
Зогара в щеку, Азиз-хон в тревоге велел конюшим подтянуть подпруги.
Послышался цокот копыт - третий всадник, осыпав щебень с тропы,
подъехал к Азиз-хону.
- Ну? Где караван?
- Смири гнев, благословенный! Я только маленький человек... Дошли до
широкого места. Хотят повернуть караван, уходить в Яхбар. Караван стоит.
Наши воины спорят: "Зачем нам в Сиатанг? Что еще там получим? Товар можно
дома делить!"
- Как дома делить товар? - вскочил с ковра Мирзо-Хур. - Почтенный хан,
что это такое?
- Молчи! - огрызнулся Азиз-хон, свистнув в воздухе плетью. - Не с тобой
разговор!.. А ты, бородавка риссалядара, рассказывай дальше!
- Несколько воинов сбросили вьюки, кричат: стрелять будем! Идти сюда
другим не дают. Риссалядар ругается с ними.
- Вот что! - подавился бешенством Азиз-хон. - Скачи назад, коня не
жалей! Мое слово риссалядару: тех, кто повернуть хочет, казнить, в реку
бросить! Не сделает - сам приеду! В уши тебе это вошло?
Слышал. Скажу, достойный!
- Пленный где?
Азиз-хон всматривался в лицо молчавшего басмача, но не мог разглядеть
его в темноте.
- Не гневайся! - тихо ответил гонец. - Я только вестник. Вины на мне
нет... кончили пленных: под ногами путались, мешали всем.
- А доктора? - Азиз-хон положил руку на подвешенный к поясу маузер без
кобуры.
- И доктора... Хныкал очень, всем надоел. Саблей разрубили плечо, потом
руки сломали, потом грудь резали - мягкий очень был, как жирный кабан,
визжал... Потом в реку бросили!
- Так! - голос Азиз-хона охрип. - Скажешь риссалядару - тех, кто резал,
связать, сюда привести! Мне он нужен был, доктор! - Хлестнув плетью по ноге
всадника, Азиз-хон вдруг пронзительно, тонким голосом закричал: - Мне!
Понимаешь, собака? Рану мою лечить! Поезжай!
Довольный, что дешево отделался, басмач стегнул коня, растворился во
тьме. Мирзо-Хур хотел было изложить свои жалобы, но побоялся ярости
Азиз-хона. Хан, удаляясь по тропе, сел на камень, наблюдая, как вдоль ущелья
медленно пробирается свет луны, выступающей из-за гребня горы. Пенные
глубокие воды реки мерцали внизу зеленым золотом.
Когда лунный свет коснулся тропы и обнаружил сидящих в молчании людей,
из-за мыса выехал еще один всадник. Шагом приблизился он к Азиз-хону, узнал
его, осадил коня, спешился, в поклоне коснулся ладонью чалмы, выпрямился.
Азиз-хон, уже овладевший собой, всматривался в его освещенное луной
безбородое лицо:
- Что там?
- Не гневайся, благословенный! Риссалядар казнил троих. Караван идет.
Сейчас будет здесь.
- А те, что доктора резали?
- Вот это и были они, что кричали "домой!": Хайдар-бек, Рахим-джан.
Казнил их риссалядар, и еще одного, который не резал!
Азиз-хон плюнул в лицо приехавшему, круто повернулся, пошел к ковру.
Гонец утерся рукавом халата, сел на коня, плашмя ударил его саблей между
ушами. Ошеломленный конь припал на колени, вскинулся на дыбы, понесся очертя
голову...
Наконец за мысом послышался дробный перестук многих копыт. В лунном
свете показалась длинная цепочка всадников. Между ними, раздельно, шли
вьючные лошади каравана.
Не дожидаясь риссалядара, Азиз-хон тяжело сел на подведенного к нему
коня и, ни разу не оглянувшись, шагом поехал к селению. За ханом вытянулся
весь его штаб. Риссалядар не старался догнать его и продолжал ехать во главе
своего притихшего воинства.
Позади каравана шли лошади с привьюченными к ним с двух сторон,
завернутыми в кошмы мертвецами. Это были басмачи застреленные Шо-Пиром. За
ними, пешком, замыкая процессию, шли несколько стариков с фитильными
ружьями.
Риссалядар хотел отправить трупы в Яхбар, но не нашлось басмача,
который взялся бы сопровождать их: каждый рассчитывал поживиться товарами
каравана.
Молчаливое спокойствие возвращающейся в селение банды было вынужденным
и напряженным: банда текла по узкой тропе, как сдавленная в трубке вода.
Едва басмачи достигли последнего мыса, за которым раскрывался пустырь, как
сразу же с гиком и свистом разлетелись по каменистой россыпи, гоня перед
собой вьючных лошадей каравана. Вьюки полетели на землю. Веревки, спадая,
путали ноги лошадей. Спотыкаясь о камни, лошади прыгали, бились: басмачи
гнали их дальше, радуясь, когда распотрошенных вьюк распадался. Перегнувшись
на стременах, они выхватывали из груды товаров то, что попадалось под руку
и, нахлестывая ошалелых коней, мчались кто к уда: к подножью осыпи, к хаосу
скалистой гряды, к реке... Прятали свою добычу и возвращались, чтобы
налететь на следующий вьюк.
Напрасно разъяренный риссалядар носился по пустырю, стремясь прекратить
грабеж, напрасно охрипшим голосом грозил немедленной казнью всякому, кто
прячет под камни товар. Басмачи не повиновались ему, а когда он направил на
одного из них револьвер, окружили его, крича, размахивая саблями и
винтовками.
Азиз-хон, уже было достигший крепости, услышав за собой буйные крики,
повернул со всем штабом и примчался на помощь к риссалядару.
- Проклятье и смерть всем! - в бешенстве заорал он. - Остановитесь!
Разве ваша добыча от вас уходит? Разве я сказал, что вы недостойны платы?
- Не надо нам твоей платы, - послышался дерзкий голос. - Сами возьмем!
Дело мы сделали, что надо еще? Домой хотим! Что делает риссалядар? Трех
доблестных воинов он убил! За что убил? Собака он!
- Кто кричит? - негромко сказал Азиз-хон. - Пусть подъедет сюда, если
не трус. Нет его? Смотрите все - нет его? Разве верный не может повторить
свои слова перед лицом хана? Риссалядар казнил трех изменников - пытать мы
хотели пленных, узнать у них, что нам надо! Кто помешал этому - тот
изменник. Прав риссалядар! Оставьте караван, поезжайте в крепость. Я сам
буду наделять каждого по заслугам его. О покровителе забыли вы? Разве пиру
ничего посылать не надо? Разве достойный купец даром кормил вас в Яхбаре и
не заслужил своей доли в добыче? Или моим обещаниям не верите? В крепость,
верные, в крепость, кто хочет милости моей, а не гнева! Риссалядар, возьми
десять честных, все собери, привези в крепость - делить по закону будем!
И, круто повернув коня, Азиз-хон поехал вперед. За ним потянулся штаб.
Басмачи остались на месте, совещаясь вполголоса. Наконец решили подчиниться
приказанию и все вместе, гурьбой, двинулись к крепости. Риссалядар с десятью
надежными стариками остался собирать разбросанные вьюки и снова кое-как
грузить их на лошадей.
Вскоре в крепости запылали четыре огромных костра. Риссалядар и
Науруз-бек, выгоняя ущельцев из домов, заставляли их носить хворост. Весь
запас топлива, оставшийся в селении после зимы, был взят из домов факиров и
навален кучей посреди крепостного двора. Одна за другой сюда подходили
лошади. Вьюки сваливались в огромную груду. Мешки, ящики с продовольствием,
тюки мануфактуры, битая посуда, хозяйственная утварь - ведра, чайники,
кирки, лопаты, - консервы, медикаменты, множество самых разнообразных
предметов - все без разбора нагромождалось горой, освещенной шумно
полыхающими кострами. Басмачи сидели теперь внутри четырехугольника,
образованного кострами, с жадностью рассматривая богатую добычу. Азиз-хон,
купец, Науруз-бек, Зогар, все сеиды и миры, вся знать расположилась на
коврах перед награбленным.
Бобо-Калон, выйдя из палатки и заняв место рядом с Азиз-хоном, был
молчалив и сосредоточен. Кендыри сидел на камнях, в стороне от всех,
наблюдая издали за происходящим.
Позади Азиз-хона разожгли маленький, пятый костер: всем хотелось видеть
получше каждую вещь, предназначенную для дележа.
Ущельцы, принесшие хворост, жались к крепостным стенам, рассматривая те
богатства, какие достались бы им, если бы в селение не пришли басмачи.
Чувствуя на себе осуждающие, враждебные взгляды, Науруз-бек заорал на
часовых, велел выгнать ущельцев из крепости.
Старики, допущенные Азиз-хоном к добыче, перешвыривали вьюки, щупали
мешки, разламывали уцелевшие ящики; Мирзо-Хур с Науруз-беком торопливо
оттягивали в сторону наиболее ценное.
Работа проходила при общем молчании и продолжалась так долго, что
Азиз-хон задремал. Но как ни хотели спать басмачи, никто не сводил
воспаленных глаз с товаров, мелькавших в зыбком свете костров.
Вскоре костры пожрали весь запас хвороста, принесенный ущельцами. Луна
приблизилась к гребню горы. Азиз-хон очнулся и, опасаясь, что в темноте
воинство вновь сделает попытку расхватить товары, приказал риссалядару
добыть еще топлива. Риссалядар с десятком басмачей отправился на конях в
селение, но вскоре вернулся ни с чем, заявив, что надо рубить в садах
тутовые деревья.
- Вот дерево! - сказал Науруз-бек, указывая на желоба, проходящие мимо
ханского канала. - Зачем далеко искать! Давай их сюда!
Риссалядар взглянул на линию нависших вдоль скалистой стены желобов;
сорвать их - пустое дело, а везти из селения срубленные деревья - тяжелый
труд для разленившихся басмачей. Конечно, можно принудить к этой работе
самих ущельцев, но риссалядар уже еле держался на ногах, ему не хотелось
снова грозить, распоряжаться. Что скажет, однако, хан?
- Ломай! - коротко приказал Азиз-хон.
Несколько басмачей вразвалку направились к скалистой стене.
Но тут насупленный Бобо-Калон встал, проговорил медленно и
недружелюбно:
- Мой дед строил этот канал... Не позволю ломать его!
Азиз-хон отвернулся. У него ныла скула. Всякий разговор причинял ему
боль. Он повторил риссалядару:
- Ломай!
Бобо-Калон прикусил губу, вышел из круга, медленно пошел к башне, хотел
обойти ее, но отшатнулся, чуть не наткнувшись на висящий перед ним в темноте
вытянувшийся и страшный труп Мариам. Бобо-Калон отвернулся от трупа, обошел
башню с другой стороны. Треск ломаемых желобов отзывался в его напряженном
мозгу.
Первый желоб рухнул на землю, раскололся по всей длине, и басмачи
поволокли его к затухающим кострам. Сердце Бобо-Калона забилось глухо и
медленно. В негодовании, в жестокой обиде он почувствовал, что вся его жизнь
рушится вместе с каналом, - ведь это был канал его дедов, висевший на
скалистой стене с далеких прошлых времен! Разрушая его, Азиз-хон бьет по
лицу самого Бобо-Калона и предков его, некогда вот так же порабощенных
яхбарцами. Дороже людей и дороже их крови Бобо-Калону этот канал,
построенный его дедами!
В бессильной ненависти старик опустился на камень, замкнул слух
ладонями и только смотрел не мигая туда, где в ярком, вновь высоко
полыхавшем огне корчились длинные, черные, как обугленные живые тела, стволы
желобов. На фоне горящих костров метались фигуры басмачей; началась дележка
награбленного.
Бобо-Калону казалось, что он видит непонятный и страшный сон. В этом
сне вставали, извиваясь, языки красного пламени. Туча черного дыма шаталась
над шабашем дэвов. Толкаясь, крича, суетясь, возникая в отсветах пламени,
они подбегали к груде накопленных за все времена богатств... Бобо-Калон не
видел теперь ни Азиз-хона, ни Науруз-бека, ни Мирзо-Хура, - он видел только
мелькание поднятых, протянутых, машущих рук. Он слышал только назойливый
гул, в котором нельзя было различить отдельных требующих, приказывающих,
негодующих, злобных и радостных голосов. Какие-то темные, скрюченные под
тяжестью ноши фигуры мелькали вдоль крепостной стены, разбегались, пропадали
за пределами крепости. Резкие, визгливые выкрики доносились издалека - может
быть, от реки, может быть, от потонувшего в лунной дали селения.
Все вдруг затихло, умолкло, остановилось, и в свете костров Бобо-Калон
увидел халифа и купца Мирзо-Хура, стоящих лицом к лицу, о чем-то яростно
спорящих. "Богу!" - кричал халифа. "Мне!" - орал Мирзо-Хур, и ругань обоих
смешивалась, и нельзя было разобрать слов, потому что оба говорили слишком
быстро. Кто-то смеялся над ними, и кто-то пытался их помирить.
Может быть, Бобо-Калон просто слишком устал от двух бессонных ночей, от
шума и суматохи. Ведь он привык быть один, привык к покою! Мгновениями ему
казалось, что он умер и все это происходит над миром, из которого он ушел.
Ум старого Бобо-Калона мутился. Далекий от всех, залитый светом луны,
он смотрел в разъятую пламенем костров тьму, ничего не сознавая, ни в чем не
участвуя, не в силах преодолеть странного своего состояния.
Но вот издалека доносятся новые дикие звуки, - это не похоже на все,
что слышалось ему до сих пор. Они врываются в уже надоевший однообразный
гул. Они входят в сознание Бобо-Калона. Старик напрягается, внимательно
слушает... Это пронзительные женские вопли; они доносятся из селения, в них
- отчаяние... Что происходит там?
Бобо-Калон встает, медленно подходит к крепостной стене, поднимается по
кладке руины, как по ступеням. Всходит на стену и видит вдали несколько
пылающих стогов клевера на черных плоских крышах домов. Женские вопли
несутся с разных сторон, в лунной дали не видно людей. Но Бобо-Калону
понятно все: воины Азиз-хона, наверное те, кто уже получил свою долю,
гоняются за сиатангскими женщинами... Во тьме, на тропе, ведущей от селения
к крепости, появляется всадник, он гонит коня по камням, проскакивает в тот
пролом, где были когда-то крепостные ворота, и Бобо-Калон видит всадника под
собой, - это старый басмач из помощников риссалядара. Размахивая плетью, он
прокладывает себе дорогу в толпе, окружающей Азиз-хона. Не добравшись до
него, останавливается, кричит:
- Слушай меня, достойный! Шесть воинов, взяв в селении жен, уехали в
Яхбар! Ничего не хотели слушать!
Толпа басмачей умолкает. Азиз-хон, полуобернувшись к всаднику, глядит
на него, молчит...
- Я говорю, достойный, тебе! - кричит всадник. - Я говорю тебе... Шесть
воинов...
- Ты говоришь! Ты говоришь! - вдруг распаляется Азиз-хон и, вскочив,
обращается к риссалядару: - Ты сидишь здесь, почему не смотришь, где люди
твои? Хочешь, чтоб я здесь один остался? Садись на коня, поезжай туда, стань
на дороге перед ущельем, стреляй во всех, кто не повинуется нам! Разве не
изменник тот, кто покидает своего хана? Скорей!
И риссалядар - безответный, мрачный - подзывает надежных людей,
выкликает их имена. Они неохотно отвязывают коней, тяжело садятся в седла.
Один из них подводит коня риссалядару. Вскинув на плечи ремни винтовок,
обнажив сабли, ватага всадников выезжает из крепости, скачет по тропе в
селение. Дележка возобновляется, а из селения доносятся, слабея, замирая и
возникая снова, вопли женщин. И горит на плоских крышах домов сухой,
запасенный с прошлого года клевер.
Прижав ладонь к левой половине груди, словно сдерживая трудное
сердцебиение, Бобо-Калон спускается со стены: он увидел на тропе двух
задыхающихся от бега сиатангцев. Он не хочет, чтобы его видели, но те уже в
крепости и подбегают к нему и падают перед ним на колени. Он узнает
приверженцев Установленного - Исофа и Али-Мамата. Трясущийся, со
всклокоченной бородою, Али-Мамат, задыхаясь, снимает со своей головы тюрбан
и - величайший знак унижения - бросает его под ноги Бобо-Калону.
- Проклятье на нас, достойный! - негодует Али-Мамат. - Это не воины
истины, это волки... Грабят нас, жгут наши дома, разве неверный я? Дочь мою,
Нафиз, схватили два волка... Проклятье на мне! Жену мою Ширин-Мо увели, я на
это смотрел, пусть лучше птицы выклюют мне глаза! Не можем мы на это
смотреть, ты, Бобо-Калон, теперь хан! Скажи, пусть прекратится это, пусть
верные догонят тех двух волков! Неужели нет верных?
- Пойдем! - коротко бросает Бобо-Калон Али-Мамату, коснувшись его
плеча. - Встань, пойдем! - И, выпрямившись, направляется к Азиз-хону. Исоф и
Али-Мамат, робко озираясь на пропускающих их басмачей, идут следом.
- Говори ему! - произносит Бобо-Калон, подведя Али-Мамата к Азиз-хону.
Али-Мамат и Исоф простираются перед Азиз-хоном, причитая, униженно
молят его...
Но Азиз-хон не желает слушать.
- Убирайтесь! Какое мне дело! Свой хан у вас есть!
- Это верные, Азиз-хон! - произносит Бобо-Калон. - Али-Мамат не факир,
племянник мира Тэмора.
- Уберите пыль с моих глаз! - в ярости Азиз-хон делает знак басмачам.
Слышен хохот. Басмачи хватают за ноги Али-Мамата, оттаскивают его,
пинками поднимают с земли Исофа, гонят прочь.
- Я хан! Что делаешь ты, безумный?! - кидается Бобо-Калон к Азиз-хону,
подняв кулаки.
- Для факиров ты хан! - не отстраняясь, насмешливо говорит Азиз-хон. -
Не для нас... Не увезут в Яхбар твоих женщин, я приказал риссалядару. А если
воины истины позабавятся с ними сегодня ночью, какая беда? Разве хуже станут
они работать потом? Разве от яхбарцев плохие у них родятся дети? Или ты
думаешь, что эти валявшиеся у моих ног почтенны? Нет почтенных здесь, кроме
тех, кто пришел со мной! Презренны все, кто оставался жить на оскверненной
неверием земле!
Бобо-Калон, окаменев, видит насмешливое лицо Азиз-хона, улыбки
сомкнувшихся вокруг, поблескивающих оружием басмачей. Оскорбление жжет его,
словно он напился разъедающей кислоты. Сеиды и миры, сидящие отдельно от
всех, понуры и мрачны и не глядят на него. Он медленно обводит взором
костры, в которых догорают изломанные желоба его канала; башню, которая из
жилища его превращена в виселицу и в тюрьму; груды раскиданного по двору
изломанного, изорванного хлама; стену крепости и пролом в ней, за которым
далеко внизу в лунной мгле мерцают догорающие пожары... Он молитвенно
складывает ладони на груди под белой своей бородой.
- Вы, пришедшие сюда люди! - отчетливо говорит он. - Ты, дружбу
суливший нам, Азиз-хон... Вы, сеиды и миры, вернувшиеся на свои земли, чтобы
восславить попранный неверием закон Установленного... Слушайте меня, я
говорю вам... Я не звал тебя, Азиз-хон. Ты пришел сам. Ты сказал: "Стань
ханом, - приду и уничтожу неверных и прославлю свет истины, и уйду!" Я
поверил тебе, Азиз-хон, хотя предки мои не верили твоим предкам, приходившим
завоевывать нашу страну. Я думал: теперь времена иные, прежние ссоры между
верными покровителю забываются! Я согласился, и я молчал, когда ты,
Азиз-хон, совершал правосудие! Я думал: просияет вновь Установленное. Но ты
пришел, и стон стоит в Сиатанге, будто сами скалы обрушились на наши сердца.
Всех смешал в одну кучу ты: неверных и верных, как волк, не разбирающий
белых и черных овец! Тебе нужно было только это добро, привезенное сюда для
неверных. Тебе нужна была женщина. Презирая Установленное ради страсти
твоей, ты не казнил эту женщину, - до сих пор, живая еще, лежит она в этой
башне! Знаю, мрачен и злобен сейчас твой взгляд, но не смотрю на твое лицо.
Смотрю выше, на эти горы. Во все пять кругов моей жизни смотрел я на них, а
теперь вижу их в самый последний раз. Я не могу тебе сказать: уходи! У тебя
- оружие, и ты не уйдешь. Но мой час пришел, я не хан! Если меня убьешь -
хорошо, значит, так хотел покровитель. Если ты меня не убьешь, я уйду. В эти
горы уйду, - ни один шаг мой не будет вниз, каждый шаг будет вверх: как по
ступеням, буду я подниматься к небу! Если барс выйдет ко мне из снегов, я
благословлю его, как посланника покровителя... Ухожу и останусь там!
Проклятье тебе, Азиз-хон!
Бобо-Калон умолк.
- Одержимый он! - тихо, но внятно произнес кто-то в толпе басмачей. -
На надо трогать его... Пусть уходит!
- Да... Пусть уходит! Пусть сдохнет во льдах! - Азиз-хон резко отложил
в сторону маузер, которым перед тем играли его дрожащие руки. - Мы презираем
его и не слушаем его слов...
Бобо-Калон медленно стянул с плеч подаренный ему Азиз-хоном халат,
надетый поверх своего белого ветхого сиатангского халата. Смял подарок в
руках, швырнул его в костер. Блеснув серебром и золотом, халат развернулся в
воздухе, рукава его взметнулись, как крылья. Накрыв пламя, обвитый искрами,
он вспыхнул и распался в огне.
Снова прижав руки к груди, прямой, как всегда, Бобо-Калон вышел из
круга расступившихся перед ним басмачей. Ненавидимый сиатангцами,
презираемый басмачами, не оглядываясь, он дошел до тропы, уводящей к
Верхнему Пастбищу, и, удаляясь, белым пятном растворился в тени, перекрывшей
лунную мглу ущелья.
Азиз-хон плюнул на землю и, обратившись к руководившему дележкой
товаров, всеми в эту минуту забытому Науруз-беку, сказал:
- Продолжай!
Всю ночь не спал Кендыри, наблюдая происходящее. Сидел под навесом
своей цирюльни, бродил по крепостному двору, смотрел, слушал. Его одолевала
скука. Он был недоволен поведением Азиз-хона, но сознавал, что изменить
ничего нельзя. Азиз-хон, конечно, зарвался. Лучше, чем когда бы то ни было,
Кендыри понял его в эти последние сутки. Дружбы с сиатангцами, на которую
так рассчитывал Кендыри, у Азиз-хона не получилось. Не разбираясь толком в
политике Кендыри, изменяя свое могущество только количеством устрашающих
сиатангцев преступлений, Азиз-хон с самого начала изменил условиям заговора,
тщательно продуманным Кендыри и разработанным еще зимою в Яхбаре.
Разве так должны были развернуться события? Поддержанная дружбою
яхбарского хана сиатангская знать, возглавленная Бобо-Калоном, должна была
привести в повиновение жителей Сиатанга. Объединив их с яхбарцами
религиозным фанатизмом, настроить все селение против советской власти,
призвать его к действию в тот момент, когда русские красноармейцы появятся в
устье реки Сиатанг. Конечно, если б случилось так, Азиз-хон мог бы долго
оставаться здесь со своей бандой. Русским понадобилось бы много времени и
сил, чтоб сломить сопротивление Сиатанга и восстановить в нем советскую
власть. Миссия Кендыри была бы выполнена превосходно. Получилось иначе: вряд
ли теперь даже сами сиатангские сеиды и миры хотят, чтоб Азиз-хон задержался
здесь. Случай с Бобо-Калоном наполовину расстраивал планы Кендыри. На
поддержку населения Азиз-хону рассчитывать, безусловно, не придется.
Конечно, тот первый красноармейский отряд, который явится сюда дня через
два, будет уничтожен воинством Азиз-хона, но разве не ясно, что это воинство
стремится только как можно скорее вернуться восвояси с награбленной добычей?
Азиз-хон поспешит убраться отсюда, а это никак не входит в расчеты Кендыри.
Лишь бы не вздумал уйти немедленно! Все совершенное до сих пор оказалось бы
ненужной бессмыслицей, если б красноармейский отряд, явившись сюда, нашел бы
здесь только следы банды. В этом случае все происшествие никак не могло бы
послужить поводом для срыва дружественных переговоров между двумя
державами... "Слишком мало шума, - сказал себе Кендыри, досадуя на
Азиз-хона, - во что бы то ни стало надо удержать его здесь хотя бы на эти
два или три дня!.."
Так размышляя, Кендыри расхаживал по крепостному двору. Вся суматоха
вокруг, крики, споры, все эти чуждые ему страсти, разыгравшиеся при дележке
товаров, ему надоели. Он давно уже хотел спать, но превозмог себя, чтобы все
время быть в курсе событий. Прислушиваясь ко вновь и вновь возникающим
пререканиям Мирзо-Хура и халифа, он предвидел, что едва мелкие подачки
воинам будут розданы и настанет момент раздела основного груза между халифа
и купцом, пререкания эти перейдут в крупную ссору.
Кендыри не сомневался, что Азиз-хон скоро вспомнит о заключенной в
башню Ниссо. Но когда, наконец, расчеты с воинами были окончены, а Мирзо-Хур
и халифа, зевающие, бледные от усталости, решили поспать, прежде чем
заняться разделом товаров между собой, Азиз-хон с трудом встал и, держась за
свою забинтованную щеку, направился к палатке.
На рассвете в крепости наступило полное успокоение. Костры погасли.
Весь крепостной двор был усеян спящими где и как попало ханскими воинами.
Сеиды и миры лежали на коврах, укрытые ватными одеялами. Из селения уже не
доносилось никаких криков, - все было тихо и там.
Лошади дремали вдоль коновязи, понурив головы. Овцы и коровы в загоне
за мельницей лежали, приткнувшись одна к другой. Огромный коричнево-черный
гриф сидел на вершине башни, поглядывая на труп Мариам и терпеливо дожидаясь
своего часа.
Только на крыше мельницы, под которой лежали привезенные из дома
Бахтиора мешки с зерном, да вокруг груды не разделенных пока товаров, да еще
возле двери в башню, за которой томилась Ниссо, бодрствовало несколько
вооруженных винтовками стариков. Они казались такими же нахохленными и
терпеливыми, как гриф, застывший на верхней площадке башни.
Подойдя к крепостным воротам, Кендыри убедился, что за пустырем, перед
входом в ущелье, все еще дежурят всадники риссалядара. Подумал, что теперь,
пожалуй, можно лечь спать - до середины дня ничего нового не предвидится.
Подобрал брошенное посреди двора одеяло, прошел под навес своей цирюльни и
лег, подложив под голову локоть.
Мысли, однако, не отступали... Красноармейский отряд может явиться сюда
не раньше, чем через два дня. Бхара не меньше чем за сутки предупредит о
приближении отряда огнем или дымом костра вон на той далекой вершине. На
всякий случай надо не позже чем в следующую ночь сообщить о красноармейцах,
как о внезапной новости, Азиз-хону... Организовать в сиатангском ущелье
засаду...
И, уже засыпая, Кендыри стал гадать, как отнесется к этой новости
Азиз-хон? Не струсит ли, чего доброго? Что-то уж слишком охотно предоставлял
он до сих пор всю инициативу риссалядару...
Кендыри спал меньше часа. Он видел себя в большом кабинете, за круглым
столом. Стекла массивных книжных шкафов поблескивают вдоль стен кабинета.
Хрустальная люстра множит и переливает яркий свет, бьющий из-под потолка.
Семь профессоров сидят за круглым столом, и Кендыри, скрывая смущение,
медленно обводит взглядом их гладко выбритые, выжидающие, строгие лица. Если
Кендыри выкажет смущение, - шесть лет обучения пропадут даром! Шесть лет
назад он еще имел право смущаться, непроизвольно улыбаться, выражать своими
глазами любое чувство, охватывавшее его, и не думать об управлении каждым
мускулом своего лица... Теперь неподвижное лицо его стало маской, и это
считается одним из первых его положительных качеств. Но он смущен сейчас: он
уж слишком долго обдумывает ответ на последний вопрос. Неужели сорвется? Ему
неловко, что он волнуется, - таким, как он, ни при каких обстоятельствах
волноваться нельзя! Он чувствует, что две-три ближайшие минуты решат его
судьбу. Он напрягает волю, вспоминает все, чему учили его, - неужели он не
ответит на этот проклятый вопрос?
"Я дал бы им всем слабительное, - наконец решительно отвечает он, - и
проверил бы содержимое их желудков!.."
"Да, да!" - Легким утвердительным кивком сидящий прямо против него
профессор подтверждает, что судьба его решена благополучно. Шесть лет труда
не пропали! Все удалось! Но над ним обезьяна, - уцепившись мохнатой рукой за
люстру, над ним висит обезьяна. Ему непонятно: зачем им понадобилось
испытывать его еще этой неожиданной обезьяной? Она кладет руку ему на плечо
и трясет его...
Кендыри открывает глаза: в лицо ему бьет яркий солнечный свет.
Склонившись над ним, сжимая рукой плечо, осторожно трясет...
- Это ты, Бхара! - не обнаруживая удивления, спокойно говорит Кендыри.
- Почему пришел?
- Питателю трав и всех растений, привет солнцу, привет луне, привет
пречистому, привет всемирному! - скороговоркой говорит Бхара, и его беззубый
рот похож на дыру. По бесчисленным морщинам его лица текут мелкие капельки
пота. - Я не успел зажечь огонь. Я бежал, лошади не бегают так... Красные
русские солдаты идут к устью реки!..
Сна как не бывало. Кендыри сразу садится, глядит на согнувшегося перед
ним на корточках Бхару:
- Уже? Ты видел их?
- Вчера утром сидел на горе на полдороге к устью Зархока. Смотрю: едут.
Сосчитал: пять. Ждать других - пропустил бы этих. Как обогнать бы их?
Увидели бы меня! Побежал к реке, надул козью шкуру, плыл по Большой Реке,
потом побежал сюда... Сейчас они, наверно, подошли к устью, вечером могут
прийти сюда. На тропе воинов нет...
- Что еще?
- Все, высокий! Где быть мне?
- В камнях. Ты видишь - тебя не видят. Иди!
Бхара исчез. "Если б не догадался плыть по Большой Реке, пожалуй, не
опередил бы их, - подумал Кендыри, охватив руками колени. - Машина работает
быстрее, чем я предполагал. На целые сутки раньше!.. Да, просчитался бы я,
если бы вместо Бхары направил наблюдателем кого-нибудь из этих ханских
кретинов! Однако надо немедленно действовать!.."
Разбуженный Азиз-хон был совершенно ошеломлен новостью. Он расхаживал с
Кендыри вдоль крепостной стены, дрожащей рукой поглаживая свою черную
бороду. Он струсил так, что успокоительные слова Кендыри долго не доходили
до него. Кендыри видел: Азиз-хон на своих воинов не надеется, и даже
заверение, что красноармейцев не может быть больше двадцати - двадцати пяти
человек, не вызвало у растерянного и удрученного хана воинственного пыла.
- Откуда взялись? Как узнали они? Что теперь делать? - растерянно
задавал Азиз-хон вопросы и то порывался сейчас же будить всех своих воинов,
то просил Кендыри хранить новость в строжайшей тайне.
- Вот что, мой друг, - наконец брезгливо объявил Кендыри. - Надо
немедленно ставить засаду в ущелье, назначить всех вооруженных винтовками.
Впереди этой засады поставить другую, которая пропустила бы красноармейцев и
завалила бы за ними тропу камнями так, чтоб они не могли отступить. Все
очень просто. Красноармейцы будут уничтожены до последнего человека.
- Хорошо, - наконец ответил Азиз-хон. - Я пошлю риссалядара ставить
засады, ты тоже поезжай с ним, покажи, где и как, дай хороший совет.
- А ты?
Азиз-хон ответил лишь после продолжительного раздумья. Следя за
выражением его лица, Кендыри поймал быстрый, украдкой брошенный взгляд в
сторону тропинки к перевалу Зархок.
- Я здесь останусь вместе с Зогаром, - ответил Азиз-хон. - Пусть все
видят: спокоен я.
Кендыри понял значение пойманного им взгляда: конечно, от Азиз-хона
можно этого ожидать! Он хочет быть в стороне от событий и в случае неудачи,
бросив всех, спастись сам. Он возьмет с собой Ниссо и Зогара, кинется к
перевалу Зархок и постарается кружным путем пробраться в Яхбар.
- Нет, Азиз! Так не будет. Ты и Зогар тоже должны быть в засаде. Твое
присутствие воодушевит твоих воинов.
- Я здесь буду. Я сказал! - мрачно заявил Азиз-хон, не глядя на
Кендыри, не постеснявшегося лишить его даже этого "хон"...
- Вот что, Азиз! Я вижу, ты сомневаешься, что мы победим. Это глупости,
конечно: у тебя шестьдесят винтовок, почти сотня воинов. Тех - не больше
двадцати - двадцати пяти человек. Ты прекрасно знаешь: один храбрый человек
в наших местах, сидя в хорошей засаде, может уничтожить сотню врагов. Но
даже если... Чего бояться тебе? Ты должен помнить одно: что бы ни случилось,
ты молчишь обо мне. Я знаю тебя: молчать ты умеешь. Даже если бы ты попал в
плен, тебе не грозит опасность. Мои люди сделает все: ты будешь обменен на
крупного человека, ты нам нужен еще, и ты будешь жив, вернешься в Яхбар.
Беспокоиться тебе не о чем. Но если б ты предал меня, тебе спасения нет: ни
здесь, ни в Яхбаре. В плену будешь - русские тебя уничтожат. В Яхбар
свободным вернешься - мои люди найдут тебя и убьют.
- Твой разговор хорош! - то ли с язвительностью, то ли с покорством
пробормотал Азиз-хон. - Зачем говорить о моем молчании? Я знаю тебя и твоих
людей. Но если другие?
- Кто другие? Риссалядар? Халифа? Им тоже скажи.
- Купец... Науруз-бек...
- Об этих не беспокойся. Мое дело. Больше никто обо мне не знает. А
теперь победи свой страх, подними людей, поезжай готовить засаду. Я хочу
здесь остаться один. Позже приеду к тебе, посмотрю... Ручаюсь: сегодня
вечером ни один красноармеец живым не будет. Ты понял меня, Азиз?
Азиз-хон больше не спорил. Он понял главное: Кендыри помешает ему
бросить всех и бежать. Он постарался придать своему лицу выражение
уверенности и величественного спокойствия и уже хотел сразу будить свое
воинство.
- Подожди, Азиз-хон! - быстро сказал ему Кендыри, успевший обдумать
новый шахматный ход: под любым предлогом немедленно удалить Азиз-хона из
крепости. - Ты сейчас молчи. Садись на коня, поезжай один к риссалядару.
- Зачем?
- Пусть приедет сюда. Нам сначала нужно посовещаться втроем.
- Разве хан не может послать гонца? - возмутился Азиз-хон.
- Не обижайся. Ты должен поехать сам. Все спят, пусть спят, никто не
должен проснуться до времени. Разве хан не может проверить, как несут
дежурство его подчиненные? Садись, поезжай.
- Не понимаю тебя.
- Ты поймешь... Это важно... Стой здесь, я подведу тебе коня сам.
Кендыри отошел. Азиз-хон остался на месте, стараясь подавить свое
оскорбленное самолюбие, обиду, негодование, страх... Он слишком хорошо
понимал, что все его могущество и власть - пустой звук для этого
повелевающего им иноземца.
Когда Кендыри подвел коня, Азиз-хон сел в седло и молча уехал. Кендыри
знал, что настроение Азиз-хона может измениться в любую минуту, и не
доверялся ни обещаниям его, ни покорности. Кендыри обернулся, внимательно
поглядел на двух сидящих у дверей башни стражей; склонясь на свои винтовки,
они храпели. Кендыри оглядел весь двор, - ни одного бодрствующего человека
во дворе не было. После трех бессонных ночей, после всех волнений спали
крепко.
Кендыри быстро прошел к камням, нагроможденным за башней. Над обрывом к
реке помахал рукой: Бхара должен был его видеть. И Бхара мгновенно возник
перед ним, подбежав неслышно и осторожно.
- Стой здесь. Смотри, слушай! Если кто-нибудь из этих двоих проснется -
перережь горло. Тихо сделаешь! - Кендыри протянул Бхаре свою большую
железную бритву.
- Так, высокий! - послушно пролепетал Бхара.
Кендыри, миновав стражей, на цыпочках подошел к двери башни. Скинул
веревку, заменяющую засов, резко распахнул дверь, проскользнув в башню.
Связанная по рукам и ногам, Ниссо в полубеспамятстве лежала на каменном
полу. Дневной свет заставил ее приоткрыть глаза. Не поворачивая головы, она
застонала. Кендыри подскочил к ней, закрыл ей рот ладонью:
- Это я, Кендыри! Тише, Ниссо! Все спят сейчас, я хочу спрятать тебя,
спасти от Азиз-хона тебя, понимаешь?
Ниссо смотрела на Кендыри расширенными, испуганными глазами. Она не
понимала, что он говорит. Сколько времени провела она здесь в мраке и
одиночестве? И, не зная, что происходит за стенами башни, видя перед собой
только страшное с выколотыми глазами лицо Мариам, до сих пор ощущая на своем
горле петлю, не спала ни минуты, непрестанно ожидая, что вот дверь
откроется, к ней войдут, чтоб ее пытать и убить. Страх то сковывал ее
ледяным холодом, то жег так, что она покрывалась испариной. Вначале она
билась, пытаясь освободиться от режущих веревок, затем, обессилев, лежала в
полузабытьи, желая только, чтоб все это скорее кончилось... И ужас вновь
охватывал ее, и она опять начинала биться и кататься по каменному холодному
полу. И когда по ней снова проползла змея, она в исступлении закричала и
кричала долго, пока не охрипла, не потеряла голос. После этого она замерла,
закрыв глаза...
И вот свет, яркий, режущий - глазам больно! За нею пришли...
- Я Кендыри! - наконец дошел до ее сознания тихий голос. - Я спрячу
тебя, чтоб никто не тронул тебя, только тихо, тихо!
Кендыри подхватил ее на руки, вынес на яркий солнечный свет, еще раз
шепнул: "Тихо!" Какой-то другой, дикого облика человек подхватил ее ноги.
Оба бегом кинулись к камням, вместе с Ниссо припали к земле. Кендыри
выглянул из-за камня, прошептал:
- Хорошо. Все спят... Там, за овечьим загоном, большие зерновые ямы.
Отведи ее туда, Бхара, спрячь в яму, сверху закрой камнями... Ты, Ниссо, не
бойся его!
Отполз, встал, спокойно вернулся к башне, закрыл дверь, взглянул на
двух спящих, свесивших головы басмачей, неторопливым шагом вернулся на то
место у крепостной стены, где оставил его Азиз-хон, сел на обрывок мешка.
Азиз-хон вместе с риссалядаром въехал в крепость. Кендыри встретил их,
помог Азиз-хону сойти с коня.
- Ты знаешь то, что я просил Азиз-хона тебе передать? - спросил Кендыри
риссалядара.
- Знаю! - Лицо риссалядара было серым от бессонницы и усталости.
- Что скажешь?
- Скажу: тебя надо убить или сделать тебя святым! - мрачно и откровенно
произнес риссалядар.
- Можно и то и другое вместе! - усмехнулся Кендыри. - Только ни ты, ни
Азиз-хон не сделаете этого. Не так ли?
Оба промолчали. Кендыри сказал:
- Поблагодари меня, риссалядар! Азиз-хон хотел взять Ниссо и Зогара,
бросить тебя, всех воинов и бежать в горы. Я просил его не делать этого. Не
так ли, мой дорогой хан?
- Тот, кто, живя, смеется, умирая, плачет! - сдерживая ярость, кинул
Азиз-хон. - О чем совещаться будем?
- Не сердись, достойный, - произнес Кендыри. - Я совещаться раздумал.
Все ясно. Иди будить воинов!
Круто повернувшись, Азиз-хон бросил повод коня в руки риссалядару и
пошел к палатке.
Когда все басмачи после долгого переполоха, беганья по двору, криков,
приказаний и угроз риссалядара были уже на конях, Азиз-хон велел Зогару
войти с двумя воинами в башню и привести к нему Ниссо: он решил взять ее с
собой в засаду. Зогар, обнаружив исчезновение Ниссо, вернулся к палатке
бегом. И тут Кендыри впервые увидел, в какое бешенство может впасть
Азиз-хон. Разъяренный, с пеной у рта, он сам избил плетью старика,
охранявшего башню, - бил его по лицу и плевал на него, и, охрипнув от
ругательств, топтал его ногами, когда тот повалился на землю. Второй страж
тем временем успел ускользнуть. Воины риссалядара, сидя на конях, угрюмо и
безмолвно смотрели на это зрелище.
- Искать! - наконец хрипло заорал Азиз-хон. - Всем искать! Горы
перевернуть! Мы никуда не уедем, пока я сам не казню эту тварь!
Риссалядар, приподнявшись на стременах, взмахнул саблей:
- Пока будем искать, красные солдаты придут сюда! Давай едем!
Конь риссалядара галопом вылетел из ворот крепости. Басмачи, совсем не
желая испытывать на себе бешенство Азиз-хона, со свистом и гиканьем
понеслись за риссалядаром. Последним выехал халифа. Двор крепости опустел.
Азиз-хон в полной растерянности заметался по двору. Равнодушный, с
бесстрастным лицом, Кендыри подвел к Азиз-хону его коня.
Белый от ярости, Азиз-хон двумя руками схватил Кендыри за плечи и,
впиваясь в него своим налившимся кровью глазом, прошептал:
- Ты?
Кендыри, бросив повод, спокойно взялся за кисти рук Азиз-хона, сжал их
особым приемом, отвел от своих плеч, отступил на шаг, небрежным движением
распахнул халат: Азиз-хон увидел на поясе Кендыри новенький парабеллум.
Кендыри положил на него пальцы.
- Напрасно волнуешься, Азиз-хон. Когда ты перебьешь русских - всех, до
одного человека, - ты получишь свою Ниссо. Я спрятал ее потому, что она
мешает тебе воевать. Сделаешь с ней, что захочешь! И не беспокойся, - я даю
тебе клятву: она будет цела! Не горячись. Не ищи. Не найдешь!
- Ты дьявол! - прошептал Азиз-хон.
- Не будем ссориться, хан! - дружелюбно усмехнулся Кендыри, и его
всегда холодные глаза сейчас были веселы. - Я друг тебе и другом твоим
останусь... Садись на коня, поезжай!..
Закусив губу, но тут же застонав от боли, какую причинила раненая
челюсть, Азиз-хон сел на коня, вытянул его плетью так, что он взвился на
дыбы, и карьером помчался вдогонку банде.
Кендыри стоял, смотря ему вслед и беззвучно смеясь.
Во дворе крепости на коврах перед палаткою шептались сеиды и миры.
Купец Мирзо-Хур ходил вокруг груды товаров, ревниво на них посматривая.
Науруз-бек, следя за Кендыри, жевал сухими губами. Перед башней лежал
окровавленный, забитый насмерть басмач.
Буро-черный гриф, распялив когти на плечах Мариам, раскачивал ее тело.
С высокой горы за всем, происходящим в селении, в восьмикратный бинокль
наблюдал Швецов. Время от времени он передавал бинокль лежавшему рядом с ним
Худододу.
Одежда у нас из чудесного льна, -
Он нашей свободой креплен,
В нем плавятся пули, война не страшна
Для тех, кто одет в этот лен.
Все пули расплющив, из груды свинца
Отлили мы Славы Тетрадь, -
Чтоб вечной была, чтобы сын про отца
В нее мог всю правду вписать!
Письмена на скалах
В короткие минуты, когда сознание возвращалось к Шо-Пиру, его начинало
мучительно знобить. Утреннее солнце, пробиваясь в щель, где лежал Шо-Пир,
согревало его. Израненное тело чувствовало каждую неровность каменного ложа.
Женщины, с рассвета попрятавшись поодаль, в камнях, следили за тропой.
Они видели, как басмачи один за другим проскакали к Большой Реке, а за ними,
стреляя, на галопе промчались солдаты, одетые, как Шо-Пир, - наверно,
русские.
Долго слышалась стрельба по ущелью, затем несколько солдат проскакали
обратно, за ними шагом проехали еще несколько, гоня перед собой к Сматингу
спешенных басмачей, с закруженными за спиной руками.
Саух-Богор пробралась к Шо-Пиру, заглянула ему в лицо, - ждала его
взгляда. А когда он полуоткрыл глаза, радостно зашептала ему в ухо,
рассказывая все, что видела на тропе.
Шо-Пир понял только, что в сиатангском ущелье появились красноармейцы.
Но как и откуда они пришли? Он знал, что Карашир давно ушел в Сиатанг, и
теперь надеялся на спасение.
Затем на несколько часов он снова спал в беспамятство. Когда, отправив
бойца с конем обратно, гарнизонный врач Максимов, предводительствуемый
Караширом, пробрался вдоль берега к убежищу Шо-Пира, где его встретили
женщины, Шо-Пир был еще без чувств.
Маленький, быстрый в движениях Максимов, ни слова не говоря, скинул
шинель, склонился над раненым, пощупал пульс, прислушался к сердцу, осмотрел
рану в плече и сломанную руку Шо-Пира. Раскрыл медицинскую сумку, вынул и
аккуратно разложил на сухом камне марлю, бинт, йод, нашатырный спирт - все,
что могло понадобиться.
Скрестив пальцы на обломке басмаческой сабли, Карашир сидел поблизости,
сосредоточенно наблюдая за движениями Максимова. Женщины стояли тут же,
полукругом. Им розданы галеты, но, забыв о голоде, они наперебой шепотом
расспрашивали Карашира о новостях. Карашир ответил, что в селении не был,
знает, что Исоф жив, Рыбья Кость жива, но кто еще жив, а кто мертв - не
знает, и велел женщинам молчать, "не мешать русскому доктору".
Расслышав сквозь шум реки короткий крик наверху, Карашир подхватил свою
одиннадцатизарядную винтовку, с которой не расставался вторые сутки, и
отбежал взглянуть на тропу.
Три красноармейца ехали шагом в сторону селения. Перед ними гуськом шли
пленные басмачи, связанные одной длинной веревкой. Карашир вернулся к
Максимову и в ответ на его вопросительный взгляд с важностью поднял руку: не
беспокойся, мол, продолжай свое дело...
Шо-Пир застонал, едва Максимов нащупал его сломанную кость. Не обращая
внимания на стоны раненого, Максимов довел процедуру до конца.
- Ну как, браток, дышишь?.. Вот и все! - сказал Максимов. - Теперь твое
дело верное. Такому богатырю жить да жить!..
Шо-Пир пошевелил губами, силясь что-то сказать, но язык не повиновался
ему.
- Воды! Дайте ему воды! - сказал Максимов, протягивая женщинам пустую
флягу. Саух-Богор поняла, схватила флягу, помчалась к реке.
Жадно отпив несколько глотков, Шо-Пир облизнул пересохшие губы,
остановил взгляд на синих петлицах врача:
- Отку... откуда... вы... взялись?
- Не надо разговаривать... Слушайте, а сами молчите... Из Волости,
отряд Швецова... Пришли через перевал Зархок, вашего парня встретили в устье
реки Зархок, показал нам дорогу...
- Зак... Закры... Закрыт... - с трудом произнес Шо-Пир.
- Закрыт перевал? - понял Максимов. - Молчите, вам говорю... Верно,
закрыт, снега немало. А только где коза пройдет, там и наш брат пройдет, по
теории: ползком, где низко, тишком, где склизко. Басмачи нас не ждали
оттуда. Как только они в ущелье забрались, так мы сверху, проскочив селение,
ущелье закрыли. А снизу, с Большой Реки, у нас пять хороших ребят это же
ущелье закупорили! Вот и оказалась банда вся, как в трубе... Тут им каюк!..
Кое-кто, правда, прямиком на скалы полез; а кто в реку стал прыгать - но,
думаю, немногие выплыли. Других и сейчас еще ловим, - выстрелы слышали?
Ну-ну, не надо отвечать, тихо лежите... Сейчас на тропу вас потащим.
Придется немножко помучиться, да вы, я думаю, терпеливый. А там носилки
соорудим и - пожалуйте на отдых в селение...
- Аз... зиз... хон?..
- Азиз-хон? Главарь их? - Максимов кивнул на Карашира, насторожившегося
при упоминании имени хана. - Вот спасибо ему! Живьем взяли...
- Ниссо... Бахтиор... Мариам... Гюльриз, - собравшись с силами,
отчетливо проговорил Шо-Пир.
Максимов рассердился:
- Велел я вам не разговаривать? Извольте молчать... Живы, все живы.
Нечего о других спрашивать, сам еще чуть живой...
Шо-Пир закрыл глаза. Он опять потерял сознание. Максимов долго возился
с ним, стараясь привести его в чувство, потом махнул рукой и с помощью
женщин и Карашира подложил под Шо-Пира свою шинель.
Поднятый на шинели, Шо-Пир застонал, голова его запрокинулась. Врач
беспомощно оглянулся: чем бы заменить подушку? Карашир посмотрел на женщин,
потом на свой халат, не задумываясь, обломком сабли отхватил от него длинную
полу, скрутил ее в комок, подложил под голову Шо-Пира, поддерживаемую
врачом.
Осторожно ступая шаг за шагом, Шо-Пира понесли по кромке береговых
скал.
Через полчаса на носилках, сделанных из шинели и двух палок, Шо-Пир был
в пути к селению Сиатанг.
В том месте, где накануне располагался штаб басмачей, ожидавший взятия
каравана, Карашир указал женщинам на узкую, уходящую вверх осыпь, из которой
выступали острые зубья скал:
- Здесь его взял я.
- Кого? - спросила Саух-Богор.
Карашир гордо ткнул себя в грудь кулаком:
- Азиз-хона... Сам взял, понимаешь? Я, Карашир, взял хана... Трое было
их: хан, халифа и мальчишка. Увидели они - дела плохи: сзади - красные
солдаты, спереди бой идет, тоже, значит, солдаты. Бросил всех хан, сюда
убежать хотел. А наверху я сидел. Понимаешь, вон там - смотри наверх - за
той скалой я сидел. Почему сидел? В Сиатанг шел. На тропе - басмачи, думаю:
выше пройду. Поверху шел, где козел лазать не может. Бой начался - сижу,
ждать надо. Сверху видно: три яхбарца на лошадях, за ними, по тропе, уже
близко солдаты. Не видят этих людей... Правду скажу, Саух-Богор: не думал я,
что это сам Азиз-хон. Бросил он лошадь, два других тоже бросили. Выстрелили
в лошадей. Лошади в реку упали. Сами лезут сюда. Ой-ой, страшно, думаю:
короткие ружья, сабли в руках... Прямо на меня лезут... Убежать, думаю. А
потом думаю: хорошее ружье есть у меня. Зарядов нет, только я себе сказать
не хочу, зарядов нет. Уйдут, думаю, эти люди от красных солдат. И еще думаю:
не знают они, что в ружье у меня нет зарядов. Сижу. Страха нет больше.
Красные солдаты внизу показались, вот здесь, где идем сейчас. Теперь, думаю,
ничего: помощь у меня есть. Кричу: "ай-ио!.. ай-ио!.." Вот красные солдаты
Азиз-хона увидели. И я вижу: сам Азиз-хон. Думаю: я Карашир, моя жизнь
ничего не стоит, может быть, овца волка съест. Вот стреляют они: Азиз-хон,
халифа, Зогар - вниз; красные солдаты - вверх, мимо меня пули. Ничего,
думаю, пуля умная. Азиз-хон лезет, жарко ему, раздевается. Понимаешь, халат
один сбросил, халат другой сбросил, чалму сбросил, если б не увидал моего
ружья, совсем голый, наверно, остался бы. Я высунул ружье - прямо в рот ему
смотрит. Откуда он знает, что зарядов нет? Кричу: бросай маленькое ружье.
Саблю бросай! - кричу. Вот бросил он. Халифа тоже бросил. Мальчишка не хотел
бросать, Азиз-хон кулаком ударил его, - тоже бросил. Стоят... Ай,
Саух-Богор, понимаешь, стоят, как пустые деревья зимой. Вот красные солдаты
снизу подошли, взяли их. Меня тоже сначала взяли: думали, я басмач... Потом
Худодод прискакал, смеются тогда, начальник их целует меня. Вот так целует
меня: смотри, ай, спасибо ружью!
Карашир, продолжая шагать по тропе, скинул с плеч винтовку, поднял ее
на ладонях, бережно поцеловал затвор. Саух-Богор рассмеялась:
- Ты, наверно, врешь, Карашир?
- Проклята будешь ты, и я буду проклят, - рассердился Карашир, - если
четверть слова неправда! Вот русский доктор все знает. Вот все уже это
знают. Овца я? А вот не волка, целого Аштар-и-Калона съел я...
- А где Азиз-хон сейчас?
- В селении он. Не знаю где. У красных солдат... Ай, собака! Ай,
скорпион, как мне он попался!.. Вот спасибо мне! Вот я теперь большой
человек! Иди... Разговаривать с тобой надоело!
Подтолкнув женщину, усомнившуюся в правдивости его слов, Карашир важно
зашагал дальше и, видимо позабыв обо всем окружающем, позабыв даже о
Шо-Пире, который покачивался впереди на носилках, запел песню, впервые в
жизни запел песню, - слова ее придумались тут же. Сначала тихо запел,
повторяя: "Волка съела овца, клыки съела его, когти съела его!", потом
вдруг, во весь голос, на все ущелье вывел такую ноту, что Максимов,
удивленный, приостановился, шагнул к нему:
- Ты что? Рехнулся?
Но, важный, с обрезанной полой халата, с винтовкой под локтем, Карашир
был так забавен, что доктор не мог удержать улыбки.
Дом Бахтиора басмачи не успели разрушить. В пристройке Швецов поместил
свой штаб, а комнаты были превращены в лазарет. В горячке, в бреду,
извлеченная из зерновой ямы, Ниссо лежала у окна.
Комната Шо-Пира была застлана вдоль стен соломой и одеялами; несколько
ущельцев и два красноармейца лежали на них. У самой двери вытянулась Рыбья
Кость.
Отряд Швецова еще действовал на всем протяжении ущелья - от селения до
Большой Реки. Худодод с несколькими факирами, вооруженными отнятыми у
басмачей винтовками, наводил порядок в сиатангской долине. Он разыскивал
отдельных попрятавшихся среди скал басмачей, сволакивал трупы других к
берегу реки, собирал разграбленное имущество и товары каравана, ловил
разбежавшихся лошадей.
Худодод принес из крепости несколько отрезов ситца и передал их
Гюльриз, что вместе с Зуайдой она сделала соломенные тюфяки для раненых и
больных.
Гюльриз и Зуайда шили мешки для тюфяков, сидя на полу лазарета, возле
Ниссо. Гюльриз беспрестанно вскакивала, подходила к окну: не покажется ли ее
Бахтиор? Никто не знал о нем ничего, в селении он не появлялся,
красноармейцы, возвращающиеся вместе с факирами из ущелья, не могли дать о
нем никаких сведений. Гюльриз была уверена, что он жив, и несколько раз
порывалась уйти на поиски, но Швецов не позволил никому, кроме вооруженных,
возглавляемых Худододом факиров, выходит из селения до полной ликвидации
банды; на подъеме к перевалу Зархок и у первого мыса ущельной тропы Швецов
поставил пикеты.
Была середина дня. От ущелья и с гор издалека доносились выстрелы. Из
окна школы видно было, как через пустырь к крепости время от времени
проезжали небольшие группы красноармейцев, сопровождавшие пленных. Ущельцы
встречали басмачей криками ярости, грозили им камнями, палками, готовы были
разорвать их.
- Дай руку, нана, - бормотала Ниссо, - помоги, вынь клюв из моей груди,
он рвет меня, душу рвет... Жарко мне. Больно мне...
- Успокойся, Ниссо! - Гюльриз дотрагивалась ладонью до горячего лба
девушки. - Лежи тихо, не вскакивай... Покровитель, что делать мне с ней?..
Успокойся, никто тебя больше не тронет...
- Шо-Пир, сбрось змею... И-о, Али, она на шее его, она душит его.
Шо-Пир, твоя шея черная... Оставьте его, не убивайте Шо-Пира... - Ниссо со
стоном откидывалась на подушку, кричала: - Убили его! Они убили его...
Обними меня, Мариам, мне страшно...
Слушая бред Ниссо, Гюльриз в отчаянии закрывала лицо руками.
- Воды! Дай ей воды, бабушка! - вмешивался рябоватый красноармеец с
простреленной ногой. - Тряпку намочи, на лоб положи.
Гюльриз не понимала, что говорит ей этот красный солдат, а он тянулся
рукой к пиале, стоявшей на полу у изголовья.
Гюльриз вставала, приносила воды, но Ниссо отказывалась пить. Рыбья
Кость стонала в углу, - все лицо, все тело ее было в кровоподтеках. Оказав
первую помощь, врач Максимов уехал в ущелье и вот уже несколько часов не
возвращался.
- Где Шо-Пир? - вдруг приподнималась Ниссо, глядя в глаза Гюльриз.
Гюльриз радовалась, что бред Ниссо кончился.
- Здоров Шо-Пир. Вернется сейчас.
- А ты знаешь, нана? Они повесили Мариам, - сообщала Ниссо, и старуха
снова впадала в отчаяние.
- Знаю, Ниссо... Их поймали.
- Азиз-хона поймали?
- Поймали. В башне он, под замком... Красные солдаты стерегут его.
- В башне?.. Вот хорошо...
Ниссо опять откидывалась на подушку, лежала тихо, а потом снова
начинала бредить.
- Позови Бахтиора, нана. Скажи ему - пусть ищет Шо-Пира... - вдруг
резко требовала Ниссо, и Гюльриз, сдерживая рыдания, отвечала:
- Он пошел уже. Он пошел.
Внезапно послышался стук копыт, оборвался под окном. Гюльриз кинулась к
окну. "Нет... Не он!" - прошептала она и снова взялась за шитье. В комнату
вошел Худодод, обвешанный оружием.
- Как вы тут, нана?
- Бахтиора не видел?
- Не видел, нана. Не волнуйся, Карашир сказал: в горах он скрывается.
Многие уже пришли с гор. Радость у нас: Шо-Пир жив.
Ниссо приподнялась:
- И-о, Али... Говори, где он?..
- Он ранен. Карашир нашел его. Доктор поехал с Караширом за ним.
Ниссо расплакалась.
- Значит, и сын мой жив! - убежденно сказала Гюльриз.
- Как ты отыскал Ниссо, Худодод? - спросила Зуайда, убирая с колен
сшитый ею мешок.
- Разве ты, Ниссо, сама не рассказала им?
- Не помню я, Худодод... - тихо ответила Ниссо. - Темно было мне.
Худодод сел на пол, положил винтовку рядом, снял с плеча ремень кривой
басмаческой сабли.
- Вот, с перевала спустились мы. Командир с красными солдатами -
налево, через пустырь, к ущелью. А я и со мной два красных солдата - по
селению, направо к крепости. Тут наши люди - Нигмат, Исоф, много людей, даже
Али-Мамат, - из домов выбежали, обрадовались, кричат!
- Подожди, Худодод! - перебила Ниссо. - О Шо-Пире расскажи, куда ранен
он?
- Не знаю, Ниссо. Карашир сказал, жив будет... Рука сломана, сказал. В
реку прыгал он...
- Больно ему, скажи?
- Конечно, больно, Ниссо... Ничего. Доктор поехал за ним, сам командир
послал... Палки хватают наши люди, кирки хватают, еще вилы, лопаты... Сразу
- к крепости мы... Вот крепость. Видим: большой пожар начинается, наше зерно
горит. Сеиды бегают. Купец другие мешки поджигает... Кендыри подбежал к
купцу, убил его из маленького ружья. Повернул ружье, выстрели прямо в лицо
Науруз-беку. Науруз-бек тоже упал, оба мертвые. Кендыри бросил маленькое
ружье, смеется, целует меня. "Вот, - кричит, - две собаки. Я их убил. Наше
зерно подожгли. Вот смотри, - кричит, - убил я волков. Тушите огонь, -
кричит, - Ниссо тоже спас я, жива она, в зерновой яме сидит, тушите огонь
сначала..." Мы огонь тушим, Кендыри помогает нам. Когда потушили, Кендыри
повел нас, показал, - камни над зерновой ямой, и ты, Ниссо, там живая...
- Хороший человек Кендыри, - сказала Ниссо. - Я ничего не помню. Где он
сейчас?
- Дома у себя. Спать пошел. Устал, говорит. Как можно спать сейчас, не
понимаю.
- Худодод, скажи, - умоляющим тоном произнесла Ниссо. - Мариам где?
Худодод с недоумением посмотрел на Ниссо, переглянулся с Зуайдой и
Гюльриз. Те сокрушенно опустили головы.
- Разве ты не знаешь, Ниссо? - осторожно спросил Худодод.
- Ай! Знаю, знаю! - голос Ниссо превратился в вопли. - Тело черное ее,
глаз нет, душа превратилась в птицу, в маленькую птицу, большая птица
просунула голову в грудь ей, заклевала душу ее...
- Оставь ее, Худодод, - тихо произнесла Гюльриз, - не говори с ней.
- Я пойду, - печально сказал Худодод, поднял с пола винтовку и саблю,
встал, в дверях оглянулся на Ниссо, вздохнул, вышел.
В комнате не нарушалось молчание. Рыбья Кость не стонала больше.
Рябоватый красноармеец с простреленной ногой скручивал над своей грудью
цигарку. Крупицы махорки сыпались ему на грудь, он тщательно собирал их одну
за другой. Зуайда встала, поднесла ему зажженную спичку. Ниссо лежала,
закрыв глаза.
Клубы махорочного дыма медленно расходились по комнате. Цокот копыт
затих вдали. Выстрелов давно уже не было слышно. Время тянулось томительно.
На коленях Гюльриз и Зуайды шуршал перебираемый ими ситец, из которого шили
они тюфяки. Красный свет заката лег косыми лучами в окно, тронул веснушчатое
широкоглазое лицо Зуайды.
Снаружи послышался шум. Гюльриз подскочила к окну, увидела медленную
процессию, вошедшую в сад, - трех красноармейцев, Карашира, русского
доктора. Красноармейцы несли через сад носилки. За ними, обнявшись, шли Исоф
и Саух-Богор. Винтовка Исофа висела на его плече вниз стволом.
- Шо-Пира несут! - дико вскрикнула Гюльриз, заметалась по комнате,
кинулась в дверь.
Ниссо, словно подкинутая чьей-то сильной рукой, бросилась за старухой.
Выбежав в сад и увидев на носилках мертвенно-бледное лицо Шо-Пира,
пронзительно закричала:
- Убили его... Моего Шо-Пира убили!..
- Тише ты! - подхватил ее под руку Карашир. - Не кричи, он живой...
Слышишь? Живой.
Шо-Пира внесли в комнату, осторожно положили на соломенный тюфяк,
покрытый двумя одеялами. Ниссо опустилась на колени, лбом осторожно
коснулась ног Шо-Пира, замерла.
Пленный басмач Курбан-бек, который был конюшим халифа, а потому при
налете ехал непосредственно за Азиз-хоном, на предварительном допросе,
учиненном Худододом в присутствии Швецова и младшего командира Тарана,
заявил следующее:
- Я не басмач. Видит покровитель, я просто слуга халифа. Куда он ездил,
туда я ездил. Чистил лошадь его, кормил лошадь, поил лошадь. У него лошадь
легкая, белая. Его лошадь...
Худодод велел басмачу не распространяться о лошадях, а рассказать о
том, о чем его спрашивают.
- Хорошо, - сказал Курбан-бек. - Против реки Сиатанг через Большую Реку
переправлялись, так?
- Так, - сказал Худодод. - Еще короче.
- Еще короче? Едем, Азиз-хон впереди, халифа впереди, купец и Зогар
впереди, я сзади. Так было. Их спросите, - так было. Едем. Ружье у меня
есть, но стрелять не умею, - нехорошее дело стрелять. Ничего, думаю, когда
все станут в людей стрелять, я не стану, басмачом быть не хочу.
- Копыто осла тебе! - рассердился Худодод. - Будешь рассказывать или
нет?
- Рассказываю, достойный, рассказываю! - заторопился басмач. - Едем по
ущелью, совсем недалеко от Большой Реки отъехали. Тропа узкая, слева скалы
вниз, справа скалы вверх, кругом скалы. Смотрим: на тропе пять человек. Ломы
у них, кетмени, лопаты в руках. Идут. Остановились. К стене прижались, -
тропа узкая. Какие люди - не знаю. Азиз-хон посмотрел на них, сказал:
"Кланяйтесь, верные..." Они смотрят волками... нет, правду скажу, - не
хотели кланяться... Азиз-хон остановил лошадь, опять говорит: "Кланяйтесь!
Благословите покровителя, я хан, землю вашу от неверных освобождать едем".
Так сказал, спроси его, так сказал. Они стоят - три молодых, два старых.
Один молодой говорит: "Азиз-хон?" Тут, правда, я крикнул: "Не видишь разве?
Один хан, богоданный, в Яхбаре, поклонись ему". Тот, молодой, - очень злой,
наверно, был человек, лицо его темным стало, - закричал: "Собака ты, а не
хан, за женщиной едешь, не увидишь ее, смерть тебе!" Большой железный лом
был у него в руках, взмахнул ломом, прыгнул, ударил по лицу Азиз-хона...
Лошадь Азиз-хона испугалась, на дыбы поднялась, вот если б не поднялась,
разве остался бы жив Азиз-хон? Лом только немножко его ударил, по лицу
ударил, упал Азиз-хон, не совсем упал, - халифа держит его... Тут мы все...
кроме меня... Мы, - сказал я, - басмачи, которые близко были...
- А ты разве далеко был?
- Я тоже близко был... Только я не басмач, я испугался: кровь вижу,
Азиз-хон падает, вижу, тот, молодой, руками за горло хватает его... Как
барс, один на людей кидается. Смелый, правда. Злой очень. Не видел я таких
людей, испугался, тьма у меня в глазах... Когда тьма прошла, вижу: тот,
молодой, убитый лежит, пуля в голове, другие - веревками связаны. Азиз-хон
тоже на тропе сидит, перевязку халифа ему делает... Вот все... Когда
сделали, поехали дальше...
- Нет, не все... Куда убитого дели, куда связанных?...
- Связанных в Яхбар повели, недалеко было, с ними три человека поехали.
- Били их?
- Совсем немножко били... Плетьми немножко били... Я не бил,
покровитель видит, я не бил.
- Где убитый?..
- "Вот, - сказал сеид Мурсаль, сиатангский сеид Мурсаль, - это
неверный, собака это, знаю его. В реку бросай его..."
- Кому сказал?
Басмач помедлил, подумал:
- Ну хорошо. Мне сказал. Еще сказал: "Кровь с тропы убери, скоро
караван пойдет, чтоб ничего не видели, ничего не подумали, чистой должна
быть тропа".
- Ты в реку бросил его?
Глаза басмача вновь забегали, он мял в руках тюбетейку, бритая его
голова склонялась.
- Нет. Опять правду скажу. Одну правду говорю. Все уехали, я остался.
Справа - скалы вверх. Слева - скалы вниз. Если бросить вниз, - на скалах
будет лежать, с тропы видно, караван увидит его. Если тащить - далеко по
скалам тащить, самому упасть в реку можно. Смотрю, в одном месте тропа
нависает, камни на ветки положены. Под тропой - тихое место, можно положить
человека. Ни сверху, ни снизу никто не увидит его. Туда положил убитого.
Страшно мне одному на тропе, скорей ехать хотел. Туда положил, птица не
увидит его. Там и сейчас, наверно, лежит... Еще правду скажу: кровь чистил,
немножко оставил, совсем немножко, - караван, наверно, не видел ее...
- Теперь все, - сказал Худодод, и молодое его лицо было мрачным, тонкие
губы дрожали. Он пристально посмотрел в лицо басмачу, ожидая, когда тот
поднимет потупленный взгляд. На мгновение взгляды их встретились, волна
ненависти и негодования качнула Худодода. Он перехватил плеть из левой руки
в правую и наотмашь хлестнул басмача по голове. Тот схватился за голову, но
удержался от крика. Швецов молча протянул руку, отобрал у Худодода плеть.
После допроса Худодод прошел в лазарет.
- Что узнал? - пытливо, с мучительной надеждой, спросила Гюльриз.
- Поедем с нами, нана, - опустил глаза Худодод.
- Ты что-нибудь знаешь? Правду скажи.
- Может быть, он в Яхбаре. Может быть, нет, - не решаясь высказать свою
уверенность, проговорил Худодод. - Поедем. Будем искать...
- А ты молчи! - резко приказал Худодод басмачу, когда все усаживались в
седла. - Слово скажешь - убью. Молчи, пока не приедем туда.
- Молчу, достойный, молчу, - ответил басмач, сложив на груди руки и
подобострастно кланяясь.
Через полчаса Гюльриз, Зуайда, Худодод и три красноармейца во главе с
Тараном выехали верхами к Большой Реке. Басмач Курбан-бек ехал среди них со
связанными за спиной руками. Худодод вел на поводу запасную лошадь, он один
знал, зачем эта лошадь понадобится; в хурджин положил связку шерстяной
веревки и отрез полотна.
Было раннее утро. Всем казалось странным, что в ущелье снова так
обыденно - мирно и тихо. Будто ничего из ряда вон выходящего не случилось за
эти три дня. О пронесшемся урагане напоминали только обрывки кошм, тряпок,
пустые гильзы да побуревшие пятна крови, видневшиеся кое-где на тропе. После
первого дождя тропа станет снова девственно свежей, безлюдной и дикой.
Двадцать километров до Большой Реки проехали быстро. Гюльриз не
замечала пути.
Не доезжая двух километров до Большой Реки, все по знаку басмача
Курбан-бека остановились. Худодод развязал ему руки, вместе с ним полез
вниз, под тропу.
- Смотри за Гюльриз, - шепнул он Зуайде. - Здесь убитый, я думаю -
Бахтиор.
Зуайда тихо ахнула. Поспешила к Гюльриз, помогла ей спешиться,
предложила сесть, но старуха, чуя недоброе, осталась стоять, следя за
Худододом. Она уже обо всем догадывалась, но не смела, не хотела верить,
Этого быть не могло, все на свете могло быть, только не это...
Труп Бахтиора лежал на снегу, не стаявшем в щели, под тропой. И хотя
Бахтиор давно окоченел, - лицо его почти не изменилось, только было
зеленовато-серым. Две темные раны на виске и на лбу, обведенные запекшейся
кровью, подтверждали слова басмача о том, как Бахтиор был убит.
Бахтиора вынесли на тропу и положили на развернутый Худододом кусок
полотна. Гюльриз медленно опустилась на колени, обняла Бахтиора, припала к
нему; не веря, все-таки не веря, сама будто окоченев, смотрела на него
остановившимися глазами. Долго смотрела, и все отошли в сторону, не было сил
глядеть на нее.
Гюльриз зашептала тихо, - так тихо, что никто не мог расслышать ее. Она
обращалась к сыну, о чем-то спрашивала его. Приблизила свои губы к его
губам, шептала все быстрее, все горячее.
Таран приказал красноармейцам отвести лошадей подальше, отошел с ними
сам.
- До Большой Реки съездим, ребята, пока... Посмотреть надо...
Красноармейцы связали басмача Курбан-бека по рукам и ногам, оставили
его на тропе. Таран пальцем показал на него Худододу: гляди, мол, за ним.
Сели на коней, отъехали шагом, но потом перевели коней на легкую рысь.
А шепот Гюльриз постепенно наполнялся звучанием, слова вырывались одно
за другим, голос срывался, менялся, то походил на тихое воркование, то
становился пронзительным, громким, переходил в негодующий крик:
- Ты, мой маленький Бахтиор... Спи, спи, отдохни, мой птенчик... Тебе
холодно, Бахтиор? Вот, чувствуешь? Я прижимаю тебя к груди, согрейся... Ты
помнишь, ты качался на моих руках, ты кормился моим молоком, у тебя были
маленькие крепкие губы. Как у овечки, нежные, дерзкие губы... Теперь ты
большой, Бахтиор, мне тебя не поднять... Вот только плечи твои могу поднять,
вот так, вот так, положи их ко мне на колени, устала твоя голова? Дай, я
поддержу руками ее... Так удобно тебе? Хорошо тебе? Тепло тебе?.. Ты большой
теперь, ты очень большой... Разве я думала, что ты станешь таким большим?
Отдохни, кровь моя, плоть моя и душа моя! Сон тебе, сон о травах, о зеленых
травах, быстро они растут!.. Ты барс, Бахтиор, ты власть, Бахтиор! Слышишь,
шумит река? Это твоя река... Твои горы кругом. Над рекою ты власть, над
горами ты власть, над всем Сиатангом ты власть... Проснись теперь,
посмотри... Видишь, твое это все кругом, ты большая власть! Сколько людей в
Сиатанге, - над всеми ты власть, а я твоя мать, все ущельцы - мои сыновья, а
ты старший сын; ты скажешь - все тебя слушают... Проснись, Бахтиор! Разве не
довольно ты спал?.. Проснись, взгляни на меня, - черные твои глаза, живые
твои глаза, ласковые твои глаза... Отчего не просыпаешься ты?.. Не пугай
меня, Бахтиор, взгляни на меня!.. Ты молчишь? Ты не смотришь?.. Ты не
дышишь, Бахтиор?.. Почему ты не дышишь?.. Ай-ай, страшно мне, он не дышит...
Гюльриз внезапно отстранилась от Бахтиора и обезумевшими глазами,
как-то издали, впилась в него. Схватилась за волосы, цепкими пальцами
вырвала две белые пряди, потрясла их перед собой.
- Покровитель! Что же это такое?.. Нет покровителя, проклятье ему,
трижды проклятье ему!.. Вот тебе мои волосы, Бахтиор, не нужны мне волосы,
вот, смотри, видишь - белые! Ай, сердце мое, сердце, вырву сердце мое, вложу
тебе в грудь, мой сын, дыши, дыши... Проснись, Бахтиор, пожалей меня, вижу
душу твою, вот она в барсе гостит, ты барс, Бахтиор, большой барс, смелый
барс, по горам ходишь ты, только на стада не нападаешь, на черных людей
нападаешь ты, на плохих людей... Ты ударяешь лапой, и падает злой человек!
Мсти, мой сын, будь жестоким, ты был добрым, и вот что они с тобой сделали,
вижу кровь твою... Как прекрасен ты, Бахтиор! Ты по скалам идешь, любуются
скалы... Любуется небо!.. Все можешь ты, Бахтиор, - сила в тебе, власть в
тебе, свет, как ночью огонь, - свет у тебя в глазах... Вот тебе еще волосы,
вот эти, белые, и вот эти белые, я вырываю их, мне не больно, мой сын: для
тебя, для тебя, для тебя... Чтобы проснулся ты... Проснись, пойдем домой,
Бахтиор!.. Там невеста твоя ждет тебя, Ниссо ждет тебя, любит тебя...
Ай-ай-ай-ай... Я, нана твоя, я пришла разбудить тебя... Проклятье,
проклятье, не дышит он, убили его, пулями убили его! Глаза вырву им, сердце
вырежу, растопчу, плевать буду им в глаза, в проклятые их глаза, чумные
глаза... Проснись, ждет Ниссо, ты, может быть, не знаешь еще? Красные
солдаты пришли и спасли ее. Она жива... Ты любишь ее... Нет, нет, нет, и ты
жив, только ранен ты, встань, пойдем, встань, мой сын!..
Припадая и отстраняясь, лаская пальцами мертвое лицо Бахтиора, затихая
и вновь негодуя, Гюльриз говорила и говорила, и склоненная на камне Зуайда
не могла это слушать, слезы текли из ее глаз, а Худодод кусал губы свои,
припав лбом к потной шее понурой лошади. И когда Зуайда заголосила -
пронзительно, неудержимо, отчаянно, -Гюльриз вдруг выпрямилась, прислушалась
к ее воплям, бережно опустила Бахтиора на полотно, встала, заломила руки,
просто, громко, отчетливо произнесла:
- Не кричи, Зуайда. Он мертв. Сын мой мертв. Сына моего нет! Сына...
Зуайда вскочила, кинулась к старухе, и рыдания двух обнявшихся женщин
слились в одно. Худодод не вытерпел, махнул рукой и заплакал сам.
Вдалеке послышался топот: возвращались красноармейцы. Худодод
опомнился, растерянно оглянулся и, увидев сидящего на краю тропы
Курбан-бека, вдруг обезумел от гнева. В три шага подбежал к басмачу,
выхватил кривую саблю из ножен и размахнулся... Отсеченная одним ударом
голова басмача откатилась по тропе, приостановилась у ее края, повернулась
еще раз и упала в пропасть.
Женщины сразу притихли. Из-за мыса, по трое, размашистой рысью выехал
Таран.
И прежде чем успел он подъехать, Гюльриз с распростертыми руками
подошла к Худододу, обвила его шею. Ожесточенные глаза ее горели темным
огнем.
- Буду сыном твоим, нана... - воскликнул Худодод, - как Бахтиор, я
буду!..
И Гюльриз, бессильная в руках Худодода, прижала морщинистую щеку к его
горячей, влажной щеке.
Окончательно придя в сознание, Шо-Пир, вместе со Швецовым, постарался
понять все, что произошло в Сиатанге за последние дни, уяснить размеры
бедствия и решить, что делать дальше.
Банда была разгромлена. Пятьдесят шесть басмачей взяты в плен и
находились в крепости под надежной охраной красноармейцев; Азиз-хон, Зогар,
халифа, несколько сеидов и миров, заключенные в старую башню, могли в
будущем дать подробные сведения о причинах налета на Сиатанг. Без Шо-Пира
допрашивать их было бессмысленно - только он один знал их язык, почти не
отличающийся от сиатангского. Но пока состояние Шо-Пира было еще слишком
тяжелым, врач Максимов запретил ему вести какие бы то ни было серьезные
разговоры и присутствовал даже при беседах его со Швецовым и Худододом.
Сломанная рука Шо-Пира не тревожила Максимова, но ранение оказалось опасным:
пройдя под ключицей навылет, пуля, по-видимому, пробила плевру, и это могло
привести к осложнениям. Шо-Пир потерял много крови, был очень слаб и часто
лишался сознания. Максимов велел перетащить из дома в здание школы кровать и
изолировать Шо-Пира во второй, маленькой комнате.
Максимов, однако, не мог запретить Шо-Пиру рассуждать и интересоваться
всем окружающим. Шо-Пир волновался и нервничал, когда что-либо решалось без
него. И, вопреки желанию врача, получалось так, что лежащий в постели Шо-Пир
оставался средоточием жизни селения. Он хотел знать все, от него ничего не
скрывали.
Убитых сиатангцев, не считая Мариам и Бахтиора, оказалось шестнадцать
человек. В их числе, кроме утонувшего в реке ребенка, было трое детей:
одного мальчика задавили лошадью; другого придушил басмач; третья - девочка,
племянница Исофа, была подобрана с разбитой о камень головой и со следами
насилия. Шесть увезенных в Яхбар женщин пропали без вести. Их судьбу
разделила и Нафиз, учившаяся в школе вместе с Ниссо, дочь Али-Мамата.
По ущелью и в самом селении было найдено тридцать девять убитых в бою
басмачей, - среди них был и риссалядар. Но сколько еще их погибло в реке, -
кто мог бы узнать? Швецов и Шо-Пир полагали, что из всей банды спаслись
бегством не больше пятнадцати - двадцати человек. Брошенных басмаческих
винтовок набралось сорок три. Сколько их было в банде всего, Шо-Пир и Швецов
могли определить только после допроса.
Красноармейцев погибло двое, и двое были ранены, один из них - тяжело.
Почти все посевное зерно было уничтожено басмачами или сожжено купцом
за полчаса до того, как его убил Кендыри. Большая часть товаров,
доставленных караваном, уцелела - правда, многое оказалось переломанным,
разбитым, испорченным.
Карашир возглавил добровольный отряд факирской милиции, разыскивал эти
товары в долине и по всему ущелью и складывал найденное в пристройку.
Каменные жилища селения пострадали мало, но почти весь запасенный с
осени клевер и вся солома были сожжены. Старый канал разрушен. Половина
скота уничтожена... Сеять было нечего. Селению грозил голод.
На второй же день после ликвидации банды Швецов отправил в Волость
Тарана и четырех красноармейцев с просьбой к партийной организации
немедленно наладить доставку в Сиатанг посевного зерна, продовольствия,
фуража.
В своем донесении начальнику гарнизона Швецов указывал на необходимость
создать в Сиатанге постоянный красноармейский пост и просил вызвать с
Восточных постов десятка полтора красноармейцев для сопровождения пленных
басмачей туда, куда начальник гарнизона найдет нужным отправить их. Кроме
того, Швецов написал записку секретарю волостного партбюро с просьбой
выехать в Сиатанг.
Таран уехал.
Дни и ночи в Сиатанге слышался плач. Вопли, стоны, проклятья басмачам,
горькие жалобы на обиду раздавались с утра до вечера в каждом доме, и
прежние приверженцы Установленного твердили теперь только о мести
заключенным в крепость басмачам. Ущельцы, не слушая никаких увещеваний,
варили для красноармейцев пловы и жирные супы, несли им свои маленькие
подарки - кто пестрые чулки, кто тюбетейку, кто просто полевой цветок или
веточку зацветающего абрикоса... Но Швецов решительно запретил кому бы то ни
было резать скот и велел ущельцам готовить для пахоты сельскохозяйственный
инвентарь. Свободные от дежурств красноармейцы ходили по домам, помогая
ущельцам ремонтировать плуги. Каждого красноармейца неизменно сопровождала
ватага детей, и какой-нибудь быстроглазый мальчуган обязательно оказывался
на плечах здоровенного русского парня.
Всем в селении деятельно руководил Худодод, по нескольку раз в день
советовавшийся с Шо-Пиром.
На третий день после разгрома банды в селении состоялись похороны
Бахтиора, Мариам, Дейкина, двух красноармейцев и всех убитых ущельцев.
Швецов, со свободными от нарядов красноармейцами, все население
Сиатанга, Гюльриз, Ниссо участвовали в этих торжественных похоронах. Над
вырытой посередине пустыря большой братской могилой был воздвигнут высокий
курган. Красноармейцы увенчали его выкрашенной красной деревянной пирамидой.
На одной ее плоскости надпись по-русски сделал Швецов, на другой такую же
надпись по тексту, составленному Шо-Пиром, вывел Худодод... Ночью Гюльриз
втихомолку пробралась к могиле и заложила под пирамиду кулек с сахаром, -
чтобы душе Бахтиора, если она не успела еще воплотиться в барса, было сладко
жить.
Старое, но крепкое сердце Гюльриз выдержало страшное испытание. Женщины
селения с утра до вечера стояли у порога ее дома. Зуайда переселилась к ней
в дом и вместе с Ниссо ночевала на той же наре, на которой старуха стлала
свою постель.
Гюльриз почти не спала по ночам, часто стонала, Ниссо припадала к ней,
с нежностью гладила ее руки и плечи и не сводила с нее внимательных, широко
раскрытых глаз. Слов участия Ниссо произносить не умела, но старуха
неизменно чувствовала ласку девушки.
Русское ситцевое платье, простое, но хорошо сшитое, нравилось Ниссо. От
парусиновых туфель она наотрез отказалась и предпочитала ходить босиком.
"Если бы не природная худощавость, - поглядывая на Ниссо, размышлял
Максимов, - эта девушка... эта девушка..." - и не ходил нужных слов...
Впрочем, Максимов меньше всего наблюдал за внешностью Ниссо: он был
озабочен ее душевным состоянием. Девушка была так подавлена пережитым, что в
первые дни ко всему окружающему относилась с безразличием. Часами сидела она
в лазарете или на террасе дома не двигаясь, смотря в одну точку, никого и
ничего не слыша и не видя, ни в чем не участвуя. В эти часы, казалось, она
вообще не жила, безвольно созерцая какой-то ей одной зримый призрак. Если б
Максимов понимал сиатангский язык, он тревожился бы о Ниссо еще больше.
Когда туман, обволакивающий ее сознание, на короткое время рассеивался,
когда она как будто возвращалась к нормальному состоянию и разговаривала с
Гюльриз, с Зуайдой или еще с кем-либо, - в речь ее врывались слова, никак не
связанные с мыслью, которую она хотела высказать. Страшный образ
подвергнутой истязаниям и повешенной Мариам преследовал ее днем и ночью.
Закрывала ли она глаза, смотрела ли на солнечную, уже зазеленевшую листву
сада, - ей виделось все то же, ей было страшно. Усилием воли она отрывалась
от размышлений о Мариам, но перед ней тотчас же вставал Бахтиор, убитый и
живой одновременно. Каждый жест его, каждое выражение всегда ждущих чего-то
от Ниссо глаз, слова, сказанные им в темные вечера, вспоминались Ниссо, и
горькая, острая жалость пронизывала душу девушки. Ей было стыдно, что она не
любила его, ей казалось: в чем-то она перед ним виновата. Ниссо думала, что,
если бы Бахтиор не любил ее, он не кинулся бы с ломом на Азиз-хона и, может
быть, остался бы жив... Тут в мыслях Ниссо возникала такая сумятица, что,
охватив голову, девушка с тихим стоном покачивалась из стороны в сторону,
пока кто-нибудь не окликал ее... Старая Гюльриз подсаживалась к ней, и,
обнявшись, недвижные, молчаливые, они продолжали сидеть вместе.
Максимов бессилен был изменить душевное состояние Ниссо и решил, что
только время излечит ее. Но все же он старался вовлечь девушку в любую
работу, давал ей различные поручения. Ниссо не отказывалась: ухаживала за
больными и ранеными, таскала из ручья воду, стирала белье, мыла посуду,
готовила пищу, доила корову, ходила в селение за молоком.
Только в присутствии Шо-Пира Ниссо оживлялась и разговаривала легко и
свободно. Шо-Пир расспрашивал Ниссо обо всех сиатангских делах, и ей
поневоле пришлось заинтересоваться ими. Сидя на табуретке у кровати Шо-Пира,
Ниссо подробно рассказывала обо всем, что ей удавалось узнать. Однажды она
вернулась из селения вместе с Кендыри, вошла к Шо-Пиру, сказала:
- Он добрый человек. Он хочет посмотреть на тебя.
Всегдашнее недоброжелательство к Кендыри укреплялось в Шо-Пире
смутными, почти безотчетными подозрениями. Шо-Пиру странным казалось, что
басмачи перед нападением так хорошо были осведомлены о расположении селения,
о том, где жила Ниссо, и о дне появления каравана, - не случайно же
нападение произошло именно на тропе? Как мог Азиз-хон точно знать обо всем?
Конечно, многое здесь следовало приписать купцу Мирзо-Хуру, но и купец не
мог знать всего. Последним, кто пришел в Сиатанг из Яхбара, был Кендыри...
Странным казалось Шо-Пиру и тесное общение Кендыри с бандой, когда басмачи
находились в крепости...
- Хорошо, Ниссо. Только сама уйди. Без тебя говорить хочу.
Ниссо ушла. Кендыри, вступив в комнату, низко поклонился Шо-Пиру,
подумал: "Достаточно бодр. Жаль. Пожалуй, выживет!" Выпрямился, сказал:
- Благословение покровителю! Вижу: тебе лучше, Шо-Пир... В темной буре
даже свет молнии освещает путь смелым. Ты храбро защищался, Шо-Пир, - один
девятнадцать волков предал аду! Слышал я. Счастье великое нам: ты жив.
- Да, еще поживу теперь! - не в силах оторвать голову от подушки,
произнес Шо-Пир.
- Как бледен ты. Крови много ушло, наверное?
- Скажи, Кендыри... Сядь сюда вот на табуретку... Так... Скажи...
Почему Азиз-хон не боялся, что ты зарежешь его?
Холодные глаза Кендыри чуть прищурились. "Допрашивать хочет? Пусть!"
- Я сказал Азиз-хону: прокляты неверные, счастье принес ты, хан;
кончилась, слава покровителю, советская власть... Хитрый я... Если собаке
положить в рот кусок мяса, - она не укусит дающего...
- Хорошо... А если бы басмачи остались, ты и дальше кормил бы их таким
"мясом"?
- Я, Шо-Пир, - твердо сказал Кендыри, - знал: ты придешь, красные
солдаты придут. Человека послал к тебе. Разве могло быть иначе? ("Вот тебе
ход конем!")
- А если бы человек не добежал до Волости?.. ("Да, Ниссо говорила, что
именно он послал перебежчика. Это факт...")
- Когда на краю Яхбара, в селении Чорку, Шир-Мамат мне встретился, я
разговаривал с ним... Я, Шо-Пир, много видел людей, в глаза смотрю - сердце
вижу. Шир-Мамат человек надежный... ("Арестован ли он?") Проводником сюда
отряду мог быть. Ведь правда?
- Возможно...
- Если б думал иначе я, сам побежал бы в Волость!
Оба умолкли. Кендыри вынул из-под тюбетейки подснежный цветок, бережно
расправил его, вставил стебелек в трещинку в спинке кровати над подушкой
Шо-Пира.
- Как мог ты при басмачах взять Ниссо из башни, перенести в зерновую
яму? И кто был второй человек?
Не уклоняясь от взора Шо-Пира, Кендыри ответил прямо и твердо:
- Спали басмачи... Я сказал себе: красные солдаты придут, скоро,
наверное, придут. Шо-Пир придет... ("О! В этом я действительно не
сомневался... Но... только Талейран мог бы предвидеть, что всех вас не
перережут".) Должна жить Ниссо, думаю. Шо-Пир любит ее: невеста Бахтиора
она... Такой час был - все спали. Я подумал: если не я, кто спасет ее? А
второго человека не знаю. Басмач. Восемь монет у меня было. Бритва была у
меня. Подумал: пусть выберет монеты или легкую смерть. Он выбрал монеты.
- Куда делся он?
Кендыри подавил зевок. ("Сидит еще в горах Бхара или уже побежал
сообщить о моем провале?")
- Не знаю, Шо-Пир. Убили его, наверное...
- А если бы в тот час кто-нибудь проснулся?
- А, достойный!.. ("Да, тут я действительно рисковал. Но вот
оправдалось".) Что спрашиваешь?.. С Бахтиором рядом сейчас лежал бы я. Сто
лет все говорили бы: вот тоже ничего был человек, не трусом был. Душа моя в
орле, быть может, летала бы... Много опасного было. Вот, Шо-Пир, если бы не
подобрал я это маленькое ружье, разве не убил бы меня купец? ("Да, да, надо
предупредить вопрос".)
"Лучше бы ты их не убивал, - подумал Шо-Пир. - Пригодились бы".
- Вижу, зерно горит, - продолжал Кендыри. - Сердце из ущельцев вынимает
купец, Науруз-бека послушался. Кровь в голову мне. Хорошо я сделал, убил
собак... ("Знал бы ты, кто научил их поджечь зерно!")
"Если они и впрямь враги ему, а он человек горячий... Ну, тут и я
бы..." - Шо-Пир смягчился:
- А скажи, Кендыри... В ту минуту, когда...
Дверь распахнулась. На пороге появился Максимов:
- Что еще здесь за разговор? Безобразие это... А вы, почтенный
посетитель, извольте-ка отсюда убираться...
- Не понимает по-русски он, - сказал Шо-Пир.
Кендыри поймал себя на желании выругаться по-русски. "Показал бы я
тебе, эскулап, как выгонять меня", и, словно в ответ на его мысль, Максимов
сделал решительный жест:
- Поймет! Поймет! - и, подтолкнув Кендыри, выпроводил его из комнаты. -
А вы... Кого я вам разрешил принимать? Швецова, старуху, Ниссо да этого...
как его... Худояра.
- Худодода, - слабо улыбнулся утомленный разговором Шо-Пир.
- Все равно. Никого больше! У человека начинаются гнойный плеврит,
осложнения, всякая гадость, а он... Извольте быть дисциплинированным, а не
то... на замок, одиночество, и никаких разговоров... - и, изменив тон,
Максимов склонился над Шо-Пиром. - Ну, как самочувствие?.. Слабость, а?
- Черт бы ее побрал... - закрывая глаза, пробормотал Шо-Пир.
- Ну вот. А туда же рыпается! Примите-ка это вот... - и Максимов поднес
к бескровным губам Шо-Пира какие-то капли.
Ниссо попыталась войти, но врач ее не пустил. Она направилась во
вторую, большую комнату, подсела к постели Рыбьей Кости.
Перевязанная, вся в примочках и пластырях, Рыбья Кость была еще очень
слаба. Избили ее так нещадно, что Максимов назначил ей не меньше десяти дней
постели. В широкой мужской сорочке, взятой Максимовым из товаров,
доставленных караваном, с волосами, туго обвязанными белой косынкой, худая,
изможденная, Рыбья Кость казалась давно и тяжело больной.
- Скажи Шо-Пиру, Ниссо, пусть русский доктор отпустит меня. Я не могу
лежать.
- Почему, Рыбья Кость, не можешь?
- Дети мои... Где мои дети?
- Твои дети дома, ты знаешь... Разве Карашир плохой отец?
- Ай, Ниссо... Что ты понимаешь? Карашир теперь, как хан, важный, -
ружье есть, власть есть... Разве помнит о детях?
Ниссо подумала, что Рыбья Кость права. Ничего не сказала, поднялась,
вышла в сад, прошла через лагерь красноармейцев, спустилась в селение, вошла
в дом Карашира. Дети оказались одни, Ниссо увидела в доме полное запустение.
Обняла по очереди всех восьмерых ребят. Осмотрела жалкое хозяйство и двор,
подумала, что дом без женщины, правда, не дом, и с неожиданной энергией
взялась за дело.
К вечеру Карашир, вернувшись с гор, куда ходил с группой вооруженных
ущельцев, не узнал своего жилища: все в доме было прибрано, вымытая посуда,
среди которой оказались неведомые Караширу чайник и новые пиалы, была
аккуратно составлена в каменной нише. Два оцинкованных, неизвестно как
попавших сюда ведра с водой прикрыты плоскими обломками сланца. Еще не
затухшие в очаге угли распространяли тепло. А маленький чугунный котел,
стоявший на очаге, был наполнен разваренным рисом. Дети спали на большой
наре в углу, покрытые новым ватным одеялом. Приподняв за уголок одеяло,
Карашир увидел, что лица детей непривычно чисты.
Дивясь и не понимая, как могло произойти дома такое чудесное
превращение, Карашир вышел во двор, увидел, что двор тоже прибран и
подметен. Карашир растерянно улыбнулся:
- Всегда говорил я - у меня тоже есть добрый дэв... Только это не дэв.
Это женщина. Вот взять бы такую в жены. И, наверное, не кричит она, как моя
Рыбья Кость.
И задумался: всю жизнь он мечтал когда-нибудь стать таким богатым,
чтобы в доме его было чисто.
Вернулся к спящим детям, скинул с плеча винтовку, снял пояс с
патронами, стягивающий все тот же, с обрезанной полой халат, распустил
чалму, какой прежде не носил никогда, подсел к котлу с вареным рисом и,
захватив целую пригоршню, с наслаждением запустил ее в рот.
А Ниссо в эту ночь, лежа на нарах рядом с бессонной Гюльриз, впервые
после пережитых событий не видела перед собою никаких страшных образов. И
когда сон пришел к ней без каких бы то ни было видений, она протянула руки к
Гюльриз, обвила ее шею и не почувствовала теплых слез, соскользнувших на ее
руки с морщинистой щеки Гюльриз.
И на следующее утро Гюльриз заметила, что глаза Ниссо, ставшие за эти
несколько дней глазами взрослого человека, снова ясны, чисты и только очень
печальны.
Через двенадцать дней после разгрома банды в Сиатанг приехали волостные
работники. Они сообщили, что весть о бедствиях, случившихся в Сиатанге,
разнеслась по всем ущельям Высоких Гор и что жители самых маленьких и
далеких от Сиатанга селений организуют помощь продовольствием, посевным
зерном, фуражом. Все, что они доставят в Волость, будет немедленно
отправлено в Сиатанг. У заброшенных в дикое ущелье факиров сразу оказалось
много неведомых им друзей.
- Ты организовал? - спросил Шо-Пир секретаря волостного партбюро Гиго
Гветадзе, единственного из приехавших, кого Максимов допустил к раненому.
Состояние Шо-Пира за последние дни ухудшилось, - начиналось то
осложнение, которого так опасался Максимов.
Высокий, узколицый грузин в длинной кавалерийской шинели сидел на
табуретке у постели Шо-Пира так прямо, словно вообще не умел сгибаться. Но
голос его был плавным и мягким; по-русски он говорил с сильным акцентом. В
Волости он поселился в прошлом году, проехав один тогда еще не знакомые ему
Высокие Горы. Когда Шо-Пир ходил в Волость за караваном, Гиго Гветадзе
разъезжал по селениям верховий Большой Реки. Теперь Шо-Пир впервые
знакомился с ним.
- Стоило только сказать, - ответил Гветадзе.
- Спасибо...
- Какое может быть спасибо? А если б у нас в Волости случилось
несчастье, разве твои сиатангцы не помогли бы нам?
- Какая уж от нас помощь! - с горечью произнес Шо-Пир. - Впрочем,
теперь... Кто помешал бы? От бед только бы оправиться! - И, представив себе
все свои замыслы, со злостью добавил: - Вот, понимаешь, незадача. Самое
горячее время, все восстанавливать нужно, а я тут валяюсь... Э-эх!
- Ничего, товарищ Медведев, или, как зовут тебя здесь, Шо-Пир. Теперь
без тебя управимся. Свое дело ты сделал... Отдыхай, поправляйся. Починим
тебя. Сейчас бы отправили, - врач говорит: шевелить нельзя... Лежи пока тут.
Поправишься, в санаторий поедешь, куда хочешь, - в Крым или, пожалуйста, к
нам, на Кавказ... Знаешь, скажу тебе, у меня брат в Теберде санаторием
заведует. Красивое место. Дорогим гостем у него будешь...
- О чем говоришь, товарищ Гветадзе? - улыбнулся Шо-Пир. - При чем тут
Кавказ, санаторий? Дела хватит и здесь, а отдохнуть... Вот отдыхаю я...
- Хорошо, хорошо, дорогой товарищ. Зачем споришь?.. Мы тебя в порядке
партийного поручения на курорт пошлем.
- Я беспартийный.
- Хочешь сказать: партбилета нет? Партбилет будет.
- Почему ты говоришь так? - взволновался Шо-Пир, приподняв голову.
- Лежи тихо, пожалуйста. Не то уйду... Правая рука действует у тебя?
- Действует, - не понял Шо-Пир, подняв над одеялом исхудалую руку.
- Значит, завтра заявление напишешь. В Волость вернусь, оформим...
- А откуда... откуда ты знаешь, что я за человек?
- Знаю, товарищ. Все партбюро знает. Письма ты мои получал?
- Письма-то получал... Спасибо. Почерк твой, как родича, мне дорогой!
Письма твои да советы, что через людей посылал, помогали мне и работать, и
жить, и жизнь понимать. У тебя как-то получалось, что все внимание мое на
принцип ты направлял. А с принципом - все равно, что с фарами, - никакая
тьма не страшна! Руководствовался я твоими письмами... А только вы же в
Волости не видели, что я тут делал?
- Не видели, - знали. Потому никого и не назначали сюда. Работников у
нас мало, в другие места направляли их. Спокойны были за Сиатанг.
- А вот оно тут и стряслось... Я допустил, выходит...
- Ничего не выходит. При чем ты? Твои дела здесь - образец
большевистской работы. Считали, нужна тебе прежде всего культурная помощь,
потому командировали учительницу. Разбогатели - караван послали,
кооператора, фельдшера... Беда вышла? Исправим беду... Ты думаешь, ты один
такой? В других местах такие же есть. В Равильсанге, в верховьях Большой
Реки, плотник Головань есть, украинец, такой же парень, вроде тебя. В
Шашдаре - Касимов, татарин, тоже из красноармейцев, только позже, чем ты,
пришел. Как и тебя, мы их беспартийными не считаем...
- Значит... Значит, я...
- Волнуешься? Нельзя волноваться тебе... Доктора позову, сам уйду, В
общем, товарищ Медведев, лежи спокойно. Твое дело такое... А Сиатанг твой...
все внимание парторганизации к нему теперь обращено. Трудно было нам раньше
вплотную заняться им, теперь сама жизнь потребовала. Хочешь знать?
Красноармейский пост у вас стоять будет. Комсомол мы организуем здесь,
красную чайхану откроем, кооператив, амбулаторию постоянную, в школу учитель
новый приедет... С передовыми селениями подравняем твой Сиатанг. Без тебя
все сделаем. А ты, пока лежишь... пожалуйста, вроде консультанта нам будешь.
Договорились?
Взволнованный Шо-Пир смотрел в потолок так, словно видел все, о чем ему
говорил Гветадзе.
- Давно хотели мы сделать многое, - продолжал Гветадзе, - нельзя было:
горы. Осенью новые работники приедут... Планы большие у нас... Рассказывать
тебе или нет? Устал?
Шо-Пир сквозь раздумья свои слышал только ласковый плавный голос
Гветадзе. Интонации, самый его акцент звучали, как непривычный Шо-Пиру
музыкальный напев. Шо-Пиру казалось, что где-то над ним звучит ручей, и
качаются ветви деревьев, и легкий ветер шелестит густою листвой. И,
всматриваясь в листву, Шо-Пир видит клочок голубого неба и там,
далеко-далеко, на краю горизонта, - черную грозовую тучу; она уходит все
дальше, молнии, уже далекие, полыхают в этой быстро уносящейся туче. А
здесь, где ручей, где листва, атмосфера очищена и все легче дышать: вольный
воздух пьянит Шо-Пира, ему хорошо, он знает, что это счастье, неведомое,
легкое счастье, в нем музыка, музыка...
Гветадзе, внезапно умолкнув, глядит на Шо-Пира. Глаза Шо-Пира закрыты.
Встревоженный Гветадзе осторожно притрагивается к руке раненого,
находит пульс.
- Много я с ним говорил! - сердится на себя Гветадзе. - Пульс
хороший... Нет, он просто спит...
И, тихо отставив табуретку, на цыпочках выходит из комнаты.
"К допросам его привлекать нельзя, - решает Гветадзе, стараясь не
скрипнуть дверью. - Слаб очень. Обойдемся как-нибудь... Поберечь его надо -
золотой человек!.."
Борьба за жизнь Шо-Пира продолжалась почти три месяца. Тяжелое
осложнение приняло острую форму. И все три месяца Максимов не отходил от
постели больного, сам осунулся, исхудал.
Гветадзе послал нарочного с письмом за пределы Высоких Гор. На
переменных лошадях гонец скакал день и ночь, преодолевая мертвые
пространства Восточных Долин. В письме заключалось требование выслать
врача-специалиста с необходимыми медикаментами. Больше ничего придумать было
нельзя. Если бы в Сиатанге или в Волости мог сесть самолет, - Гветадзе
вытребовал бы его. Но строительство аэродрома в Волости намечалось только на
будущий год. Не было еще и радиостанции. Столбы строящегося телеграфа
прошагали лишь первую сотню километров в сторону Высоких Гор. Больше всего
приходилось надеяться на природную выносливость самого Шо-Пира, но наблюдать
за страшной борьбой человеческого организма со смертью было мучительно.
В эти три месяца с особенной остротой проявилась та любовь сиатангцев к
Шо-Пиру, о какой он и сам никогда не догадывался. Не было дня, чтоб ущельцы
не собирались у дома Гюльриз, расспрашивая Максимова о ходе болезни Шо-Пира.
Однажды к Максимову явились Карашир и Исоф и заявили, что готовы нести
Шо-Пира на носилках через Высокие Горы хоть месяц, хоть два, только бы
доставить его в настоящую больницу, "в большой город"... Сказали, что
понесут Шо-Пира так осторожно, что "ветер не тронет его, сон не нарушится,
капля воды не прольется из полной пиалы, если поставить ту пиалу Шо-Пиру на
грудь". Но состояние Шо-Пира требовало неподвижности и покоя.
Ниссо вместе с Максимовым проводила у постели больного все дни и ночи в
вечной мучительной тревоге за него, в неудержимой радости при каждом, самом
незначительном признаке улучшения его состояния, в полном отчаянии, когда
ему становилось хуже. Она жила, как будто горя в медленном огне. Она
превратилась в настоящую сиделку и в тревожные дни заменяла Максимова,
когда, вконец утомленный, он засыпал тут же, на соседней кровати. Если
раньше непонятный, могущественный в представлении Ниссо Шо-Пир был для нее
неким великим и таинственным существом, то теперь, когда его окружали такие
же, как он, русские люди, когда никакая тайна уже не облекала его, он -
слабый, беспомощный - стал для нее просто человеком, беспредельно,
томительно любимым, ее собственностью, ее надеждой. Всей силой первого
большого чувства любя его, она верила, что отнимет его у смерти и что,
выздоровев, он никуда от нее не уйдет... В ней открылись родники такой
энергии, что Максимов поражался ее выносливости и внутренней силе. Все три
месяца она у постели больного усваивала русский язык. Максимов одновременно
изучал сиатангский - сравнительно бедный, легкий, - но успехи его в изучении
языка не могли сравниться с успехами Ниссо. Она уже начинала читать русские
книги и в разговорах красноармейцев с населением стала признанной
переводчицей. Летом комсомольская ячейка поста приняла в комсомол Худодода,
и Ниссо крайне огорчилась, что не ей пришлось быть первой.
Многое произошло в Сиатанге за эти три месяца. Население постепенно
забыло о происшедшей весной катастрофе. Пленные басмачи мелкими партиями
были отправлены в Волость, Азиз-хон и его подручные, после предварительных
допросов, тоже были увезены. Швецов, Гветадзе и начальник волостного
гарнизона решили отправить их в городской центр, за пределы Высоких Гор.
Показания главаря банды, данные им в Сиатанге, были очень неопределенны и
сбивчивы. Азиз-хон молчал. Чувствовалось, что нити басмаческой организации
ведут куда-то очень далеко, что какая-то сильная рука направляла яхбарского
хана. Короткие объяснения Азиз-хона о "любовных мотивах" затеянного им
предприятия воспринимались только как попытка предохранить себя от более
глубоких разоблачений. Подозрения Шо-Пира о том, что банде содействовал
Кендыри, не были подтверждены ни допросами басмачей, ни свидетельскими
показаниями. Кендыри был оставлен на свободе. Некоторое время он жил в
Сиатанге, но затем, заявив, что брить бороды сиатангцам - дело слишком
невыгодное, ушел в Волость, цирюльничал там. Последующее наблюдение за ним
не дало никаких результатов, - он держался особняком и, видимо, кроме бород
своих посетителей и мелких заработков, решительно ничем не интересовался.
Красноармейцы все лето принимали ближайшее участие в жизни ущельцев:
восстановили канал, помогли сиатангцам вспахать, засеять и оросить поля.
Рядом со своим общежитием, построенным на краю пустыря, у входа в ущелье,
возделали огороды, и сиатангцы ходили смотреть на еще не виданные ими
картофель, огурцы, капусту и свеклу.
Гюльриз, избранная председателем сельсовета, трудилась, забывая себя.
Не было дня, когда она не входила бы в дома сиатангцев: входила как хозяйка,
как старшая в семье, распоряжалась всем укладом жизни ущельцев, давала им
советы, интересуясь самыми мелкими нуждами.
Карашир, всеми теперь называемый начальником факирской милиции,
расхаживал по селению в русских сапогах, в красноармейских рейтузах и
гимнастерке, в шлеме с красной звездой и обижался, что у него нет таких же,
как у красноармейцев, синих петлиц. Во дворе его дома стояла породистая
лошадь убитого в бою риссалядара. В доме появилась русская мебель: стол,
шкаф, три табуретки, - Карашир получил их в подарок от красноармейцев,
занимавшихся в свободное время плотничьим, столярным, кузнечным и другими
ремеслами. Постоянным гостем Карашира бывал теперь презревший все обычаи
Установленного Исоф. Он приходил вместе с женой, он больше не ссорился с
Саух-Богор и твердо помнил, что бить жен нельзя.
Привезенных из Волости продуктов и товаров было так много, что
сиатангцы уже не стеснялись в еде и потому охотно звали друг друга в гости.
Вечерами сиатангская молодежь вместе с красноармейцами собиралась в
крепости. Непривычный сначала разлив гармони отлично сладился с местными
бубнами, двуструнками и свирелями. Дирижировал всегда Худодод, а первые
песни заводила его сестра Зуайда. На эти вечерние веселые сборища трудно
было выманить только Ниссо. Всякий час, проведенный ею вне дома, вызывал в
ней тревогу, она предпочитала, сидя у постели Шо-Пира, до темноты читать
книжки, взятые у красноармейцев.
Все ждали приезда новых людей, все были готовы принять любое
нововведение, потому что крепка, понятна всем и любима была теперь в
Сиатанге советская власть.
Глубокой осенью в Сиатанг пришла часть второго большого советского
каравана, на этот раз своевременно прибывшего в Волость. Приехали новые
работники. С ними приехал и новый врач. Но к этому времени здоровье Шо-Пира
было уже вне опасности: могучий организм выдержал. Шо-Пир начал ходить.
Ездивший в Волость Швецов однажды принес Шо-Пиру листок бумаги.
- Погляди, полюбуйся! Нас касается!
Шо-Пир прочел:
"Наш корреспондент сообщил нам о возмутительном случае, произошедшем в
Яхбаре и ярко иллюстрирующем положение на русской границе. Жена правителя
этого ханства, почтенного Азиз-хона, была с политической целью украдена
русскими большевиками и увезена ими в советский Сиатанг. Несчастный муж со
своими родственниками приходил в Сиатанг, умолял вернуть ему любимую жену.
Местные жители единодушно поддержали его и, возмущенные дерзким отказом
большевистских чиновников, восстали. Но большевики усмирили восставших
кровавыми способами, заключив в тюрьму ни в чем не повинного Азиз-хона,
расстреляв всех его родственников и множество безоружных жителей. Жена
Азиз-хона до сих пор находится в Сиатанге, чувствуя себя глубоко несчастной.
Большевистский комиссар, по фамилии Медведев, держит ее у себя в доме, надев
на нее русское платье, угрозами и насилием вынуждает ее вступить в
комсомольскую партию. Следует только удивляться долготерпению и
неосмотрительности Властительного Повелителя, заключившего дружественное
соглашение с Красной Россией в тот самый момент, когда большевики казнили
беззащитных яхбарцев - его злосчастных подданных..."
- Это... Что это? - поднял глаза от листка бумаги Шо-Пир.
- Это? - презрительно усмехнулся Швецов. - Ничего особенного.
Заграничные штучки. Из их газет, с той стороны к нам попала. Мы перевели на
русский язык.
- Знаешь?.. Это даже смешно.
- Само по себе смешно. Но когда такое "художественное произведение"
попадет в какую-нибудь европейскую столицу и фигурирует там как документ,
объясняющий так называемые "пограничные инциденты", и почтенные дипломаты с
двумя подбородками опираются на него, чтобы напакостить нам в нашей внешней
политике, то это уже не смешно.
- Единственное слово правды тут, что Ниссо живет в одном доме со мной и
носит русское платье. Но кто мог сообщить об этом? До нападения банды она
одевалась иначе. Да и комсомола здесь у нас не было.
- А вот об этом, брат, нам не мешает подумать. Бывает, на одном слове
срываются. Этим сейчас занимается в Волости наш Особый отдел. Думаю,
как-нибудь разберется, не у нас ли где-либо живут такие "челобитчики к
мировой справедливости и гуманности". А? Что скажешь?
- Скажу тебе, Швецов, - серьезно ответил Шо-Пир. - Если сразу не
поймать такого, он, пожалуй, нырнет, ускользнет и еще много лет будет
вертеться среди нас нераспознанным. В наши города проберется, вылезет на
какой-нибудь ответственный пост. В конце концов попадется, конечно, но
сколько за это время навредит?.. многому еще нам поучиться надо: машинка
тут, видно, действует тонкая, разобрать такую - зорче часового мастера надо
быть... А границу нашу крепко запереть нужно!
- Что касается границы... Впрочем, пока даже тебе не имею права
говорить... Проживешь здесь до будущего года - увидишь сам...
Твой дом - земли шестая часть,
Твои в нем воля, свет, и власть,
И все чудесные цветенья.
И на тебя - в пяти шестых -
Тьмы глаз, бедою налитых,
Глядят, как на свое спасенье:
Им всем ты, юная, в ночи -
Как солнца первые лучи!
Правда мира
- Остановимся? - сказал Шо-Пир. - Перевал.
- Теперь остановимся, - ответила Ниссо и положила на луку седла повод.
Усталые лошади встали рядом, жадно дыша, кося глаза на преодоленный
подъем. Ниссо сдвинула на затылок шапку-ушанку, заправила в нее волосы.
Мертвый, первозданный мир простирался внизу: продолговатая чаша долины,
выпаханной ледниками, исчезнувшими тысячелетья назад: горы - ряд за рядом
гладкие внизу, острые в гребнях. Их освещало солнце, но в прозрачной дали
они лиловели.
- Застегни полушубок, - сказал Шо-Пир. - Ветер.
- Шо-Пир, я люблю такой ветер! Посмотри вниз, они на мышей похожи.
- Кто?
- Горы, вон те, внизу. Как будто все рядом встали, носы вперед и из
этой долины едят. Маленькие... А вот снежные над ними - как бороды больших
стариков. Блестят!.. Правда, совсем как люди?
- Выдумщица ты, Ниссо, - сказал Шо-Пир и перевел натрудившую плечо
винтовку на другую сторону. Затем тяжело перегнулся в седле, навалился на
одно стремя, сунул пальцы под взмокшее брюхо лошади, пробуя слабину
подпруги. Выпрямился. - На двести километров кругом теперь нет людей!
- Сколько нам ехать еще, Шо-Пир?
- Недели две ехать, - задумчиво ответил Шо-Пир. - Уже три едем.
Надоело?
- Никогда не надоест! - ответила Ниссо. - Посмотри! Посмотри! Как
красное зеркало там, все разбилось и все-таки горит...
- Это скалы отражают закат. Моренами называют их!
- А когда ты обратно в автомобиле поедешь, сколько дней понадобится
тебе?
- Если дорога уже будет готова - в три дня прокачу тебя. Представляешь
себе, как поедем?
Ниссо промолчала. Она не хотела представлять себе, как поедет обратно.
В глубине души она давно сказала себе, что ей незачем ехать обратно. Нет,
она уехала из Сиатанга совсем не для того, чтобы вернуться туда. Даже в
автомобиле! Конечно, Шо-Пир думает обо всем иначе. Он говорит, что ей
непременно захочется вернуться, захочется работать в Сиатанге. А сам он
уехал из Сиатанга только потому, что прослышал о новой строящейся дороге, -
конечно, он первый хочет проехать по ней в автомобиле... Ведь он шофер. Всю
зиму он жил в нетерпенье. Всю зиму он ждал открытия перевалов. Ниссо тоже
ждала и вот едет теперь, - какое счастье, что она едет, наконец, в большой
мир! Вот только две недели еще, - проехать вот эти горы и те... и вон те...
и еще вот те, чуть виднеющиеся вдали, совсем как призраки они - легкие! А
там откроется все, о чем она так долго мечтала: города, большие города,
большие люди, Москва!..
"А может быть, я и сама стану когда-нибудь большим человеком? Ведь я же
не в Яхбаре живу! Вот Шо-Пир сказал, когда к перевалу мы выбирались:
"Погляди назад, вон зубцы - это страны, такие же, как Яхбар, в котором ты не
могла бы стать человеком. Сколько таких Яхбаров еще существует там, где нет
нашей советской власти?! А теперь глянь вперед, все доступно тебе!.." В
самом деле, ведь я еду учиться, буду знать все. Почему бы мне не стать
большим человеком? Я так хочу? Какая я счастливая, - что может помешать
мне?.."
- О чем замечталась Ниссо?
Ниссо быстро обернулась к Шо-Пиру. Их колени соприкасались - так близко
стояли одна к другой лошади. Лошадь Шо-Пира положила свою голову на гриву
маленькой лохматой лошадки Ниссо, терлась губой о гриву.
- Дай руку твою, Шо-Пир... - Ниссо схватила большую ладонь Шо-Пира,
чуть нагнувшись в седле, порывисто сжала ее, ласково отпустила. - Ни о чем!
Поедем теперь.
И оба двинулись вниз с перевала.
Безмерные пространства Восточных Долин совсем не походили на скалистые
глубокие ущелья Сиатанга, оставшегося далеко-далеко позади. Каждый вечер -
вот уже три недели - Шо-Пир и Ниссо выбирали под склоном какой-нибудь горы
травянистую лужайку у первого попавшегося ручья; стреножив лошадей, пускали
их на подножный; собирали кизяк или терескен, разводили костер, не
раздеваясь, в белых овчинных полушубках, спали на кошме под ватным одеялом.
Просыпались с рассветом, седлали лошадей, ехали дальше... За все три недели
только однажды встретился им стан кочевников. Ту ночь Шо-Пир и Ниссо провели
в юрте, пили густое ячье молоко и кумыс, до утра вели разговоры с
набившимися в юрту кочевниками; те интересовались большими делами, что
вершатся за пределами Высоких Гор, спрашивали о том, что такое колхозы, о
которых донесли им весть другие кочевники, о новой дороге, которая уже
тянется сюда от больших городов, и о летающей машине, промчавшейся недавно
над их становищем...
Шо-Пир и Ниссо сами не знали решительно ничего: ведь они ехали с другой
стороны - к новостям, а не от новостей...
Бесконечным кажется путь. Людей нет. Только сурки верещат, вставая на
задние лапки у своих норок, - жирные, непуганые сурки.
Шо-Пир и Ниссо спускаются с перевала. Закат все краснее, лучи его легли
вдоль склона, как воздушные столбы, - это черные зубцы перевала нарезали его
на отдельные полосы. Вот ручей и маленькая лужайка, - трава зелена, здесь,
пожалуй, можно остановиться.
И вдруг из-за скалы - всадник. За ним другой, третий.
Шо-Пир останавливаются, смотрят из-под ладоней на неожиданно возникших
перед ними людей. Те трое тоже останавливаются, смотрят, срываются, скачут
навстречу, держа винтовки поперек седел.
- Красноармейцы это, Шо-Пир! - восклицает Ниссо. - Откуда они?
- Здорово! Привет путешественникам! Откуда держите путь? - осадив
коней, спрашивают бойцы.
Шо-Пир смотрит на их здоровые, загорелые лица, - вороты полушубков
расстегнуты, виднеются зеленые полоски петлиц.
- Никак пограничники? - обрадованный встречей Шо-Пир тянет каждому из
них руку. - Из Волости мы. А вы издалека? Эге! Да вас, оказывается, много!..
Из-за скалы выезжает длинная цепочка всадников.
- Нас? Нас, товарищ, пожалуй, хватит... Постойте. Там будет не
разминуться. Ну всего! Мы - дозор...
- Всего... - растерянно отвечает Шо-Пир вслед уже зарысившим дальше
всадникам. Он надеялся поговорить с ними. Но он видит, что из-за скалы
движется целый отряд. Вместе с Ниссо Шо-Пир съезжает с тропы на лужайку.
Ниссо взволнована не меньше, чем он. Мимо, приветствуя встречных путников,
проезжает головное охранение.
И едва Ниссо тронула повод, чтоб ехать дальше, новая вереница всадников
выезжает из-за скалы. Это командиры, их много, и Шо-Пиру понятно: это штаб
отряда, - каким большим должен быть весь отряд, если впереди него столько
командиров!
Шо-Пир прикладывает руку к шлему, командиры отвечают ему. Один из них
отделяется от колонны.
- Здравствуйте! - говорит ему Шо-Пир.
- Здравствуйте! Добрый путь... Из Волости?
У командира приветливое лицо. На зеленых петлицах - ромб, и Шо-Пир
поражен этим высоким знаком различия, - что делать в Высоких Горах отряду с
таким крупным начальником? На короткие расспросы Шо-Пир отвечает четко, - он
снова чувствует себя красноармейцем.
- А мы, - заговорившись с Шо-Пиром и пропустив свой штаб далеко вперед,
объясняет начальник отряда, - границу идем закрывать. Пора ваши горы
обезопасить. Заставы везем... Да и время уже вашим селениям приобщиться к
культуре. Кинопередвижки у нас, рации, движки для электростанций,
типографские машины, шрифты для газет, библиотека, да мало ли что еще?! А
это ваша жена? - и обращается к Ниссо: - Разрешите пожать вам руку!
Ниссо смущена и неожиданной встречей, и улыбкой командира, и этим
словом "жена". Откуда он взял, что она стала женой Шо-Пира? Она крепко жмет
протянутую руку.
Начальник отряда догоняет свой штаб, а мимо уже едут бойцы, - вот
свернутое знамя в синем чехле, вот привьюченные на спинах коней пулеметы,
вот белые кисейные платки под фуражками пограничников, прикрывающие их
обветренные лица от высокогорного солнца; вот привьюченный к двум идущим
одна за другой лошадям лазаретный паланкин на длинных носилках - красный
крест на синем брезенте, он проплывает мимо. И снова бойцы, едущие гуськом,
нескончаемой вереницей...
Шо-Пир и Ниссо спешиваются, стоят, держа своих лошадей в поводу, молча,
восхищенно смотрят. Красные блики заката уже потухли, тени вечера быстро
сгущаются, а бойцы все едут и едут, кажется, нет им числа.
Наконец цепочка бойцов обрывается, тропа свободна - видимо, прошли все.
Но из-за скалы выплывают новые всадники... Нет, это всадницы: женщины,
одетые, как и бойцы, в полушубки... Это жены командиров, конечно, - значит,
надолго едут сюда. За всадницами целый поезд привьюченных к лошадям
паланкинов, в них тоже женщины - эти, вероятно, не умеют ездить верхом.
- Смотри, Шо-Пир, смотри! - восклицает Ниссо. - Дети!
В самом деле: идут лошади с большими вьючными люльками. За занавесками
- детские лица. Они прижимаются к деревянным прутьям люлек. Дети
пограничников, юные путешественники, - им весело ехать так!
Снова интервал, и медленно шагают верблюды. Впереди на маленьком осле -
караванщик. К хвосту первого верблюда привязан второй, веревка продета
сквозь его ноздри; ко второму привязан третий... Шо-Пир невольно считает:
пятьдесят верблюдов. И снова ослик с сидящим на нем караванщиком, и снова
верблюды, верблюды с огромными вьюками да изредка обгоняющий их
всадник-боец. Под шеей у каждого верблюда медная звонница, все кругом
наполняется мерным, спокойным звоном, звон плывет над тропой, над лужайкой,
над горами, кажется, сами горы наливаются этим звоном... Уже темно, уже
всходит луна, зеленый, призрачный свет ее сливается с мерным звоном.
Верблюды идут, идут, покачиваясь, кивая, мягко вышагивая по каменистой
тропе...
Шо-Пир стоит, обняв плечи Ниссо. Оба смотрят, забыв обо всем на свете.
В лунном сиянии верблюды кажутся таинственными плывущими над землей
существами... Ни Шо-Пир, ни Ниссо никогда не видали такого зрелища. Им
кажется, что вместе с горами, луной, облаками они сами плывут вперед мимо
взмахивающих ногами, качающихся верблюдов.
- Да сколько вас! - наконец восклицает Шо-Пир. И кажется, совсем не
человеческий голос из лунного света отвечает ему:
- Пять тысяч верблюдов, пять тысяч...
Движется время, движется ночь. Плывут и плывут таинственные тени
верблюдов. Шо-Пир и Ниссо уже давно лежат на кошме. Их стреноженные кони
мирно пасутся в густой траве. Ночной холод неощутим, - лежат, укрывшись
своим одеялом, подперев подбородки руками. Лежат, молчат, смотрят, не в
силах оторвать глаз от загораживающего шествия верблюдов, опьяненные
нескончаемым звоном, Колыбельною песнью мира, рождающей фантастические
неопределенные образы... Лежат и не спят, и ощущают медленное биение своих
сердец, и Шо-Пир курит, курит, беспрерывно курит свою старую трубку...
Луна ложится на гребень горы, зеленые блики уходят вверх по горному
склону, а верблюды идут, идут...
1939 - 1941 и 1946 годы
Ленинград
В с т у п л е н и е
.............................................................3
Глава первая
..................................................................4
Глава вторая
..................................................................24
Глава третья
..................................................................47
Глава четвертая
...............................................................67
Глава пятая
.....................................................................87
Глава шестая
..................................................................111
Глава седьмая
.................................................................137
Глава восьмая
.................................................................169
Глава девятая
..................................................................198
Глава десятая
..................................................................220
Глава одиннадцатая
..........................................................244
Э п и л о г
.......................................................................263
Роман П. Н. Лукницкого "Ниссо", написан перед Отечественной войной.
Переведен на десятки языков Европы и Азии.
По роману "Ниссо" созданы две оперы - композитором С. Баласаняном
(либретто Ценина), ставившаяся в Таджикистане и телевизионным центром в
Москве, и болгарским композитором Дмитром Ганевым. В 1966 году на экраны
вышел фильм "Ниссо" (Таджикфильм. Режиссер М. Арипов, сценарий П. Лукницкого
и Л. Рутицкого), сделанный по мотивам романа.По роману "Ниссо"
Д.Худоназаровым в 1979 году снят телевизионный многосерийный фильм по заказу
Гостелерадио СССР (сценарий В.Лукницкой).
Перу П. Н. Лукницкого принадлежит ряд романов, повестей, рассказов. В
числе его произведений много очерков, посвященных путешествиям по Памиру и
другим отдаленным горным районам Средней Азии, Казахстана, Заполярья. Немало
произведений П.Н. Лукницкого посвящено героической обороне Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны. В 1961 году вышла в свет книга "На берегах
Невы", в 1964 - книга "Сквозь всю блокаду", в 1961, 1964 и 1966 годах -
трилогия, фронтовой дневник "Ленинград действует".
П. Н. Лукницкий - участник Великой Отечественной войны - награжден
орденами и медалями.
Когда, преодолев Большую Ледниковую Область, ты захотел увидеть истоки
реки Сиатанг, ты прежде всего осилил труднейший перевал, взнесенный природой
на пять с половиною километров над уровнем моря. Встав над пропастью на
снежной обрывистой кромке этого перевала и обратившись лицом к югу, ты
увидел внизу острые хребты гигантских горных массивов, уходящие ряд за
рядом. Серые, иззубренные, скалистые, с почти отвесными склонами, они,
простираясь вдаль, в синюю глубину пространств, походили на спины
исполинских, недвижимых, навеки уснувших драконов. Разделенные провалами
таких же бесконечно длинных и все углубляющихся ущелий, они создали
впечатление мира дикого, мертвого, лишенного какой бы то ни было
органической жизни. Только тонкие облачка, курящиеся над ледяными зубцами
хребтов, свидетельствовали о том, что в этом первозданном мире существуют
переменчивость и движение. Да еще, заметив внизу застывшего в парящем полете
грифа, ты, путешественник, подумал, что эта огромная живая птица, кружащаяся
над хаосом древних морен, существует здесь вопреки законам природы.
Обратившись к карте, ты убедился в том, что ни сама Большая Ледниковая
Область, ни верховья видимых тобою рек на карте не обозначены. И вместо
каких бы то ни было точных географических начертаний на ней тянутся всего
лишь два дразнящих воображение слова: "Неисследованная область". Убедившись,
что спуститься здесь невозможно, ты перестал гадать, какое именно из диких
ущелий этих Высоких Гор называется ущельем реки Сиатанг.
Повернув обратно, ты ушел на север и целую неделю блуждал среди
безжизненных фирнов и ледников, ища пути назад, задыхаясь от недостатка
воздуха и только крепостью духа поддерживая в себе уверенность в том, что у
тебя хватит уменья и сил выбраться из этих страшных необитаемых мест. А
потом еще две недели ты спускался верхом в те жаркие и благодатные долины,
где советские люди возделывают хлопок, живя в мирном неустанном труде.
И когда тебя спросили о стране Сиатанг, ты сказал, что ничего не знаешь
о ней, хотя она лежала перед тобой как на ладони. И добавил, что, судя по
карте, проникнуть туда можно только кружным путем, пройдя сотни километров
по нагорьям Восточных Долин, достигнув Большой Пограничной Реки и
спустившись по узкой тропе до устья реки Сиатанг, - войдя, таким образом,
через полтора месяца странствий в ее ущелье не сверху, а снизу.
- Но и с той стороны, кажется, еще никто из исследователей в это ущелье
не заходил! - прибавил ты, подумав...
Сведения о реке Сиатанг, имевшиеся в описываемые - уже давние для нас
теперь - годы, были, конечно, беднее того, что известно ныне. Но перенесемся
в те годы и увидим: независимо от каких бы то ни было сообщений географов,
река Сиатанг, рожденная среди ледников, течет внизу по дну пропиленного ею
за десятки тысячелетий ущелья и дает жизнь маленькой народности горцев. Они
говорят на своем сиатангском наречии, имеют собственную, полную событий
историю и вместе со всей необъятной Советской страной после Октябрьской
революции начали жить по-новому.
За хребтами, образующими ущелье реки Сиатанг, на сотни километров
простираются другие хребты, разделенные другими ущельями, в каждом из
которых текут такие же, как Сиатанг, реки.
На скалистом береговом склоне одной из них ютится далекое от всего
мира, маленькое, еще недавно никому не ведомое селение Дуоб. Жители его
говорят на сиатангском наречии.
И кто бы мог думать, что норку ее
Зимой не разроет зверье?..
...Есть солнце, и камни, и ветер, и снег,
В мученьях за веком рождается век,
Но ты их сильней, Человек!..
Раздумья в Высоких Горах
Конечно, соглашаться на предложение Мир Али не следовало. Но, приехав в
маленькое, сжатое скалами селение Дуоб, он так вежливо разговаривал с
Розиа-Мо, так горячо убеждал ее, что она в конце концов согласилась. Что
было делать? С тех пор как муж ее умер, она выбивалась из сил, чтобы
прокормить себя и свою маленькую Ниссо, и все-таки голодала. Мир Али сказал
ей: "Целое лето ты будешь работать в Яхбаре, у самого Азиз-хона, а осенью он
даст тебе овцу и столько муки, что, вернувшись в Дуоб, ты всю зиму будешь
жить так спокойно, как будто у тебя есть здоровый, богатый муж". Розиа-Мо
посоветовалась со своей сестрой Тура-Мо. Сестра согласилась за половину
заработка, который Розиа-Мо принесет осенью, взять к себе на лето маленькую
Ниссо.
Розиа-Мо завалила вход в свое жилище большим камнем и, до глаз укрыв
лицо белым покрывалом, пошла впереди осла, на котором выехал из селения Мир
Али. Никто не провожал Розиа-Мо: жители Дуоба мало интересовались ее
судьбой, а Тура-Мо еще до рассвета ушла на Верхнее Пастбище. Розиа-Мо шла по
узкой каменистой тропинке, высеченной в скале. Мир Али ехал за нею молча,
поглядывая на реку, швыряющую пену к подножью откоса, над которым вилась
тропа. Розиа-Мо перед входом в теснину ущелья захотела в последний раз
взглянуть на родное селение, но, встретясь с суровым взглядом Мир Али,
отвернулась и опустила глаза.
Она пыталась представить себе свою будущую жизнь там, в Яхбаре,
расположенном за Большой Пограничной Рекой. Ничего не знала Розиа-Мо об этой
стране Яхбар, но о правителе ее, Азиз-хоне, многое слышала от соседей,
бывалых людей: они часто рассуждали между собой о богатстве его, и о
могуществе, и о власти. Что ждет ее там? Смутное беспокойство омрачало
Розиа-Мо...
Когда теснина расширилась, Розиа-Мо увидела на крошечной лужайке двух
лошадей и мальчика, прикорнувшего около камня. Мир Али отдал мальчику осла,
велел Розиа-Мо сесть на лошадь, сам сел на другую, и они двинулись дальше.
А к вечеру на каменистой террасе, там, где тропа спустилась к реке,
путники повстречались с группой всадников, и среди них Розиа-Мо узнала
ненавистного ей Алим-Шо. Она сразу поняла, что Мир Али ее обманул и что если
Алим-Шо подъедет к ней, то никогда уже не увидит она ни родного селения, ни
своей дочки Ниссо.
Этот Алим-Шо сватался за Розиа-Мо несколько лет назад и уехал,
взбешенный ее отказом. Этот Алим-Шо через год напал на ее мужа по дороге к
Верхнему Пастбищу и избил его камнями так, что муж уже не мог больше
оправиться. Этот Алим-Шо после смерти мужа приезжал в Дуоб свататься еще раз
и уехал еще более взбешенным, когда Розиа-Мо при всех плюнула ему в лицо.
Теперь он приближался к ней на своем яхбарском коне, улыбаясь так, будто
ничего не случилось.
В страшной тревоге Розиа-Мо быстро осмотрелась вокруг. Старый Мир Али
ехал сзади и закрывал путь к отступлению. Направо высились отвесные склоны.
Налево шумела река. По ту сторону реки вилась такая же тропинка, и там не
было никого. Если бы Розиа-Мо рассудила здраво, она поняла бы, что все
равно, куда ни кинься, от всадников Алим-Шо ей не уйти. Даже если б она
домчалась до селения, кто вступился бы за нее? Но думать было некогда, и
только слепое отчаяние заставило ее решительно погнать своего коня в реку.
Умный горячий конь рванулся в поток, не побоявшись бурлящей воды. Шум реки
заглушил гневные крики Алим-Шо и его приятелей. Они кинулись в воду, но
беглянка раньше их успела выбраться на противоположный берег.
И по тропе, по какой разумный человек ездит только шагом, Розиа-Мо
помчалась карьером. Она не слышала голосов мужчин, кричавших ей что-то
вдогонку, и ни разу не обернулась. В паническом страхе она погоняла коня. И
то, что должно было случиться, случилось. На крутом повороте узкой тропы
нависшая скала вышибла женщину из седла. Ее раздробленная нога осталась в
стремени. Розиа-Мо волочилась головой по камням, пока испуганный конь не
остановился; и когда Алим-Шо медленно выехал из-за поворота тропы, он
увидел, что Розиа-Мо мертва. Он наклонился над ней, сжав губы и отирая
рукавом халата свой потный, блестящий лоб. Дотронулся до ее окровавленного,
разбитого тела и пробормотал про себя молитву. А когда подъехали его
приятели, они, спешившись, молча постояли над Розиа-Мо, не глядя один на
другого.
А затем, совершив все, что полагается в таких случаях совершать
правоверным шиитам, сбросили в реку труп Розиа-Мо и, забрав с собою коня,
уехали во владение Азиз-хона. А Мир Али, подкупленный ими слуга Азиз-хона,
вернулся к своему хозяину, решив, что язык его никогда не разболтает
историю, которую в этот вечер видели его глаза.
Через несколько дней старый пастух, возвращаясь в селение, нашел у
прибрежных скал изуродованное тело Розиа-Мо - еще недавно сильной и красивой
женщины. Бедняки-соседи и Тура-Мо пришли сюда на привычные похороны, но
никто не узнал истинной причины смерти Розиа-Мо.
А потом старики собрались и решили, что маленькая Ниссо должна остаться
у Тура-Мо. И гневная Тура-Мо вынуждена была согласиться, потому что ни один
из ее доводов на стариков не подействовал. "Все бедны, - сказали они, - все
не хотят лишнего рта, все в зимние месяцы кормятся только вареными травами,
но Розиа-Мо была твоею сестрой, и ты должна взять девочку к себе".
И Ниссо осталась у своей тетки.
Будь Зенат-Шо дома, он, вероятно, быстро успокоил бы Тура-Мо, сказав
ей: "Если собаке подкинуть чужого щенка, она все-таки станет его кормить;
девчонка будет есть то, что мы едим сами! А потом станет нам помогать -
разве плохо, когда в доме есть лишние руки?"
У Зенат-Шо слишком мягкий характер, он всегда думает о других, а о себе
забывает. Ведь не всю жизнь девчонка может бегать по селению голой - ей
понадобится рубашка, да мало ли что ей понадобится, пока она будет расти?..
Зенат-Шо нет дома, и неизвестно, когда он вернется. Два года назад он ушел
на заработки за пределы Высоких Гор. Кто может знать: жив он или умер?
Тура-Мо вынимает сушеные тутовые ягоды из мешка и швыряет горсть их на
плоскую плиту сланца. Кладет ладонь на большой круглый камень, раскачивает
его, давит сухие ягоды, толчет их в муку, собирает муку в деревянную чашку,
бросает на плоскую плиту новую горсть сухих ягод...
Домотканая рубаха Тура-Мо грязна и изодрана, в прорехах поблескивает ее
загорелое тело. Она худа, но руки ее хорошо развиты и сильны, - круглый
камень поворачивается ритмически, похрустывая иссушенным прошлогодним тутом.
Непослушные черные привязные косы мешают ей, она беспрестанно откидывает их
резким движением голого локтя. Такие косы, сплетенные из козьей шерсти,
носят все женщины Высоких Гор, подвязывая их к своим волосам. У Тура-Мо они
черные, давно уже черные. Многое отдала бы Тура-Мо за право вернуть свои
красные косы, какие подвязывала, когда была девушкой. Но это время ушло, - у
Тура-Мо уже двое детей, надо думать только о них. Был еще третий ребенок, но
он умер от оспы, да, пожалуй, жалеть о нем и не стоит. Птицы, овцы, даже
змеи могут много есть, ни о чем не заботиться, делать то, что им хочется, а
ей, Тура-Мо, на что ее молодость, если даже самое маленькое желание надо
всегда гнать от себя?
Нет, так продолжаться не может. Разве в силах одинокая женщина
прокормить своих детей, да еще чужого ребенка? Если Зенат-Шо умер, зачем его
ждать? Не пора ли подумать о другом муже? Если жив - сам виноват, что не
возвращается до сих пор! Пусть Бондай-Шо, сосед Тура-Мо, - юродивый и
зобатый; без богатства где найдешь здорового и свободного мужчину? Он все
чаще приходит во двор и спрашивает: "Не забежал ли к тебе, Тура-Мо, мой
козленок?" Какой у него козленок, - нет у него ничего, кроме тощего, с
облезлой шерстью осла. Но Тура-Мо будто не знает, до сих пор она все
отвечает: "Не видела. Наверное, не забегал". А ведь она молода, ее тело
налито жизнью, как зрелый посев, и все чаще ей хочется ответить ему:
"Посмотри, Бондай-Шо, кажется, что-то мелькнуло, когда я ходила к каналу,
может быть, и правда, твой козленок пробрался в мой дом". У Бондай-Шо
мускулистая грудь и крепкие руки, он хорошо поет свои странные песни, он
ходит по другим селениям и всегда приносит домой баранье сало, сушеное мясо,
мешок абрикосовых косточек или тута. Зоб? Что значит зоб, кто здесь обращает
на это внимание? Хасоф тоже зобатый, а имеет красивую, молодую жену.
Хушвакт-зода, и Махмут, и Худай-Назар - все зобатые, а у всех жены, и жилье,
и тутовые деревья, и никто не смотрит на них иначе, чем на других мужчин.
Бондай-Шо, как и все, умеет сеять зерно, обрабатывать землю, пасти скот,
направлять воду в каналы. Может быть, в Бондай-Шо сидит злой дух? Ведь вот
когда Бондай-Шо катается по земле, и кричит, и беснуется, и плюется, -
наверное, в нем волнуется дэв, стараясь выскочить из него. Но это с
Бондай-Шо случается редко, а чаще всего он беспечен и весел, даже веселее
других. Он, наверное, скупится на подарки Барад-беку, чтобы получить от него
хороший амулет, который избавил бы его от таких беснований. А если он найдет
в ее доме своего козленка, она заставит его купить хороший амулет!
Наполнив ягодною мукой деревянную чашку, Тура-Мо несет ее дом. Босые
крепкие ноги ее белы от тутовой пыли; войдя в дом, Тура-Мо ставит загорелую
ногу на край деревянной чашки, осторожно сгребает с нее в чашку мучную пыль
- надо беречь каждую крупинку муки, особенно теперь, когда в доме появился
лишний рот. Высыпает муку на платок, возвращается с пустой чашкой к плоскому
камню, продолжает помол. Солнце накалило камень, но руки Тура-Мо не боятся
ни холода, ни жары, она прилежно работает и думает о Ниссо... Может быть,
Ниссо несчастливая? Может быть, от ее присутствия в доме будет сглаз родным
детям? Может быть, от Ниссо распространится на них несчастье?.. Девчонке
теперь восемь лет, по всем признакам, она как будто здорова... И надо
думать, никаких злых дэвов в ней нет. Пожалуй, Тура-Мо нечего опасаться.
Летом каждая ступенька, подпертая каменною стеной, станет маленьким, в
две-три квадратные сажени, полем: натаскают на носилках земли, рассыплют ее
темным и ровным слоем, посеют просо, ячмень, горох.
Но пока еще не ушла зима. Крошечные площадки еще завалены неубранными,
прикрытыми снегом камнями. Камни падали всю зиму с той гигантской осыпи, что
высится над селением, уходя к остроконечным вершинам горы. Правда, эти камни
уже не ворочаются под ногами, они крепко смерзлись, но под снегом не видно
их острых ребер, идти по ним босиком очень больно. С площадки на площадку,
как по лестнице великанов, цепляясь за выступы грубо сложенных стен,
спускается к реке Ниссо. Вся ее забота - не уронить большой глиняный кувшин;
она то ставит его себе на голову, то прижимает к груди, обнимая тоненькими
руками.
Черные волосы Ниссо слиплись - самой ей некогда их расчесывать, да и
нечем: деревянный гребешок есть только у тетки, а тетка не позволяет трогать
его. Тетка несправедлива: родным детям, Зайбо и Меджиду, она иной раз
расчесывает волосы гребнем, а Ниссо - никогда. Но Ниссо уже привыкла ничего
не просить у тетки, - в лучшем случае тетка только накричит на нее. Вот
придет лето, вода станет теплее, Ниссо сама вымоет себе волосы.
С гор дует острый, ледяной ветер. На Ниссо рубашка из брезентовой
торбы, слишком короткая, - но хорошо, что есть хоть такая. Эту торбу Тура-Мо
нашла в доме своей покойной сестры еще в прошлом году - вероятно, ее забыл
Мир Али, когда приезжал, чтобы увезти с собой Розиа-Мо. Неоткуда больше было
взяться торбе: ведь в Дуобе ни одной лошади нет, а если б и были, то кто в
этих местах стал бы тратить такой хороший кусок завезенного издалека
брезента на лошадиную торбу? В прошлом году Ниссо бегала по селению голой,
но ведь ей уже восемь лет, она уже скоро невеста, и соседи убедили Тура-Мо,
что девочке пора быть одетой. Тура-Мо долго упорствовала - ведь для торбы
можно найти лучшее применение, - но с мнением соседей все-таки следует
считаться! Кляня девчонку, на которую всегда надо тратиться, Тура-Мо,
наконец, прорезала торбу, пришила к ней две шерстяные тесемки, со злобой
сказала: "Носи!"
Новое платье Ниссо походило на черепаший панцирь. Под мышками и на шее
Ниссо появились багровые полосы: через несколько дней они превратились в
гноящиеся раны. Ниссо не плакала, потому что была странной девочкой: она не
плакала никогда. Воздух в селении был чист и целителен, вскоре от ран
остались только рубцы, похожие на мозоли, а жесткое брезентовое платье могло
не развалиться до конца жизни Ниссо.
Ниссо спускается к грохочущей реке. Подойдя к берегу, спрыгивает на
большой плоский камень, охваченный бурлящей пеной, наклоняется, крепко держа
кувшин. Холодная вода закипает у его горлышка, стремится вырвать кувшин из
рук Ниссо. С трудом подняв его сначала на плечо, затем на голову, Ниссо
устремляется в обратный путь.
Проклятый ветер! Он насквозь пронизывает тело. Когда же, наконец,
разомкнутся тучи над этим ущельем? Всю зиму они плывут и плывут, все в одном
направлении, от тех ледяных вершин, с которых бежит река. Ниссо ничего в
мире не знает, но не сомневается, что, когда пройдут вниз все тучи, появится
солнце, ветер станет теплее и ходить за водой будет гораздо легче.
А главное - если б не трещина в основании кувшина, из которой вечно
течет вода! Ниссо старательно зажимает трещину пальцами, но вода все-таки
струится по руке вниз, пробегая по лицу и по шее до голых плеч, замерзает на
ледяном ветру. Льдинки жгут, колют плечи Ниссо, а рук от кувшина отнять
нельзя. Стуча зубами, дрожа, девочка осторожно взбирается по камням,
стараясь не поскользнуться. Теперь она поднимается к дому по узкой тропинке:
этот путь гораздо дальше, но ведь с кувшином, полным воды, никак не
подняться по стенкам, разделяющим ступени полей.
Если б Розиа-Мо была жива, она, наверное, ходила бы за водой сама, -
все взрослые женщины зимой ходят за водой сами, но Тура-Мо занята другими
делами, ей совсем неинтересно думать о чужой девчонке! Вот и сегодня, - куда
ушла Тура-Мо? Сказала только детям: "Сидите тут тихо!" - и ушла, и весь день
ее нет. Впрочем, Ниссо очень хорошо знает, где проводит дни тетка. Конечно,
она у этого Бондай-Шо, который только и знает, что валяется на своей
козлиной шкуре да бренчит на двуструнке. Каждый день Тура-Мо уходит к нему,
и они запирают дверь, и больше никто в селении целый день их не видит!
Ниссо окоченела и торопится к дому, но с кувшином в гору бежать нельзя,
она только старается быстрее перебирать ногами и тяжело дышит сквозь
стиснутые зубы.
Каменные лачуги селения черны. Каждая из них окружена пустым,
омертвелым садом, запрятана в каменные ограды. Улиц в Дуобе нет, есть только
узкие, извилистые проходы между оградами, - такие узкие, что в них с трудом
могут разойтись два осла. Ледяной горный ветер вымел все селение, сугробы
снега удерживаются только в самых глухих углах между большими камнями.
Жителей не видно - кому охота выбираться на такой ветер, да и что делать в
селении зимою? Тем, у кого еще остались тутовая мука и сушеные яблоки, нет
нужды выходить из дому, - как-нибудь до весны протянут.
Ледяная вода все течет, замерзает на плечах и груди Ниссо. Но вот она
добралась до дому, и кувшин еще до половины полон водой. Ниссо входит в дом,
кидает взгляд на Зайбо и Меджида, катающих в углу бараньи позвонки, устало
выливает воду из кувшина в чугунный котел, вмазанный в очаг. Прыгает, трет
тело руками, обкусывает ледяную корку, налипшую на руки.
- Ниссо, есть хочу... Дай мне есть... - слезливо ноет шестилетний
Меджид.
- Молчи! Я сама хочу. Надо еще идти за травой, - говорит Ниссо, дав
Меджиду по уху. - Сидите тихо, пойду за огнем.
Спички в Дуобе есть только у почтенного Барад-бека. Но и хвороста,
чтобы поддерживать огонь постоянно, тоже ни у кого не хватило бы. Жители
Дуоба держат негасимый огонь по очереди. Ниссо, взяв глиняную чашку,
выбегает из дому и через несколько минут возвращается, прижимая чашку к
животу.
Осторожно хватая принесенные угли пальцами, она вкладывает их в очаг на
приготовленные куски сухого навоза. Прикрывает огонек ладонями, старательно
дует, пока всю ее голову не окутывает синеватый едкий дымок.
Меджид и Зайбо опять беззаботно играют в бараньи косточки.
- Смотри, чтоб огонь не потух! - сердито бросает Ниссо Меджиду и опять
выходит за дверь.
Свирепый ветер швыряет горсть снега в ее разгоряченное лицо. Ниссо
бежит по селению, прыгая с камня на камень. Она озабоченно размышляет: где
еще в ущелье над Дуобом могла сохраниться трава "щорск"?
Селение уже далеко внизу, горный ручей звенит по ущелью над глыбами
снега, огромные скалы беспорядочно нагромождены по берегам ручья. Кое-где
между ними торчат из-под снега сухие ветки кустарника.
Там, где Ниссо вчера нарвала травы, - вот под этой большой скалою, -
сегодня нет ничего: кто-то уже побывал здесь, весь снег разрыт. Ага! Тут
прогуливался осел Барад-бека - вот следы его; конечно, именно этот осел!
Ниссо безошибочно узнает следы любого животного - много ли их в Дуобе! Ах,
бродяга, объел всю траву! И ведь выбирает, проклятый, именно ту, из которой
можно варить похлебку!.. Может быть, вон за тем камнем сохранилась? Там нет
никаких следов.
Ниссо обходит скалу, разгребает босыми ногами снег, но под снегом
только голые камни. Переходит в другое место, натыкается на куст облепихи, -
колючки впиваются в ноги. Ниссо садится прямо на снег, сердито вытаскивает
из ноги колючки, размазывает по ноге кровь, а глазами уже рыщет вокруг:
может быть, там? Или там?.. Прямо беда: с каждым днем все меньше травы в
ущелье, скоро, наверное, придется ходить за перевал... Но пока дойдешь туда,
пожалуй, совсем замерзнешь!
Наконец под одним из камней Ниссо замечает знакомую травинку. Быстро -
на этот раз руками - разгребает снег и, найдя пожелтевшие пучки, с
ожесточением рвет их. Надо бы нарвать сразу на несколько дней, но руки уже
окоченели, - скорее, скорее домой! Ниссо еще не научилась думать о
завтрашнем дне, она живет только сегодняшним и, не забросав несорванную
траву снегом, убегает вниз, прижимая к груди охапку обмерзшей травы.
Дома вода уже закипает. Ниссо бросает в котел всю добычу и, сняв себя
холодную рубашку, сидя голая у огня, протягивает к нему то руки, то ноги.
Понемногу тепло наполняет ее, и она перестает дрожать.
Трава варится долго. Ниссо беспечно глядит в котел, но голод уже сводит
ей рот. Она зевает от голода и помешивает варево большой деревянной ложкой.
Меджид и Зайбо забыли игры. Не утерпев, Меджид пытается залезть в котел
пальцем, но Ниссо звонко шлепает его, и он, отдернув руку, как ни в чем не
бывало продолжает глядеть на закруженную кипящей водой траву.
Наконец похлебка готова. Надо бы гасить огонь - ведь каждый кусочек
сухого навоза на счету, но Ниссо медлит: так хорошо течет от огня теплый
воздух! Он отгоняет мороз, проникающий сквозь щели между камнями, из которых
сложены стены жилища.
Ниссо сует Зайбо деревянную ложку.
- Ешь!
Зайбо двумя ручонками ворочает ложку в котле, стараясь выудить как
можно больше вареной травы.
- Скорее! - говорит Ниссо, и Зайбо ест, обжигаясь.
Ниссо передает ложку Меджиду, ждет своей очереди. Ветер дует сквозь
стены, холодит голую спину Ниссо, но грудь ее раскраснелась от жары.
Пятилетняя Зайбо в куске козьей шкуры, обвязанной вокруг ее тельца шерстяной
веревкой, похожа на маленькую обезьянку. Меджид с ногами увяз в лохмотьях,
когда-то бывших холстом. Ложка ходит из рук в руки, все едят жадно и молча,
детские животы надуваются: трава съедена, но горячей потемневшей воды еще
много.
Дом Тура-Мо ничем не отличается от других домов маленького селения.
Вдоль грубо сложенных каменных стен тянутся широкие нары из глины. Нары
разбиты на отдельные части поперечными перегородками. В углах жилища они
образуют клетушки. Раньше, когда Тура-Мо жила лучше, в клетушках зимой
ягнились овцы, хранились мука, сено, солома; выше - на поперечных полках -
стояли деревянные чашки с кислым молоком, козьим сыром, просяными лепешками.
Теперь эти клетушки пусты - у Тура-Мо нет даже одеяла, и ночью укрыться
нечем.
У самого входа, налево от него, - загородка: корова Тура-Мо еще жива,
но страшно отощала, ее давно кормят только сухими листьями тутовника,
выпрошенными в долг у Барад-бека. Если он откажется дать еще, то корову
придется зарезать на мясо, а Тура-Мо скорее позволит отрезать себе руку, чем
лишится коровы. Ниссо дружит с коровой. Ниссо чаще всего спит вместе с ней,
свернувшись клубочком, прижавшись к ее теплому боку. Меджид и Зайбо по ночам
прижимаются к Тура-Мо; прикрытая двумя джутовыми мешками, она спит прямо на
нарах, у самого очага, хранящего ночью остатки тепла. Для Ниссо места здесь
нет. Ну и пусть: спать с коровой гораздо спокойнее, корова привыкла к Ниссо
- не придавит ее, не ударит. Ее зовут Голубые Рога, но рога у нее вовсе не
голубые и очень маленькие, она черная, лоб белый. Ниссо знает, что Голубые
Рога - очень доброе и нежное животное, не однажды бывало - Ниссо просыпалась
оттого, что Голубые Рога лизала ее лицо своим шершавым языком. Ниссо любит
корову и, пожалуй, больше никого на свете не любит. И сегодня Ниссо тоже
оставила ей два пучка добытой под снегом травы, - вот сейчас, как только
кончит есть похлебку, отнесет эти два пучка корове, приляжет с ней рядом и
будет слушать урчание ее впалого живота и скрип плоских, стертых зубов...
Ниссо тушит огонь очага круглым камнем. Едкий дым растекается по всему
жилищу. Меджид и Зайбо, свернувшись, как котята, уже заснули. Ниссо
оттаскивает их в сторону, чтобы во сне они не свалились в очаг, берет свое
горячее, но все еще сырое платье, пучки травы, лежавшие под ним, и
направляется к загородке, за которой ее ждет Голубые Рога.
Но в жилище входит необычайно веселая Тура-Мо. Ее длинная белая рубаха,
под которой только штаны, запорошена снегом, ее косы растрепаны, на конце
правой привязной косы болтается большой ключ от кладовки, от той кладовки, в
которой - Ниссо это знает наверное - давно уже ничего нет. Смуглое лицо
тетки, большие темные глаза ее не такие, как всегда: Тура-Мо улыбается. Это
удивительно, что Тура-Мо улыбается. Ниссо не помнит, чтобы тетка улыбалась.
Странные глаза у тетки сейчас: смеющиеся, острые и блестящие. Ниссо
старается прошмыгнуть за перегородку, но Тура-Мо толчком возвращает девочку
к очагу. Ниссо молча садится, потупив взор и прикрывая платьем пучки травы,
приготовленной для коровы. Но Тура-Мо как будто не обращает на Ниссо
никакого внимания: отвернулась, закинула ладони под косы, полузакрыла глаза,
расхаживает вдоль и поперек жилища. Ниссо искоса наблюдает за непонятным
поведением тетки. Обычно Тура-Мо придет, сядет у очага, даст Меджиду или
Ниссо подзатыльника или, напротив, приласкает Зайбо, начнет есть молча и о
чем-то задумавшись, потом долго, сомкнув губы, сидит без движения - всегда
мрачная, всегда недоступная.
Сегодня с ней что-то особенное: ходит, будто танцует, и шаг у нее
легкий, глядит в потолок, улыбается. Ниссо наблюдает за ней и думает: не
убежать ли к корове? - но боится обратить на себя внимание тетки, - лучше не
шевелиться пока!
Тура-Мо вдруг начинает петь, - без всяких слов, только тянет на все
лады одно протяжное: "А-а-а..." Поет и ходит, как сумасшедшая. Ходит все
быстрее и быстрее, приплясывает, и косы ее развеваются, рубаха зыблется
волнами по ее тощему гибкому телу. Никогда не пела так тетка, и Ниссо уже не
на шутку страшно. Что будет дальше?
Разом умолкнув, Тура-Мо садится на нары рядом с Ниссо. Лицо Тура-Мо
весело и возбужденно. Сунув руку за пазуху, она протягивает Ниссо что-то
розовое:
- На, глупая, ешь!
В пальцах Тура-Мо кусочек розовой каменной соли - лакомство, невиданное
давно. Ниссо опасливо глядит на кусочек, не решаясь принять его.
- Ешь, - смеясь, повторяет Тура-Мо и сует соль прямо в рот Ниссо.
Ниссо чувствует во рту приятный вкус тающей соли, но все еще боится,
ласка тетки так необычна, что страх одолевает Ниссо все больше.
Тура-Мо, охватив руками Ниссо, начинает покачиваться вместе с нею из
стороны в сторону. Опять прикрывает глаза, опять тянет сквозь зубы:
"А-а-а... а-а-а!.." Ниссо дрожит. Тура-Мо покачивается, но все тише, тише.
Замолкает. Руки ее слабеют. Ниссо, думая, что тетка заснула, осторожно
старается освободиться из ее рук.
Но Тура-Мо вдруг открывает глаза, глядит на Ниссо иначе - холодно,
жестко, так, как глядит всегда, и грубо отстраняет девочку. Ниссо
отскакивает от очага.
- Ты куда? - кричит Тура-Мо, и Ниссо разом останавливается. И уже
обычным, раздраженным тоном тетка начинает: - Похлебку варила? Где огонь?
Почему в котле одна только вода? Весь день тут торчала, лентяйка?
Ниссо, голая, как изваяние, стоит, опустив лицо. В руках ее платье, в
котором завернуты два пучка травы.
- Отвечай!
- Варила, - тихо отвечает Ниссо.
- Значит, сама наелась, а мне не нужно? А я, что же, по твоей доброте
должна быть голодной? Это что у тебя в руках? Почему не сварила?
- Голубые Рога...
- Вот как! - впадает в ярость Тура-Мо. - О корове ты думаешь, на тетку
тебе наплевать?! Или я тебя, проклятую, даром держу у себя, кормлю, одеваю?
Неблагодарная дрянь! Выгоню вот на снег, ищи себе жилье в волчьих берлогах!
Иди теперь за огнем, а это давай сюда!
И, вырвав у Ниссо траву, Тура-Мо злобно швырнула ее в котел. Ниссо,
сжав губы, без звука двинулась к выходу. Выскользнула на морозный ветер,
надела на себя платье и медленно пошла к соседу - просить углей.
Ночью, когда, прижавшись к шерстистой шкуре коровы, Ниссо спала, ее
разбудило какое-то всхлипывание. Ниссо прислушалась. В темноте громко
плакала тетка. Умолкала и начинала всхлипывать снова. Потом раздался
пронзительный, испуганный плач Зайбо. Тетка умолкла и, что-то бормоча, стала
успокаивать дочку. Голубые Рога повернула голову, ткнулась мокрой мордой в
колени Ниссо и вздохнула протяжно, длинным коровьим вздохом, обдав Ниссо
струей горячего воздуха. Ниссо еще теснее прижалась к корове и, глядя в
темноту, стала раздумывать о том, что могло быть причиной недавнего
странного веселья тетки и почему она плакала сейчас, ночью? Ветер
посвистывал в щелях между камнями так, будто в нем кружились демоны гор.
- Пойду я, - говорит Бондай-Шо. - Со мной пойдешь?
- Не пойду. Надо камни убрать. Работать надо...
Вокруг губ Тура-Мо сухая, горькая складка. Ее не было в прошлом году.
- Кому нужен твой патук? Ноги кривыми станут. Идем со мной лучше.
- Не пойду. Пусть кривые - зато не умру.
- Тебе весело жить надо, а ты не идешь. Я пойду.
- Иди. Принесешь?
- Принесу.
И Бондай-Шо ушел. Рваный халат на голом теле, двуструнка в руках, за
плечами пустой козий мешок. Без мешка не переправиться через реку, а
переправляться надо во многих местах. Ушел.
Вот спускается по тропе: широкие плечи, бритая голова.
Вот коричневая фигурка далеко внизу, у реки, возится, надувает
плавательный мешок.
Вот поднял халат на плечи, взял мешок под живот - и в воду. Лег на него
и черной точкой понесся в блистающей пене течения: взмахивает рукой и
ногами.
Вот скрылся за мысом...
В ущелье весна. Солнце жжет горячо, но ветер еще несет дыхание льдов.
Вверху, над ущельем, слепят глаза ледяные пирамиды. Но с ними уже не
справиться солнцу.
Целую неделю нет Бондай-Шо. Без него Тура-Мо приходит в себя. Расчищены
от камней три ступени на лестнице крошечных полей селения. Натасканная
деревянными чашками земля слежалась за зиму, жесткой коркой покрывает
ступени. Долгими утрами трудится Тура-Мо: к спиленным козьим рогам привязан
сыромятный ремень, он обвивает Тура-Мо. А на козьих рогах большой камень,
для тяжести, чтобы плуг шел ровнее.
На других полях работают мужчины: разве дело женщины пахать землю?
Никто не поможет Тура-Мо. Но никто и не смеется над ней, все знают: она
одна, а Бондай-Шо одержимый. И если она сеет патук, то что же ей делать? Ни
проса, ни ячменя не согласился дать ей в долг почтенный Барад-бек. Пусть от
патука кривятся ноги, но зато он даст урожай сам-пятнадцать и может расти
чуть не на голом камне. Конечно, Тура-Мо сумасшедшая: разве можно сеять одни
только зерна патука? Ну пусть бы еще пополам с горохом, все-таки будет
питательная мука. Такую можно есть целый месяц - дольше, конечно, нельзя;
если есть дольше - обязательно заболеешь. Жилы под коленями стянутся, кости
начнут ныть и болеть, ноги скривятся, как серп. Но Тура-Мо не слушает
никого, сеет зеленые зерна и знать ничего не хочет. Ну, да всякий делает то,
что ему нужно, а когда нечего есть, и патук еда!
Целую неделю нет Бондай-Шо, и за целую неделю Тура-Мо ни с кем не
перемолвилась словом. Только отрывисто бросает Ниссо: "Принеси воды", "Подай
камень", "Раздуй угли", - но разве это слова? Ниссо делает все, что
приказывает ей Тура-Мо, и тоже молчит. Ниссо никогда не противоречит тетке,
- молчит так, словно родилась без языка. Но, кажется, она довольна, что нет
Бондай-Шо: без него тетка всегда одинаковая - сумрачная и злая. Нет ничего
хуже тех дней, когда она смеется, приплясывает, ходит, как пьяная. До этой
зимы никогда не бывало с теткой такого, а теперь бывает все чаще, стоит
только ей провести день с Бондай-Шо. Глаза ее горят, слова, самые разные,
цепляются одно за другое без смысла; веселье и ласки ее сменяются такой
яростью, будто в нее вселяются дэвы; оставаясь одна, тетка царапает себе
лицо и рыдает целыми ночами. И это так страшно, что лучше, если бы она била
Ниссо... И несколько дней потом Тура-Мо совсем не похожа на человека: не
ест, не работает. Пусть бы лучше Бондай-Шо не возвращался совсем!
На восьмые сутки Бондай-Шо вернулся. Издали увидела его Ниссо: он
поднимался от реки по узкой тропинке, таща на себе тяжелый мешок. Взглянув
туда, где Тура-Мо очищала от камней четвертную ступеньку посева, Ниссо
увидела, что тетка, бросив работу, бежит навстречу Бондай-Шо. Они сошлись у
входа в его жилище. Тура-Мо о чем-то спросила его, и он потряс на ладони
туго набитый маленький мешочек. Потом они вошли в дом. Ниссо подумала, что,
верно, Бондай-Шо принес с собой еды: может быть, вареную козлятину, может
быть, просяные лепешки? Ведь он всегда приносил с собой еду. И подумала еще,
что они все съедят сами. Прячась за камнями, Ниссо тихо прокралась к дому
Бондай-Шо со стороны ограды.
Дом Бондай-Шо, как и все дома в Дуобе, был с плоской крышей и без окон.
Стоя у стены, Ниссо ничего не могла увидеть. Ловко цепляясь за выступы
камней, упираясь в тутовое дерево, приникшее к дому, Ниссо выбралась на
глинобитную крышу, подползла к дымовому отверстию. Она очень хорошо
понимала, что если тетка или Бондай-Шо обнаружат ее, то ей несдобровать, но
еще лучше знала, что успеет вовремя ускользнуть. Отсюда она услышала их
разговор:
- Они сидели кругом и пили чай: какой это был чай! В нем было много
соли, и сала, и молока; мои ноздри слышали его запах, я не помню, когда я
пил такой чай! Азиз-хон сказал, что всех нас угостит, если ему будет весело.
- А кто еще был? - услышала Ниссо голос тетки.
- Много народу. С нашей стороны - из Сиатанга и из Зархока; и с той
стороны - разве я знаю названия всех селений! Много людей, говорю, - большой
праздник! Таких, как я, тоже много пришло - наверно, человек сорок. В котлах
варились бараны... Я думал: буду веселее всех, иначе Азиз-хон мне ничего не
даст. Они сидели, все старики, и спрашивали меня: почему не пришел
Барад-бек? Я отвечал всем: "У нашего Барад-бека болят глаза". Может быть, и
правда - глаза болят у него?
- Он дал мне восемь тюбетеек зерна патука.
- Что сказал?
- Сказал: молоком отдай.
- А гороху не дал?
- Жди от него! Посеяла один патук.
- А вот мне Азиз-хон дал гороху, смотри - полмешка. Посеем его, хорошая
мука будет.
- За что дал?
- Очень смешно. Новую игру Азиз-хон придумал! На меня овчину изнанкой
надели, на спине горб из камня, в руках палка, очень дряхлый старик из меня
получился. Зогара одели женщиной. Лицо белым платком закрыли, даже шерстяные
косы привязали. Вот я ухаживаю за "ней", "она" гонит меня. Очень ловко
играл... Так смеялись, чуть животы не порвали.
- А мясо откуда взял?
- Мясо? Всадники риссалядара съехались. Козла драли...
- И сам риссалядар был?
- Сам не был, не дружит с ханом... Козла драли, каждый хотел удаль свою
показать, первым козла к ногам Азиз-хона бросить! Ха! Я думал, друг друга
они разорвут! А от козла только рваный мешок остался. Потом выбросили козла;
я и другие такие взяли его, сварили. А этот мальчишка, ханский змееныш,
Зогар, Азиз-хону пожаловался, хан выгнал меня... Все-таки мясо осталось!
- Ничего, хорошее мясо!.. А э т о г о много принес?
- Вот видишь!..
Ниссо слушала, затаив дыхание. Ей очень хотелось узнать, про что они
сейчас говорят? Она заглянула в дымовое отверстие. Тура-Мо сидела у очага,
обняв Бондай-Шо, и держала большой кусок вареной козлятины. Увидев мясо,
Ниссо почувствовала такой неукротимый голод, что забыла об осторожности: она
пододвинулась ближе к дымовому отверстию и нечаянно столкнула сухой кусочек
глины. Он со звоном упал на чугунный котел. Ниссо отпрянула назад, подползла
к краю крыши, схватилась за ветку дерева, соскользнула вниз и - бросилась
бежать.
Бондай-Шо и Тура-Мо весь день не выходили из дому. Полевая работа была
забыта. Вечером Ниссо еще раз прокралась к дому Бондай-Шо и услышала хриплое
пение Тура-Мо.
"Опять! - сказала себе Ниссо. - Опять с нею началось это!"
Наутро жители собирались гнать овец и коров на Верхнее Пастбище, чтобы
оставить там скот на все лето. Голубые Рога надо было присоединить к стаду.
Ниссо знала, что гнать корову придется ей, и с нетерпением ждала этого дня.
Ниссо помнила прошлое лето, проведенное на Верхнем Пастбище, - там было
хорошо: целый день пасешь среди сочной травы корову, а вечером вместе с
другими девочками и женщинами делаешь кислый сыр. Тетки нет, никто не
понукает, никто не ударит, а если и покричат, то и пусть кричат, - совсем не
страшно, когда на тебя кричат чужие.
Придет или не придет тетка к утру? Велит идти на Верхнее Пастбище или
нет? Без приказания тетки разве может Ниссо пойти завтра со всеми!
Всю ночь не спит Ниссо, тревожится, думает. А еще больше думает о
козлятине: съедят всю или не съедят? Ниссо кусает губы от голода. Меджид и
Зайбо с вечера наелись сырых зерен патука и спят теперь как ни в чем не
бывало. А Ниссо боится есть патук: все девочки кругом говорят, что нельзя
его есть. Ниссо не хочет, чтоб у нее скривились ноги, ведь у нее нет ни
матери, ни отца, - кто позаботится о ней, если она заболеет? Ночью Ниссо не
выдерживает: не может быть, чтоб Тура-Мо и Бондай-Шо всю ночь не спали! А
если спят, то...
У Ниссо нет никакого плана действий, просто неукротимый голод влечет ее
из дому. Погладив бок спящей коровы, Ниссо осторожно выходит за дверь.
Только б не залаяла собака соседа! Босые ноги легко ступают по камням, - ни
один камень под ногою не шелохнется. Через каменную ограду, через другую...
Луны нет, темно, но Ниссо помнит каждый камешек, их не надо даже ощупывать.
Вот и вход в дом Бондай-Шо! Кто-то дышит справа от входа, и Ниссо замирает у
стены. Прислушивается. Это дышит осел; значит, вечером он сам пришел с поля,
- конечно, ведь о нем забыли! Они спят: чуть доносится храп Бондай-Шо, а
тетки совсем не слышно, только бы не наткнуться на нее! Осел с шумом
поворачивается к Ниссо; с упавшим сердцем она замирает снова, но, собравшись
с духом, протягивает руку, гладит осла, - как бы не затрубил! Но осел узнает
ее, щиплет ее руку шершавыми губами, молчит. Ниссо становится на
четвереньки, вползает внутрь жилища, присев на корточки, затихает. Когда
дыхание ее успокаивается, она осторожно втягивает воздух ноздрями, - мясо
должно вкусно пахнуть. Но в доме пахнет совсем иначе, - что это за острый,
пряный запах? Он щекочет ноздри, хочется чихнуть, - только бы не чихнуть!
Это совсем не запах еды, все пропитано этим запахом! Что они жгли тут?..
Ниссо очень боится чихнуть, но терпеть больше невозможно. Забыв
осторожность, Ниссо крадется к очагу, тянет руки вперед, натыкается на
деревянную чашку. В ней кость, большая кость с мясом! Сердце Ниссо
колотится, но кость уже зажата в руке. Ниссо пятится, поворачивается о
опрометью кидается из дома. Никто в доме не шелохнулся, но Ниссо все-таки
бежит, не разбирая пути, больно ударяясь ногами о камни, а кусок козлятины -
уже во рту, и никакая сила не вырвет его из зубов Ниссо! Перепрыгнув через
ограду, через вторую, Ниссо спотыкается о камень и падает. Ей больно, но ей
не до боли. Она остается лежать и, ухватив руками кость, с жадностью,
по-звериному запускает зубы в кусок мяса и рвет его и проглатывает не
разжевывая. Потом она начинает есть медленнее, уже не глотает куски.
Постепенно приходит сытость, и Ниссо садится удобней на камень. Она
вспоминает о Зайбо и Меджиде, - может быть, пойти домой, разбудить их и дать
им по кусочку тоже? Конечно, надо им дать, только не все, - немножко! А
может быть, не давать? Ведь если там осталось еще мясо, то тетка утром,
наверное, их не забудет? Она всегда дает им все, что достанет сама.
В таких размышлениях Ниссо поднимается и медленно бредет к дому. Входит
в дом. Голубые Рога спит, Меджид и Зайбо спят тоже. Нет, не надо будить их:
раз они спят, значит им хорошо значит они не голодны. И ведь они с вечера
наелись патука. Лучше всего подождать до утра. Если Тура-Мо ничего не
принесет им - ну, тогда можно будет им дать по кусочку. А вдруг тогда они
расскажут тетке, что Ниссо кормила их козлятиной? Конечно, они могут
рассказать! Пусть лучше Тура-Мо думает, что кость украла собака соседа, ведь
могла же она украсть?.. А вдруг, если Ниссо сейчас заснет, собака в самом
деле прибежит и съест то, что у нее осталось?
Ниссо раздумывает: куда спрятать мясо? На дворе, под камнями? Но собака
может пронюхать, разрыть. Дома? Но вдруг тетка придет, пока Ниссо будет
спать. Нет! Лучше совсем не спать, держать добычу в руках, а утром съесть ее
всю. Конечно, так лучше!
Ниссо пробирается к корове, садится рядом, приникает к ней, зажимает
обглодыш между колен, сидит, старается не заснуть. Но она сыта, и ее клонит
ко сну. Через несколько минут она уже спит сидя, склонив голову и ровно,
безмятежно дыша.
Утром никто не приходит. Ниссо, проснувшись, испуганно шарит руками
вокруг себя. Но мясо лежит тут, и Ниссо съедает его одна.
Утренний туман поднимается над ущельем. Весь Дуоб в оживлении: женщины
сегодня уводят скот на Верхнее Пастбище. Но Тура-Мо курит опиум вдвоем с
Бондай-Шо. Она в другом мире, смутном, нездешнем. Никто на свете, кроме
Ниссо, не вспоминает о ней. И кому есть дело до горя Ниссо? Неподвижно сидит
она у входа в свое жилище и глядит на бредущий по селению скот: коровы, козы
и овцы, звеня чугунными колокольцами, выплывают из розового тумана и снова
скрываются в нем. А Голубые Рога, словно чуя свою беду, протяжно и грустно
мычит, высунув голову из-за загородки и блестящими глазами провожая уходящее
стадо.
Прошло несколько лет, - кажется, пять, может быть, даже больше: прошли
они так же, как перед тем проходили многие годы - ничто не менялось в Дуобе.
Несколько человек умерло, - их хоронили тихо, не слишком печалясь.
Народились новые дети, - никто им не радовался. Все знали: люди здесь
подобны камням, - сколько б ни сбрасывать их с полей, сверху навалятся
новые; всегда будут люди в селении, и всегда будет им голодно. И дом Тура-Мо
ничем не отличается от других домов, - пока живы в нем дети, они растут, как
бы ни приходилось им плохо.
Так же, как и раньше, жила Ниссо, так же таскала в кувшине воду и
варила похлебку, вела все хозяйство. Только к лохмотьям своего брезентового
платья подшила снизу несколько кусков от изодранного джутового мешка, -
теперь оно доходило ей до колен.
Никто не помогал Ниссо. Достигнув десятилетнего возраста, Меджид мог бы
уже многое делать в доме. Но главным его занятием оставалась стрельба из
лука камнями.
Этим занятием увлекались все мальчики Дуоба, но Меджид предавался ему с
особым увлечением. Он убивал птиц, щебетавших на ветвях тутовника, и ел их,
как кошка, сырыми. Он подстерегал девочек, спрятавшись за камнями, и однажды
влепил в лицо Зайбо такой камень, что искровенил ей всю щеку, разбил губу,
выбил два передних зуба. Зайбо без сознания упала со стены, на которую
залезла, чтобы дотянуться до диких яблок, выросших в саду соседа. Девочку
подобрал сосед Палавон-Назар, охотник и мастер по шитью сыромятной обуви из
кожи козла.
Тура-Мо не было в селении; с тех пор как она стала уходить с Бондай-Шо
в долину Большой Реки, ее редко видели в Дуобе, да и мало о ней вспоминали.
Палавон-Назар, высокий, сухой и одинокий, как каменная башня на вершине
горы, казался человеком суровым и жестким, но у него было доброе сердце. Он
взял Зайбо на руки и отнес ее к Барадбеку, чтобы тот посоветовался с богом о
наилучшем способе вылечить девочку.
Степенный, седобородый Барад-бек потыкал волосатым пальцем в
окровавленное лицо Зайбо, влил ей в рот какую-то жидкость, от которой она
пришла в себя и заплакала. Затем повесил ей на шею треугольный амулет -
зашитую в тряпочку молитву, предохраняющую от всяких болезней. Палавон-Назар
поблагодарил Барад-бека, дал ему за амулет шкурку недавно убитой лисы и
отнес Зайбо к себе в дом в полной уверенности, что она будет здорова.
Но через несколько дней раны на лице Зайбо начали гноиться, тело ее
пламенело, рот распух, и она отказывалась даже от кислого молока. Тогда
Палавон-Назар решил не пожалеть еще одну шкурку лисицы и отнес ее к дряхлой
Зебардор.
Старуха растопила баранье сало, смешала его с пеплом и сажей от
сожженного птичьего помета, прибавила в смесь горсть какого-то толченого
корня и густо обмазала этим лекарством лицо Зайбо.
Через несколько дней Зайбо действительно стало лучше, она уже бегала по
селению, с черным, страшным, словно обугленным, лицом, но беспечная, как все
дети в ее возрасте. Меджид, ссорясь с ней, по-прежнему потчевал ее тумаками,
и Ниссо напрасно драла ему уши после каждого его нападения на Зайбо.
К Ниссо Меджид относился с открытой ненавистью. При всяком удобном
случае он кричал ей, что она "незаконнорожденная лягушка", что она может
убираться из дома его матери, в котором живет из милости, и что он еще
отомстит ей за все придирки. Ниссо почти не обращала внимания на злобные
выкрики мальчишки, трудилась и любыми способами старалась добывать еду.
Меджид был глух на правое ухо и всегда кричал, что в его глухоте
виновата Ниссо, которая однажды особенно сильно надергала ему ухо. В
действительности дело обстояло иначе. Год назад в ухо Меджиду заползло
какое-то насекомое. Тура-Мо в тот раз привела сына к той же Зебардор, и
старуха за три тюбетейки тутовых ягод влила в ухо Меджида какую-то горячую
жидкость. Жидкость обратно не вылилась, застыла в ухе, и с тех пор Меджид
наполовину оглох. Меджид и сам помнил об этом случае, но ему гораздо
интереснее было обвинять в своей глухоте Ниссо.
Он вообще любил делать ей всякие гадости. Недавно, когда Тура-Мо на
неделю вернулась в Дуоб, Меджид, притаясь за камнем, подстерег Ниссо,
которая с кувшином на голове поднималась от реки, и ловко выстрелил из лука
камнем. Камень угодил в самую середину кувшина, кувшин разлетелся на куски,
вода окатила Ниссо с головы до ног.
Ниссо так и не узнала, почему друг кувшин разбился на ее голове, и
очень испугалась: "Наверное, речной дэв разгневался на меня". А Тура-Мо так
избила Ниссо, что та еле уползла от нее в пустой коровник и осталась там
лежать без движения. Позже Тура-Мо даже пожалела девчонку и ночью пришла
посмотреть, не умерла ли Ниссо. Но, услышав тихие - сквозь сон - стоны
Ниссо, вышла из коровника успокоенная.
На следующий день Тура-Мо вместе с Бондай-Шо снова ушла в долину
Большой Реки, потому что, как и он, жить без опиума уже не могла. Ниссо
утром встала и, превозмогая боль во всем теле, отправилась к Палавон-Назару
просить какой-нибудь сосуд для воды.
Палавон-Назар в это утро лил круглые пули для своего фитильного ружья.
Перед ним на камне стояла деревянная чашка с ячменным зерном. Он отсчитывал
по восемнадцати зерен для каждой пули, чтобы все они были равны по весу, и
очень искусно, в самодельной формочке, обливал эти зерна свинцом, добытым у
кочевников в Восточных Долинах. Поглядев на робко вошедшую Ниссо, заметив
под ее глазами большие синяки, Палавон-Назар поцокал языком, протянул ей
чашку с приготовленными для пуль зернами и сказал:
- Съешь, сколько хочешь. Тетка ушла?
Ниссо молча кивнула головой и запустила в рот целую пригоршню зерен.
Палавон-Назар искоса наблюдал за ней, встал, прошел в угол своего дома
и, вернувшись, протянул Ниссо ломоть сушеной козлятины.
Когда она рассказала ему о кувшине и доверчиво спросила, за что мог
речной дэв разгневаться на нее, - он, подумав, медленно ответил.
- За что гневаться на тебя? Твое сердце еще как абрикос без косточки.
Просто шутят с тобой дэвы. Есть у меня два кувшина, возьми один!
И Ниссо, от радости забыв поблагодарить Палавон-Назара, пошла домой с
новым кувшином.
Видимый мир Ниссо был ограничен двумя хребтами скалистых гор,
взнесенных над ущельем, на дне которого с неумолчным шумом кипела река. Вниз
по течению этот мир отсекался от всего неизвестного высоким отвесным мы сом,
за который убегала река. Вверх по течению река видна была далеко, до самых
бурунов, созданных нагроможденными скалами. Выше над ними синела поперечная
гряда, под которой в устье невидимого отсюда притока зеленела круглым
пятнышком одинокая купа деревьев. Над грядою, безмерно далекие, ощеривались
в небо зубцы неведомого хребта. Еще выше над ними всегда блистали на солнце
волнистые, тающие в голубом небе скаты Ледяных Высот. Летом оттуда текли
прохладные ветры, зимою, скрывая весь мир, волочились туманы и снежные тучи.
А селение Дуоб, в котором родилась и жила Ниссо, лепилось по склону,
переходившему выше в крутую каменистую осыпь, - с нее на поля и сады вечно
падали острые камни. Дуоб был разделен надвое каньоном бокового притока,
узкой щелью, прорезавшей склон сверху донизу. Боковой приток зимою вился
тоненьким звенящим ручьем, летом становился бурным рыжим потоком, яростно
лижущим стены, швыряющим свои водопады через головы скал, перегораживающих
его русло. К осени воды его очищались, смирялись, прозрачные, как хрусталь,
отражали в застоинах, на ступенчатых перепадах и небо, и ветки кустарника,
проросшего между камнями, и фигуры путников, бредущих по узкой тропе вдоль
ручья к летовью, на Верхнее Пастбище, или обратно - домой, в Дуоб.
Никуда, кроме Верхнего Пастбища, за всю свою жизнь Ниссо из селения не
ходила, но, становясь старше, все чаще задумывалась о том, что делается там,
за видимым ею миром, куда - в одну сторону - ходят Палавон-Назар и другие
охотники, и куда - в другую, - вниз по реке, исчезая за мысом, пропадают так
надолго Бондай-Шо и Тура-Мо.
Раньше Бондай-Шо всегда уплывал по реке на надутой козьей шкуре. Теперь
у него появилось пять шкур, и из четырех он делал плот, на который усаживал
Тура-Мо и укладывал связанного осла. Сам по-прежнему плыл на одном мешке,
держась рукою за плот и управляя им среди пенных гребней. Обратно тетка и
Бондай-Шо всегда возвращались пешком, по той тропинке, по которой когда-то
Розиа-Мо ушла вместе с незнакомым стариком.
Ниссо казалось, что она смутно помнит свою мать, но в действительности
она ничего не помнила, кроме рассказов Палавон-Назара, всегда говорившего
Ниссо, что ее мать была еще красивее Тура-Мо и гораздо добрее. Думая о
матери, Ниссо всегда как-то смешивала ее воображаемый образ с лицом
Палавон-Назара: он был совсем некрасив и, конечно, никак не похож на
Розиа-Мо, но глаза его были добрыми. Ни в чьи глаза, кроме глаз
Палавон-Назара да коровы Голубые Рога, Ниссо не решалась взглянуть прямо и
доверчиво. Разговаривая с людьми, она всегда опускала глаза или отводила их
в сторону, словно опасаясь, что в них перельется чужое ядовитое зло.
Но коровы Голубые Рога давно уже не было, Тура-Мо сама отвела ее к
Барад-беку в расплату за долги, чтобы получить от него две полные тюбетейки
опиума. Барад-бек продал корову какому-то чужеземцу, приходившему из Нижних
Долин. Этот человек разговаривал на языке, весьма похожем на сиатангский, -
все понимали его. Что это был за человек, Ниссо так и не узнала, но Голубые
Рога уже не вернулась, и человек этот больше не приходил в Дуоб.
Когда уводили корову, Ниссо горько плакала, - это было в первый раз,
когда Ниссо плакала, - долго бежала за коровой, цепляясь за нее, и умоляла
того человека не угонять Голубые Рога. Но человек только улыбнулся, потрепал
Ниссо по плечу и протянул ей какую-то еду, завернутую в бумажку. Ниссо
швырнула эту еду ему в лицо, укусила его руку; он очень рассердился и ударил
Ниссо кулаком в грудь. Она упала, вскочила, снова попыталась догнать его, но
остановилась, потому что он пригрозил ей камнем...
Это произошло уже за отвесным мысом, там, где тропа полезла высоко
вверх. С тех пор Ниссо не раз ходила туда, на место последней разлуки с
Голубыми Рогами, садилась на камень и подолгу печально думала, словно
прислушиваясь к мягкой поступи удаляющейся коровы, словно еще видя ее понуро
опущенный черный хвост с белой отметиной посередине.
Там, на узкой тропе за отвесным мысом, Ниссо училась вспоминать о
былом, и мечтать, и грустить. В селении ей было не до того. Дом требовал
вечных хлопот и забот, и ей никогда не приходило в голову, что дома можно
просто сидеть, ничего не делая, или резвиться с соседками, или развлекаться
теми игрушками, какие делал и дарил всем детям селения Палавон-Назар. Это
были глиняные козлы, и шерстяные куклы, и раскрашенные камешки, и палки с
красными и черными черточками... Все эти безделушки совсем не интересовали
Ниссо, - она даже не понимала, как это можно целыми днями бессмысленно
вертеть их в руках и ссориться из-за них?
Плоская крыша дома Палавон-Назара была накалена солнцем. Поджав под
себя ноги, Ниссо сидела на ней, и коричневое тело ее просвечивало сквозь
лохмотья изветшалой одежды. Вот уже долго, совсем как взрослая, она ведет с
Палавон-Назаром большой разговор.
- А еще есть какие люди, Назар?
- А еще? Дай-ка мне вот ту иглу, что без нитки! - сквозь зубы, закусив
сыромятный ремешок, отвечает Палавон-Назар и тянет мокрый ремешок, свивая
его между пальцами так, чтобы получилась тонкая кожаная нитка. - Еще?
Русские еще есть.
- Кто они?
- Как и мы, люди, только гораздо грамотней нас, и сильней, а потому и
богаче. Они знают очень многое, о чем мы совсем не знаем. Как нужно было
трудиться, чтобы добыть себе такое знание!.. И они умеют делать очень много
вещей!
- А твое ружье сделали они?
- Нет, мое сделали бухарцы, я тебе говорил о них. Йо! Не такие ружья
делают русские! Если бы у меня было русское ружье, я бы каждый день убивал
по десять козлов!
- А где живут эти русские?
- Живут? - Палавон-Назар, растянув на плоском камне мокрую сыромятину,
принялся, кряхтя, тереть ее круглым камешком. - Их очень много, разве
скажешь, где они живут? Вон там, везде! - Палавон-Назар, подняв обе руки,
махнул ладонями в сторону Ледяных Высот.
- Во льду живут? - живо спросила Ниссо.
Палавон-Назар усмехнулся:
- Глупая, не во льду, а в той стороне, за горами.
- А за горами что? Еще горы?
- Еще горы, и еще горы, и еще горы. А потом горы кончаются и пойдет
ровное место.
- Большое ровное место? Как Верхнее Пастбище?
- Если одно Верхнее Пастбище ты приложишь к другому такому же и еще к
третьему и будешь целое лето прикладывать пастбище к пастбищу, из них всех
не получится и половины того ровного места, которое есть за горами.
Ниссо долго молчала, старательно складывая в уме Верхние Пастбища, и,
наконец, удивленно спросила:
- Сколько же там пасется овец?
- Столько овец, сколько звезд на небе! - полусерьезно ответил
Палавон-Назар.
- Ну, тогда русские, наверное, много едят, - глубокомысленно заключила
Ниссо.
Помолчала, внимательно глядя на работу Палавон-Назара, принявшегося
тачать мягкие сапоги, которые он предназначал ей в подарок, и спросила
опять:
- А еще какие есть люди?
- Еще? Яхбарцы.
- Это те, у кого есть звери, что называются лошади?
- Лошади, милая, есть у всех людей. Только у нас, дуобских бедняков,
нет. Что стали бы среди этих камней делать лошади? Как им пройти сюда по
нашей тропе?.. Яхбарцы, яхбарцы... Вот тот, который увел твою Голубые Рога,
был яхбарец.
Ниссо нахмурилась. Досадливо расправила складки рубища на своем грязном
колене и с сердцем сказала:
- Плохие люди!
- Всякие есть, мой цветок.
- Нет, яхбарцы - плохие! - гневно воскликнула Ниссо. - Не хочу о них
слушать. Скажи, кто там живет?
Палавон-Назар мельком взглянул на противоположный склон, на который
указывала Ниссо.
- Там, за горой? Сиатангцы там живут, такие же как я и ты... Наш
народ!.. Крепость у них, на реке...
- А что они делают в крепости?
- Ничего... Раньше хан жил там, теперь нет хана, пустая, наверно,
крепость.
- Почему теперь нет хана?
- Потому что теперь советская власть.
- А у нас тоже советская власть?
- Раз мы сиатангцы, значит, и у нас тоже... Только далеко мы от всех.
Не видим ее еще.
- А что значит - советская?
- Значит, наша.
- Твоя и моя?
- Да, моя, и твоя, и всех людей наших.
- А как же ты говоришь, что мы не видим ее еще?
- А когда дерево посадишь, разве сразу плоды появляются?.. Дай ногу,
примерить надо. Ниссо важно протянула ногу.
- Встань.
Ниссо встала. Палавон-Назар поставил ее ступню на кусок кожи и легонько
обвел острием ножа. Ниссо опять села и, взяв из деревянной чашки маленькое
кислое яблоко, вонзила в него крепкие, как у мышонка, зубы. Разговор
продолжался. Слушая Палавон-Назара, Ниссо внимательней, чем всегда,
разглядывала гряды гор, обступивших видимый мир. В ясной чистоте ее
сознания, как туманные видения, возникали фантастические образы мира
невиданного. Десятки ее наивных вопросов требовали немедленного объяснения,
и Палавон-Назар терпеливо отвечал.
- А куда уходит тетка? - неожиданно спросила Ниссо.
- Туда, вниз, в селение Азиз-хона, - нахмурясь, ответил Палавон-Назар.
- Хан?
- Хан. За Большой Рекой еще есть ханы.
- Богатый?
- Раньше богатым был, весело жил, праздники большие устраивал... Теперь
время другое...
- Теперь тоже праздники он устраивает?
- Редко теперь. А откуда ты знаешь?
- Слышала, - как взрослая, неопределенно ответила Ниссо. Помолчала,
спросила: - А что тетка делает там?
Палавон-Назар тяжело вздохнул и ничего не ответил. Но Ниссо пытливо
глядела в его склоненное над работой лицо. Он неожиданно рассмеялся, напялил
сшитое голенище на руку и поднял его перед лицом Ниссо:
- Смотри, у козла бывают ноги толще твоих.
- Нет, - строго ответила Ниссо. - Ты мне о тетке скажи.
- Не скажу! - рассердился старик. - Вырастешь - сама узнаешь.
- Знаю и так, - вдруг с ехидцей и злобой горячо заговорила Ниссо. -
Недаром мужчины еду и опиум ей дают...
- А ты молчи... Не твое это дело! - сурово и тихо промолвил старик.
- Конечно, не мое, не мать она мне... чужая... - Ниссо печально поникла
головой и, замолчав, перестала грызть яблоко.
Теперь оба сидели молча. Посматривая на них снизу, Меджид подкрадывался
с луком к собаке Палавон-Назара. Разомлев от жары, собака дремала в тени,
под каменною оградой. Заметив Меджида, Ниссо стремительно сорвалась с места,
соскользнула по приставной лесенке во двор и с криком: "Уйди вон, а не то я
разорву тебе уши, как холстинку!" - кинулась бегом к нему.
Меджид спокойно повернул лук навстречу Ниссо, и камень со свистом
пролетел мимо ее головы. Ничуть не смутившись, Ниссо бросилась догонять
Меджида, но он уже исчез. Тут Ниссо подумала, что нужно перевернуть тутовые
ягоды, разложенные для подсушки на крыше дома, и полезла туда. Целый ковер
белых и черных тутовых ягод застилал плоскую крышу и под горячими лучами
солнца отдавал недвижному воздуху свой пряный густой аромат.
Перебрав ягоды, Ниссо надумала выкупаться и спустилась к реке. Она не
боялась холодной воды и летом всегда смело входила в ее быстрые струи. Никто
не учил Ниссо плавать, но это искусство, присущее жителям горной страны,
пришло к девочке само собой, когда однажды течение, оторвав ноги Ниссо от
каменистого дня, понесло ее вниз. В тот раз она сумела без посторонней
помощи выбраться на берег и с тех пор уже не боялась удаляться от берега.
Под тропой, уходящей вниз, три огромные, когда-то низвергнутые в воду
скалы образовали глубокую заводь, в которой прозрачная вода текла
сравнительно медленно. Здесь, в природном бассейне, можно было барахтаться и
плавать без риска быть унесенной в стремнину реки, и этот бассейн стал
излюбленным местом купанья Ниссо.
Она сбросила одежду и, распустив волосы, худощавая, ловкая, прыгнула в
воду. Вынырнув у самой скалы, выбралась на камень и прилегла на нем, как
ящерица, греясь на солнце. Опустив лицо к самой воде, вглядываясь в
зеленоватую глубину, она предалась беспечному созерцанию переменчивых теней,
играющих между камнями дна; опускала руки в воду и весело наблюдала, как
тугое, безостановочно летящее стекло воды дробилось под ее пальцами и с
шуршанием делилось на две тонкие белые струи.
Долго пролежала бы так Ниссо, если б чутким слухом не уловила сквозь
монотонный гул реки какие-то посторонние звуки. Ниссо быстро подняла голову:
вверху, по тропе, по которой обычно за целый день не проходил никто,
двигалась вереница людей. Первый из них ехал на рослом, здоровом осле.
Приближение к Дуобу незнакомых людей было происшествием столь необычным
и неожиданным, что Ниссо оробела. Она мгновенно соскользнула в воду и,
стараясь плыть около самых камней, чтобы сверху ее не заметили, пробралась
туда, где оставила платье, и притаилась за скалой, до плеч погрузившись в
воду.
Тропа над нею опускалась совсем низко к реке, но приближающиеся люди не
замечали Ниссо. Чуть высунув голову из-за камня, она наблюдала за ними.
Первым ехал плотный бородатый старик в просторном белом халате, с рукавами
такими длинными, что складки их от плеч до пальцев, скрещенных на животе,
теснились, как гребни волн на речном пороге. Впереди шел молодой
бритоголовый мужчина в черном халате, без тюбетейки. Ногой он отбрасывал с
тропы камни, на которые мог нечаянно наступить осел.
Старик в белом халате сидел строго и прямо, а белая его борода была
самой большой бородой из всех, какие Ниссо приходилось видеть. "Белая чалма,
белый осел, весь белый! - подумала Ниссо. - Наверное, сам хан к нам едет".
Дальше тянулись гуськом пешеходы, в халатах, - первый из них с
блестящим ружьем без ножек, совсем не таким, какое было у Палавон-Назара,
другие - с мешками на спинах, босоногие и во всем похожие на знакомых Ниссо
жителей Дуоба. Шествие замыкалось вьючным, тяжело нагруженным ослом.
Дрожа от студеной воды, в которой нельзя было оставаться долго, Ниссо
пытливо рассматривала пришельцев, медленно продвигавшихся над самой ее
головой.
Увидев селение, белобородый старик что-то сказал молодому проводнику, и
тот, почтительно выслушав, бегом устремился по тропе, очевидно для того,
чтобы предупредить жителей Дуоба о приближении важного гостя.
Когда путники скрылись из виду, Ниссо подтянулась на руках, чтобы
выбраться из воды, но вдруг увидела бредущих по тропе на значительном
расстоянии Бондай-Шо и Тура-Мо. Следуя за пришельцами, они, очевидно, не
смели присоединиться к каравану. Ниссо опять погрузилась в воду: ничего
хорошего не предвещала встреча с теткой, если б та увидела Ниссо здесь, явно
бездельничающей. Целый месяц их не было в Дуобе, и Ниссо чувствовала себя
уверенно и спокойно. Сейчас, утомленные, они шли молча. За плечами
Бондай-Шо, кроме пустых козьих шкур, не было ничего, а длинная, в два
человеческих роста, палка, которую он нес в руках, свидетельствовала о том,
что он проходил через перевалы и по крутым склонам осыпей. Раз у него нет за
плечами мешка с едой, значит, он очень злой, и тетка, конечно, еще злее его.
Лучше бы они совсем не приходили!
Они прошли мимо, и Ниссо, наконец, решилась выбраться из воды. Зубы ее
стучали, кожа покраснела от холода. Ниссо прижалась к поверхности
накаленного солнцем камня. Согрелась, взялась за одежду, раздумывая: что это
за люди? Откуда они? Что заставило такого важного старика явиться в
маленький бедный Дуоб? Куда они идут? Только сюда или мимо, к Ледяным
Высотам? В той стороне, к Ледяным Высотам, нет селений, - ничего нет, кроме
камня и льда, - так говорил Палавон-Назар, а он знает! Наверно, пришли
сюда... Зачем? Что будут тут делать? Лучше пока не возвращаться в селение.
Перебегая от скалы к скале, приникая к ним, карабкаясь над обрывами и
зорко осматриваясь, настороженная, дикая, Ниссо огибает селение по склону,
взбирается выше него по кустам шиповника и облепихи, кое-где пробившимся
сквозь зыбкие камни высокой и крутой осыпи. Наконец весь Дуоб, - все
двадцать четыре дома, приземистые, плоские, похожие на изрытые могилы, -
рассыпан перед Ниссо далеко внизу. Она припадает за круглым кустом и
смотрит.
В селении переполох. Все женщины Дуоба - те, что не ушли весной на
Верхнее Пастбище, - стоят на крышах, бьют в бубны, поют, а мужчины, окружив
пришельцев, толпятся во дворе Барад-бека, и сам он хлопочет, размахивает
руками, отдает приказания. Вокруг дома Барад-бека хороший тутовый сад,
единственный настоящий сад в селении, - возле других домов только редкие
тутовые деревья. Ниссо видит, как мужчины стелют в саду ковер, как несколько
дымков сразу начинают виться на дворе Барад-бека. Между домами селения
пробираются жители, кто с грузом корявых дров, кто с мешком тутовых ягод...
А направо, по ущелью, уже торопливо поднимаются две женщины; одну из них
Ниссо узнает по красному платью, - это племянница Барад-бека. Конечно, их
послали на Верхнее Пастбище за сыром и кислым молоком, - будет праздник
сегодня.
Вот, наконец, вечер, тьма. Давно уже не доносятся звуки бубнов. Все
тихо внизу, в селении. В саду Барад-бека сквозь листву просвечивают два
красных больших огня, - значит, пришельцы еще не спят. Дым стелется вверх по
склону, и чуткое обоняние Ниссо улавливает запах вареного мяса; очень
важный, видно, гость, если Барад-бек не пожалел заколоть барана! Ниссо
осторожно, прямо по осыпи спускается к селению, - даже горная коза не
спускалась бы так по зыбким камням. Обогнув осыпь, выходит на тропинку,
вьющуюся вдоль ручья к Верхнему Пастбищу. Никто еще не успел оттуда прийти.
Над тропинкой желоб оросительного канала; здесь вода разделяется на две
струи: одна к полям Барад-бека, другая ко всем другим полям Дуоба. Ниссо
жадно пьет воду, спускается ниже, подходит к ограде первого дома, охраняющей
его от камней, катящихся с осыпи. Эти камни валом приникли к ограде.
Странно, но в этот поздний час в доме слышны возбужденные голоса. В нем
живет семья Давлята, у которого зоб еще больше, чем у Бондай-Шо; у него было
восемь детей, шесть умерли за два последние года, остались две девочки -
Шукур-Мо и Иззет-Мо. Они еще совсем маленькие, но Иззет-Мо проводит это лето
на Верхнем Пастбище, пасет там трех коз Давлята. Ниссо прислушивается: в
доме кто-то громко, отрывисто плачет. Конечно, это жена Давлята, это ее
голос, причитающий и такой скрипучий, будто в горле у нее водят сухим
железом по камню.
- Лучше бы ты пошел к нему на целый год собирать колючку!
- Не пойду! - гневно отвечает Давлят. - Колючка не нужна богу.
- Чтоб твой бог... Чтоб твой бог...
- Зашей себе в шов то, что ты хочешь сказать! - в ярости перебивает ее
Давлят и чем-то громко стучит.
Ниссо проскальзывает мимо дома, удивляясь: с чего это жена Давлята
ругает бога?
В следующем доме женский плач еще громче, но никто не мешает ему. Ниссо
удивляется и торопливо пробирается дальше. В домах, мимо которых она
крадется, люди разговаривают и спорят, а ведь в этот час селение всегда спит
мертвым сном!
Вот и еще женские стоны, - это сыплет проклятьями старуха Зебардор.
Ниссо встревожена: что произошло? Днем стояли на крышах, пели и ударяли в
бубны, а сейчас ведут себя так, будто каждую искусала змея!
Торопливо перебегая от ограды к ограде, Ниссо, наконец, добирается до
своего дома. Убедившись, что тетки нет, входит в него. Прислушивается:
Меджид и Зайбо спят. Ниссо успокаивается и ложится спать. Но сон долго не
сходит к ней, - она слишком взволнована необычными обстоятельствами
прошедшего дня, ей хочется скорее узнать все о приехавших, она боится, что
тетка утром изобьет ее...
Но сон все-таки побеждает тревогу Ниссо.
Утром тетка входит в дом - спокойная, решительная. Ниссо сидит,
безразлично водя пальцем по пустому чугунному котлу, и котел отвечает глухим
шуршанием. Ниссо вся сжимается, готовая выдержать привычный гнев тетки: вот
сейчас подойдет, вот закричит, вот ударит, и надо только не отвечать, молча
прикрывая рукой лицо... Меджид и Зайбо забились в угол и глядят оттуда с
огоньком злорадства в глазах.
Но тетка, сделав несколько шагов, остановилась, молчит. Ниссо удивлена,
ждет, наконец решается коротко, украдкой взглянуть на нее и сразу же
опускает глаза.
Косы Тура-Мо расчесаны. Ее белая рубашка выстирана и еще не просохла на
ней. Ее штаны у щиколоток подвязаны, - что с ней такое сегодня? Почему она
такая спокойная, чистая?
И Ниссо еще раз мельком кидает взгляд на лицо Тура-Мо: вон какие
коричневые круги вокруг глаз, - все от опиума! Вот сжала губы, глядит своими
большими глазами, - спокойно глядит. Почему стоит и глядит?
И Ниссо еще старательней водит по краю котла ногтем, рождая
однообразный приглушенный скрип. Тетка спокойно говорит ей:
- Встань.
Ниссо встает. "Начинается!" Но Тура-Мо вынимает из рукава деревянный
гребень, начинает расчесывать волосы Ниссо. Обе молчат, и Ниссо недоумевает.
Тщательно расчесав волосы Ниссо, Тура-Мо заплетает их в две косы, снимает со
своей руки медное несомкнутое кольцо браслета, надевает его на тонкую кисть
Ниссо. Снимает с себя ожерелье из черных стеклянных бусинок, накидывает его
на шею Ниссо.
Все это до такой степени необычно, что Ниссо наполняется тревожным
предчувствием чего-то очень большого и нехорошего. Молчит, не сопротивляется
и, полузакрыв опущенные глаза, ждет. Тетка, отойдя на шаг, осматривает ее и,
видимо, удовлетворенная, коротко бросает:
- Теперь пойдем!
И выводит Ниссо за руку из дома. Ниссо невольно связывает все
происходящее с приездом важного гостя и идет рядом с теткой, как пойманный,
но готовый кусаться волчонок.
На очищенной для падающих тутовых ягод площадке, устланной сегодня
циновками, окруженный семьей Барад-бека, сидит, привалившись к одеялам,
важный величественный старик. Перед ним на лоскутке материи угощение:
тутовые ягоды, орехи, миндаль. Барад-бек разливает из узкогорлого кувшина
чай и протягивает всем пиалы.
Тура-Мо, не смея подойти ближе, останавливается, крепко держа Ниссо за
руку.
Сборщик податей живому богу исмаилитской религии, белобородый халиф ,
прищурясь, разглядывает Ниссо. Она бросает испуганные, злобные взгляды. Но
убежать ей не удается: к Тура-Мо уже подошел мрачный слуга халифа и молча
встал за спиной Ниссо.
Халифа жестом руки велит Ниссо подойти. Мрачный слуга подталкивает ее.
Старик, привстав, щупает жесткой рукой бедра Ниссо. Слуга накрутил на руку
ее косы. - Ниссо напрасно порывается отскочить.
- Стой тихо, когда тень бога говорит с тобой!
- Азиз-хон возьмет ее! - коротко заключает халифа. - Дай женщине,
Барад-бек, из моего мешка то, что обещано.
Слуга подносит небольшой мешок. Барад-бек сует в него пиалу и ссыпает
сухой опиум в подол Тура-Мо. Три пиалы, - но Тура-Мо ждет еще.
- Ты же сказал - пять! - тихо произносит она.
- Пять?! А новое платье что-нибудь стоит? Хорошо. За красоту еще одну
пиалу дам. И год вперед можешь не платить подати. Чего тебе еще надо? Теперь
иди.
Тура-Мо, не взглянув на Ниссо, отходит. Только пройдя половину сада,
оглядывается и кричит:
- Ты... Не плачь! Хорошо будешь жить, не снилось тебе такого!
Ниссо стоит перед стариком, закрыв глаза, но слезы медленно
выскальзывают из-под опущенных век.
Вечером караван идет по тропе. Четыре осла Барад-бека нагружены податью
живому богу исмаилитов. Два жителя Дуоба палками подгоняют ослов, - этим
людям поручено привести их обратно. За ослами плетутся три коровы, восемь
баранов и одиннадцать коз. Ниссо бредет пешком - так же, как когда-то брела
по этой тропе ее мать, Розиа-Мо. Халифа едет впереди на белом большом осле.
Халифа доволен: Азиз-хон не обманется в своих ожиданиях, - этот юродивый
Бондай-Шо не налгал, расписав ему красоту Ниссо. Халифа уверен, что получит
от Азиз-хона за девушку не меньше сорока монет. Десять монет можно будет
послать живому богу, тридцать халифа оставит себе.
Самое главное в мире -
Свобода, - а пленница ты!..
Стоят исполинские горы -
Стражи самой высоты.
Но если все звезды, как гири,
На чашу одну я стрясу, -
Другую - свободою взора
Удержишь ты на весу!..
Племя достойных
В селениях на советской стороне начиналась новая жизнь. Государственная
граница, однако, еще не была закрыта, - вся область советских Высоких Гор
еще общалась с мелкими ханствами, расположенными вдоль Большой Реки и
составляющими окраинные провинции соседнего государства.
В том, расположенном в верховьях Большой Реки, крупном селении, что
повсеместно в Высоких Горах называлось русским словом Волость, накрепко
утвердилась власть, взятая в руки беднейшими горцами. Были перед тем трудные
времена. Став советскими, Высокие Горы показались лакомым куском
империалистам владычествующим над соседними ханствами. У горцев в Высоких
Горах не было оружия для самозащиты. И тогда из Волости за пределы Высоких
Гор отправилась верхом и пешком делегация к русским: "Помогите нам отстоять
нашу, освобожденную нами от ханов, землю..."
И вслед за вернувшейся после нескольких месяцев тяжелого пути
делегацией в крепости, что высилась среди скал возле Волости, появились
новые люди, на их фуражках были красные звезды. Эти люди не бесчинствовали,
как те, что в дни революции бежали отсюда за границу, не врывались в дома
горцев, не отбирали у них последнего. Они заходили в ближайшие селения,
говорили, что по новому закону русские и местные жители - братья, что все
они могут жить дружно, если прогонят уже не правившую открыто, но еще
влиятельную ханскую знать. "Довольно гнуться серпом на ханской работе, -
радовались горцы, - своя у нас будет теперь земля. Для себя и для детей
наших будем трудиться".
Разговоры об отрицании Установленного, о могуществе бедных проникали в
самые глухие ущелья.
Местные старейшины, родственники ханов, священнослужители спешили
перебраться через Большую Реку. "Не хотим стать подстилкой для ног неверных,
- говорили они остающимся, - а вас, вступающих в дружбу с неверными,
покарает непрощающий бог".
Но те, кто уже давно привык не верить ханам, старейшинам и
священнослужителям, думали иное, собирались под тутовыми деревьями и вели
шумные беседы о том, что даже в старинных книгах сказано: "покупай знание,
продавай незнание", а теперь наступил век великого знания, народ все теперь
держит в своих руках, и, значит, худого не может быть, а наверняка станет
лучше. И возвращались к своим домам и к своим посевам со смутной надеждой:
может быть, и правда, настанут дни, которые принесут счастье всем, кто не
мечтал обрести его даже в раю.
Сдавленные склонами ущелий селения уже немало лет считались советскими.
Медленно, но все же изменялась в них жизнь, и только трудились люди
по-прежнему: когда вставало солнце, надо было карабкаться на маленькие поля,
очищать их от камней, пропускать воду в желоба каналов, проведенных поперек
отвесных скал, собирать на осыпях иссохшую черную колючку и делать множество
других необходимых и трудных дел. Но ведь трудились теперь люди для себя, и
в этом было счастье.
В селениях левобережья Большой Реки не изменялось ничто. Маленькие
горные ханства жили по законам Властительного Повелителя, - власть его
считалась столь же богоданной, сколь ветер, милующий или губящий посевы.
Одним из замкнутых горами маленьких ханств был Яхбар, владение
Азиз-хона. В прежние далекие времена яхбарцы не раз переправлялись через
Большую Реку, совершали налеты на соседнее ханство Сиатанг, брали с него
дань, обращали пленных сиатангцев в рабство. Потом наступило иное время. Из
пределов Высоких Гор до самой Большой Реки яхбарцы были изгнаны русскими. И
хотя Сиатанг вошел в состав Российского государства, русские в него не
захаживали: царская власть мало интересовалась этой дикой и нищей областью.
Сиатангская знать покупала все необходимое в государстве Властительного
Повелителя. Купцы из внутренних провинций этого государства проникали в
Сиатанг через Яхбар. Приходя сюда, они жаловались, что здесь им очень
холодно, что родившийся в благодатных долинах не может жить среди этих
мрачных скалистых гор. Продав шелка, фабричное сукно, европейские краски и
зеркальца, сбыв опиум, обменяв нарезные магазинные ружья на мешочки с
намытым в горных ручьях золотом, на меха барсов, на шкурки выдр, а порой и
на красивых недорогих девушек, купцы уходили обратно. За право транзита
яхбарский хан брал с них высокие пошлины - двенадцатую долю их прибылей. Эти
пошлины обогащали его не меньше, чем прежних яхбарских ханов обогащали
разбойные налеты на Сиатанг.
Но когда Сиатанг стал советским, когда вся сиатангская знать бежала в
Яхбар, ища приюта у Азиз-хона, купцы перестали ходить в Сиатанг. Все реже
посещали они и Яхбар: одни яхбарцы не могли обеспечить им прежних прибылей,
а сиатангские эмигранты, лишившись земельных и прочих доходов, перестали
покупать у них товары и сами готовы были продать им накопленное. Купцы,
уходя, кляли свою судьбу и говорили, что во владениях Азиз-хона им скоро
нечего будет делать. А сам Азиз-хон уже не мог брать с них транзитные
пошлины. Он больше не устраивал ни пышных празднеств, ни многолюдных охот,
не звал к себе бродячих фокусников, танцоров и музыкантов, не ездил с
визитами в соседние ханства. Боясь грядущей бедности, он постепенно мрачнел,
уединялся, становился скупым и расчетливым и ничем не напоминал прежнего
расточительного и могущественного в пределах Высоких Гор хана.
Из внутренних провинций до него доходили кем-то пущенные в "торговый
оборот" беспокойные слухи о том, что скоро начнется война с русскими и что,
покатившись по этим горам, она наполнит кровью долины и реки. Он знал, что
Властительный Повелитель не хочет воевать с русскими, но когда в Яхбар
проникали тайные агенты-европейцы, Азиз-хон охотно оказывал им
гостеприимство, стараясь на всякий случай обеспечить себе их расположение.
Однако никаких обещаний, несмотря на получаемые подарки, Азиз-хон пока не
давал, в рассуждении, что ежели ошибешься, выбрав заранее победителя, то
вместо хорошей наживы рискуешь потерять голову...
В своем уединении Азиз-хон часто предавался размышлениям о воплощении
божества. В это тревожное время Азиз-хон старался не прогневить бога.
Азиз-хон был шиитом секты Ага-хони, то есть исмаилитом, верующим, что
живая душа пророка Али пребывает ныне в теле сорок восьмого имама,
обитающего в далеком Бомбее и владычествующего над миллионами "пасомых",
рассеянных на огромных пространствах Индии, Афганистана, Западного Китая,
Персии, Бадахшана, Малой Азии и Египта. По учению исмаилитов, "пасомые" сами
могли не молиться богу, но обязаны были отдавать десятую долю доходов
наместникам бога - пирам, которые молились за всех. В Яхбаре не было пира, -
пир прежде жил в Сиатанге, но, эмигрировав оттуда, не захотел остаться в
Яхбаре и уехал во внутренние провинции. Его заместителем в Яхбаре остался
сборщик податей - халиф .
Халифа считался в Яхбаре лицом самым почтенным и влиятельным после
хана, и потому Азиз-хон вел с ним дружбу. Вместе долгими утрами слагали они
стихи, - Азиз-хон, как все восточные правители, считал себя хорошим поэтом;
вместе читали они "Лицо веры" - книгу, написанную столетья назад пиром
Шо-Насыр-и-Хосроу и понятную лишь посвященным; вместе мечтали они о женской
красоте, ради которой можно было иной раз по-своему истолковать догматы
исмаилитской религии.
Когда Азиз-хон прослышал о том, что на советской стороне, в селении
Дуоб, живет красивая девчонка, которую можно купить очень дешево, халифа
убедил Азиз-хона, что не так уж он стар, чтобы ограничиваться давно
надоевшими ему женами, и взялся сам доставить эту девчонку в Яхбар.
И когда халифа привез Ниссо и она действительно оказалась очень
красивой, Азиз-хон, не торгуясь, уплатил за нее сорок монет, и дружба его с
халифа еще более укрепилась.
Азиз-хон поместил девушку в своем доме и не торопился сделать ее женой,
зная, что добыча от него не уйдет.
Обширный дом Азиз-хона стоял на высокой скале, над самым берегом
Большой Реки, быстро, но плавно бежавшей в широкой долине между двух горных
хребтов. Дом был похож на старинную крепость, потому что был обнесен
зубчатой стеной, с которой -вверх и вниз по Большой Реке - видна была вся
долина, нарезанная на клочки посевов, наполненная маленькими садами
абрикосов и тутовника, ограниченная высокими скалами и осыпями крутых
склонов. Лестницы дома состояли из обрубков дерева и вели через квадратное
отверстие в потолке к следующим комнатам, расположенным террасами. Двери
были поставлены одна к другой под прямым углом и притом в столь узких
проходах, что одновременно ими мог пользоваться только один человек. Проходя
в эти низкие двери, Азиз-хон был вынужден сгибаться вдвое. Прадед Азиз-хона
боялся соседних ханов: в таких закоулках нападающий не мог ни стрелять из
лука, ни взмахнуть кинжалом. В прежнее время, когда яхбарские ханы считали
себя в опасности, они никогда не спали две ночи подряд в одной и той же
комнате, зная, что отверстие в потолке дает неприятелю удобный пункт, откуда
он может, подкравшись, направить стрелу. Времена опасностей и внезапных
нападений уже миновали, - в своей ли комнате, на плоской ли крыше, -
Азиз-хон спал спокойно... Никто теперь не охранял дом, регулярного войска в
Яхбаре много лет уже не было, и даже риссалядар - предводитель яхбарских
конников, распущенных по домам, - жил на покое в одном из дальних селений
ханства. Азиз-хон не любил его и с ним не встречался.
Сад на скале вокруг дома был очень густой. Выбиваясь из-за зубчатой
стены, ветви деревьев свешивались над рекой. В саду всегда стояла глубокая
тень. Без позволения Азиз-хона никто не мог входить в этот сад. Впрочем,
окрестные жители, работающие внизу в долине, на полях Азиз-хона, и не
стремились сюда заглядывать: всем было ведомо, что в саду, в свободное от
работы время, проводят свой досуг жены их господина. Им - старым и молодым -
был виден из-за стены весь мир, а их не видел никто, и, конечно, именно так
угодно пророку. Да и сам Азиз-хон, присаживаясь на излюбленном камне,
возвышавшемся над стеной, любил предаваться высоким размышлениям, созерцая
свои владения и - по ту сторону Большой Реки - страну, такую же, как эта, но
подвластную не ему, а новым, непонятным правителям.
Азиз-хон думал о тех временах, когда и тот и этот берега были покорны
одной только воле его деда, позже убитого собственным сыном - отцом
Азиз-хона. Большие богатства текли тогда в этот дом, а теперь все приходит в
ветхость: зубчатая стена кое-где обвалилась, дожди размыли глиняные
украшения угловых башен, резные раздвижные окна веранды обломились, и даже
дерева - того особенного, крепкого дерева, какое дед Азиз-хона покупал во
внутренних провинциях, - теперь уже нигде не достать, да и разве нашлись бы
теперь мастера, способные так искусно вырезать на деревянных щитках
священные изречения?
"Все приходит в упадок, - рассуждал Азиз-хон, - и виноваты в этом
проклятые иноземцы, владеющие ныне той половиной мира, что начинается за
Большой Рекой". И потому думы Азиз-хона всегда горьки, а длинное, в обвисших
морщинах лицо его сухо и желто, и даже седеющая борода постепенно становится
непокорной и жесткой, как лохмы верблюжьей шерсти.
Теряется власть Азиз-хона даже над своими людьми. Правда, никто не
рискнет ни ослушаться его, ни противоречить ему, но самый последний нищий
яхбарец осмеливается теперь смотреть в глаза с таким выражением, будто он не
покорный раб, а пойманный волк. Да и мудрено ли? На том берегу нет уважения
ни к вере, ни к достоинству рода, ни к ханской власти. "Эти безумцы русские,
- негодовал Азиз-хон, - разломали весь божественный дом почета и власти.
Разве можно снимать уздечку с шеи народа?"
И что осталось еще Азиз-хону в жизни, когда теряется главное -
богатство и власть? Священные книги да услады жен...
Азиз-хон глядит на Ниссо, сидящую на корточках во дворе и ловко
обкатывающую шары, слепленные из соломенной трухи и навоза.
Конечно, заготовлять на зиму топливо мог бы и кто-нибудь из слуг
Азиз-хона. Но это женское дело, а женщинам не следует бездельничать, а потом
должна же Ниссо хоть чем-нибудь отрабатывать те сорок монет, что уплачены за
нее! Готовить еду она не умеет, да и пусти ее только к старым женам -
передерутся опять. Дай ей работу внизу, в долине - еще засмотрится на
какого-нибудь бродягу. Нет, пусть лучше работает здесь: у нее сильные руки -
легко разминает шар в лепешку и так пришлепывает ее к накаленному солнцем
камню, что лепешка не падает, даже совсем высохнув.
Скверный характер у этой девчонки. Все норовит повернуться спиной. А то
становится злой и цепкой, как маленькая барсиха, - только не шипит, а молча
царапается, кусается, рвется из рук... Ну, зато пусть работает, змееныш, без
срока и отдыха. Все равно покорится: не первая!
Всех своих жен забыл сейчас Азиз-хон, всех бьет, ругает и гонит, и все
знают причину этого. И если б только посмели - разорвали б Ниссо в клочки.
Но гнева Азиз-хона все боятся и только иной раз украдкой злобно дернут Ниссо
за косы. И сами не понимают, почему до сих пор Ниссо ни на одну из них не
пожаловалась...
Ниссо сидит на корточках среди накатанных ею шаров. Мнет руками
накаленный солнцем навоз. Лицо ее сосредоточенно, она задумалась; обкатанный
в соломенной трухе шар лежит на ее ладонях, опущенных на колени, она забыла
о нем.
- Работай, Ниссо! Опять ленишься!
Голос Азиз-хона суров, но спокоен. И все-таки Ниссо вздрагивает.
"Работай, работай, только и знай - для него работай!" - злобно
произносит она про себя, но начинает обкатывать шар, потом давит его двумя
руками, бросает лепешку в сторону. Азиз-хон будто и не глядит на нее, а
Ниссо опять задумывается. Какое ей дело до этой работы? Пусть будет меньше
шаров, пусть зимой Азиз-хону будет холодно. Все здесь для Ниссо чужое!.. Но
боясь окрика, Ниссо захватывает ладонью новый ком, обминает его.
Впереди между готовых лепешек Ниссо видит маленькую желтоголовую
ящерицу; Ниссо замерла: следит за нею внимательно, только бы не спугнуть!
Ящерица выползла на солнце, расставила передние лапки, осторожно водит
головой. Вот юркнет за камень и убежит! В глазах Ниссо охотничий огонек.
Ниссо схватывает ящерицу, та трепетно дышит в ее руке. Ниссо чуть
приоткрывает ладонь, маленькая голова ящерицы ворочается в смертельном
страхе. Забыв об Азиз-хоне, терпеливо наблюдающем за нею издали, Ниссо
разглядывает поблескивающие на солнце круглые злые глазки, быстро-быстро
выковыривает в мягком шаре глубокую ямку, впускает в нее юркую пленницу,
накрывает ямку ладонью и, втыкая соломинки, сооружает решетку, закрывающую
выход из маленькой, созданной в одну минуту тюрьмы. Теперь этот шар
отличается от всех других - в нем живая добыча, и Ниссо с увлечением смотрит
на нее через соломенную решетку.
Азиз-хон готов улыбнуться, - сердце его размягчилось, но показать этого
он не хочет.
- Ниссо, подойди сюда, - произносит он очень спокойно.
"Заметил или не заметил?" Сразу потеряв радость, холодная и замкнутая,
Ниссо встает, оставив шар на земле. Но быстро наклоняется, замазывает
соломенную решетку кусочком глины, кладет шар отдельно от других. Опустив
глаза, неохотно подходит к Азиз-хону.
- Ну, поднимись сюда. Слышала? Я зову.
Ниссо останавливается перед стариком, глядит на широкую реку, на
противоположный берег.
- Устала работать? - испытующе щурит глаза Азиз-хон. - Сядь со мной.
Ниссо покорно присаживается на камень. Азиз-хон сует руку в карман
распахнутого яхбарского сюртука и расправляет на своей старческой ладони
ярко-красные бусы - каменные барбарисинки, нанизанные на шелковую нитку,
зеленые треугольные стеклышки, между ними - черная пластинка агата с
вырезанным на ней изречением.
- Возьми. Приготовил тебе.
Кинув взгляд на бусы, Ниссо отворачивается.
- Возьми! Слышишь? - с легким раздражением повторяет старик. - Нагни
голову! - и сам надевает на шею Ниссо ожерелье.
Ниссо невольным движением хочет скинуть бусы, но, заметив в глазах
старика злой огонь, убегает обратно и, присев на корточки среди обкатанных
ею шаров, торопливо и энергично разминает их пальцами. Азиз-хон раздраженно
глядит на согнутую спину непокорной девчонки, но эта спина так гибка, что
Азиз-хон снова любуется ею.
А Ниссо кажется, что ожерелье жжет ее шею.
Четыре жены разрешены Азиз-хону законом. Но что такое четыре жены,
когда хозяин может кормить и наложниц? И что такое наложницы, когда и над
ними может издеваться мальчишка, которому все прощается?
В доме Азиз-хона, под каменными стенами, в темных углах, в саду, где
осыпаются сладкие, подсушенные солнцем ягоды тута, у теплого пруда, к
которому бежит с гор ручеек, у больших очагов, где готовится разнообразная
пища, - Азиз-хон любит еду, искусно приготовленную старшей женой, - в
просторном загоне для овец и коров всегда текут приглушенные, с уха на ухо,
разговоры. В них ревность, и злоба, и страх, и корысть, и хитрость: кто не
захочет пользоваться расположением хозяина дома!
Женщины ненавидят Зогара; но черноволосый, с невинным лицом и с глазами
плута, Зогар один в доме уверен в своей безнаказанности. Ему только
тринадцать лет, но если б он даже был сыном Азиз-хона, он не стал бы
самоуверенней и наглей. Кто смеет хоть слово сказать ему? Он может
решительно ничего не делать. Он может часами лежать на плоской, накаленной
солнцем крыше дома, почесываясь, поглядывая на вечно хлопочущих женщин,
придумывая насмешливые и оскорбительные слова. Он может спуститься с крыши,
выпить только что принесенное молоко, вырвать из рук женщин и раскидать
деревянные чашки. Он может ударить каждую из них и знает, что ни одна не
посмеет пожаловаться... Но кроме того, он может, если захочет, без
позволения уйти из дому в долину и бегать по садам и посевам, досаждая своей
наглостью поселянам, боящимся его доносов и наговоров. А женщины знают: если
подарить Зогару медный браслет, или кольцо с синим камнем, или кусок
русского сахару, он может спуститься в селение и передать родственникам
всякую мелкую просьбу и, вернувшись, рассказать: здорова ли мать, правда ли,
что сестру покупает пришелец из соседнего ханства, прошли ли болячки на
спине у двоюродного брата. Пусть потом целый месяц Зогар занимается
вымогательством, грозя рассказать об исполненном поручении Азиз-хону,
клянчит пиалу патоки у старшей жены старика, клубок красной шерсти у
средней... Жены Азиз-хона не все согласны, только бы выведать, как живут их
родные, только бы услышать новости и втихомолку их обсудить.
Одного не смеет Зогар: не смеет трогать Ниссо. Однажды он подсунул в ее
мягкий сапог обломок бритвы, и она порезала ногу. Азиз-хон избил Зогара туго
сплетенной плетью.
Зогар возненавидел девушку. Он делает вид, что не замечает ее, но
тайком следит за каждым движением Ниссо: о, только бы дождаться дня, когда
она в чем-нибудь преступит волю хозяина!
Но у Ниссо нет родственников в селении, и никакие услуги Зогара ей не
нужны, разговоров с женами она не ведет, и Зогару подслушать решительно
нечего. Все дни она проводит в доме или в саду. А что делает она ночью,
когда Азиз-хон уводит ее на свою половину дома, - никто проведать не может,
и если даже она не покорна там хозяйской воле, то кто, кроме хозяина, знает
о том?
Впрочем, кое о чем Зогар догадывается, - с тех пор, как подсмотрел, что
мать Азиз-хона принесла из долины двух жирных лягушек. Зогар наблюдал за
старухой в щель с крыши дома. Он видел, как старуха связала лягушек спиной к
спине, нарисовала сажей на желтых брюшках два черных сердца, жарила лягушек
живьем и затем на плоском камне растолкла их в порошок. Всякому в здешних
горах известно, для чего бывает нужен такой порошок!
Зогар со злорадством разболтал женщинам то, что видел, и с тех пор в
доме стало всем ведомо: Ниссо противится воле Азиз-хона, иначе зачем
понадобился ему порошок, привораживающий сердце к сердцу?
Ниссо и сама боялась, что колдовство на нее подействует. И когда среди
ночи Азиз-хон обсыпал ей волосы этим порошком, она искусала руки старика,
забилась в тот угол сада, где громоздились сухие острые камни, и до полудня
не показывалась, опасаясь, что Азиз-хон найдет ее. Но Азиз-хон не пришел, -
он весь день просидел, не выходя из дому, а вечером в гости к нему прибрел
халифа, и масляный светильник лучился сквозь щели сухой каменной кладки до
поздней ночи.
Ниссо не понимала, что именно спасло ее от действия порошка, и решила
быть еще злее и упрямее.
В доме Азиз-хона, как, пожалуй, и всюду в Высоких Горах, суеверия,
наговоры и заклинания считались непреложной необходимостью. Все верили, что
в водах Большой Реки живет Аштар-и-Калон - Большой Дракон, имеющий власть
над людьми. Поэтому ночью люди решались подходить к реке только после
заклинаний. Никто не сомневался: те, кто каждый год погибает в реке,
пропадали именно потому, что пренебрегали заклинаниями или не сумели
правильно произнести их.
Все знали также, что если женщина хочет иметь хороших детей, то она
обязательно должна побывать в скалистом ущелье Рах-Даван, невдалеке от
берега Большой Реки, и повесть лоскут своей одежды на каком-нибудь кусте,
растущем на склоне. Поэтому все ущелье Рах-Даван пестрело развевающимися по
ветру лоскутками ситца, сукна и тахфиля... Поэтому даже сам Азиз-хон раз в
год разрешал женам в сопровождении своей дряхлой матери пройтись в ущелье
Рах-Даван.
Ниссо помнила такой случай. Однажды ветер унес с ее головы белый
платок, подаренный ей Азиз-хоном. Платок долго носился в воздухе и исчез в
водах Большой Реки. И старуха, мать Азиз-хона, сказала тогда Ниссо: "Всякий,
кто уклоняется от пути, упадет на острую бритву. Делай то, что тебе велит
Азиз-хон. Три дня думай. Если вернется на твою голову платок, значит, бог
велит тебе стать покорной. Если после этого будешь упрямиться, как ослица,
ночью глаза твои выклюет гриф..." Три дня и три ночи терзалась Ниссо. И
когда не четвертое утро проснулась и увидела на своей голове пропавший
платок, так испугалась, что от страха почти потеряла создание. Старуха
побрызгала ей на лицо водой и сердито сказала: "Сама видишь волю
покровителя..." Целый день после того Ниссо колебалась, думала: надо
покориться воле бога. Но отвращение к старику восторжествовало, и ночью,
убегая от Азиз-хона, Ниссо крикнула ему: "Пусть выклюет мне глаза гриф!"
Весь день она плакала среди камней в углу сада и сквозь слезы смотрела на
небо, ежеминутно готовая увидеть в нем темные громадные крылья разгневанной
птицы. Но небо голубело, как и всегда, и, кроме маленьких ястребов,
кружившихся над долиной, никто в нем не появлялся.
К вечеру Ниссо успокоилась и подумала, что, может быть, у нее есть свой
дэв, - добрый дэв, охраняющий ее от воли покровителя, или что, может быть,
старуха ее обманула? И решимость Ниссо еще больше усилилась. Впрочем, грифы
нередко летали над долиной Большой Реки и, бывало, подолгу кружились над
скалой, на которой лепился дом Азиз-хона. И если раньше Ниссо только
любовалась их плавным полетом, размахом их коричневых крыльев, то теперь,
после случая с платком, каждый раз, завидев грифа, она испытывала неодолимый
ужас, стремительно бежала в дом и, дрожа, сидела там до тех пор, пока
кто-нибудь, ругаясь, не гнал ее во двор.
Если б не эти страхи и домогательства Азиз-хона, Ниссо могла бы
сказать, что ей здесь живется хорошо, несравненно лучше, чем в ее родном
Дуобе. В самом деле: теперь ей не нужно было заботиться о пропитании. В доме
Азиз-хона все кормились сытно, и никто не отказывал Ниссо в еде. Она ела
блинчатые лепешки с печенкой, ревенем и рисом, плов со свежей бараниной,
вареное мясо с солью, козий сыр, пила молоко и чай - все, невиданное ею в
той, прошлой жизни.
Азиз-хон не жалел для Ниссо и одежды. Как и другие женщины, она носила
длинную рубашку с узким воротом, вышитую шерстяною ниткой у лодыжек, с
рукавами, туго обхватывающими кисти рук. Под рубашку надевала она
кашемировые шаровары, подвязанные и щиколоток ковровой тесьмой, с
вкрапленными в ней красными и зелеными стеклышками. Волосы она заплетала
теперь не на две косы, разделив их посередине головы пробором, а на два
десятка мелких косичек - так, как заплетали их все яхбарские женщины. У нее
была и украшенная золотом тюбетейка, но старуха, мать Азиз-хона, по скупости
не позволяла ее надевать. Другие жены Азиз-хона румянили щеки, подкрашивали
брови и ресницы сурьмой, но Ниссо не хотела нравиться Азиз-хону и отвергала
всякие уговоры старухи украсить свое лицо. Женщины Высоких Гор никогда не
носили ни паранджи, ни чадры и этим отличались от женщин других стран
Востока. Появляясь среди чужих людей, они обязаны были только прикрывать
нижнюю половину лица белым платком. Но женам Азиз-хона не приходилось
встречаться с чужими людьми, за исключением разве тех случаев, когда они
хаживали со старухой в ущелье Рах-Даван или когда, в год раз или два
Азиз-хон разрешал им присутствовать на каком-нибудь празднике.
Лицо Ниссо оставалось открытым. Если б кто-либо в этой стране знал хоть
что-нибудь о гречанках древних времен, он мог бы правильно охарактеризовать
безупречную красоту Ниссо. Но женщины Высоких Гор все отличались
стройностью, и тонкие красивые лица здесь не были редкостью. Ниссо была не
лучше многих других, но выразительность ее больших, всегда строгих и очень
серьезных глаз вполне правильно причислялась Азиз-хоном к особым свойствам
ее привлекательности. Если б не эти глаза, Азиз-хон, вероятно, не стал бы
так долго ждать доброй воли Ниссо. И когда глаза Ниссо зажигались злобой и
недетской ненавистью, он становился еще терпеливей, ибо уж слишком привык к
обычной для него женской покорности, порожденной страхом перед его гневом.
Вначале и Ниссо очень боялась его, но потом он стал убеждаться, что страх у
Ниссо проходит. Он терялся, чувствуя, что девчонка начинает сознавать свою
власть над ним. Однако он был терпелив и решил, что у него хватит выдержки
подождать еще.
Конечно, Ниссо не могла знать помыслов Азиз-хона, но и ее мыслей тоже
никто не знал. Все видели, что она тиха, и думали, что она покорилась и
успокоилась. Конечно, все замечали, что у Ниссо есть свои причуды, но мало
ли какие причуды бывают у женщин, стоит ли придавать им значение?
Вот, например, другие жены Азиз-хона постоянно купались в маленьком
мутном пруду посредине сада. Ниссо в этот пруд ни за что влезать не хотела.
Она утверждала, что боится водяных змей, и ни насмешки, ни уверения в том,
что в пруду нет ни одной змеи, на нее не действовали. Старуха заявила, что
такую грязную дрянь Азиз-хон не пустит и на порог своей половины, но Ниссо,
ничуть не огорченная этим, неизменно убегала от старухи, когда та старалась
загнать ее в пруд. Кому могло прийти в голову, что Ниссо намеренно стремится
быть грязной, чтобы лишний раз досадить этим Азиз-хону и оттолкнуть его от
себя?
Однажды Зогар вбежал к Азиз-хону с криком:
- Смотри, что твоя Ниссо делает: ты ее кормишь, а она у тебя ворует!
Азиз-хон, водивший волосатым пальцем по желтой странице "Лица веры",
отложил книгу, поднялся, кряхтя, и пошел за Зогаром в тот конец сада, где
среди камней, под густыми деревьями, любила скрываться Ниссо.
Девчонки здесь не оказалось, но Зогар с таинственным видом поманил
старика к расщелине между двумя камнями, забежал вперед, разгреб сухие
листья.
- Смотри! Это что?
Азиз-хон приник глазами к расщелине, вытащил небольшой узелок.
Зогар услужливо помог развернуть его. В узелке оказались абрикосовые
косточки, пшеничные зерна, высохшие ломти ячменных лепешек, сушеные яблоки,
слипшаяся в комки тутовая мука. Перья синицы, зубы ящерицы в отдельной
тряпочке, несколько стеклянных бусинок, треугольный амулет на шнурке, явно
снятый с шеи маленького теленка, из тех, что стояли в коровнике Азиз-хона, и
осколок зеркала составляли другую часть припасов, сделанных, несомненно,
Ниссо. Зогар ехидно тыкал пальцем в каждую из находок и, льстиво заглядывая
Азиз-хону в лицо, приговаривал:
- Видишь?.. И это видишь? И это?
Азиз-хон, нахмурясь, стоял над развернутым узелком и раздумывал.
- Позови ее сюда! - резко приказал он, наконец, Зогару, и тот,
предвкушая удовольствие увидеть ненавистную ему Ниссо наказанной, помчался к
дому.
Азиз-хон, одетый в тот день в белый сиатангский халат, присел на
камень. "Может быть, она задумала бежать?" - беспокойно подумал он, но тут
же отбросил эту мысль как недопустимое предположение: на его памяти не было
случая, чтобы в Яхбаре женщина решилась на такую дерзость, как бегство от
мужа. Правда, бывало, что от очень жестоких мужей жены уходили обратно в
родительский дом, но это происходило только с ведома и согласия отца,
возвращавшего покинутому мужу стоимость потерянного. Столь чудаковатых отцов
в Яхбаре находилось мало, но все же за свою долгую жизнь Азиз-хон знал два
или три таких случая. А ведь у Ниссо не было ни матери, ни отца, - куда ей
стремиться? Да и разве могла она рассчитывать переправиться через Большую
Реку без посторонней помощи, а кто здесь, в подвластных Азиз-хону селениях,
посмел бы оказать ей такую помощь? Нет, тут дело в чем-то другом...
- Идет! - Перед ханом с плетью в руке возник Зогар.
- А это зачем принес? - кивнул Азиз-хон на плеть.
Зогар развел рот в сладенькую улыбку:
- А бить ее надо?
Азиз-хон медленно поднял испытующий взгляд на Зогара и, внезапно
освирепев, вырвал плеть из его руки.
- Да будет оплевана могила твоего сожженного отца! - отрывисто крикнул
он и протянул плетью по плечу Зогара. - Пошел вон!
Зогар схватился за плечо, отскочил, залился пронзительным ревом и
побрел к дому. Увидев идущую навстречу Ниссо, он оглянулся на старика и,
убедившись, что тот на него не смотрит, подбежал к ней и что было силы
хватил ее кулаком в грудь. Ниссо вскрикнула, Азиз-хон обернулся, а Зогар,
злобно пробормотав: "Еще глаза твои проклятые выбью!", опрометью кинулся в
сторону и скрылся за деревьями.
Потирая ушибленную грудь, но без всякого страха Ниссо подошла к
Азиз-хону.
- Ты спрятала? - мрачно спросил старик.
- Я! - вызывающе взглянула на него Ниссо.
- Зачем?
- Себе спрятала!
- Знаю, не мне... Отвечай, зачем? Или - вот! - Азиз-хон потряс плетью.
- Бей! - с ненавистью отрезала Ниссо. - Бей, н вот! - и Ниссо откинула
голову, подставляя лицо для удара.
Азиз-хон промолчал. Изменив тон, он сказал неожиданно мягко:
- Сядь сюда. Рядом сядь. Скажи по-хорошему. Сердиться не буду.
Ниссо продолжала стоять. Азиз-хон взял ее за руку, притянул к себе.
Теперь она стояла, касаясь его колен, глядя в сторону с невыразимой скукой.
Азиз-хон попробовал воздействовать на Ниссо добротой:
- Слушай, ты... Я не говорю, как в законе: "Нет женщины, есть палка для
кожи ее". Разве я плохой человек?
Ниссо не ответила.
- Почему молчишь? Почему боишься меня?
- Не боюсь! - отрывисто и резко сказала Ниссо. - Пусти.
- Подожди, Ниссо... Поговори со мной... Разве тебе плохо жить у меня?
Разве ты мало ешь? Разве нет одежды? Разве я злой? Разве в Дуобе ты знала
такую жизнь? Сердце твое черно. Глаза твои злы, как у дикой кошки... Душа
твоя всегда в другом месте... Почему, скажи?
- На свою половину зовешь меня, - медленно ответила Ниссо. - В саду
спать хочу.
- Э, Ниссо!.. Разве я такой с тобой, как с другими? Знаешь, мудрец
говорит: "Если ты проведешь у чьих-нибудь дверей год, в конце концов тебе
скажут: "Войди за тем, для чего стоишь!" Я твой хозяин, твой властелин, я
большой человек, кто скажет, что Азиз-хон не большой человек? Не бью тебя,
не приказываю тебе, стою у твоих дверей, жду... Разве я мешаю тебе делать,
что хочешь? Разве спрашиваю тебя, зачем носишь от меня тайну? Вот это,
например, - Азиз-хон указал ладонью на развернутый узелок, - что?
- Амулеты мои, - коротко бросила Ниссо.
- Хорошо, амулеты, - терпеливо протянул Азиз-хон. - А еда зачем?
Лепешки, мука?
- У меня тайны нет... Для друга приношу это!
- У тебя есть... друг?
- Кэклик* мой приходит сюда, когда я свищу! - не уловив выражения глаз
старика, ответила Ниссо. - Сидит на моей руке, клюет из моей руки. Это
плохо? Ты захочешь его отнять? Ты говоришь: ты хороший человек, а твой
Зогар, как собака, вынюхивает каждый мой след!
Азиз-хон облегченно вздохнул. Ниссо продолжала, глядя ему прямо в лицо:
- Что мне твои одежды, твоя еда, твои разговоры? Твои жены - как злые
дэвы, твой Зогар - вонючий хорек, твой дом - зерновая яма в земле. Ты не
пускаешь меня на пастбище, ты не пускаешь меня к реке, ты хочешь, чтоб я,
как лягушка, купалась в твоем грязном пруду. Кто не хочет пустить в мою
голову камень? Ты злой человек, я жить у тебя не хочу, слушать тебя не хочу,
ничего не хочу. Лучше бей меня, я хочу умереть! Пусти!
Ниссо вырвала свою руку из руки старика, отбежала в сторону, припала к
большому гладкому камню, уткнув лицо в ладони.
Азиз-хон, поглаживая бороду, задумчиво глядел на Ниссо. Он готов был
поддаться желанию встать, неслышными шагами подойти к ней... Но из-за камня
выскочил маленький, каменно-серый, коренастый кэклик. Повертел головой,
быстрой перебежкой приблизился к гребню камня. Остановился, напыжившись,
встряхнул крыльями с голубоватым оттенком, осмотрелся. Потом, вытянув вперед
шею, пробежал вниз по камню, прокричав: "Тэкэ-кэ... Тэкэ-кэ... Тэкэ-кэ...",
ширкнул крыльями и вскочил на плечо Ниссо. Ниссо резко повернулась, схватила
его, прижала к груди и стремглав убежала в глубину сада.
Сразу остепенившись, Азиз-хон улыбнулся. Наклонился к узелку, связал
конца и, сунув узелок в расщелину, завалил ее листьями. Вздохнул, покачал
головой и медленно направился к дому, вертя в пальцах черенок плети. Его
сердце положительно размягчалось, когда он раздумывал о Ниссо. И он совсем
не знал, что делать с ней дальше.
Во дворе дома Азиз-хон увидел Зогара: валяясь на циновке, он сплевывал
абрикосовые косточки. Азиз-хон подступил к нему в бешенстве, грозя плетью,
пробормотал:
- А тебя я отправлю рыть канал в ущелье. И чтобы больше ты не смел
нюхать следы девчонки! Валяешься целый день! Прочь отсюда!
И ошеломленный Зогар, услышав над собой свист плети, кинулся в сторону,
перепуганный, как провинившаяся собака.
Шли дни и недели. И ничто не менялось в доме. Только кэклик Ниссо был
признан всеми. Теперь он всюду ходил за Ниссо, не разлучаясь с нею ни днем,
ни ночью. Все, казалось, оставили Ниссо в покое. Азиз-хон был с нею
неизменно добрым. Все шло к тому, чтобы девчонка, постепенно успокоившись,
прижилась в доме Азиз-хона. Но Ниссо оставалась по-прежнему замкнутой, и
никто не знал ее дум. Зогар постепенно стал перед ней заискивать. Он даже
несколько раз пытался угощать Ниссо украденными у старухи сладостями, но
Ниссо каждый раз презрительно отстраняла его подарки.
Зогар, однако, не успокаивался. Однажды утром кэклик пропал. Ниссо,
растерянная, бегала по всем закоулкам дома и сада и готова была уже
заподозрить Зогара. Но, забравшись на стену и обозревая спускающуюся в
долину тропинку, она вдруг увидела Зогара, бегущего вверх по тропе с
кэкликом в руках. Ниссо помчалась через двор к каменным старинным воротам и
столкнулась здесь с Зогаром, сразу протянувшим ей кэклика:
- Возьми! Он убежал вниз, я увидел, догнал его. Ты все думаешь - я
плохой, а что делала бы ты сейчас без меня?
И прижимая к груди притихшую птицу, Ниссо в первый раз ответила Зогару
с искренней теплотой:
- Спасибо, Зогар!
Прошло еще несколько дней, и кэклик пропал опять.
- Он стал уходить, - сказал Зогар, - он ищет другую птицу.
Близился вечер, солнце уже положило розовые лучи на снега дальних гор.
- Я знаю, где он сейчас! Он, наверное, вон на том поле внизу, - показал
Зогар со стены, на которую оба залезли в поисках птицы. - Видишь, дом
Зенат-Шо, пять тополей вокруг, первый канал, второй канал, за ним - поле. У
Зенат-Шо тоже есть кэклики. Вот твой, наверное, и побежал к ним, прошлый раз
я там и поймал его.
- А ты можешь за ним пойти?
- Нет, Ниссо, сегодня не могу. Абрикосовые косточки велено мне колоть!
- Ах, - в горести воскликнула Ниссо, - что же я буду делать? Ведь ночью
он может убежать в горы!
- Конечно, может. Даже наверное убежит. Пропал тогда твой кэклик...
Знаешь что, Ниссо? Вот как я тебе помогу. Пусть теперь ты будешь знать, что
я тебе друг... Слушай. Азиз-хон сегодня ушел к халифа. Так?
- Так.
- Он поздно вернется. Пойдем по этой тропинке. А ты возьми мой халат,
мою тюбетейку. Вот немножко станет темней, спустись тут, под стеной, побеги
туда, разве долго тебе сбегать? Наверное, Азиз-хон не вернется. А если
вернется, я буду ему на дудке играть. Ты знаешь, он любит. Он не заметит,
как ты придешь. Видишь, какой я тебе друг, а ты все и смотреть на меня не
хочешь.
- Я боюсь, Зогар. А если узнает он?
- А! Придет рыба, съест кошку! Кто может бояться этого? Я тебе говорю -
не узнает!
Ниссо колебалась. Но Зогар так убеждал ее, а кэклик так явно мог
пропасть, а соблазн - хоть раз, хоть один только раз спуститься туда, в
свободный мир, - был так велик, что Ниссо согласилась.
Едва стемнело, она уже спускалась по скалам в темном халате Зогара, в
его тюбетейке, со сладостно-тревожным ощущением запретности своего поступка.
Ловкие ее руки и ноги прилипали к выбоинам в скале, глаза зорко выискивали
во тьме путь дальше, сердце билось учащенно, ветер, скользящий над Большой
Рекой, шевелил волосы. Вот и кусты облепихи, на которые так часто глядела
она сверху; вот и узкое руслице ручейка, обтекающего скалу по искусственному
карнизу; вот и первые тополя... Ухватившись за ветку, Ниссо спрыгнула на
землю, каменистую землю долины. Никто не заметил ее.
Осторожно крадучись между оградами и каналами, пригибая сочные стебли
ячменя, Ниссо быстро достигла поля бедняка Зенат-Шо. Сейчас она найдет
кэклика, - он, конечно, где-нибудь здесь, в посеве, - и побежит назад.
Все-таки она напрасно так плохо всегда думала о Зогаре!
Кто-то прошуршал травой рядом. Ниссо приникла к земле.
- Кто здесь? Опять воровать пришел? - раздался над самым ухом Ниссо
гневный мужской голос.
Ниссо метнулась в сторону, но замерла, схваченная сильной рукой за
плечо.
- Пусти! - сдавленным шепотом в отчаянии произнесла Ниссо. - Я не
воровать... Кэклик мой должен быть здесь...
- Кэклик?.. Какой кэклик?.. Э, да это женщина... Откуда ты, что делаешь
здесь?
- Пусти, не кричи! - взмолилась перепуганная Ниссо. - Я... я... Только
молчи, не кричи!
Все еще не отпуская Ниссо, молодой яхбарец всматривался в ее лицо.
- Да ты не пугайся, если ты не вор. Тут вор ко мне ходит, просо крадет.
Никогда не видел девчонку в мужском халате! Откуда такая? Зачем дрожишь?
Сядь, язык есть - говори! Ну, сядь, или я на волка похож? Я сам тебя
испугался.
И почувствовав в тоне мужчины приветливость, Ниссо преодолела испуг.
Они сели рядком на землю, до плеч укрытые высокими колосьями. В нескольких
словах Ниссо объяснила, кто она и откуда и как попала в дом Азиз- хона, и
Керим, старший сын Зенат-Шо, участливо ее выслушав, посоветовал ей
поторопиться домой, "если она не хочет, чтоб этот волк Азиз-хон разорвал ее
на две части". А кэклика взялся поискать сам. "Вряд ли забрел сюда кэклик,
но если найдется - завтра младший брат принесет его Азиз-хону. Куда может
деться в селении ручной кэклик?"
И хотя Керим сам торопил Ниссо, но по глазам его даже в темноте было
видно, что он вовсе не так уж хочет с ней расставаться. Впрочем, он слишком
хорошо понимал, чем грозит девушке долговременная отлучка из дому.
- Иди, - сказал он. - Ничего плохого тебе не хочу... иди скорее, если
ты не безумная.
И, отпустив руку Ниссо, не сказав больше ни слова, Керим встал и отошел
от нее.
А Ниссо, тревожась о том, что будет, если Азиз-хон заметил ее
отсутствие, прежним путем устремилась назад. Добежав до скалы, она со
стесненным сердцем полезла наверх, цепляясь за выбоины и шероховатости
камней.
Едва Ниссо выбралась на зубцы старинной стены и уцепилась за ветки
тутовника, она сразу увидела необычайное оживление в доме. Сквозь листву
темного сада просвечивали полыхающие огни двух больших масляных
светильников, зажженных у открытой глинобитной террасы дома. Кто-то рыскал
по саду с третьим светильником, подгоняемый визгливыми выкриками старухи.
Ниссо сразу подумала, что это, быть может, ищут ее, и сердце у нее замерло.
Спрыгнув со стены в темный сад, она, крадучись, приближалась к дому. Может
быть, дело не в ней? Может быть, приехали гости или кто-нибудь умер?
Пробираясь к дому от ствола к стволу, она убедилась, что посторонних во
дворе нет, и увидела Азиз-хона. Он сидел на краю террасы в распахнутом
халате, широко расставив ноги, опустив голову, накручивая на палец и снова
раскручивая конец черной своей бороды. Ниссо притаилась за последним
деревом, растерянная, не зная, что делать дальше. Внезапно старуха кинулась
прямо к ней.
- Здесь она!
Ниссо инстинктивно рванулась в сторону, но разом остановилась,
схваченная окриком Азиз-хона:
- Иди сюда!
Слабея от страха, Ниссо медленно, нерешительным шагом пошла к террасе.
Азиз-хон словно притягивал ее взглядом. Он молчал, а Ниссо приближалась, не
видя ничего, кроме этого тяжелого взгляда. Блики от светильников прыгали по
его лицу, по напряженным лоснящимся скулам, по губам, прикушенным в злобе.
Он небрежно махнул рукой, и все, кто был во дворе, удалились вместе со
старухой. Из дома вышел Зогар. Кошачьей, неслышной поступью, не замеченный
Азиз-хоном, он приблизился к нему сзади и остановился, щурясь от неверного
света.
Ниссо замерла, как пойманная мышь. Азиз-хон глядел на ее ноги и молчал,
только мешки под его глазами вздрагивали. Вскочив, он схватил Ниссо за косы,
с бешенством рванул их к себе, и Ниссо, застонав от боли, упала перед ним на
колени. Закрылась руками, неловко села на землю.
- Смотри мне в глаза! - в сдержанной ярости сказал Азиз-хон, и она
перевела ладони от глаз ко рту.
- Отвечай, где была?
Суженные глаза Азиз-хона страшили Ниссо.
- Друга искала.
- Какого друга?
- Кэклика... он убежал...
Зогар хихикнул ей в лицо, сунул руку на пазуху и, выхватив злополучного
кэклика, поднес его Азиз-хону:
- Врет она! Вот ее кэклик! Все время был здесь.
Азиз-хон перевел взгляд на Зогара, схватил кэклика за ноги и, ударив им
Зогара по лицу, заорал:
- Пошел вон!
Зогар отлетел в сторону и исчез. Азиз-хон, яростно тряся сомлевшим
кэкликом перед лицом Ниссо, прошипел сквозь зубы:
- Еще раз солжешь - убью!
И с силой хватил кэклика о камень. Растопырив лапки, кэклик остался
лежать с окровавленной, свернутой на сторону головой. Ниссо, вскрикнув,
упала лицом на землю.
- Где была?
- Внизу. В селении, - дрожа, прошептала Ниссо.
- Зачем?
Ниссо нечего было ответить: убитый кэклик лежал перед ней.
- Смотри на меня! Все время смотри! - снижая голос по мере возрастания
гнева, проговорил Азиз-хон. - Мужчину в селении видела? Скрывать не посмей!
- Видела, - решилась Ниссо.
- Иэ!.. Видела!.. Чтоб вышла твоя душа из ушей!.. Какой друг - кэклик,
с гнилой человечьей печенкой!.. Я тебя, змею, жалел, думал - как трава,
чиста. А ты... лживое жало...
Азиз-хон снова схватил Ниссо за волосы и медленно стал навертывать на
пальцы тугую прядь. Ниссо тихо стонала.
- Отвечай! - голос старика дрогнул. - Отвечай, тебе лучше будет. Что
делали там?
- Ничего, - прерывисто прошептала Ниссо. - Клятву даю, ничего, он о
кэклике только спрашивал.
- Только спрашивал? - жестко передразнил Азиз-хон. - А еще?
- Покровитель знает: ничего. Сказал только: иди скорее домой, Азиз-хон
рассердится.
- Как зовут его?
- Керим... Сын Зенат-Шо, Керим... - Ниссо вдруг затряслась в
прерывистых бессильных рыданиях.
Азиз-хон, не сводя с нее взгляда, помедлил, стараясь унять свое
бешенство, резко встал и, сдавив пальцами шею Ниссо, поднял ее с земли.
- Иди вперед!
И Ниссо покорно, задохнувшись от боли, стыда и обиды, поплелась туда,
куда толчками гнал ее старик. Он гнал ее на свою половину, а из-за угла
террасы смотрела им вслед старуха, шамкая беззубым ртом. Потянулась к
светильнику, выдернула его из щели в стене и, колотя им по земле, сбила
огонь. Потянулась к другому... Черная ночь сразу сомкнулась над домом и
садом. Глубокие ясные звезды наполнили тьму нежнейшим сиянием. Легкий
прохладный ветер скользнул снизу, от реки, зашелестел листвой. Старуха
стояла во тьме, словно темное привидение, и долго прислушивалась к
доносившимся сквозь стены глухим звукам ударов и сдавленным стонам Ниссо.
Вздох удовлетворения вырвался из груди старухи. Шлепая босыми ногами,
она поплелась через двор к женской половине дома.
Утро пришло, как и всегда, тихое, свежее. Из долины донеслась первая
дробь далеких бубнов: это женщины отгоняли птиц от созревающих посевов.
Блеяли овцы. Шумела Большая Река - так привычно и ровно, что никто не
замечал ее шума.
Снежные горы окрасились багрянцем, вершины открыли дню сначала
фиолетовые, затем серые и коричневые зубцы. Ниже зазеленели лоскутки
богарных посевов. Они зеленели везде, где склон был не так крут, чтобы
человек не мог забраться на него с мотыгой.
В селении началось обычное оживление: жители, скинув ватные одеяла,
вставали во весь рост на плоских крышах, спускались во дворы, и каждый дом
вознес к прозрачным высотам ущелья голубой дымок очага.
Из крайних ворот селения выехало несколько всадников в чалмах и в белых
халатах, с кривыми саблями. Хозяин дома низкими поклонами проводил их в
путь, и они устремились короткой рысью по долине. Эти всадники, ночевавшие
здесь, были, вероятно, владетелями какого-либо из отдаленных селений Яхбара
и, наверное, прежде состояли в дружине живущего теперь на покое риссалядара.
Едва солнечные лучи коснулись долины, превращая в легкую дымку ночную
росу, по тропинкам селения побрели оборванные, полуголые люди со своим
первобытным орудием, с тяжелыми мешками, с вязками клевера на притороченных
к спине высоких носилках...
Азиз-хон вышел на террасу, потребовал чаю и долго пил пиалу за пиалой,
пожевывая ломти свежевыпеченных лепешек, сухими пальцами отправляя в рот
изюминку за изюминкой.
А Ниссо, обессиленная, с запавшими, устремленными в потолок глазами,
продолжала лежать на груде смятых одеял. Старик жестоко избил ее ночью. Боль
обиды в потускневшем сознании Ниссо затягивалась как бы туманом. Многого еще
не знала Ниссо, но понимала, что теперь ей уже нет спасения, - Азиз-хон
придет еще раз, едва наступит новая ночь!.. Ниссо лежала без сил, без
движения; весь мир перевернулся для нее: ни солнце, ни воздух, ничто в нем
больше не существовало, словно и самой жизни не было у Ниссо.
День в доме Азиз-хона проходил так же, как и всегда, но все в доме
притихли, стараясь ничем не привлечь к себе внимание хана. А он молчал и
думал и был одинок. Он прошел в угол сада и долго бесцельно ходил там. На
его жестком лице было выражение сосредоточенности и глубокого раздумья.
Несколько раз его губы складывались в подобие улыбки, но тотчас же выражение
злобы омрачало его нахмуренный лоб.
Жены Азиз-хона в этот день не ссорились и не дрались; они
переговаривались одна с другой так тихо, что даже Зогар, подкравшийся из-за
угла, не мог ничего подслушать.
Ни разу за весь день Азиз-хон не зашел туда, где лежала Ниссо, а
вечером велел старухе постелить ему одеяла на крыше дома.
Но когда все уже собрались спать, Азиз-хон, выйдя на террасу, хлопнул в
ладоши и что-то вполголоса приказал явившемуся слуге - оборванному, грязному
старику из тех обнищалых родственников, что жили подачками от стола и
ютились в маленьких каменных берлогах, прилепленных к стене коровника.
Старик вприпрыжку побежал к воротам, скрылся в них и поспешил вниз по
узкой тропинке, ведущей к селению. Вскоре во двор ханского дома вошел
молодой яхбарец Керим. В сыромятных сапогах, надетых на цветные чулки, в
сером домотканом халате, в выгоревшей тюбетейке, он шел через двор спокойно
и просто. Остановился перед Азиз-хоном, молитвенно сложил руки на груди, в
полпояса поклонился и сказал:
- Слава покровителю, дающему здоровье тебе, Азиз-хон! Зачем звал меня?
И, не дождавшись даже легкого кивка головы, замер перед Азиз-хоном
почтительно и смиренно.
- Я тебе дал шесть мер зерна для посева. Так? - сухо промолвил
Азиз-хон.
- Слава твоей доброте. Дал.
- И в прошлом году не взял с тебя двух мер урожая тутовых ягод. Так?
- Так, достойный.
- И твой дом стоит на моей земле, и камни для дома ты взял от этих гор
с моего позволения. Истина это?
- Истина, господин. Неизменна твоя доброта.
В простодушных глазах Керима росла тревога.
- И приплод от восьми твоих овец ты еще не приносил мне?
- Твои люди, осмелюсь напомнить, милостивый хан, взяли приплод и трех
моих овец на плов, когда был Весенний праздник.
- Это не в счет, - нахмурился Азиз-хон. - Это не для меня, для мира.
- Так, так... - поспешно согласился яхбарец. - Это для мира.
- Так вот, Керим. Я видел сегодня сон. Покровитель сказал мне, что
праведен только тот, кто очищается от долгов еще в этой жизни. И велел
позаботиться о тебе - снять с тебя накопившиеся грехи. Конечно, ягод уже
нет, и приплода нет, и нынешний урожай ты еще не собрал. Но все ценности в
этом мире, кроме души праведного человека, могут быть измерены счетом монет.
Ты должен мне сорок семь монет и три медяка. Ты пойдешь сейчас домой, вот
солнце садится за гору, а когда сядет, ты принесешь мне свой долг, чтобы
звездам сегодняшней ночи не пришлось тебе напомнить о нем!
Керим упал на колени и попытался прикоснуться лбом к подолу халата
Азиз-хона. Азиз-хон отдернул халат.
- Ты слышал?
- Видит покровитель, - в отчаянии молвил яхбарец, - дома и одной
медяшки у меня нет.
- Но за ущельем Рах-Даван, - брезгливым тоном проговорил Азиз-хон, -
есть тропинка в город. А в городе есть для грешников этого мира тюрьма с
решеткой, крепкой, как воля покровителя. И ты, презренный, можешь узнать от
меня, что завтра утром почтенный стражник Семи Селений поведет тебя туда по
этой тропинке, если ты...
Азиз-хон понял, что Керим больше ничего не скажет ему и что даже не
попытается ночью убежать: кто захочет быть казненным за неподчинение власти
и куда может убежать батрак в этих горах, знающих имя каждого человека?
- Иди, - равнодушно сказал Азиз-хон. - Твоя судьба в руках твоей чести.
Керим встал, снова сложив на груди ладони, пробормотал обычные
приветствия и пошел, не оглядываясь, к воротам.
"Все в мире теперь благополучно", - размышлял Азиз-хон, укладываясь
спать на крыше своего дома, и вспомнил слова: "Без моего попущения не
вонзится никакой шип. Без моего приказания не порвется никакая нить. Велика
мудрость, сочащаяся из книг!" Скинул с себя халат и рубашку, сел на
разостланные одеяла и, подставив свою волосатую грудь ночному прохладному
ветру, зевнул. "Потому что я люблю Али, через эту любовь приказаниям
подчинится все - от луны до рыбы..." Слова исмаилитского панегирика
переплетались в уме Азиз-хона с мыслями о Ниссо, и Азиз-хон подумал, что
надо бы сочинить стихи. "Удостоившиеся вкусить этот плод и познать радость
ощущений вступают в высшую сферу познания... Марифат... Марифат - солнце
разума... Она теперь спит, ничего, пусть спит..."
Стихотворение надо было построить так, чтобы божественные символы Али
слились с предстоящими в эту ночь ощущениями. Но Азиз-хону хотелось спать.
Он вытянулся на одеяле, почесал живот, накрылся другим одеялом, произнес
первые сложившиеся в голове строки:
Ай, ай, дающая силы коленям стариков,
Пришла весна. О садовник, торопись идти в сад!
Но дальше не получалось. Строку панегирика: "То, что знаешь через
глаза, уши и прочее, я дал каждой твари, чтобы она жила", - Азиз-хон никак
не мог уложить в стихи. Он долго глядел на звезды, ища подходящие слова, но
мысль его возвращалась к обыденному: "Теперь она будет жить, как все твари,
- она познает своего мужа... Успокоится, - не спрошу ее ни о чем два дня...
Пусть успокоится, - всегда они так... Будет расти, будет хорошей женой... А
этот Керим, конечно, не даст ни монеты, - откуда змее взять крылья?"
И Азиз-хон с удовольствием подумал, что он справедлив, потому что он
сделал то, что тысячелетиями делают все правоверные: горы стерегут этот
закон, и не рухнет вера, пока прославляют покровителя земные хранители
мудрости. Не видят его только слепые летучие мыши. Хорошо, что крепка власть
в стране и всегда есть тюрьмы для таких, как Керим, - завтра его поведут по
тропе, и никто не нарушит душевного покоя поборника Али: ты получишь через
любовь к Али милость и достаток. Далеко уйдет опасность от имущества и жизни
твоей!
...Ее тело - как ртуть, брови - как дуга ниши,
Каждая ее косточка - наслаждение...
Стихи решительно не получались. Азиз-хон протяжно зевнул еще раз,
натянул на голову одеяло, повернулся на бок, попробовал сравнить волосы
Ниссо с нитями, на которых звезды подвешены к третьему небу, и незаметно для
себя захрапел.
Томясь в темном пустом помещении, Ниссо услышала этот храп. Весь вечер,
ворочаясь на своем ложе, она молилась по-своему. Она не знала никаких
изречений, никаких тайных божественных слов, но она верила, что есть духи
добра и зла, что за каждым движением человека следят его дэвы. Аштар-и-Калон
- Большой Дракон, живущий в водах Большой Реки, - она хорошо представляла
его себе: о нем старуха говорила не раз. У него тело змеи, хвост острый, как
длинная спица, четыре короткие ноги, на затылке грива, подобная сотне
сросшихся вместе бород, над пастью его завитые, как у дикого горного барана,
очень тонкие и высокие рога, с перекрестинами, похожими на рыбий хребет...
Ниссо верила что тот, кого пожирает Дракон, никогда уже не увидит ни одного
человека, а душа его превратится в птицу, змею, рыбу, растение или
скорпиона, - в зависимости от того, сколько добрых и сколько злых дел
совершил на земле живущий.
"Приду к тебе ночью, - сказал ей вечером Азиз-хон, - и лучше будь мне
покорной. Что могут сделать со мной твои слабые руки?"
Сначала Ниссо молилась о смерти Азиз-хона: "Вот пьет чай - пусть
захлебнется... Вот встает - пусть под ним откроется яма, и он провалится...
Вот поднимается на крышу по лестнице - пусть сломается лестница, он ударится
головой о камень... Вот встал на краю крыши - пусть порыв ветра сбросит
его... Пусть его дэв рассердится на него!"
Но старик не захлебывался, не падал с лестницы, и ветер не сбрасывал
его с крыши... Ниссо слышала старческое бормотанье, зевки, почесывание. И
отчаяние охватывало ее.
Потом Ниссо думала, что, если он придет к ней, ей надо быть очень
спокойной: он заснет, она положит пальцы ему на шею, она задушит его. Но
старик не пришел к ней, он спокойно спит, до Ниссо доносится его мерное.
Прерывистое похрапывание. И опять, как днем, Ниссо задумалась о том, что у
нее нет другого пути, пусть душа ее превратится в растение или, еще лучше, в
птицу... Только бы не в змею. И не в скорпиона. А может быть, в скорпиона?
Тогда она подползет к Азиз-хону и ужалит его. Нет, лучше в птицу, - ведь
тогда можно жить на самых вершинах гор! В какую птицу? В маленькую или
большую?.. маленькую может заклевать гриф, большую... Но ведь душа ее
маленькая, наверное, из нее не получится большой птицы.
Основное было, однако, уже решено: она отдаст себя на съедение Большому
Дракону. Бог милостив, пожалеет ее, не превратит ее ни во что худое, - разве
много злых дел совершила она на земле?
Ниссо думала о небе, о солнце, о ветре, о дальних снежных горах. Если
бы она решила, что со всем этим ей придется разлучиться навеки, ей,
наверное, стало бы страшно, но ведь она расстанется только с людьми, значит,
с самым плохим, что есть на земле, а все иное останется.
А может быть, очень страшно будет увидеть Дракона? Может быть, это так
страшно, что лучше остаться у Азиз-хона, покориться ему, - ведь живут же
другие люди и не хотят никуда уходить? Ведь почему-нибудь да есть у них
такой страх перед Аштар-и-Калоном?
И все-таки не было ничего на свете страшней и омерзительней Азиз-хона,
который жив вопреки молитвам Ниссо, который... Нет, он уже не храпит... Вот
шорох на крыше... Вот шлепают его туфли... Вот он кашляет надсадисто и
противно... У него жесткая, грязная борода...
Больше Ниссо не раздумывала. Тихонько откинула она одеяло, схватила
рубашку и шаровары, мгновенно оделась, неслышно проскользнула к двери,
глянула в ночную тьму и прислушалась. Сердце билось так, что мешало ей
слушать, но, кажется, кроме шелеста листвы в саду, не было никаких звуков.
Прижимаясь к стене, Ниссо прокралась через двор, взобралась на стену,
левее закрытых ворот, соскользнула на тропинку, ведущую к реке, и, босая, с
распущенными волосами, помчалась вниз. Только в долине она остановилась,
перевела дыхание, снова прислушалась.
Все было тихо вокруг. Никто не гнался за ней, ни одна собака не лаяла.
Только где-то вдали раздавался хриплый крик осла. Свернув с тропинки на
каменистый пустырь, прыгая с камня на камень, Ниссо спустилась к берегу
Большой Реки и, больше всего боясь передумать, побежала вдоль берега к
скалистому мысу, врезанному в темную гладь бегущей воды. Течение у мыса
рассекалось большими камнями. Пена облизывала их с шелестом и шипеньем.
Ниссо показалось, что Аштар-и-Калон высунул из пены свою черную спину.
Острый страх пронизал ее сердце, она метнулась назад.
- О-э-э!.. О-э-э!.. Проклятая девчонка, куда ты делась?
Окрик Азиз-хона, резкий, раздирающий тишину ночи, катил эхо в горах.
Ниссо кинулась обратно к реке. Между камней, торчащих над водой, раскрылась
белесоватая пасть Дракона... Ужас охватил Ниссо, она неистово закричала и
прыгнула в раскрытую пасть.
Если б она умерла в ту же минуту, кто оспорил бы, что дальше все
произойдет именно так, как рассказывала старуха об Аштар-и-Калоне, и что
душа Ниссо превратится в растение или птицу? Но в тот момент, когда Ниссо
подумала, что Аштар-и-Калон глотает ее, она почувствовала знакомый холод
воды, легкость струй, охвативших ее, и, нечаянно сделав привычные движения
руками, вынырнула на поверхность, глубоко вздохнула и поплыла.
Река быстро понесла ее вниз. Ниссо увидела мелькающий берег, а над ним
- скалу с зубчатой стеной, вырисованную на фоне звездного неба. И, сразу
забыв о Драконе, Ниссо решительно поплыла наперерез течению, относившему ее
все дальше от берега. И в том, что она плыла в быстрой холодной воде, и в
том, что берег все отдалялся и ничто вокруг ей не угрожало, было
неизъяснимое наслаждение, давно не испытанная радость свободы.
Плыть, плыть, плыть - как можно спокойней и дольше, плыть, ни о чем не
думая; плыть, как плавала в водах родной реки, плыть, зорко вглядываясь в
пену у надвигающихся встречных камней, и ловко огибать их... Сердце Ниссо
билось теперь уверенно и спокойно. Рубашка и шаровары ей не мешали. Но вода
была холодна, и когда Ниссо поняла, что силы ее скоро иссякнут, она
огляделась и не увидела берегов. И почувствовала, что ей очень холодно.
Беззаботная радость сразу исчезла, руки и ноги вдруг сделались вялыми, и
снова стало страшно. Но это был иной страх - заставляющий бороться за жизнь.
Ниссо вновь и вновь вглядывалась в черную равнину тугой воды. И наконец
увидела берег. Он был совсем недалеко, но тело Ниссо отяжелело, несколько
раз она уже глотнула воды, ноги ее цепенели. Ниссо перестала напрягать
мышцы, и вода сразу накрыла ее с головой.
Захлебнувшись, Ниссо взмахнула руками, рванулась вверх, хватила воздух
кругло раскрытым ртом, снова погрузилась и снова вынырнула. С ужасом поняв,
что тонет, вновь рванулась и из последних сил поплыла. На ее счастье, берег
ниже по течению выдался вперед каменистою отмелью. Ниссо вдруг больно
ударилась об острое дно. Кругом сразу возникли мелкие камни. Вода,
прорываясь между ними, поволокла обессиленную Ниссо по неровному дну. Руки
ее хватались за камни, но срывались. Поток воды, свернув куда-то в сторону,
оставил Ниссо на мокрой гальке... И сразу, потеряв последние силы, она
лишилась сознания. Мелкие струи обтекали ее, шевелили прилипшую к телу
одежду, заносили ее раскинутые руки песком... Когда, с трудом приподняв
голову, не понимая, что произошло, Ниссо увидела себя на незнакомом
пустынном берегу, ей захотелось отползти подальше, но слабость мешала даже
пошевельнуть рукой. Долго лежала Ниссо, закрыв глаза, потом провела рукой по
лбу, по волосам, приподнялась, села. Кругом - темные скалы, пустынная
заводь. Взглянула через Большую Реку на ту сторону и там, далеко-далеко,
заметила повыше реки мигающие огни. Присмотрелась к ним: они двигались. И
поняла, что она на другой стороне реки, а там - дом Азиз-хона, эти странные
огни в его саду... Там ищут ее!
"...Дракон! Душа, превращенная в птицу?.."
На мгновенье Ниссо вновь оледенил страх, но сразу же она усмехнулась:
ей холодно потому, что вода!..
Ниссо потрогала свое тело - все в крупных ссадинах и царапинах.
Застонала от боли в спине, выбралась на сухие камни... А вдруг ее найдут
здесь?.. Попыталась идти, но сил не было. Приникая к земле, поползла
вверх... Над ней громоздились огромные скалы.
Ниссо протиснулась в щель, образованную двумя сходящимися гранитными
глыбами, заползла в нору и затихла, погрузившись в глубокий сон.
Дневной свет едва пробивался сюда узкими полосами. Было тихо, потому
что привычный шум реки только углублял беззвучие окружающего. Было холодно и
во сне. Ниссо потянулась, ощутила ломоту и боль во всем теле, подумала о
горячем солнце, - наверное, оно уже накалило скалы. Выпрямиться мешали
сходящиеся плоскости камня. Ниссо озабоченно потрогала две большие
вздувшиеся ссадины - под коленом левой ноги и на правом плече. Ссадины ныли.
Мелкие царапины были всюду. Платье - оборванное и мокрое - липло к
исцарапанной коже. Озноб прошел по всему телу Ниссо. Она поежилась, но,
преодолев слабость, обняла колени руками. Выпить бы сейчас молока! Или еще
лучше - горячего чаю, с солью и маслом, жирного, густого! Подумала и поняла:
чаю больше не будет, молока тоже не будет. А что будет?.. Зато теперь ей не
нужно никого бояться, никому подчиняться. А что надо ей теперь делать?..
Ниссо вытянулась и поползла, стараясь не удариться головой. Узкий извилистый
ход вывел ее к свету. Жаркие лучи солнца ударили в лицо. Ниссо высунула
голову, тревожно осмотрелась: вокруг никого, ничего - только скалы, а ниже -
мутно-серые воды Большой Реки. Зажмурилась, с наслаждением ощущая ласковое
солнечное тепло; в глазах закружились красные и зеленые пятна.
Лежа на гранитной глыбе, отогреваясь, стала думать спокойнее. На другой
стороне Большой Реки, под склоном горы, зеленели сады селений, а выше по
течению, вдали, на утесе, виднелся бесконечно чужой дом Азиз-хона. Что
думают там о ней? Ищут ее или нет? Сад, берег, селение были, казалось,
мирными и спокойными, - люди там копошились посреди посевов. Ниссо напрягла
зрение: по тропинке к дому Азиз-хона поднимался осел с огромным вьюком
колючки. Кто-то в черном халате шел за ним. Над зубчатой стеной и на крыше
ханского дома людей не было: странно, что можно смотреть туда и не бояться
ненавистного старика. Ощущение независимости наплывало очень медленно. Ниссо
пришло в голову, что с противоположного берега, быть может, видят ее,
наблюдают за ней. Поспешно переползла на другой камень, закрывший ее со
стороны реки. Неужели за ней погонятся? Конечно, погонятся, - разве
проклятый старик так оставит ее?.. Надо скорее уйти подальше, как можно
дальше, - все равно куда, лишь бы спрятаться так, чтобы ни один человек не
заметил ее!
Вдоль берега вилась тропинка. Она терялась только тут, среди
нагромождения гранитных обломков. Над тропинкой вставал обрывистый,
скалистый склон. Ниссо готова была устремиться по тропинке, но подумала, что
тогда ее неминуемо увидят. Пытливым, встревоженным взглядом она принялась
изучать нависшие скалы. Сомнительно было, чтобы человек мог не сорваться,
взбираясь по такому склону. Но Ниссо не раздумывала: скорее отсюда и как
можно дальше!
Озираясь, она пробралась к подножью склона и начала карабкаться вверх.
Ногти ее выискивали самые маленькие зазубрины, пальцы босых ног нащупывали
чуть заметные выбоинки, тело, приникая к нагретой скале, изгибалось и
замирало в тот самый, единственно нужный момент, когда нарушалось
равновесие. Только родившись в этих горах и привыкнув чуть не с первого дня
жизни к этим обрывам, только не зная боязни высоты, можно было так -
инстинктом, дыханием, каждым мускулом - рассчитывать малейшие движения тела.
Ниссо поднималась все выше, цепкая, будто притягиваемая к отвесной скале.
Поднялась метров на триста, выбралась в узкий, обрывающийся над пропастью
лог...
Здесь, охватив руками ствол одинокого, выбившегося из камней деревца,
задержалась, чтобы передохнуть, и заглянула вниз. Лицо ее раскраснелось,
глаза повеселели, в них появилась уверенность. Ниссо вздохнула свободно и
глубоко и - кажется, в первый раз за многие месяцы - улыбнулась: теперь ее
никто не найдет, не догонит!
Отдохнув, Ниссо поползла по дну сухого лога, поросшего мелким
кустарником. Лог становился все шире. Девушка поднялась и пошла по мелким
сухим валунам древней морены. Ее окружали холмы моренных валов, кое-где
обросшие травой, уже иссохшей и желтой, скалистые гребни, обтянутые
обрывками мелкого мха, словно лоскутьями изодранной, слезшей с тела гор
шкуры. Гряды других, более высоких гор обступали морену с трех сторон, а над
седловинами их виднелись зубцы никем не пройденных перевалов через дикие и
пустынные хребты, между которыми можно было только угадать глубокие провалы
ущелий.
Теперь Ниссо была беспредельно независима и одинока.
Весь день шла Ниссо, не выбирая направления, не думая о том, где будет
ночевать и куда придет. Этот день вернул Ниссо все, отнятое у нее
Азиз-хоном, все то, что имеет в горах любой зверек и каждая птица, - ничем
не ограниченную свободу.
Ниссо шла по камням морены, и каждый камень имел свою форму, и каждый
лежал не так, как лежит другой, в них стоило вглядываться: камни были серые,
бурые, коричневые, с белыми прожилками, с розовыми и черными крапинками.
Шла по сухим, поросшим ломкой травой склонам; травы пахли по-разному.
Приятно было пригибать их босыми огрубелыми ступнями, а иной раз наклоняться
и разглядывать какой-нибудь свернувшийся под ветром в трубочку, иссушенный
солнцем цветок.
Шла по руслам высохших ручьев и присаживалась, чтобы разрыть нанесенную
сверху гальку, найти под ней лужицу прозрачной воды, припасть к ней ртом и
пить, пока хочется пить.
Уставала, ложилась на сухую землю и неотрывно глядела на причудливые
облака, - они медленно выдвигались над зубчатым гребнем горы, росли, меняясь
в оттенках, вытягиваясь, разрываясь на мелкие облачка, наконец разбегались
по небу и таяли.
Слушала ветер, - он иногда свистел пронзительно, протяжно и нес с собой
волну холода, иногда припадал к земле слабым током, нагреваясь от горячих
камней.
А когда поблизости пролетала птица, Ниссо завороженным взглядом следила
за ее неслышным полетом и ждала, что птица, опустится где-нибудь рядом и,
сложив крылья, поставит маленькие ноги на камень и начнет вертеть пушистой
головкой, не замечая, что Ниссо наблюдает за ней.
Изредка, катясь с какого-нибудь крутого склона, к Ниссо приближался
камень; девушка внимательно следила за его прыжками, улавливая тонким слухом
легкий треск, и продолжала путь, как только камень, щелкнув последний раз,
успокаивался среди других, замшелых.
Ей очень захотелось есть, но она постаралась забыть об этом, как-то не
представляя себе, что дальше ей все-таки нельзя будет обойтись без пищи. Но
вот солнце перешло в западную половину чистого голубого неба, и неукротимый
голод постепенно привлек к себе все мысли Ниссо. Все, что Ниссо вокруг себя
видела, постепенно перестало радовать ее; она вспомнила о траве "щорск", из
которой в родном Дуобе так часто прежде варила себе похлебку. Но сухие травы
вокруг не были травой "щорск", и сколько Ниссо ни вглядывалась в обступившие
ее склоны, этой съедобной травы не находила нигде.
За день, сама не заметив того, Ниссо поднялась на очень большие высоты.
Совсем недалеко над собой она увидела первые пятна не тающего и летом
синеватого снега. Небольшие пласты его лежали в глубоких теневых бороздах
между скалами, над которыми вздымались черные, искрящиеся на солнце, мертвые
осыпи. Подойдя к одному из таких пластов, засыпанному мелким щебнем, Ниссо
отломила зернистый кусочек снега и стала его жадно сосать. Затем пошла вдоль
подножья осыпи, пока не добрела до лощины, покрытой сочной травой. Лужайка
зеленела ярким волнистым ковром; привлеченная пестротой альпийских цветов,
Ниссо долго бродила здесь, и стебли под ее ногами ломались. Склонялась к
ним, срывала незабудки, примулы, купальницы, маки. Но ничто не могло отвлечь
ее от нестерпимых мучений голода. Она попробовала съесть один цветок -
желтый и нежный, но он оказался горьким. Сверху подул холодный ветер, и
девушка подумала о ночлеге. Ей стало тревожно, - вокруг высились пустынные
громады безжизненных гор, вечные снега были совсем рядом. Ниссо решила
спускаться по лощине и, побежав, скоро достигла истока ручья. Здесь она
увидела не знакомую ей высокую траву, растущую маленькими пучками. Это был
дикий лук, и, попробовав его, Ниссо стала есть его с жадностью. Побрела по
руслу ручья вниз; лук кончился, всякие травы исчезли, а ветер стал еще
холодней. Беспокойство заставило Ниссо спускаться быстрее. Она очень устала
и прыгала с камня на камень уже без прежней легкости.
Под высоким утесом она увидела груду круто завитых рогов, - здесь,
по-видимому, было недавно лежбище диких баранов: земля кругом была взрыта,
следы копыт затвердели в засохшей глине, несколько скелетов с остатками шкур
громоздились один над другим. Ниссо подошла, потрогала рога и неожиданно
услышала тонкий писк. С любопытством прислушалась и, заметив в одном из
рогов комочек светло-рыжей шерсти, занялась исследованием рога: в нем
оказались два крошечных лисенка. Они так царапались и кусались, что Ниссо не
удалось их извлечь. Ниссо заспешила дальше вниз по ручью. Здесь могли быть
волки, барсы, медведи...
Солнце начало склоняться к хребтам. Ручей расширился, постепенно
превращаясь в быструю речку. Спускаясь все ниже, Ниссо стремилась только к
теплу и смутно рассчитывала найти какую-нибудь еду. Вечер, однако, застал
Ниссо среди тех же пустынных скал, на берегу бурлящей речки, в заметно
углубившемся ущелье, скрывшем вершины гор. Здесь уже рос мелкий шиповник, и
из расщелины в камне выгнулись лозы тоненькой ивы. Голод и ходьба по горам
обессилили Ниссо, она опустилась на гальку и тотчас же заснула. Ночью она
проснулась от холода. Светили звезды, ручей звенел однотонно, мрак в ущелье
был непроницаем. Ниссо стало жутко. Она попыталась снова заснуть, но холод и
страх мешали ей. Ниссо вспомнила о дэвах и драконах и сидела, сжавшись,
вглядываясь во мрак, боясь шевельнуться. Зубы ее стучали. Ниссо думала об
огне, который мог бы согреть, о еде, которая могла бы ее насытить, и
настораживалась при каждом звуке. Порой ей казалось, что в однотонном
журчанье воды возникают какие-то странные, угрожающие голоса, и она
содрогалась от ужаса.
Едва тьма поредела, кусты и камни перестали казаться черными живыми
чудовищами, ночные страхи исчезли. Ниссо устремилась дальше. Теперь ей
хотелось только как можно скорее увидеть людей, - все равно каких, только
незнакомых людей, хотелось дыма, огня... Люди должны быть внизу, и Ниссо
торопливо спускалась вдоль речки. Порой отвесные скалы преграждали ей путь,
и она, не раздумывая, входила в ледяную быструю воду и, цепляясь за холодные
валуны, боролась с течением, стремившимся сбить ее с ног. Тело Ниссо
раскраснелось, размоченные ссадины ныли сильнее.
Солнечные лучи долго не проникали в ущелье. Когда, наконец, они
коснулись Ниссо, ощущение цепкого холода сменилось мыслями о еде. Ниссо
тоскливо глядела на бьющую между камнями воду. Блеснула форель, и Ниссо
решила во что бы то ни стало поймать ее. Поползла к большому валуну, залегла
с теневой его стороны. Долго и тщетно пыталась поймать забившуюся под пенный
каскад рыбу.
Ниссо вспомнила Дуоб и ту рыболовную снасть, что висела на деревянном
гвозде в доме Палавон-Назара. Быстро выскочила на берег. Такой круглой
плетенки, как та, Ниссо не сумела бы сделать, но ей удалось сплести из
ивняка плоскую квадратную решетку.
Ниссо опять притаилась за валуном. Форель мелькала то здесь, то там.
Ниссо выследила рыбу покрупнее, резко опустила ивовую решетку, преградила
путь зажатой между камнями форели и крепко схватила ее. Выбежав с добычей на
берег, ударила ее о камень и с жадностью съела всю, не сняв даже чешуи.
Спокойствие вернулось к Ниссо. Она разделась, чтоб погреться на солнце,
и, обернув вокруг головы платье, пошла дальше.
В этот день травы, птицы, падающие камни не привлекали внимания Ниссо:
она сосредоточенно думала о том, что станет делать, когда придет к людям. Но
чем ниже спускалась она вдоль речки, тем больше смущали ее новые сомнения:
может быть, все-таки можно совсем обойтись без людей? Конечно, это было бы
лучше, - только вот где укрываться от холода по ночам и откуда брать пищу?
К концу дня ущелье расширилось, речка клокотала среди массивных
гранитных и гнейсовых глыб. Ее уже нельзя было перейти вброд. Никаких
признаков жилья по-прежнему не было, и Ниссо страшилась мысли о том, что и
эту ночь ей придется провести так же, как прошлую.
Уже после захода солнца, в сумерках, Ниссо увидела на небольшой
луговине круглое каменное строение с островерхой крышей. Сначала Ниссо
показалось, что это жилье, и она остановилась со смешанным чувством страха и
радости, не решаясь подойти ближе. Притаясь за камнем, она внимательно
рассмотрела: это был мазар, обиталище мертвых и духов. Несколько тонких
шестов с развевающимися на них ячьими хвостами и пестрыми тряпочками
окружали мазар, а крышу его украшали вделанные в камень рога козлов и диких
баранов. "Значит, люди приходят сюда", - подумала Ниссо и решила быть
осторожней. Приблизясь к мазару, убедилась, что он пуст и безжизнен. Тогда
Ниссо подумала, что, быть может, в мазаре есть какая-нибудь еда: она знала,
что живые иногда приносят лепешки и масло душам умерших. Быть может, мертвые
и не съели принесенного? И тотчас же устрашилась самой мысли о том, что
хочет отнять еду у мертвых: а если их гнев обрушится на нее? Души мертвых,
конечно, бродят вокруг мазара, лучше держаться подальше.
Но вход в мазар был открыт, никакая опасность как будто не угрожала.
Затаив дыхание, готовая каждую минуту убежать, Ниссо заглянула в открытую
нишу: внутри было пусто, тихо, два круглых черных камня лежали на земле.
Переступить порог Ниссо не решалась. На одном из камней лежала зачерствелая
просяная лепешка. Ниссо глядела на лепешку жадным и трепетным взглядом, -
стоило только сделать шаг и протянуть руку!.. Однако страх перед неведомым
превысил голод. Она прикусила палец, невольно приложенный к губам, и
отступила. Боязливо оглядываясь, не гонится ли кто-нибудь за ней, отошла к
краю лужайки. Несколько раз она то приближалась к мазару, то, поеживаясь,
торопливо от него отступала.
Поймать бы еще хоть одну рыбу!.. Но вечерняя тьма уже сгустилась, небо
между гребнями двух уходящих ввысь склонов превратилось в звездную
извилистую дорогу, ветер, тянувший вдоль ущелья, опять принес ночной холод.
Силы Ниссо иссякли, мысль о просяной лепешке томила ее. Она присела на
береговой камень. Как ни хотелось ей спать, она продолжала сидеть, томясь,
тоскуя, настороженно прислушиваясь и вглядываясь во мрак.
Стало совсем темно; небо покрылось тучами, они закрыли звезды,
заволокли ущелье; ветер усилился, стал прерывистым. Ниссо насквозь продрогла
в своем легком, изорванном платье. И когда вдруг в свисте ветра хлынули
потоки внезапного ливня, она вбежала в помещение и, стуча зубами, сжалась у
черного камня.
Ливень усиливался, ветер уже не свистел, а выл, вздувшаяся река гудела
гневно и угрожающе, и Ниссо, теряя сознание от страха, припала лицом к
земле, отдалась неудержимому порыву отчаяния. Она зарыдала так, как могут
рыдать люди, охваченные страшным горем.
Постепенно Ниссо начала успокаиваться. Плечи ее перестали вздрагивать,
дыхание стало тихим и ровным...
Ниссо заснула.
Проснулась она поздним утром, когда солнце стояло высоко и весь
окружающий мир был тих, благостен и приветлив. Ниссо вскочила, увидев себя в
мазаре, но уже не испугалась. Просяная лепешка все так же лежала перед ней
на черном камне. Ниссо осмотрелась, схватила лепешку и, словно гонимая
тысячей демонов, выскочила из мазара, помчалась вниз вдоль реки, не решаясь
оглянуться и на бегу грызя отнятую у душ мертвецов добычу. Задохнувшись и
увидев, что ничто в мире не изменилось, что он по-прежнему спокоен и светел,
остановилась. Нет, ничего ей не угрожало.
Разломила лепешку и сгрызла ее до последней крошки. Потом напилась воды
и неспешным шагом направилась дальше.
Страшных дэвов больше не было для нее. Небо оставалось чистым и
голубым, река - великолепной в своей необузданной красоте, камни и скалы -
прочными, неподвижными, а до человеческих душ, витающих в ином мире, и до
незримых драконов Ниссо не было никакого дела.
"Бывает счастье на земле, -
Проговорила тля, -
В листве, и в сладкой шафтале,
И в мягкости стебля!.."
"Кто хочет счастья?!" - крикнул дрозд,
Тлю в завязи клюя,
И сотни птиц из разных гнезд
Вокруг вскричали: "Я!"
Поющие соловьи
Рожденная среди ледников река Сиатанг мчалась по дну пропиленного ею за
десятки тысячелетий ущелья.
Мощной широкой, непроходимой вброд была река Сиатанг. Она бросала дикую
силу своих пенных вод то к одному, то к другому подножью уходящего ввысь
ущелья. Она срезала одни скалистые мысы, круто огибала другие. Она,
разворачиваясь, намывала береговые террасы и оставляла их грядущим векам,
когда ей удавалось прорезать себе более глубокое ложе; подмывая крутые
склоны, она рушила на себя тысячи тонн горных пород, но не раздавленная ими,
вечно живая, она неизменно стремилась вниз... И, вылетев, наконец, из
последних отвесных скалистых ворот, соединялась со своей старшей сестрой -
Большой Рекой, рассекающей мир на два времени, две эпохи, два столь не
похожих одно на другое государства. Там, за Большой Рекой, простирался
замкнутый цепями ледяных гор Яхбар. Километрах в двадцати от устья река
Сиатанг намыла за несколько десятков последних столетий ровную, усыпанную
камнями долину, а сама текла теперь ниже ее, в молодых берегах, стоящих над
нею отвесной ступенью. Вытянутая полуовальная плоскость долины замыкалась
скалистыми мысами, стесняющими мятущуюся в них реку. Крутые склоны ущелья
укрывали долину от внешнего мира, она была единственной в ущелье среди
хаотического нагромождения голых скалистых гор.
И потому здесь издавна жили люди.
Эти люди делились на касты. Высшая каста - "шан " была кастой ханов,
властителей здешних мест. Второй по значению была каста сеидов. Сеидами были
слуги живого бога - пиры и халифа. Сиатангцы возносили живому богу молитвы и
посылали подати через пира, обитавшего вместе с ханом в селении Сиатанг. В
Дуоб, Зархок и другие селения ханства пир посылал за податью своего
помощника - халиф . Сеиды считались "тенью бога на земле", и потому всякое
требование пира и халифа исходило как бы от самого бога.
В каждом селении жили также наместники хана - из касты миров. Из
четвертой касты - акобыров - составлялась ханская дружина, а к пятой, низшей
касте райятов, или факиров, относились все земледельцы. Они трудились на
маленьких каменистых площадках, чтобы отдавать всем высшим кастам выращенные
ими урожаи пшеницы, ячменя, проса, гороха, тутовых ягод и абрикосов. Сами
они всегда оставались голодными.
Хан, живший в крепости, построенной его предками, умер тогда, когда
Сиатангом в последний раз завладели яхбарцы. Пиры оставались в Сиатанге и
после прихода в Высокие Горы русских, изгнавших яхбарцев в их ханство, за
Большую Реку. Последний пир вместе со знатными сеидами, мирами и акобырами
покинул Сиатанг, когда по Высоким Горам прошла весть о том, что русские
прогнали царя, а в Волости в свои руки власть взяли беднейшие, потому что от
русских в горы, руша извечные законы Установленного, идет новый закон,
несущий радость и могущество факирам - тем, кого пир доселе считал
недостойными даже прикоснуться губами к священному подолу белейшего своего
халата. Пир ушел, а обрадованные факиры, называвшие себя ущельцами, остались
жить в Сиатанге.
Слово "Сиатанг" в переводе на русский значит "Черная теснина".
Именно это селение Сиатанг и дало свое название реке и всей местности,
охватывающей соседние ущелья Дуоб и Зархок, с протекающими по ним
одноименными реками.
Такое название оправдано отвесами темных скал, сдвинутых кое-где в
ущельях так тесно, что солнечные лучи не могут коснуться их дна.
В административном отношении Сиатанг подчинялся советскому волостному
центру, расположенному у верховьев Большой Реки и называемому ущельцами
попросту словом "Волость".
Это селение находилось в десяти днях пути вдоль Большой Реки. Но
представители слишком малочисленного волостного советского аппарата до сих
пор не бывали здесь. Ущелий, подобных Зархоку, Дуобу и Сиатангу -
труднодоступных и малоисследованных, вблизи Волости и всюду в Высоких Горах
было много десятков.
Черные и серые скалы зимою заносятся снегом. Он заметает селения,
закрывает тропы, отрезает область от всего света. Каждой весной повсюду
слышится грохот лавин и обвалов. В летние месяцы воздух, накаленный камнями
ущелья, стоит недвижимо; он так горяч, что почти невозможно дышать; и только
осенью, когда от ледников тянут прохладные ветры, наступает пора благодатных
дней, слишком недолгая, чтобы ущельцы могли насладиться ею. Ветры снова
становятся резкими и пронзительными, несут холод надвигающейся зимы, которую
ущельцы всегда встречают с покорным страхом.
В один из теплых дней ранней осени около ханской крепости собралась
толпа мужчин. В сущности, крепости, когда-то величественной и грозной, давно
уже не было. От нее, разрушенной временем, остались только четыре каменные,
обмазанные глиною стены да две высокие, рассеченные змеистыми трещинами
черные башни. Одна из башен высится над самой рекой и, наполовину подмытая
грозит обрушиться вместе с остатком стены. Вторая башня, воздвигнутая на
конце стены, пересекающей стесненное здесь ущелье, прижимается к скалистому
подножью склона и держится еще довольно прочно.
Между башней и отвесной скалой остается узкая щель, от которой зависит
все существование селения Сиатанг: сквозь нее тянутся полусгнившие желоба
единственного канала, питающего водою селение. Толстые бревна для желобов
были когда-то с огромным трудом доставлены через Яхбар из далеких провинций
соседнего государства, потому что в Сиатанге крупных деревьев не было.
Начало, или, как говорят здесь, "голова" канала, находится выше, за
крепостью.
Конечно, гораздо проще было бы провести канал не по отвесной скале, а
ниже ее - через крепость. Но хан, строивший крепость, думал только о
собственном благе. От головы канала он проложил в крепость широкий отвод и
брал себе столько воды, сколько нужно было ему для орошения большого сада,
для мельницы и бассейна во дворе крепости. Лишь остатки воды устремлялись в
канал, к селению. Перекрывая канал, хан мог убавлять или вовсе останавливать
воду. Он брал за нее налог - сороковую долю урожая злаков и фруктов. Щель
между башней и склоном оставалась единственным проходом для путников,
бредущих из селения Сиатанг к Верхнему Пастбищу. Каждый прохожий обязан был
отдать хану от двух до пяти тюбетеек зерна... А водяная мельница на дворе
крепости была единственной мельницей, какой могли пользоваться ущельцы, и за
право размола зерна хан получал десятую долю.
Ханские времена кончились. Горный обвал несколько лет назад завалил дом
хана, и бассейн, и половину сада, и третью башню; бесформенная груда острых
камней навеки скрыла их от человеческих глаз. Другая половина сада давно
зачахла. Во дворе крепости осталась только старая мельница да подальше, за
ней, пустующий загон для скота. Среди камней кое-где сохранились еще
глубокие узкогорлые зерновые ямы, но все они были пусты или наполовину
завалены щебнем.
Ущельцы упорным трудом восстановили только желоба своего канала, а
часть воды отвели к уцелевшей мельнице, за пользование которой теперь уже
никто не платит налогов.
Единственный обитатель крепости, внук последнего хана и последний
представитель владетельной касты шан , бывший старейшина рода, старый,
обнищавший Бобо-Калон доживал свои дни в сводчатом, похожем на каменную
могилу, помещении верхней башни. Волей или неволей "Большой старец",
Бобо-Калон, превратился в сторожа, и все знают, что по собственному почину
он содержит башню в порядке. Однако он никогда не разговаривает с факирами.
Все, что ему полагается делать, он делает в то время, когда вокруг нет ни
одной живой души; при людях же он предается безделью, как бы подчеркивая,
что представителям его касты зазорно заниматься каким бы то ни было трудом.
Для постороннего глаза все происходит так, будто за порядком на мельнице
наблюдают незримые духи, а подачки некоторых ущельцев Бобо-Калону остаются
данью почета последнему потомку ханского рода.
Залатанные кошмами, скрепленные берестой и глиной, ветхие висячие
желоба с каждым годом теряют все больше воды. Просачиваясь сквозь щели, вода
падает частыми каплями на всем протяжении желобов, да и сами они слишком
узки, чтобы насытить водой жадную каменистую почву крошечных посевов
ущельцев. Быть может, ущельцы и не скоро еще взялись бы за переустройство
канала, но они уже привыкли по доброй воле подчиняться человеку, который
сегодня привел их сюда.
Человек этот еще с весны часто бывал здесь, во дворе крепости,
вглядывался в камни завала, измерял, рассчитывал и, наконец, заявил
ущельцам, что канал, пониже старого, провести и можно и необходимо. Для
этого надо только убрать ту скалу, на которой высится старая башня... И
когда ущельцы ответили, что башни не жалко, но нет такой силы, которая могла
бы убрать скалу, он сказал им, что сила такая есть... Много было споров в
селении Сиатанг, но все они кончились, когда человек этот, собрав беднейших,
безземельных факиров, пообещал оросить для них тот пустырь, что простирается
ниже селения, занимая немалую часть долины.
Вместе с ущельцами он взялся за дело, и работа на завале велась уже
несколько недель.
Наконец ранней осенью наступил решающий день. В рваных халатах, надетых
на голое тело, босые или в дырявой обуви из сыромятной кожи диких козлов,
факиры с рассвета таскали в крепость колючий кустарник, собранный ими по
склонам окрестных гор.
И вот уже полдень, а ущельцы все носят и носят сухую колючку к
основанию башни. А тот, кто руководит ими и кого они зовут Шо-Пиром,
показывает им, что надо делать. Рослый, широкий в плечах, не похожий на
жителей здешних гор, он и одет иначе. В высоких яловичных сапогах,
залатанных кусочками сыромятины, он носит защитного цвета выгоревшую
гимнастерку и синие потертые галифе с нашитыми из козьей шкуры леями.
Пятиконечная звезда на его побуревшей фуражке потеряла почти всю эмаль.
Аккуратно подпоясанный широким кожаным поясом, стройный, ловкий в
неторопливых движениях, он даже в своей старой полувоенной одежде производит
впечатление хорошо и чисто одетого человека. Загорелое, обветренное лицо его
с чуть вздернутым носом уверенно и спокойно.
Когда несколько лет назад пришел он в это селение, чтоб остаться здесь,
Бобо-Калон после первого разговора с ним прозвал его в насмешку Шо-Пиром -
"правителем пиров". Это прозвище, возникшее из очень смешного, но не
понятного сиатангцам созвучия, осталось за ним, и никто в селении не знал
его настоящего имени. А Бобо-Калон, после прихода Шо-Пира быстро утративший
остатки своего влияния на факиров, очень скоро убедился в том, что ущельцы
произносят слово Шо-Пир с уважением. Кто мог думать, что этот чужеземец в
самое короткое время приобретет такой непререкаемый авторитет?
Сухощавые, тонконогие, согнувшиеся под вязками колючего тала, ущельцы
торопливо прыгают с камня на камень, а Шо-Пир на чистом сиатангском наречии
указывает им, куда именно следует сложить ношу. Потом ущельцы подходят к
Шо-Пиру и, глядя снизу вверх, спрашивают, что делать дальше. Он посматривает
на них своими светло-голубыми глазами, и в прямодушном, чуть насмешливом
взгляде подошедший угадывает, что тайная мысль его о давно заслуженном
отдыхе прочитана и что, собственно, спрашивать Шо-Пира не о чем: надо
работать еще!.. Некоторых, явно ленивых, Шо-Пир поддразнивает достаточно
ядовито, чтобы окружающие тотчас подняли ленивца на смех.
- Шо-Пир! - слышится отовсюду. - Куда класть вот это?.. Шо-Пир,
довольно сюда?.. Шо-Пир, хватит колючки, давай зажигать костер!..
Но человек в гимнастерке и галифе только посмеивается, не соглашаясь,
хотя огромная сухая груда уже закрывает башню на треть ее высоты.
А обитатель башни, старый белобородый Бобо-Калон, безучастно сидит
поодаль на камне, глядя то вниз, вдоль реки, то на своего сокола, который
хохлится перед ним на железном, воткнутом в землю жезле, украшенном мелкой
бирюзой. Ручной старый сокол, заменивший Бобо-Калону родных и друзей,
охватывает растрескавшимися когтями рукоятку жезла, поднимает то одну, то
другую лапу, легонько поскрипывая когтем о металл, глядит круглыми,
равнодушными глазами на своего властелина, важно вертит головой и время от
времени, лениво приподнимая крыло, сует в пожелтевшие перья клюв и подолгу
щелкает им. Иной раз, видимо сочувствуя соколу и желая ему помочь, старый
Бобо-Калон, сосредоточенно сдвинув морщины на своем полном величия и
старческой красоты лице, трогает перья птицы изогнутым, порыжелым ногтем
мизинцы. Этим непомерно длинным - ничуть не короче соколиного клюва - ногтем
Бобо-Калон щекочет бок замирающей от удовольствия дряхлой птицы, и она снова
с холодной важностью, медленно моргая, глядит старику в глаза...
Ничем не показывает Бобо-Калон своего отношения к тому, что должно
произойти с его древним жилищем. Когда несколько дней назад Шо-Пир вежливо и
строго сказал ему, что народ решил, разрушив старую башню и убрав скалу,
провести через крепость новый канал, старик, на одну только минуту
задумавшись, с достоинством ответил Шо-Пиру:
- Все по-новому теперь идет... Народу нужно, народ решает... В нижней
башне жить хуже, река подмывает ее, но я перейду. Моя жизнь, наверно, не
будет долговечнее жизни камня!
Кроме работающих, собрались сюда и другие ущельцы. Это те, кому нет
дела до затеи Шо-Пира, - владельцы ближайших к старому каналу участков, не
заинтересованные в воде; это те, кто, не высказывая вслух своих мыслей,
сочувствует Бобо-Калону, считает его незаслуженно униженным. Среди
почитающих установленные от века порядки, среди хранителей веры и
благочестия Бобо-Калон считается первым - самым знатным и самым мудрым; они
называют Бобо-Калона хранителем мудрости и толкователем Установленного. Не
все они пришли сюда в этот день: многие не хотят, став свидетелями нового
унижения внука хана, оскорбить его гордость. Но другие, не преодолев своего
любопытства, расположились на окружающих башню скалах и терпеливо дожидаются
невиданного зрелища, какое готовит Шо-Пир. Как вороны на скалах, они хранят
выжидательное молчание.
Солнце палит нещадно, накаленные камни источают жар. Ущельцы работают
вокруг башни, обливаясь потом, и с завистью, а порой со злобой поглядывают
на недоброжелательных зрителей... Разве приятно работать под десятками
бесстрастно осуждающих взглядов? Но ведь вся эта работа - вызов приверженцам
Установленного, новое утверждение правоты Шо-Пира, и, значит, надо работать,
не покладая рук.
День идет, колючка уже наполовину прикрыла башню. Только кромка стены,
подпирающей башню со стороны крепости, еще свободна, - ущельцы всходят по
ней чередой и бросают отсюда все новые и новые вязки.
Шо-Пир смотрит на башню и кричит одному из ущельцев, только что
сбросившему свою ношу:
- Бахтиор! Довольно теперь! Вели всем уйти зажигать будем!
Тот, к кому относятся эти слова, - молодой, черноглазый, сухощавый, как
все сиатангцы, ущелец, - останавливается на кромке стены и кричит:
- Уходите все вниз! Карашир, уходи! Худодод, уходи! Исоф, вниз
спускайся! - И, взглянув краем глаза на тех зрителей, что расположились у
самой башни, неожиданно вставляет в свою сиатангскую речь неловкую русскую
фразу: - Шо-Пир! Вот этот, много дурак, пускай горячо им будет!
Бахтиор живет вместе с Шо-Пиром и научился у него кое-как объясняться
по-русски. Кроме него, никто из ущельцев русского языка не понимает.
- Не надо быков дразнить! - отвечает Шо-Пир. - Пусть тоже уходят, скажи
им... Да слезай сам скорее! - И переходит на сиатангскую речь: - Все вниз!
Отдыхать будем пока. Карашир, готовь свою трубку.
Бахтиор решительным взмахом руки велит любопытным убраться и бегом
спускается к собравшимся вокруг Шо-Пира. Приверженцы Установленного лениво
покидают облюбованные места.
Шо-Пир подходит к груде колючек, чиркает спичкой. Бобо-Калон, положив
ладонь на спину сокола, напряженно глядит на возникающий огонек. Огонь
быстро распространяется, черный дым всклокоченным облаком взвивается над
юркими языками бледного пламени. Ущельцы безмолвно глядят на него. Дым
поднимается все выше, пламя начитает посвистывать, жар заставляет людей
податься назад. Шо-Пир, подбоченясь, молча любуется силой огня.
Вся древняя башня охвачена пламенем, дым уже застлал все ущелье, он
поднимается по скалам темными волнами. Зрители, жмурясь и закрывая руками
глаза, разбегаются, прыгая с уступа на уступ, собираются у желобов канала.
Огромный костер клокочет, бьется, шумит, скрыв от наблюдателей башню.
Только мгновеньями она показывает свои черные камни.
Испуганный сокол пытается взлететь. Но Бобо-Калон сжимает его крылья
ладонью, и он остается сидеть на жезле, опустив веки на слезящиеся выпуклые
глаза. А Бобо-Калон смотрит на пламя так, словно вглядывается в ему одному
знакомый, понятный мир, - темные, немигающие глаза старика спокойны.
- Довольно, друзья! - говорит, наконец, Шо-Пир. - Насмотрелись. Пусть
горит, отдохнем пока. Карашир, где же трубка твоя?
Коренастый, бледный, невероятно грязный факир, оторвавшись от зрелища,
опускается на колени, быстро выковыривает в земле ямку, насыпает в нее
грубый самодельный табак, Шо-Пир и работающие с ним ущельцы рассаживаются
вокруг ямы. Карашир сует в табак длинную соломинку и, подобрав отскочивший
от костра уголек, кладет его на табак. Затем, заложив ямку плоским камешком,
наклоняется и, взяв конец соломинки в рот, энергично сосет его. Табачный
дымок струится из-под земли, и ущельцы, ложась на землю ничком, один за
другим прикладываются к соломинке. Только Шо-Пир, вынув из нагрудного
кармана гимнастерки свою старую люльку, раскуривает в ней такой же табак.
"Счастье... - размышляет Бобо-Калон, глядя на огромное трескучее пламя.
- Что они понимают в счастье? Разве камень идет свое счастье? Разве ищет его
вода? Все предопределено покровителем, в камне и в человеке, в ветре и в
облаке разлита его душа. А им, людям, кажется, что они созданы иначе, чем
все в мире. Что они не подобны лягушке, наслаждающейся в недвижной воде, и
змее, греющейся на горячем камне, и густому облаку, и дереву, у которого
есть свой ум в зеленых ветвях. И в глупом беспокойстве люди тщатся жить
иначе. Зачем хотят они все изменять по своему желанию, все переделывать?
Разве человек может сам искать свое счастье?.."
Сухими пальцами старик гладит жесткие перья сокола, и тот, пригибаясь
на лапах, всем своим существом принимает нежданную ласку.
В третий раз дождавшись своей очереди и отвалившись от соломинки,
Карашир удовлетворенно вздыхает, глядит на объятую жарким пламенем башню и
переводит взгляд на группу любопытствующих ущельцев. Теперь все они
собрались на выступе скалы, там, где вода канала, вылетев из последнего
желоба, журчащим каскадом падает в сложенную из каменных плит канаву, идущую
к селению. Они тоже собрались в кружок и, видимо, рассудив, что никакие
необычайные события не должны отвлекать их от насущных потребностей,
разложили на плоском камне ломти ячменных лепешек, яблоки, тутовую халву.
Глаза Карашира, устремленные на еду. Печально блестят.
В лохмотьях своего овчинного халата, сшитого из пестрых, но одинаково
ветхих кусков, шерстью то наружу, то внутрь, жилистый, тощий, он сидит,
поджав под себя худые ноги, на которых болтаются остатки непомерно больших,
с бахромчатыми раструбами голенищ; они прикручены к щиколоткам обрывками
шерстяной тесьмы. Накинутая на плечи овчинная ветошь никак не прикрывает
наготы Карашира; его ребра, обтянутые сухою коричневой кожей, его впалый
живот, его тонкие волосатые руки с налипшей на локтях грязью поблескивают на
солнце и придают всему облику Карашира вид живой мумии. Вряд ли ему больше
тридцати лет, но бледное с прозеленью лицо, утомленное и печальное, не дает
никакого представления о его возрасте.
- Шо-Пир, ты, наверное, голодный? - вдруг быстро спрашивает Карашир.
- А что, Карашир, у тебя есть для нас сыр и лепешки? - со спокойной
иронией произносит Шо-Пир, добродушно взглянув на него.
- Наверно, у него под овчиной есть лишний кусок хорошего мяса! -
говорит Худодод, самый молодой из сидящих вокруг Шо-Пира ущельцев, и его
тонкие губы сдерживают улыбку.
Все смеются. Обведенные темными кругами глаза Карашира, большие,
коричневые вдруг вспыхивают горячею гордостью и эта неизвестно откуда
возникшая гордость явно противоречит всему его внешнему облику - дикому и
жалкому.
- У меня нет, а вот у него все для нас есть, раз он советская власть и
позвал нас работать! Есть у тебя, Бахтиор, лепешки, и мясо, и сыр?
Бахтиор - председатель сиатангского сельсовета. Он невозмутимо
развязывает шерстяной пояс, распахивает желтовато-белый чистый халат и,
обнаружив перед всеми яхбарскую жилетку, надетую на голое тело, отвязывает
от нее небольшой узелок.
- Есть! У Бахтиора все теперь есть! Мяса нет, лепешки нет, а вот это мы
кушать будем!
И, вынув из узелка несколько шариков козьего сыра, перемешанного с
подсушенными на солнце тутовыми ягодами, Бахтиор аккуратно раскладывает их
на камне.
Руки работников тянутся к предложенной Бахтиором еде. Шо-Пир берет себе
несколько ягод. Карашир, набив рот сухим кисловатым сыром, мечтательно
произносит:
- Вот видишь, Шо-Пир, скоро весь урожай будет собран, а зерна будет
мало, совсем мало, - голод будет зимой.
- Ну, брат, теперь не страшно: вот проведем канал, совсем другой урожай
будет.
- Через год будет! А в этом году?
- В этом? Да, большой голод был бы зимой, если бы... Но вот Худододу
спасибо скажите, что письмо в Волость отнес. Недолго ждать теперь. Придет
караван, муку привезет и много другого. Ты, например, и не видел никогда
того, что везет караван, никто в наших горах не видел еще таких товаров.
- Э, Шо-Пир! - с сомнением кряхтит Карашир. - Придет или не придет, мы
не знаем: ни один караван от русских не приходил еще в наши горы, а пока
голодные мы... Вот я правду тебе скажу: в старое время, когда Бобо-Калон был
богатым, я у него работал; разве я всегда был голодным? Вот он сам голодный
сейчас, видишь, сидит один, на большой огонь этот смотрит; видишь, как
каменный, он сидит, а тогда я у него был голодным, только если он на меня
сердился. Если добрым был, давал мне хоть что-нибудь. А теперь? Не бьешь
меня, не плюешь в лицо, работаю у тебя, для советской власти работаю, все
обещаешь ты, обещаешь, а пока ничего ты мне не даешь!
- Советская власть, Карашир, наша власть - и твоя и моя. Не для меня
работаешь.
- Э-ио! Что говоришь? Хороший ты человек, глаза твои светлые, истину
вижу в них, вот работаю для тебя, все мы работаем. А у тебя самого живот
полный разве?.. Наша власть? Хорошо. Пусть она наша власть, а что она нам
дала?
- Погоди, хорошо поработаешь - даст! - веско молвит Шо-Пир, хмурится,
смотрит на уже затихающее вокруг башни пламя.
- И еще скажу, - не унимаясь, продолжает Карашир. - Караван придет!
Хорошо, Худодод принес нам ответ: идет. А как придет? На нашей тропе есть
плохие места. Разве лошадь с вьюком пройдет?
- Когда мы узнаем, Карашир, что караван пришел в Волость, мы выйдем на
тропу, исправим плохие места, поможем лошадям пройти к нам. Все понимают
это, один ты не хочешь понять.
- Все я понимаю, - печально бормочет Карашир. - Время придет, караван
придет, сделаем так... А сейчас, Шо-Пир, все-таки, может быть, у купца
возьмем? Потом ему отдадим.
- Опять ты мне про купца! - теряя терпение. Повышает голос Шо-Пир. -
Мирзо-Хур мало обобрал вас? Половина селения в долгу у него. Ягоды соберут -
ему отдают, зерно соберут - ему отдают, шерсть - ему отдают! Этот купец
Мирзо-Хур только и ждет, чтобы вы снова к нему пришли! Что, ты не знаешь сам
этого Мирзо-Хура? Все под жернов кладут свои головы! Ну и иди, пусть в муку
перемелет твой сухой череп!.. Не хочу больше слышать о нем!
"Вот оно, беспокойство! - издали уловив обрывки разговора, размышляет
Бобо-Калон. - Заразой пришло к моему всегда отличавшемуся от других народу.
Как страшная болезнь, беспокойство это ходило по миру, человек заражался им
от человека, племя от племени, народ от народа... И весь мир заболел и стал
сумасшедшим. Весь он во власти дэвов, и от дэвов ему никуда не уйти... А
моему народу, единственному до сих пор помогал покровитель, да будет
благословенно имя его! Он поселил мой народ в Высоких Горах. Он защитил нас
от всех льдами поднебесных высот, снегами, не тающими от солнца, скалами,
которые человек не может пройти. Только узкие тропинки оставил нам
покровитель, по которым мы одни умеем ходить. По этим тропинкам во все
времена к нам приходили люди. Зачем приходили? Наверное, искать свое
счастье! Но разве они у нас оставались? Нет. Они умирали или уходили назад.
Они говорили нам: "Ваш воздух для нас лишком легок, мы им не можем дышать.
Ваши ветры слишком холодны, лучи вашего солнца колют нас, как иглы... Мы не
можем терпеть. Мы думали, у вас есть просторные земли, - у вас их нет. Мы
думали найти у вас богатства, - вы нищи и голы. У вас есть только лед, снег,
камни и дикие воды. И сами вы дикие, нам нечего делать у вас, вы несчастный,
забытый богом народ!" Так говорили они и уходили и заразу беспокойства
уносили с собой... Тысячу лет продолжалось так, и мы смеялись над ними... А
вот теперь зараза беспокойства проникла в наших людей, и рушится все на
свете, как рухнет сейчас моя башня..."
- Вставай, Карашир, отдохнул, - говорит Шо-Пир, выбивая пепел из рубки.
- Все вставайте, друзья, видите, огонь падает. Теперь палками будем его в
стороны разгребать, пусть кругом по скале бежит, а середину скалы у самой
башни очистим, хорошо накалилась! А ты, Бахтиор, пойдешь со мной к желобу...
Да смотри, когда воду пущу, подальше держитесь, чтобы паром не обожгло.
Пошли!
Ущельцы поднимаются, окружают костер и начинают длинными палками
сгребать горящий хворост к краям нависшей скалы, на которой высится башня.
Дым давно рассеялся и темным туманом стоит над ущельем. Клубы дыма,
поднимаясь от разгребаемого костра, уже не обволакивают закопченную башню.
Шо-Пир и Бахтиор карабкаются к тому желобу, который приходится как раз
против башни. Надо разом повернуть его так, чтобы холодная вода канала
хлынула потоком на раскаленную огнем скалу. Веревки, каменные подпоры и
крепления приготовлены Шо-Пиром заранее. Все точно рассчитано. И когда
середина очищенной от горящей колючки раскаленной скалы обнажается, Шо-Пир,
велев всем отойти от нее, выталкивает из-под нижнего конца желоба
подпирающий его камень. Бахтиор тянет веревку, обмотанную вокруг желоба, и
желоб, брызжа водою, поворачивается под прямым углом и повисает в воздухе.
Шо-Пир хватается за веревку и, медленно опуская ее, помогает Бахтиору
опустить конец желоба на каменную подпору.
Водопад, срывающийся с повисшего над раскаленною скалой желоба,
исчезает в трескучем облаке пара. Закрыв руками лицо, Шо-Пир отскакивает на
безопасное место.
Когда, наконец, пар рассеивается, когда вода, гася остатки костра,
льется по охлажденной скале, все видят длинную змеистую трещину, разделившую
скалу надвое. Шо-Пир не ошибся в расчетах: трещина прошла в скале под самой
башней и достаточно широка, потому что половина скалы под влиянием
собственной тяжести осела. И хотя башня стоит еще прочно. Шо-Пиру понятно,
что первая часть задуманного им предприятия удалась.
Зрители поодиночке подбираются к башне, но Бахтиор повелительными
жестами отгоняет их прочь. Ему доставляет видимое удовольствие покорность
тех, которые, он знает, ненавидят его и при всяком удобном случае с открытым
презрением подчеркивают, что хотя он и признанная в селении власть, но тем
не менее, по сути, не кто иной, как самый нищий и презренный факир, к тому
же еще нарушающий Установленное и потому подобный неверным.
Бобо-Калон, сидя на камне у нижней башни, пребывает в том состоянии
неподвижности, в каком могут часами находиться только обитатели диких гор.
Его глаза, устремленные вниз, на землю, словно читают на ней какие-то никому
не зримые тайные знаки. Сокол теперь сидит у него на плече, нахохленный,
такой же сосредоточенный...
Приближается последний, решающий момент работы. Шо-Пир вместе с
Бахтиором спускается к реке. Здесь, над береговым обрывом, среди камней,
хранится десяток хорошо просушенных тыкв, наполненных порохом. Ради этого
пороха Шо-Пир пренебрег неприязнью к яхбарскому купцу Мирзо-Хуру, избравшему
местом своей торговли селение Сиатанг.
В Сиатанге, как и в других областях окружающих гор, жители не знают
базарной торговли: базаров здесь не было никогда, Все, что сиатангцам
необходимо, они выделывают сами, будь то одежда, инструменты, посуда или что
угодно другое. А то, чего они сделать не могут, им приходится покупать у
купца. Мирзо-Хур поселился в Сиатанге лет восемь тому назад, и нет ущельца,
который не стал бы его должником.
Когда понадобился порох, Шо-Пиру поневоле пришлось обратиться к купцу.
Мирзо-Хур взял за этот упакованный в изящные банки с заграничными этикетками
порох хорошую цену, а так как у Шо-Пира давно уже не было денег, то ему
пришлось, уподобляясь всем жителям Сиатанга, стать должником Мирзо-Хура.
Шо-Пир пообещал купцу проценты, которые рассчитывал выплатить вместе с
основной суммой долга после прихода в Сиатанг первого советского каравана.
Шо-Пир пересыпал порох из банок в большие тыквы и в этот день, на
рассвете, оставил их здесь у реки.
Забрав все десять тыкв, Шо-Пир вместе с Бахтиором несет их к башне. Он
закладывает тыквы в трещину остывшей скалы, четыре тыквы подсовывает под
самую башню, приспосабливает к каждой фитили такой длины, чтобы зажженные
один за другим они одновременно взорвали весь порох. Потом велит всем отойти
подальше, укрыться за скалами.
Неподвижен только Бобо-Калон, словно не замечающий ничего вокруг. Но
едва Шо-Пир своей широкой, спокойной походкой направляется к нему, старик
встает и, предупреждая слова, которые ему предстоит услышать, поднимает
правую руку властно и повелительно:
- Знаю, Шо-Пир, тебе порох пора зажигать. Но время твое в руках твоих,
и ты подожди немного... Когда человек теряет глаза, он хочет еще раз
взглянуть ими... Я хочу подняться на башню!
В тоне старика нет ни просьбы, ни жалобы, он произносит свои слова,
уверенный, что возражений не услышит. И Шо-Пир, пристально взглянув на
старика, молча соглашается. Прямой, высокий, - единственный в селении
человек, равный ростом с Шо-Пиром, - Бобо-Калон неторопливо направляется к
башне, и сокол на его плече, покачиваясь, только чуть поводит крыльями.
Шо-Пир возвращается к своим, в ответ на их вопрошающие взгляды коротко
говорит: "Подождем", - и, снова набив трубку, присаживается рядом с
Бахтиором на камень.
По ступеням разнобоких камней Бобо-Калон всходит на крепостную стену.
Коснувшись руками края выступающей из башни плиты, легко поднимается на нее,
чтобы так, с плиты на плиту, взобраться на верхнюю площадку башни. Последний
каменный выступ заставляет старика подтянуться на руках, но его мышцы еще
сильны, и он не прерывает своих размышлений, а сокол, взлетев с его плеча,
уже ставит лапы на край площадки и замирает, дожидаясь хозяина.
Взобравшись на площадку, Бобо-Калон выпрямляется во весь рост. Сокол,
взмахнув крыльями, снова присаживается на плечо старика. Только на миг
оглянувшись, не остановив внимания на ледяных пиках верховий реки Сиатанг,
Бобо-Калон обращает свой взор к селению, раскинутому в долине под крепостью.
Все привычно здесь Бобо-Калону: и легкие дымки очагов, и огромные
камни, рассыпанные по всему селению, - каждый из них больше дома, а иные
больше целого сада; многие упали на селение уже при жизни Бобо-Калона, он
мог бы вспомнить всех раздавленных жителей, коров, ослов, кур...
Бобо-Калон мог бы и не смотреть вниз, ведь и с закрытыми глазами он
точно представил бы себе каждый дом, каждое дерево селения. Только вид
одного маленького сада и сквозящего через его листву дома - как острый шип в
сердце Бобо-Калона. Это именно тот, отъединенный от других сад, что
расположен у ручья, высоко над селением. Это дом, не похожий на другие,
подобные черным могилам жилища. В нем окна и высокие двери, он построен по
законам неверных. Он появился недавно, всего два года назад. Это дом
Бахтиора и его друга, пришельца, которого Бобо-Калон в насмешку прозвал
Шо-Пиром.
"Дом заразы! - размышляет Бобо-Калон. - И эти проклятые - тоже зараза!
Вот они сейчас сидят здесь, со своими людьми, с людьми, в которых вселился
дэв! Сидят, смотрят на меня, курят табак; как коршуны, ждут, когда я уйду
отсюда. Потом скажут: "Мы твоей молитвы не тронули, почтенный внук хана".
Что понимают они в моей мудрости? Лукавы глаза их, - как они смотрят на
меня: весело им, смеются..."
И, делая вид, что все еще смотрит вдаль, Бобо-Калон, уже весь дрожащий
от негодования, наблюдает сквозь полузакрытые веки за расположившимися
кружком на камнях ущельцами, прислушивается к их смеху и, не в силах
расслышать их слов, остро чувствует, что эти люди сейчас, может быть,
смеются над ним. А он, - рожденный в касте шан , внук последнего хана, -
должен уйти отсюда, с башни крепости, построенной рабами хана для ханов, с
башни, которая рухнет сейчас, уйти сам, не дожидаясь, пока факир, нетерпимый
к нему, как неверный, грубо не прикажет ему уйти... Лучше умереть, чем
услышать грубость факира, чем дождаться приказания от презренного из касты
рабов!
Он уйдет сейчас сам. Но еще минуту!.. Еще минуту, пока башня высится
над селением, как время тысячелетий высится над временем одного украденного
дьяволом дня!..
И старый внук хана стоит на площадке башни в своем белом, расшитом
шелковой вязью халате, стоит, обуянный ненавистью, уже не способный
размышлять о боге и дэвах, о счастье, об Установленном, о людях и о больших
глубинах времен.
- Довольно сидим! - сердится внизу Бахтиор. - что он стоит, всю работу
задерживает, а мы, как дураки, его ждем! Одну трубку кури, другую трубку
кури... Сам говоришь, Шо-Пир: быстро все делать надо! - И вдруг, обернувшись
к башне, кричит: - Эй ты, шан ! Иди вниз!
- Оставь его, Бахтиор, - спокойно произносит развалившийся на камнях
Шо-Пир. - Что нам лишние пять минут? Не уйдет никуда от нас наше счастье.
Вечер длинный. Солнце еще высоко. Посмотри, как красива башня сейчас.
- Кто поймет твое сердце, Шо-Пир, - не унимается Бахтиор. - О чем
думаешь ты сейчас? Кончать работу пора!
- О чем думаю? - задумчиво произносит Шо-Пир. - О счастье твоем думаю,
Бахтиор. И о твоем, Карашир, думаю счастье. Сменил бы ты в самом деле овчину
твою! Неужели, когда пришиваешь заплатки, нельзя их накладывать на одну
сторону мехом? Вот подожди, придет караван, новые штаны мы на тебя наденем.
Белую рубашку, красивые сапоги.
Все хохочут, толкая в бока Карашира. Он увертывается, и в глазах его
загорается огонек обиды.
А те, кто сидит поодаль, кто весь этот день отдал любопытству,
терпеливо ждут окончания зрелища. Правда, некоторые из них, прикорнув к
теплым камням, давно уже спят, - кто-либо из бодрствующих в нужный момент их
разбудит.
Медленно спускается с башни Бобо-Калон. Луч закатного солнца
соскальзывает с последнего камня башни. Ни на кого не глядя, Бобо-Калон
проходит мимо сидящих, и все умолкают, провожая его взглядами. Обойдя
мельницу, Бобо-Калон подходит к нижней, покосившейся над рекою башне,
открывает сводчатую дверь и с треском захлопывает ее за собой.
Шо-Пир встает, и ущельцы, все до одного, покинув свои места, прячутся
за большими, нагроможденными ниже крепости скалами.
Шо-Пир спичкой зажигает заготовленный масляный факел и, дав ему
разгореться, подходит к торчащим из трещины концам фитилей. Быстро поджигая
их, отбрасывает в сторону факел и стоит над зазмеившимися огоньками,
вполголоса отсчитывая секунды.
Шнуры горят, чуть потрескивая. Шо-Пир опытным взглядом окидывает скалу
и башню, которая через две с половиной минуты разлетится на части. Он не
торопится, зная, что вполне успеет укрыться, отбежав ровно за одну минуту до
взрыва. Ущельцы, попрятавшиеся за скалами, беспокоятся. Бахтиор кричит:
- Шо-Пир!.. Э-э!.. Скорее, Шо-Пир!
А ему нравится стоять неподвижно, уверенно ведя счет. Он глядит на щель
между башней и отвесом горы, - из нависших над щелью желобов падают
тоненькие струйки воды. И тут, сразу обомлев, Шо-Пир видит в щели за
иззубренной гранью башни два черных, внимательно наблюдающих за ним глаза.
- Э!.. Кто там? - испуганно кричит он, и два черных глаза в тот же миг
исчезают.
Не рассуждая, Шо-Пир в три скачка огибает башню и, увидев притаившуюся
за углом башни неизвестную девушку, кидается к ней. Она в испуге
отскакивает, но Шо-Пир уже крепко держит ее за плечи и по-русски кричит:
- Куда, оглашенная?
Девушка в неожиданной ярости пытается сопротивляться, но Шо-Пир рывком
поднимает ее на руки и бежит прочь от башни. Девушка царапается, кусается,
как дикая кошка.
Только упав за груду камней, на безопасном расстоянии от башни, Шо-Пир
выпускает девушку. Разбитая взрывом башня падает в огненном блеске и в
клубах дыма. Осколки камней свистят над головой Шо-Пира. Эхо, взнесенное
крутыми склонами ущелья, раскатывается, и замирает, и возникает отдаленным
громыханием вновь. Расколотая на части скала катится по склону к реке, минуя
мельницу, ломая последние, оставшиеся от ханского сада деревья; ударяется в
крайний выступ нависшей над рекою стены и вместе с нею падает в реку. Вода
мгновенно смыкается над обломками глыб, бежит, кружась и пенясь, как прежде.
Темная пыль оседает, дым постепенно расходится, наступает полная тишина, и
Шо-Пир ощущает только раздражающий запах горелой серы.
Убедившись, что все кончено, Шо-Пир взглядывает на свои исцарапанные в
кровь руки, сердито обращается к девушке:
- Ты что же это? С ума сошла?
Она сидит, присмирев, уже не делая попыток бежать.
Забыв о взрыве башни, ущельцы столпились вокруг Ниссо. Даже Бобо-Калон,
приоткрыв дверь, издали глядит на нее. Шо-Пир рассматривает ее распухшие, в
ссадинах ноги, мелкие спутанные косички, измазанное лицо, лоскутья ее
одежды, какой не носят здешние женщины.
Окруженная людьми, Ниссо, не поднимая глаз, сидит сжавшись, как
пойманная в западню. Она так оглушена и испугана грохотом взрыва, что ее
руки и губы дрожат.
- Дэв тебя, что ли, принес? - наконец шутливо выражает свое удивление
Шо-Пир и обращается к ущельцам: - Глядите, кто ее знает здесь?
Ущельцы отвечают только цоканьем да покачиванием голов.
- Что же, так и будешь молчать? - наконец говорит Шо-Пир. - Как ты
думаешь, к нам с неба каждый день сваливаются такие, как ты, девчонки? А
измазалась как? Кошка будет сыта, если оближет твое лицо!
Ущельцы хохочут, а Ниссо, метнув испуганный взгляд, опускает голову еще
ниже. Шо-Пиру становится жаль ее:
- Голодная ты, наверно... Есть хочешь?
Ниссо молчит. Шо-Пир подмигивает Бахтиору, и тот извлекает из своего
узелка оставшийся шарик сыра. Шо-Пир, коснувшись руки Ниссо, говорит:
- Не бойся, коза, никто тебя здесь не обидит. Ешь!
Ниссо вновь кидает недоверчивый взгляд, но, ободренная явным
сочувствием окружающих, жадно хватает сыр и, не поднимая головы, сует его в
рот.
Шо-Пир осторожно дотрагивается до распухшей щиколотки Ниссо, но она
отдергивает ногу.
- Похоже, будто ты часа два в лапах барса барахталась. Ничего, вылечим
тебя. Идти можешь?
Но едва Шо-Пир, вставая, берет ее под локоть, Ниссо вскакивает и
стремительно кидается в сторону. Ущельцы, стоящие вокруг плотным кольцом, со
смехом удерживают ее.
- Шо-Пир, она, наверное, одержимая!
Ниссо замирает снова, дрожа в сдерживающих ее руках.
- Вот что, друзья! - произносит Шо-Пир. - Видно, плохо ей пришлось.
Придется нам ею заняться. На сегодня работа кончена, пора по домам. А ты,
глупая, - мягко обращается Шо-Пир к Ниссо, - не бойся нас. Что ты, в самом
деле, людей, как волков, боишься?! Пойдем-ка вниз, с нами!
Озираясь и, видимо, ища случая убежать, Ниссо спускается к селению по
широкой тропе, окруженная толпой ущельцев. Шо-Пир касается ладонью ее
худенького плеча. Бахтиор возглавляет шествие, а те бездельники, что
любопытствовали весь день, уже не интересуясь разрушенной башней, стараются
протолкаться поближе к неведомо откуда взявшейся девушке. Все в ней занимает
их: и одежда - изодранная, но не такая, какую носят женщины здесь, и
испуганные глаза, и лицо - тонкое, красивое, но измученное и грязное, и
ссадины на проглядывающем сквозь лохмотья загорелом теле.
Украдкой, полушепотом ущельцы обмениваются предположениями. Может быть,
она ехала с мужем или отцом и с ними случилось что-либо недоброе по дороге?
Камни упали сверху и сбили их осла в пропасть? Или на них напали снежные
барсы? Или спутники ее утонули при переправе, - такие ссадины и царапины
бывают, когда вода волочит человека по камням. Или просто она отстала от
каравана какого-нибудь купца и заблудилась в горах?.. Но непонятнее всего,
почему она пришла сверху? Ведь за тропою к Верхнему Пастбищу ничего, кроме
льдов и снега, нет!
В селении к толпе присоединяются новые люди. Женщины, не решаясь при
мужьях выбегать из домов, глядят на Ниссо из-за каменных высоких оград,
вылезают на крыши, таятся между густыми ветвями деревьев. Не обращая ни на
кого внимания, Шо-Пир молча ведет Ниссо мимо садов и посевов селения. Когда
он решительно поворачивает влево, чтоб узкой тропинкой направиться к дому
Бахтиора, толпа начинает редеть. Поднявшись к каменной ограде сада,
окружающего дом Бахтиора, Шо-Пир поворачивается к идущим за ним. Вся толпа в
нерешительности останавливается.
- Вот что, товарищи, - внушительно объявляет Шо-Пир. - Нечего на
девчонку, как на дикого зверя, смотреть. Еще умрет от страха, кто отвечать
будет? Идите-ка по домам. Она останется пока у матери Бахтиора, пусть
отоспится сначала, а потом Бахтиор поговорит с ней как советская власть.
И, введя Ниссо в сад, Шо-Пир загораживает двумя корявыми палками пролом
в ограде, заменяющий ворота.
Ущельцы нехотя удаляются. Но несколько любопытных остаются и, припав к
щелям ограды, решив досмотреть представление до конца, наблюдают за всем,
что происходит в саду.
Шо-Пир ведет Ниссо на лужайку, зеленеющую среди тутовых деревьев у
самого дома. Ниссо бессильно опускается на траву, склоняет лицо на ладони.
- Ты, Бахтиор, пойди в дом, скажи Гюльриз, чтоб она приготовила горячей
воды и растопила в котле сало - то, знаешь, которое я берег для чистки
ружья. Лечить надо девчонку. И пусть Гюльриз выйдет сюда.
Бахтиор уходит разыскивать мать. Шо-Пир заговаривает с Ниссо все на том
же плавном сиатангском наречии, которое вот уже три года заменяет ему
русский, никому здесь не понятный язык.
- Сейчас мы тебя лечить будем. Потом выпьешь чаю или молока. Потом
вымоешься. Ты мылась когда-нибудь?.. Ляжешь спать. Никто не тронет тебя. И
ничего не бойся... Ну, посмотри на меня. Разве тебе надо меня бояться?
Ниссо исподлобья, робко глядит в лицо Шо-Пира. Он улыбается.
- Вот видишь! Значит, ты отлично понимаешь меня! А молчишь, будто язык
потеряла!
- А ты не яхбарец? - недоверчиво и едва слышно произносит Ниссо.
- Я? Нет. Разве похож? - Шо-Пир сбрасывает на траву свою выцветшую
фуражку.
Ниссо устремляет взгляд - уже открытый и ясный - на его коротко
стриженные русые волосы, на его спокойное загорелое лицо. Весело искрящиеся,
насмешливые голубые глаза смущают ее.
- Ты... Ты - легкий.
- Легкий? Ого-го! - от души хохочет Шо-Пир. - Это я-то легкий? Ну, ну!
Ты скажешь... Легкий! - И, сдержав смех, с подчеркнутым безразличием
спрашивает: - А ты... разве ты прибежала из Яхбара?
Ниссо, опустив голову, вздыхает, молчит. Бахтиор возвращается из дому,
держа в одной руке консервную банку с растопленным салом, в другой -
глиняный кувшин с холодной водой.
- Не знаю, ушла куда-то Гюльриз. Вот сало. Другую воду я на огонь
поставил.
Ни о чем больше не спрашивая Ниссо, Шо-Пир занимается врачеванием.
Ниссо, не сопротивляясь, равнодушно подставляет ему свои руки и ноги.
Тщательно промыв ссадины холодной водой, применяя вместо ваты тут же
сорванную траву, Шо-Пир осторожно смазывает их бараньим салом. Голова Ниссо
клонится на грудь: девушку одолевает сон. И, увидев, что Ниссо спит, Шо-Пир
Легко, как маленького ребенка, берет ее на руки и несет в дом. Войдя в
комнату, остановившись перед своей чистой кроватью, с сомнением смотрит на
измазанное лицо мирно спящей на его руках девушки и бережно кладет ее на
ватное одеяло. Ниссо не просыпается: покачивая головой, Шо-Пир глядит на нее
и тихонько выходит из комнаты.
Трое ротозеев, все еще висящих на ограде, видят: Шо-Пир выходит из дому
один, - значит, зрелище окончено.
- Теперь он возьмет ее себе в жены, - с ухмылкой бормочет один.
- Покровителю известно, - молвит второй. - Может быть, у нее уже есть
один муж!
- Если есть, он найдет ее и убьет, - усмехнулся третий.
И все трое, запахнув халаты, с сожалением уходят вниз.
Бахтиор, сидевший на траве, поднимается навстречу Шо-Пиру.
...Мать Бахтиора Гюльриз вернулась домой поздно вечером. Увидев у себя
в доме нежданную гостью, пыталась узнать у мужчин, кто она и откуда; но,
убедившись, что ее сын и Шо-Пир и сами не много знают, раздела спящую Ниссо,
укрыла ее одеялом и, погасив светильник, отправилась к ручью стирать
изодранное платье девушки.
Впервые в жизни Ниссо спала на кровати. Эта кровать была первой и
единственной во всей области Сиатанг: ее своими руками смастерил Шо-Пир
после того, как вместе с Бахтиором выстроил для него и для себя первый в
Сиатанге дом городского типа. Впрочем, половина дома, - та, в которой жила
Гюльриз, - ничем не отличалась от других сиатангских жилищ, - таково было
желание старухи, и Шо-Пир уважил его. И когда Шо-Пир хотел сделать вторую
кровать для Гюльриз, а она заявила, что под кроватью ночью обязательно
станут егозить дэвы, Бахтиор натаскал в комнату старухи плоских камней,
соорудил из них широкие нары и обмазал их глиной.
А для себя на летнее время Бахтиор рядом с домом поставил легкий, на
высоких столбах шалаш, - в такой шалаш не залетали москиты, и спать в нем
было прохладно.
Когда большая, полная луна, словно выкатившись из горы, медленно
оторвалась от нее и, повиснув в воздухе, поплыла над ущельем, зеленоватый
свет залил неугомонную реку, молчаливые скалы, стены разрушенной крепости,
последнюю, торчащую над обрывистым берегом башню.
В мертвенной неподвижности длинных теней только одна тень двигалась под
стенами крепости. Старый Бобо-Калон, одинокий и молчаливый, напряженно
работал. Он поднимал камни разрушенной башни и, сгибаясь под тяжестью,
переносил их на новое место. Здесь он аккуратно складывал их один на другой,
строя новую стену, которая должна была отгородить оставленные ему владения
от площади, предназначенной для нового канала.
В одних подштанниках, затянутых тесьмою вокруг впалого живота, без
халата, голый до пояса, он подставлял лунным лучам то четко обрисованные
тенями ребра своей груди, полузакрытые белою бородой, то худую, с
напряженными мышцами спину. Никто не должен был видеть, как он работает.
Пусть завтра все думают, что это дэвы позаботились отгородить его новой
стеной от всего мира. Пусть завтра все думают, что хотят. Стена примкнет к
мельнице, перекинется через канаву, подводящую воду, соединится со старой
крепостной стеной... Пусть всякий пришедший на мельницу знает, что пришел он
не на общую землю, а в самый дом Бобо-Калона!
В темноте таскать камни было труднее; спасибо луне, - теперь, ища
подходящий камень, не нужно ощупывать их сухими ладонями. О нет, Бобо-Калон
еще не устал, в костлявых плечах его еще много силы, хотя, по законам Али,
эту силу он мог бы не тратить ни для какой работы. Половина стены уже
выложена!
Положив еще один камень, Бобо-Калон вдруг выпрямился, прислушиваясь:
кажется, что-то скрипнуло в тишине, - неужели сюда идет человек? Но скрип
повторяется. Кто-то, вошедший в крепость, совсем не заботится о том, чтобы
не нарушать тишины: камни ворочаются у него под ногами. Кому нужно ночью
идти сюда?
Раздосадованный Бобо-Калон быстро кидается к башне, хватает висящий на
косяке сводчатой двери длинный белый халат и, облачившись в него, меняет
свои торопливые движения на медленные, непринужденные. Поворачивается к
лунному свету, спокойно вглядывается в зеленоватый полумрак, словно только
что потревоженный шумом в своих величавых раздумьях.
Пересекая крепостной двор, к Бобо-Калону приближается чернобородый
толстый человек в черной чалме, в просторном ватном халате. Ремень,
опоясывающий халат, поблескивает медными украшениями; широкие, стянутые у
щиколоток шаровары делают неуклюжей приземистую фигуру. Сразу узнав
Мирзо-Хура, Бобо-Калон с неудовольствием глядит на него: он не любит купца,
как не любит всех вообще иноземцев.
Не дойдя до старика, купец останавливается: пусть Бобо-Калон утешается
мыслью, что Мирзо-Хур ничего не видел! Глядит на разрушенную башню, на
остатки раздробленной скалы, сокрушенно воздевает к небу свои короткие
толстые руки.
- О достойный! - восклицает купец. - В какие мы живем времена!
Старик молча глядит на него; надо быть вежливым и любезным с купцом, -
разве сам купец не старается делать все, чтоб вызвать к себе расположение
Бобо-Калона?
Мирзо-Хур подходит к Бобо-Калону, берет его руку, склонившись, целует
кончики его пальцев. Старый сиатангский обычай! Но разве Мирзо-Хур рожден в
Сиатанге? Не поддаваясь на явную лесть, Бобо-Калон только склоняется над
рукой Мирзо-Хура и, не в силах побороть гордости, проносит над ней плотно
сомкнутые губы. Мирзо-Хур делает вид, что совсем не обиделся, он
доброжелательно щурит запрятанные в мешковине щек маленькие глаза, но со
злобой думает, что ведь не ханские же сейчас времена и пора бы понять
Бобо-Калону, что в общей с ним нелюбви к нынешним порядкам, сошедшим на эту
древнюю землю, им следует стать друзьями!
- Слава пророку Али, теплая ночь! - произносит купец и глядит на
выложенную Бобо-Калоном стену.
- Садись, - отвечает старик, небрежным жестом указывая на плоскую
плиту, заменяющую скамейку.
Они усаживаются рядом и, отвечая на невысказанный вопрос купца,
Бобо-Калон произносит:
- Есть еще люди! И сердца тех, которые от меня отступились, еще хранят
для меня немножко горячей крови: вот пришли в темноте, сделали сами!
- Деньги взяли, достойный? - с ласковым ядом спрашивает Мирзо-Хур.
- Нет, уважения ради. Я их не видел в темноте, вот только сейчас, -
луна вышла, - верхние камни немножко поправил.
- Так, так, достойный! Уменьшаются владения твои.
- Мои владения - в благоволении покровителя. Кто может уменьшить их?
- Ты прав, Бобо! Кто может уменьшить мир Установленного?
Мирзо-Хур почтительно умолкает. Молчит и Бобо-Калон. "Бобо" - это
вольность, недостаточное почтение к его касте, но не надо быть слишком
обидчивым, раз он сам у Мирзо-Хура поверх головы в долгу! О, торгаш, как он
умеет опутывать! И теперь уже никогда не наступит время поквитаться с ним!
Но какой может быть расчет у купца, - неизменно, и ничего в расплату не
требуя, приносить ему, обнищавшему старику, то мясо, то соль, то зеленый
привозной чай, - все, от чего давно пора бы отвыкнуть? С недавних пор купец
приходит часто и, всегда почтительный, сидит подолгу, будто в самом деле
хочет только наслушаться разговоров хранителя мудрости и толкователя
Установленного.
- Как дела твои, Мирзо-Хур? - наконец нарушает молчание Бобо-Калон.
- Какие дела, Бобо? - стараясь казаться столь же величавым, отвечает
купец. - Добрые дела творятся там, - купец указывает пальцем на небо. -
Здесь дела холодны, как снега вершин. Кто в мою лавку заходит? Кто хочет
долги отдавать?.. Скрытно только опиум берут у меня, один от другого
таится... Хочешь опиума, Бобо? У меня с собой.
- Не хочу, Мирзо-Хур, сколько раз ты мне предлагаешь? Двужизненный дым
нужен тем, у кого второй жизни не будет.
- Ты прав, Бобо, твоя душа воплотится в барса, чтобы ты мог покарать
тебя ненавидящих! Там ничто не меняется, как меняется все в этом мире.
Беспокойство туда не придет.
Бобо-Калон понимает, что купец - из вежливости, что ли? - хочет
продолжать незаконченный в прошлую встречу большой разговор. Зачем? Разве
купец может проникнуть в простор Установленного? Не надо бы снисходить до
задушевной беседы, но кто еще в селении готов теперь столь почтительно
слушать Бобо-Калона?
Он молчит. Мирзо-Хур тоже молчит, зная, - старик не утерпит, заговорит.
От мельницы с тихим журчанием бежит, переливаясь, ручей. Луна,
поднимаясь, укорачивает длинные тени.
- Слышал я: сегодня Бахтиор посмел повысить на тебя свой голос? -
почтительно, но опустив глаза, чтобы скрыть их лукавый блеск, спрашивает
Мирзо-Хур.
Бобо-Калон молча пожевывает сухими губами.
- Собачий хвост он! - продолжает Мирзо-Хур. - Не понимаю я, Бобо, как
верные позволили собаке вырастить себе волчьи зубы?
- Живешь здесь, сам знаешь.
- Знаю. Но ведь он был вашим человеком, родившимся среди этих камней?
Ведь он самый презренный факир!
- Самый нищий, самый ничтожный! - вступая, наконец, в разговор,
распаляется Бобо-Калон. - Ни дома не было, ты знаешь, ни овцы, ни рубашки.
- И не было бы, если бы не русский...
- Если бы не русский, разве он стал бы сумасшедшим? Сотни дэвов живут в
нем от головы до пяток, сотни скверных дэвов свили себе в нем гнездо, глядят
из его глаз, слетают с его языка, движут его руками. Они пожрали его душу,
он живет без души, а тело его проклято. Ты помнишь то собрание нечестивых?
- Помню, Бобо, при мне уже было.
- Как печень моя не разорвалась тогда! Встал он, смехом оскалил зубы,
сказал: "Горе вам, сеиды и миры, уходите теперь в Яхбар!" Ушли сеиды и миры,
и разве это не великий позор? Разве не могли они остаться, как я, забыть
богатства, думать о свете истины?.. Он называется председателем сельсовета -
язык сломаешь, пока произнесешь это слово, - но он не человек, он вместилище
дэвов, - разве могут дэвы затмить свет истины в душе, обращенной к одному
покровителю?
- Все-таки, Бобо, теперь он силен.
- Теперь? Но три года назад, когда этот русский пришел к нам, Бахтиор
был человеком моего народа, пусть факиром, но все-таки сиатангцем. Он не был
тогда таким, как те факиры, что жили в Волости и уже ставили себя выше
ханской крови и "Лица веры". Никогда не жаловался он на свою нищету. Никогда
не хотел быть сытым. Он жил, как камни. Он знал, что есть большие и очень
большие камни, и есть маленькие, и есть песчинки, но, как и все мы, он был
вместилищем бога. Ничтожным, незаметным, но все-таки вместилищем бога. И
после смерти его душа могла бы войти в невинную маленькую букашку, которая
живет под крылом у самого маленького воробья. Но когда, три весны назад, к
нам пришел этот, да развеется прах его отца, этот ненавистный Шо-Пир, - ты
тоже помнишь этот день? Ты помнишь?
- Все помню я, все помню!
- И мы, собравшись у этой мельницы, над этой самой рекой, вот здесь, на
дворе моей крепости - это все-таки моя крепость, что ни говорили бы иные, -
мы слушали этого русского... Э! Покровитель! Сидя на этих камнях, мы слушали
богопротивные слова, которые он говорил. Это он сказал нашим факирам: "Перед
кем руки на груди складываете?" это он ругал их за то, что они покорны
нашему запрещению вступать на тропу, ведущую в Волость. Ты помнишь, как
нашими посланцами до того были только сеиды и миры, чьи души не боятся
заразы? Это он назвал нас - владетелей этих мест - врагами, а факиров из
Волости, и русских солдат, и наших презренных рабов - братьями... Это он
научил их: "Пошлите своих факирских гонцов повсюду, пусть посмотрят на
советскую власть и берут пример". Это он бросил, как огонь в сухой хворост,
глупую мысль о счастье в их не знавшие беспокойства души! Как жидкий свинец,
слух прожигали его слова! Сердце мое кипит, когда я их вспоминаю!.. Мы
слушали и покачивали головами, сверху вниз покачивали, как всегда говорим
мы: "да-да", тысячу раз "да", когда не хотим спорить с презренными. И
Бахтиор слушал. И думал я: уйдет пришелец, мы плюнем на его след, пусть
видит во сне, будто мы поверили в его речи! Мудрость моя начинает мутиться,
как похлебка в котле, когда я вспоминаю, как первый раз уши мне обожгли те
слова, что я слышу теперь каждый день. И от кого слышу? От соседей моих, от
людей моего народа. Не только факиры, даже сыновья акобыров их повторяют!
Трудно мне, словно колючка в горле моем, когда я говорю об этом. Но я прожил
пять кругов, я знаю все в Установленном и теперь хочу быть спокойным. Не
хочу чужих дел! И чужих людей не хочу!
Бобо-Калон вдруг, словно спохватившись, умолкает. Купец сидит спиной к
лунному свету, опущенное лицо его в тени. Может быть, не надо было заводить
разговор о Бахтиоре?
Намек старика понятен купцу. И он не хочет скрывать обиду:
- Бобо-Калон, яхбарцы тоже народ для тебя чужой?
О Яхбаре Бобо-Калон говорить не хочет. Столь прямо заданный вопрос -
дерзость. Да... Яхбарцев сиатангцы не любят давно, вражда всегда жила между
ними. Мирзо-Хур это, конечно, знает! Бобо-Калон досадует на себя: стоило ли
рассыпать свою мудрость перед яхбарцем?
- Восемь лет назад, когда ты пришел, ты был чужим. Я помню, как ты
пришел, чтобы построить здесь свою лавку. Я сам читал ту бумагу, что написал
тебе Азиз-хон. Там сказано было: "Достойный муж, прекрасный честностью и
почтением к богу".
- Восемь лет прошло. Что скажешь теперь?
- Вижу, бога ты почитаешь.
Если б Мирзо-Хур не был купцом, он, вероятно, не мог бы снести
оскорбления. Но он только плотнее сжимает губы: ведь он еще не успел
поговорить о деле, ради которого пришел к старику. И делая вид, что в словах
Бобо-Калона уловил только похвалу, не поднимая глаз, Мирзо-Хур произносит:
- Без почтения к богу нет жизни. Потому здесь и рушится все, Бобо... И
много зла будет еще... Скажи, ты слышал о караване русских?
- Говорили тут с Шо-Пиром они.
- Что говорили?
- Придет караван.
- Когда придет?
- Ждут его... Дни считают...
- Что привезет, говорили?
- Муку привезет.
- Еще что?
- Не знаю.
- Ты не знаешь, я знаю: книги привезет, чтоб дети законам неверных
учились; одежду привезет, в которой ходить позорно; вонючие жидкости
привезет, чтобы лить в горло тем, у кого болит живот. Ай, Бобо-Калон, пропал
твой народ! Русский сахар он будет есть, русскую соль будет есть, женщины
повернутся спиною к мужьям, мужчины станут безумными...
- У тебя, купец, не станут покупать ничего! - язвит Бобо-Калон.
- У меня? Пусть я купец, разве об этом я думаю? Но скажи, для тебя
хорошо это, что придет караван? Разве нужен он твоему народу? Разве ты
будешь молчать с теми, кто еще может слушать тебя? Разве мудрость твоя будет
литься в их уши, как пустая вода? Разве весь твой народ уже сомневается в
Установленном? А ты, Бобо, молчишь, когда мудрость твоих речей может жечь,
как огонь!
- Ты, купец, кажется, хочешь меня учить? - холодно произносит
Бобо-Калон, и купец, почувствовав, что старик слишком хорошо понимает его,
решается спросить напрямик:
- Прости, достойный... Не ум мой сейчас говорил, сердце мое кипело.
Скажи, я не видел этой, что прибежала сюда, ты видел ее?
- Видел... Совсем молодая...
- Твоего народа она?
- Молчала. Не знаю. Лицо - как у наших.
- Слышал я: одежда не наша?
- Одежда рваная была вся, но, видно, от богатых пришла: яхбарское
платье... Косы тоже так не заплетают у нас...
- Ты думаешь, она из Яхбара?
- Кто знает! Быть может. Думаю, так.
- Что еще о ней думаешь ты, Бобо? Наверное, убежала от мужа?
- Не знаю, кто она. Только плохо, когда женщина одна по горам бегает,
делает все, что захочет, и мужчины за ней не видно. Время такое: одна
одержимая плодит одержимость в других... Лучше б не было ее здесь: наши
женщины не смотрели бы на нее, худому бы не учились. Но что тебе до нее,
купец?
- Так, так, просто так, бобо, - скороговоркой бормочет Мирзо-Хур. - Не
для дела спросил, любопытства ради. Смотри, луна заходит за гору, спасибо
тебе за мудрый твой разговор, идти мне пора. За хорошим разговором времени,
как за стеной, не видно. Позволишь ли приходить, когда одиночество гонит
меня из дому? Душа моя отдыхает с тобой.
И, не дождавшись ответа старика, который только склонил голову,
милостиво соглашаясь на дальнейшие посещения купца, Мирзо-Хур поднимается с
камня и, не скрывая своей торопливости, произносит все полагающиеся слова
почтительного прощания. И хотя в действительности луна еще далеко от края
ущелья, Бобо-Калон не задерживает незваного гостя.
Той же неуклюжей, тяжелой походкой купец вышел из разрушенных ворот
крепости на тропу и, спускаясь между блестящих в лунном свете гранитных гор,
направился к селению.
В селении, безлюдном и тихом, все давно спали. Даже собаки, слишком
ленивые для того, чтобы залаять на одинокого, проходящего мимо человека,
только проводили его глазами, быть может потому, что узнали его.
Мирзо-Хур прошел все селение и, дойдя до своей лавки, прилепившейся над
самой рекой, на краю обрыва, тихо открыл маленькую, с резными украшениями,
двустворчатую дверь. Остановился на пороге, прислушался к храпу в темном
углу заставленного товарами помещения.
- Кендыри! О-э, Кендыри! - тихо промолвил купец.
Храп оборвался.
- Кендыри! - повторил купец. - Встань, поговорить надо.
- Что случилось? - послышался заспанный голос.
Мирзо-Хур присел на пороге; придерживая рукой штаны, к нему выбрался
полуголый человек. Луна осветила его узкое и острое, словно кривая сабля,
гладко выбритое лицо. Черты этого туго обтянутого кожей лица были мелкими и
сухими. Большие, выступающие вперед зубы белели в мертвом, холодном оскале,
словно этот человек, однажды неприязненно осклабившись, так и остался с
принужденной улыбкой. Голова его была тоже тщательно выбрита и поблескивала
в лунном свете.
Выйдя на порог, он молча присел на корточки и застыл в этой позе, в
которой кочевник чувствует себя так же легко и свободно, как горожанин,
сидящий в удобном кресле.
Мирзо-Хур полушепотом сообщил ему о посещении Бобо-Калона. Кендыри был
всего только брадобреем, которому за помощь в торговых делах купец
предоставил право жить в своей лавке, и можно было бы думать, что нищий,
оборванный брадобрей, живущий у купца из милости, должен относиться к нему с
почтительностью и смирением. В самом деле: когда два года назад Кендыри,
грязный, голодный, с одной лишь сумкой через плечо, в которой болтались
самодельная железная бритва да завернутый в тряпицу точильный камень, пришел
в селение, никто не захотел предоставить кров бродячему брадобрею, и только
Мирзо-Хур, сытно его накормив, предложил ему жить у себя и даже дал ему из
своих запасов чалму и халат... Сначала все удивились столь необычной
щедрости Мирзо-Хура, но когда Кендыри прожил у него и месяц и два и, наконец
остался совсем, ущельцы решили, что просто купцу нужен дешевый работник и
что, конечно, Мирзо-Хур не был бы настоящим купцом, если б не сумел сторицей
возместить произведенные на пришельца затраты!
Кендыри стал подстригать бороды и брить головы всем ущельцам, никогда
не назначая за свою работу никакой платы, довольствуясь тем, что ему давали,
будь то тюбетейка пшеницы или горсть сухих тутовых ягод. Никто в селении не
знал, откуда пришел Кендыри и среди какого народа родился: он был не похож
ни на яхбарца, ни на китайца, ни на иранца ни на монгола, может быть, он
принадлежал к какому-нибудь североиндийскому племени; но, возможно, пришел и
из более отдаленных краев... Так или иначе, ущельцы не нему привыкли, он в
дела ущельцев не вмешивался и только изредка заменял Мирзо-Хура в лавке,
особенно в тех случаях, когда купец уходил за товаром в Яхбар. Вероятно, за
хорошую работу купец подарил ему год назад ружье, хорошее ружье, привезенное
из Яхбара, и с тех пор Кендыри стал часто ходить на охоту в горы, пропадал в
горах по многу дней и всегда приносил убитого козла, несколько лисиц или
иную добычу. Все понимали, что и мясо и шкуры доставались купцу, и потому
ружье Кендыри рано или поздно тоже должно было вполне окупиться.
Разговаривая с ущельцами, Кендыри никогда ничего не сообщал о себе, но
охотно, с острыми шутками и неизменным цинизмом рассказывал только о своих
любовных приключениях в тех или иных местах горной Азии.
Сейчас, застыв на корточках, привалившись плечом к резной двери Кендыри
приготовился слушать. Купец прежде всего заговорил о караване, который
должен прийти в Сиатанг, но эта новость им обоим была известна уже давно.
Когда же купец заговорил о Ниссо, Кендыри перебил его:
- Э, Мирзо-Хур, какое нам дело до этой девчонки?
- Погоди, Кендыри, - возразил купец. - Это не просто девчонка. У меня
есть хорошая мысль, большой барыш может быть! - И приблизив свою бороду к
лицу Кендыри, отрывисто произнес: - Она в яхбарской одежде...
- Ну и пусть! - не понимая расчетов купца, отрезал кендыри. - Тебе что?
Или в жены взять ее хочешь? Красива, что ли, она? Ты мне лучше скажи, ты дал
чай старику?
Последние слова купец пропустил мимо ушей и быстро заговорил:
- Одежда, старик сказал, на ней богатая... Может быть, от путников
отбилась в горах? Только, думаю, некому по нашим горам ходить. Думаю, из
Яхбара убежала она от отца или мужа, значит, - ищут ее! Понимаешь, хорошие
деньги дадут за нее. Узнать, кто ищет, вернуть ему женщину!
- Глупости это, - с холодным раздражением произнес Кендыри. - Будто
других нет выгодных дел! Если б Бахтиор и Шо-Пир к себе не взяли ее, еще
можно бы... Большой скандал будет, эти деньги в горле у тебя станут.
Купец в раздумье опустил голову. Он и сам понимал, что увезти беглянку
обратно в Яхбар будет не просто и, может быть, Кендыри прав. Но все-таки.
Тот, в Яхбаре, поймет: больше хлопот - больше денег...
- Оставим это, - решительно оборвал размышления купца Кендыри. - Я
спросил тебя: ты дал ему чай?
Купец отвел глаза от прямого взгляда Кендыри и с плохо скрытым
смущением ответил:
- Я хотел дать...
- Дал или не дал, спрашиваю?
- Другое я ему предлагал.
- Что?
- Не взял он... Я не виноват, он не захотел взять... Опиум я ему
предлагал...
- Опять? Потому что не курит он?
Мирзо-Хур давно уже собирался высказать Кендыри все свои переживания,
вызванные непонятной обязанностью безвозмездно поставлять Бобо-Калону
продукты. Кендыри уже давно заставлял его делать это, но разве может купец
строить свои дела на зыбких и неверных расчетах? Конечно, у Кендыри хитрый
ум, Кендыри дал уже много хороших советов но вот этот совет, - будет от него
польза или нет, а пока...
- Не могу больше! - возмущенно воскликнул купец. - Не могу, Кендыри!
Что будет со мной?.. Все давай ему, все давай! Ты слушай, за одно лето
только: муки - меру одну, так? Муки - меру вторую, так? Чай давал раз, чай
давал два, чай давал три, еще соли давал, гороху семь тюбетеек... -
Мирзо-Хур потрясал руками. - Мясо, что ты приносил, тоже давал три раза, вот
еще мыла привозного давал два куска. Зачем ему мыло, песком мыться старик не
может? Не ханское время. Э! Все у меня записано, пожалуйста, я тебе покажу.
Купец было поднялся, чтобы взять в лавке записи, но Кендыри спокойно
задержал его движением руки, и купец, все больше волнуясь, продолжал:
- Хорошо, без записи ты все сам знаешь. Я даю, даю, даю, - конца этому
нет, старик все берет, как хан, не замечая меня. Презрение на его губах. Как
будто я не купец, а факир, п дать ему несу... Вот и ты на меня губы кривя,
глядишь, знаю твои мысли: я жаден, я скуп... А ведь я купец, где доход мой?
Кто мне будет платить?
- Скажи, Мирзо-Хур, - медленно и задумчиво произнес Кендыри, словно не
слышавший этих горячих слов. - Девчонка сегодня ночует у Бахтиора?
Мирзо-Хур сразу осекся, и мысли его повернулись в иную сторону.
- Девчонка?.. Ты, кажется, думаешь, что это дело все-таки может дать
мне барыш? У Бахтиора, у Бахтиора. Мой человек видел: Шо-Пир на руках понес
ее в дом.
- Может быть, ты и прав, Мирзо, - все в той же задумчивости промолвил
Кендыри. - Надо узнать, от кого убежала она.
- Ты, Кендыри, тоже думаешь так? - сразу зажигаясь, произнес купец. -
Ты хочешь сам что-нибудь сделать?
Кендыри холодным, коротким взглядом окинул лицо купца, внимательно
посмотрел на луну, словно измеряя время, оставшееся до рассвета, и, вставая,
решительно произнес:
- Иди спать! Дверь не запирай, я приду.
Прошел в темноту лавки и, выйдя на террасу уже в сером халате и
тюбетейке, не обращая внимания на купца, спрыгнул на землю. Легким шагом
удалился по тропе.
Купец тяжело вздохнул, вошел в лавку и притворил за собою створки
двери.
Огибая селение вдоль подножья осыпи, Кендыри ни разу не вышел на лунный
свет. Только взобравшись на осыпь, где не было уже ни крупных скал, ни
кустов, он, не таясь, пошел, поднимаясь все выше. Пересек осыпь и, увидев
блещущий ручей, вокруг которого большим темным пятном располагался сад
Бахтиора, направился прямиком к нему. Луна уже вплотную приблизилась к краю
ущелья, и Кендыри торопился. Неслышно ступая босыми ногами по сухим шершавым
камням, он приблизился к ограде, окружающей сад, остановился, прислушался,
присмотрелся, потом перелез через ограду и осторожно пробрался к дому.
Против террасы, в шалаше из ветвей, сооруженном на четырех высоких столбах,
спал Бахтиор; Шо-Пир лежал, завернувшись в суконное одеяло, на кошме,
разостланной под деревом. Кендыри обошел спящих сторонкой и подкрался к
самому дому. Луна освещала распахнутое настежь окно, в рамах которого не
было стекол. Вынырнув из тени деревьев, Кендыри с кошачьей ловкостью
прошмыгнул через светлую площадку и приник к окну.
В комнате залитой лунным светом, он увидел большую кровать. На кровати,
разметавшись, спала Ниссо. Правая рука спадала с кровати. Черные волосы
рассыпались на подушке, и белое. Очень спокойное лицо казалось выточенным из
мягкого камня.
Кендыри не ожидал увидеть ее такой. С усилием оторвав взгляд от спавшей
перед ним девушки, он внимательно осмотрел комнату. Но того, что искал он, в
комнате не было. Тогда он, крадучись, обошел дом. На пустой террасе, среди
прочего тряпья, висело выстиранное матерью Бахтиора изодранное платье Ниссо.
Кендыри осторожно снял платье с шерстяной веревки, мельком оглядел его и,
смяв в руках, сунул под халат. Соскочил в сад и, не оглядываясь, пошел прочь
от дома.
* Горная куропатка.
2
Тревог, печалей, страхов наважденье
Рассеялось, когда пришел ты к ним -
Трудолюбивым, смелым и простым, -
Чтоб с ними воздухом дышать одним,
Чтоб жить, как тот, чей свет неповторим.
...Так ты узнал день первый от рожденья!
Дважды рожденный
Ниссо лежит на мягком дне, и теплые волны качают ее. Воды, наверное
мало, потому что можно дышать. Солнце. Тепло. Было бы совсем хорошо, если бы
не шум. Но шум, большой шум, тяжелый шум, а кругом - черные, поблескивающие
камни. Это не камни шумят: они неподвижны. Это не ветер шумит: ветра нет.
Это, наверное. Ворочается с боку на бок Аштар-и-Калон, но где он? Почему
Ниссо не видит его? Шум... Шум... Ниссо озирается тревожно, торопливо.
Солнца теперь нет света нет. Но тепло. А шум продолжается... из-за камня
выходит большой человек. Он черный, он невероятно толст. Он страшный:
огромные дряблые уши свешиваются, закрывают отвислые синие щеки. Голова
безволосая, вся в буграх, в шишках. Вместо носа темный провал, подбородок
раздвоен, похож на копыто, а на шее растут в стороны жесткие волосы... И
все-таки Ниссо узнает его: это Азиз-хон. Он вперевалку приближается к ней, и
Ниссо очень страшно. Она хочет бежать, но вязкое дно не пускает ее. Азиз-хон
неуклонно приближается, Азиз-хон говорит, очень тихо говорит, но голос его
покрывает шум:
- Куда ты хочешь бежать? Ведь ты в животе Дракона!
Азиз-хон тянет к ней толстые синие руки. Но между его руками и Ниссо
вдруг вырастает добрая Голубые Рога. Она смотри на Ниссо голубыми глазами, -
вот странно, почему это глаза коровы сделались голубыми? Она поворачивается
к Азиз-хону, чтобы кинуться на него, и протяжно мычит...
- А-ио! - наконец удается крикнуть Ниссо, и она просыпается.
Просыпается вся в поту. Приподнявшись на локтях в мягкой постели,
тревожно озирается и не может понять: где она?
Но вокруг ничего страшного нет. И все-таки Ниссо кажется, что она не
проснулась, - только переменился сон. Вокруг белые стены. Ниссо никогда не
видела белых стен. Вокруг гладкая земля, какой она тоже не видела никогда:
из дерева, и такая чистая, как пиала, которую мыли в горячей воде. В стене
квадратная дырка, в нее бьет солнечный свет, виден кусок голубого неба,
пересеченный качающимися листьями тутовника...
Нет, это не сон, и ничего страшного нет.
Только шум, шум, шум, - он продолжается, но он не тяжелый, он очень
легкий, - это шумит вода, совсем рядом.
Ниссо заглядывает под кровать, ищет воду. Но воды нет, - только
деревянная земля... Где это видано, чтоб земля была деревянной? Ниссо
разглядывает кровать, на которой лежит, - как мягко, как хорошо! Одеяло
сброшено на пол. Ниссо поднимает его, щупает рукой: какое чистое ватное
одеяло!
Нет, наверное, ничего не случилось плохого, иначе не было бы так чисто,
так хорошо.
Ниссо опускает голову на подушку и видит над собой потолок, - не
черный, каменный, задымленный потолок, а светлый, такой же чистый, как пол.
Дыры для дыма в нем нет.
Все непонятно, но на душе Ниссо почему-то спокойно. Она закрывает
глаза. Она хочет вспомнить все. Она долго думает... Вот она ест сыр,
окруженная толпой людей... И последнее, что ей удается вспомнить, - сильного
человека, не похожего на других, который сначала крепко держал ее, а потом
смотрел на нее смеющимися глазами. Какие светлые были у него глаза, совсем
голубые глаза... Разве бывают глаза голубыми?
Шум... Плещущий, ласковый... Где же это бежит вода?
Ниссо прислушивается: кажется людей вокруг нет. Ниссо осторожно встает,
мышцы еще болят, но она чувствует себя бодрой. "Наверное, я очень долго
спала!" Встает босиком, на цыпочках подходит к дыре в стене, осторожно
выглядывает наружу; перед ней сад, стройный сад, с зеленой травой; тутовые
деревья, за ними большая скала, за скалой склон горы - серый, каменистый -
до самого неба. Небо чистое, голубое... Под одним из деревьев, невдалеке от
Ниссо, на траве - кошма. Кто-то спит на ней, завернувшись в суконное одеяло.
Под головой у спящего зеленый мешок с красными рыжими ремешками. Спит...
Это, наверное, тот большой человек.
Любопытство разбирает Ниссо; она осматривает комнату.
Над кроватью ружье - совсем не такое, как у охотника Палавон-Назара:
без ножек, главное, тонкое, с двумя стволами, очень красивое; под ружьем -
сумка из коричневой кожи и какие-то блестящие палочки. У стены - стол,
деревянный некрашеный стол, - Ниссо никогда не видела столов. На нем
глиняные чашки, жестяной чайник, деревянная коробочка с табаком, деревянное
блюдо с яблоками, какие-то мелкие, не известные Ниссо вещи. У другой стены -
полки с дверцами, тоже маленький дом, для вещей. Ниссо трогает дверцу шкафа,
но дверца скрипит, и Ниссо отдергивает руку. В стену вбиты гвозди - не
деревянные, не каменные гвозди, а очень тоненькие, железные, и на них висят
две длинные белые тряпки. Они у самой двери, только теперь Ниссо заметила
дверь...
Ниссо отступает от окна, размышляет. Как это так случилось, что она
опять попала к людям? Пряталась, блуждала, боялась, а теперь что? Вот взяли
ее, привели, теперь будут расспрашивать, заставят работать, наверное, опять
будут делать ей зло... Вот, может быть, этот спящий мужчина захочет взять ее
в жены, - зачем бы иначе привел он ее к себе в дом? И как это получилось
вчера? Ведь она долго смотрела на людей из-за башни и не хотела им
показаться. Почему же все-таки не убежала тогда? Да, вспомнила: ей очень
хотелось есть, и она так устала, - сама не понимала, что делала... А
потом... Вот этот, спящий, смеялся над ней, но все-таки накормил ее,
разговаривал с ней тихо. Почему он ее накормил? А потом привел в сад. Мазал
ноги и руки бараньим салом. Какой у него был расчет? Конечно, он хочет взять
ее в жены. Или, просто, все они знают Азиз-хона и боятся его? Старик придет
сюда, и они отдадут ее!
Ниссо замерла от страха, мысли ее смешались, всем существом она поняла
одно: бежать, как можно скорее, - пока этот спящий не проснулся - бежать!
Ниссо кинулась к двери, но вдруг заметила, что ведь она совсем голая,
как же ей бежать голой? И потом ведь сейчас день, разве убежишь днем?
Ниссо остановилась, прислушалась: есть ли там люди за дверью? Ни один
звук не выдавал присутствия человека в доме. Ниссо чуть-чуть успокоилась,
решила подумать еще: нельзя просто так броситься и бежать, надо быть хитрой.
Иначе поймают, и опять, как вчера, соберутся все, будут смотреть на нее...
За дверью послышался женский голос:
- Э! Проснулась?
Ниссо опрометью кинулась обратно в постель, забилась под одеяло,
притаилась.
Дверь открылась, в комнату вошла старая женщина, прямая еще, но седая,
с горбоносым, в глубоких морщинах лицом.
- Э, черноволосая, какие видела сны?
Отвечать или не отвечать? Теперь ясно: никуда уже не убежишь! Но голос
совсем не сердитый, добрый.
Ниссо взглянула на старуху самым уголком глаза, так, чтоб самой видеть,
а та ничего не заметила бы. Старуха - в длинной белой рубахе, как у всех
женщин, только рубаха не рваная, чистая и застегнутая у ворота.
- Ай-ио!.. Притворяешься! Вижу, не спишь! Хороший видела сон?
- Страшный, - решилась тихонько ответить Ниссо.
- Проснулась, теперь не страшно?
Ниссо решила молчать, - и сейчас молчать, и потом. Все время молчать,
как молчала вчера.
- Меня боишься - не отвечаешь? - спокойно спросила Гюльриз, и Ниссо
увидела ее лучистые смеющиеся глаза.
- Не знаю, какая ты, - чуть слышно прошептала Ниссо вопреки своему
решению.
- Ио! - засмеялась старуха чистым, свежим, хотя и обведенным морщинами
ртом, в котором зубы были белыми, как у молодой. - Я очень страшная, - две
руки, голова одна, тебя покормить хочу, наверное, голодная очень...
- А ты кто? - Ниссо сдвинула одеяло с лица.
- Я? - старуха, шутя, толчком пальца в подбородок вскинула голову. -
Гордая я! Советской власти мать я! - и погрозила пальцем: - Со мной
разговаривать знай как!
- Ты власть? - не поняла Ниссо.
- Я не власть... Мой сын Бахтиор - советская власть. Мой сын Бахтиор, у
которого ты в доме сейчас. Плохого тебе он не хочет... Вставай, валялась
много... Зови меня нан . Есть мать у тебя или нет? Молчишь? Ио! Вставай.
Наверное, дэв унес твое платье, напрасно я стирала его: на веревку повесила,
утром - смотрю, нет его, ничего не понимаю, только думаю: не стоит рвань
такую жалеть. Вставай, мою рубашку наденешь!
Ниссо послушно откинула одеяло, спустила ноги с кровати. Старуха,
кажется, очень добрая.
- Болят? - участливо спросила Гюльриз, глянув на вздутые длинные
ссадины. - Ходить можешь?
- Немножко болят, теперь ничего! - стыдясь своей наготы, Ниссо встала.
- Скажи, нана, откуда шум? Река где?
- Большая река - внизу. Маленькая - под стеной бежит. Такой дом у нас,
спасибо Шо-Пиру, - придумал, чтоб летом не жарко было.
- Шо-Пир - кто?
- Вон спит! - указала Гюльриз на окно. - Тебя вчера принес.
- Твой сын он?
- Мой сын - Бахтиор, тоже спит, вон в шалаше. Шо-Пир русский, хотела бы
я такого сына родить!
Гюльриз на минуту вышла за дверь, вернулась.
- Н рубаху, бери! - и бросила на кровать длинную холщовую рубаху. -
Одевайся, мыться идем, пока не проснулись они!
Успокоенная Ниссо покорно последовала за ней. Старуха провела ее через
террасу, захватила кувшин с горячей водой, сошла к ручью, над которым висел
на крепких тополевых бревнах угол террасы.
Скинув длинную, путавшуюся под ногами рубашку, Ниссо приготовилась
мыться в ручье. Но старуха велела ей сидеть неподвижно, сама стала мыть ее
горячей водой. Ниссо, покорившись, подставляла старухе и спину, и руки, и
ноги. "Где это видано, - думала она, - чтоб горячую воду попусту лили?
Азиз-хон был богатым, а никогда не тратил дрова, чтоб мыться горячей
водой... Но это, правда, очень приятно".
Гюльриз ни о чем не спрашивала. Ниссо про себя рассуждала, что ничего,
конечно, и не ответила бы старухе, но странно все-таки: почему она не
пристает с вопросами?
Вымыв девушку, Гюльриз велела ей одеться.
- И теперь сама каждый день будешь мыться так. Будешь?
- Буду, нана, - тихо, даже улыбнувшись, произнесла Ниссо.
Гюльриз, подтянув на Ниссо спадавшую до земли рубаху, собрала ее в
складки и обвязала вокруг талии шерстяным пояском.
- Потом подошью тебе подол, будет время. Пока так ходи... Идем со мной
в дом, там сиди, никуда не беги. А я разбужу Шо-Пира, велел он разбудить,
когда ты проснешься.
Ниссо поднялась на террасу, присела на ступеньке, стала заплетать
мокрые волосы, - не в мелкие косички, как приказывал ей Азиз-хон, а в две
большие косы, как привыкла с детства в родном Дуобе и как заплетены были
волосы у старой Гюльриз.
"Русский! - думала Ниссо. - Никогда прежде я не видала русских.
Богатый, наверно, такой дом у него - чистый, большой, дерева много: земля, и
та из дерева... Русский!.. Вот почему он такой большой, и, значит, у русских
глаза голубые!.. Сильный он... Что будет он делать со мной?"
И сразу насупилась, - беспокойство, враждебность вновь овладели ею.
Решительно вскинула голову и взглянула в сад, откуда должен был показаться
Шо-Пир: нет, никакими сладкими словами он не подкупит ее, она будет молчать,
и пусть ей нельзя убежать сейчас - она убежит, все равно убежит потом...
И, приготовившись к борьбе, ожесточившись, Ниссо стала напряженно ждать
появления "повелителя пиров". Само имя этого человека говорило ей, что он
привык проявлять власть и могущество, что он станет приказывать ей,
требовать покорности... Сколько было вчера около той башни людей - он всеми
распоряжался... Но ничего, ничего, она станет колючей, как еж.
Он подошел к ней сбоку, большой и веселый, так неожиданно, что Ниссо
вздрогнула и опустила глаза. В высоких сапогах, в туго затянутых ремнем
галифе, в белой рубашке с раскрытым воротом, с мылом в руке и полотенцем
через плечо, Шо-Пир появился из-за угла дома, - совсем не оттуда, куда
смотрела Ниссо. Остановился перед смущенною девушкой, положил мыло и
полотенце на перила террасы и с улыбкой сказал:
- Ну, здравствуй, красавица! Что же, ты и смотреть не хочешь? Чего
стыдишься? Помылась, вижу, - на человека похожа стала. - И просто, протянув
ей свою крупную руку, повторил: - Здравствуй! Зовут тебя как?
Голос Шо-Пира мягок, тон дружествен. Ниссо, чувствуя, что озлобленность
ее улетучивается, но все еще упорствуя, сжала пальцы на коленях и еще ниже
опустила голову, чтобы Шо-Пир не видел ее лица.
- Эх ты, дикарка! - усмехнулся Шо-Пир. - Ну, давай руку, в самом деле.
У нас, русских, вот так здороваются, - и, сняв с колен руку Ниссо, вложил ее
в свою большую ладонь.
Пальцы Ниссо оставались вялыми, и Шо-Пир со смехом добавил:
- Жми! Ну, жми сильней. Вот так здороваться надо. Ты же сильная
девушка. По горам шла одна - смелой была, а меня боишься? Смотри на меня!
И, ласково положив ладонь на мокрые волосы девушки, Шо-Пир повернул к
себе ее взволнованное лицо. Встретившись с его смешливым взглядом, Ниссо
невольно, сама того не желая, улыбнулась.
- Вот так! Давно бы! Смотри, Бахтиор, говорил я тебе? Вот уже
улыбается.
Ниссо обернулась. Бахтиор стоял на террасе. Он был без халата, в
яхбарской жилетке, надетой прямо на загорелое, худощавое, но хорошо развитое
тело. Его широченные мешковатые штаны из домотканого сукна были стянуты под
жилеткой шерстяной веревкой, концы которой, распущенные в кисточки были
красного цвета. Низкорослый и коренастый, он казался бы очень мужественным,
если б в его быстрых черных глазах не сохранилось выражение пытливой
наивности. Он смотрел на Ниссо так, будто впервые увидел ее, и, когда она
обернулась к нему, сам первый смущенно потупил взгляд. Но тотчас простодушно
сказал:
- Она думает, наверно, язык ее - ложка, не пролить бы ни капли!
- Ничего она не думает, - усмехнулся Шо-Пир. Просто не знает еще, что
мы за люди такие. Пустяки! Скоро она перестанет бояться. Ну, коза, имя у
тебя есть?
- Есть, - осмелев, ответила Ниссо.
- Какое же?
Ниссо сказала с вызовом:
- Имя тебе мое, да?.. Имя скажу: Ниссо. Тебя спрошу: зачем привел меня
в этот дом? Тебя не боюсь, все равно убегу!
- Так вот и убежишь?
Ниссо опять насупилась.
- Беги, если захочется, - стараясь набраться серьезности. Продолжал
Шо-Пир. - Худого мало, наверно, видела? Ты думаешь, мы тебя держать будем?
Беги!
Решительно ничего страшного в этом Шо-Пире нет! И совсем он не важный и
на повелителя не похож... И как-то легко на душе, хоть и обидно, что он
смеется над ней...
- Вставай лучше, да пойдем вон туда к столу, а то старуха рассердится,
есть нам пора, - промолвил Шо-Пир и как ни в чем не бывало схватил Ниссо и,
перекинув через перила, повел ее к большому платану, под которым хлопотала
Гюльриз.
Голова Ниссо пришлась Шо-Пиру по грудь, в силе его руки не было ни
грубости, ни назойливости, и Ниссо уже не противилась никогда прежде не
испытанному чувству доверчивой покорности.
В узкогорлом кувшине было молоко, на деревянной тарелке - кусок свежей
брынзы, на другой - горка сушеных абрикосов и тутовых ягод. Гюльриз
перетерла тряпочкой глиняные пиалы.
- Смотрю я, Шо-Пир, на тебя, ведешь ты ее, думаю: дома не было, сада не
было, теперь дом есть, сад есть, корова есть, теперь дочка у меня есть. Все
есть!
- Ну не все еще! - остановился перед столом Шо-Пир. - Хлеба вот нет
еще. Ты на свою богару когда, Бахтиор, пойдешь?
- Теперь скоро пойду, канал кончим - пойду. Последний год на проклятую
эту богару ходить!
- Да уж... В таком месте твоя богара, что удивляюсь я, как шею ты до
сих пор не сломал. Не горюй, Бахтиор, - теперь пустырь оросим, землю
получишь. А насчет дочки, Гюльриз, это ты ее спроси, захочет ли еще она
твоей дочкой быть! Убежать грозится! Верно, Ниссо?
Ниссо жадно глядела на еду и, казалось, не слышала разговора.
- Вот, Ниссо, - легонько подтолкнул ее Шо-Пир, усаживаясь за стол, -
это называется "скамья", русское слово, на вашем языке нет такого. Довольно
ты на своих пятках сидела, теперь будешь, как я, за столом сидеть. Выбирай
себе место.
Шо-Пир подтолкнул Ниссо к скамье. Ниссо робко уселась на краешек, но
тотчас подобрала под себя ноги. Гюльриз рассмеялась:
- Не умеет еще! Первый раз, когда Шо-Пир мне велел, я тоже так села. Он
смеялся, а я сердилась. Спусти, совсем спусти ноги на землю!
Стесняясь своих движений, Ниссо послушалась старухи. Шо-Пир сам налил
из кувшина молока в чашку Ниссо, и она совсем смутилась: разве достойно
мужчины услуживать ей? И где это вообще видано, чтоб мужчины ели вместе с
женщинами? И какая же эта мужчины власть, если они ведут себя так? И зачем
он сказал это слово о дочке? Значит, они не собираются отдать ее Азиз-хону?
Но ведь они же и не знают, откуда прибежала она, не проговориться бы. Надо
молчать...
А вместе с тем все вокруг возбуждало ее любопытство. Ей хотелось
спрашивать, говорить... Но прежде пусть они ее спросят, и она им не ответит,
и тогда... Она и сама не знала, что будет тогда... Поборов смущение, Ниссо
взялась за еду, сначала робко, затем, подстрекаемая голодом и жадностью, все
смелее. Они заговорили о каких-то своих делах и, казалось, совсем забыли о
ней. Уловив косым взглядом, что никто на нее не смотрит, Ниссо украдкой
опустила кусок сыра под стол, зажала его между коленями: неизвестно еще, что
впереди, может быть, придется бежать, голодать, - надо запасти как можно
больше еды! Но, раскрасневшись, она потупилась, когда Шо-Пир протянул руку
и, взяв утаенный кусок сыра, положил его на стол.
- Ниссо, разве колени твои голоднее твоего рта?
Все рассмеялись, Ниссо рванулась в сторону, но Шо-Пир погладил ее по
голове.
- Ешь, Ниссо, сколько влезет! У нас для тебя еды всегда хватит...
Захочешь есть - только Гюльриз скажи!
И, отвернувшись от Ниссо, снова заговорил с Бахтиором о канале, о
какой-то земле, которую надо распределить, перечислял имена людей, и Ниссо
почувствовала признательность к нему за то, что он не смотрит на ее пылающее
лицо. И, сразу укротив свою жадность, стала следить, как едят другие, чтобы
есть, как они, и не больше их.
Гюльриз сходила в дом за чашкой гороховой похлебки, и все взялись за
деревянные ложки. Бахтиор заговорил о голоде, который грозит селению, и
Ниссо подумала: какой же голод, когда вот на столе так много еды... Правда,
у Азиз-хона еды всегда было больше, но, во-первых, там никто никогда о
голоде и не говорил, а во-вторых, Азиз-хон все съедал сам, и если ел мясо,
то женщинам оставлял только обглоданные кости, а если не жалел лепешек, то
ведь Ниссо знала: все селение приносит ему от своих урожаев зерно.
Черные глаза Ниссо перебегали с предмета на предмет. Она следила за
каждым движением Шо-Пира, почти не обращая внимания ни на Бахтиора, ни на
Гюльриз. Каждую ложку гороховой похлебки, которую он подносил ко рту, она
провожала взглядом.
Шо-Пир долго расспрашивал Бахтиора о предполагаемом урожае тута, потом,
будто невзначай, обратился к Ниссо:
- А там, где ты жила прежде, урожай будет в этом году хороший?
- Плохой, наверно, - просто ответила Ниссо. - Не знаю. Ветры в селении
том.
- А называется как?
- Дуоб, - не успев понять истинного значения вопроса, быстро произнесла
Ниссо.
- Так ты из Дуоба? Это же в третьем ущелье отсюда... Четыре дня пути.
Знаю я это селение, хоть и не был там никогда. Совсем дикое место. Отчего ж
ты ушла оттуда?
- Так, ушла, - опустила глаза Ниссо.
- Отец, мать у тебя там есть?
- Нет.
- И ты прямо из Дуоба сейчас?
- Нет, - помедлив, чуть слышно уронила Ниссо.
Шо-Пир многозначительно взглянул на Бахтиора, тот понимающе кивнул
головой.
- А вернуться хочешь в Дуоб?
- Нет! - Ниссо упорно разглядывала горошину, которую вертела дрожащими
пальцами.
- А туда, откуда сейчас прибежала?
- Нет! Нет!
- Плохое это место?
- Очень плохое, - прошептала Ниссо.
- А что, Бахтиор, - резко отвернулся Шо-Пир от Ниссо, - клевер, который
вдоль канала растет, никто не собирается жать?
Бахтиор что-то ответил, - Ниссо вовсе его не слушала. Она снова
почувствовала признательность к Шо-Пиру, который больше ни о чем ее не
спросил. Быстро доев похлебку, Шо-Пир положил ложку на стол и, вставая,
сказал Бахтиору:
- А теперь идем на канал. Кончать надо работу... А ты, Ниссо, будь
дома, никуда не уходи, так для тебя будет лучше. Хочешь - спи, хочешь - в
саду будь... Гюльриз, ты накорми ее днем получше... Пойдем, Бахтиор!
А когда Ниссо очнулась от своего бездумья, то удивилась, что никого
поблизости нет и никто за нею не наблюдает. Встала, прошлась по саду.
Старуха, занятая хозяйством, по-видимому, не обращала на нее ни малейшего
внимания. Ниссо обогнула сад, подошла с другой его стороны к ограде. Нет,
старуха ее не зовет, не идет за ней. Поняла, что, если ей вздумается
убежать, никто не станет ее задерживать: вон склон горы, осыпь, - безлюдно,
тихо, - иди куда хочешь! Постояла перед оградой, старясь размыслить: как
воспользоваться предоставленной ей свободой? И неожиданно поняла: ей никуда
не хочется убегать.
Медленным шагом обошла ограду и, обогнув весь сад, снова увидела дом.
Взобралась на большой, высящийся над ручьем камень... Ветви тутовника,
склоненные над ним, охватили Ниссо. Она легла на нагретую солнцем
поверхность камня и, раздвинув ветви, стала рассматривать дом.
Странный дом: белый, с выдвинутой над ручьем террасой. Частокол тонких
бревен упирается в воду. Что делается на террасе, отсюда не видно: она
обращена к селению, а селение за домом, далеко внизу, по всему полукружью
узкой долины. Справа и слева долина замкнута скалистыми массивами,
выгибающими широкую реку.
А селение - домов пятьдесят, наверное. Домов сто, наверное! Ниссо не
умеет считать до ста и до пятидесяти, пожалуй, не умеет... Она разглядывает
незнакомое селение. Дома такие же, как там, где Ниссо родилась, в Дуобе,
люди такие же - в сыромятной обуви, в суконных халатах. Во дворах - козы,
куры, овцы, ослы. Ограды каменные, на плоских крышах сушатся абрикосы.
Совсем как в Дуобе... Только больше здесь всего, только красивее здесь все,
долина просторней, река полноводней, сады зеленее и гуще, людей, домов и
животных много... Направо, над самой рекой, у мыса, словно толстый черный
палец, торчит башня крепости, - как страшно было вчера, когда с огнем, дымом
и грохотом рухнула другая башня! Ниссо опять подумала, что там распоряжался
Шо-Пир. Сильный он человек, слушаются его! Но только не страшный, совсем не
страшный... Говорит на языке Ниссо, как и все здесь, а слова произносит не
так, будто чужой... Ну да, конечно, чужой он - русский! Одет, - разве так
одеваются люди! - обувь его, штаны, рубашка не такие, как у людей. Ниссо
хотелось потрогать его одежду, когда утром он разговаривал с ней. Потрогала
бы, если бы не боялась его... "Боишься меня?" - спросил, а сам смеется,
никакой в нем важности нет. Азиз-хон никогда не смеялся, никто в доме
Азиз-хона не смеялся. А если и смеялся, то вот так, как Зогар. Это был
нехороший смех, только злил Ниссо. А Шо-Пир смеется весело, будто ничего
страшного в мире не знает. И Гюльриз смеется, и Бахтиор смеется. Глупые они
все какие-то, смеются, сами не понимают чему. Особенно Шо-Пир: смотрит на
нее и глупости говорит... И это очень обидно, - ну как смотреть такому в
глаза? Никогда не видела Ниссо подобных людей!
Может быть, все-таки убежать? Бежать вовсе не хочется: впервые в жизни
люди так обласкали ее и не требуют от нее ничего. Но это, наверное, обман, и
лучше не верить, лучше все-таки убежать... Ниссо раздумывает - куда. Просто
слушает голос страха, который нет-нет и закричит в ней, так закричит, что
под коленками вдруг заноет. А ведь если бы побежала, старуха, наверное,
погналась бы за ней: вот она ходит по двору, изредка поглядывает сюда. Но
что старуха? Разве угнаться ей? Вот сейчас, пока нет Шо-Пира и Бахтиора,
побежать, прямо вдоль ручья, на ту голую гору. Пусть закричит Гюльриз, Ниссо
побежит быстрее ее старушечьего крика...
Ниссо сидит на камне, поджав ноги, думает о бегстве. Но не бежит: тепло
ей, ветерок ленив, хорошо ей, спокойно. И работы с нее Гюльриз никакой не
требует, - где это видано, чтобы старуха работала, а молодая, поджав ноги.
Без дела на камне сидела? Вот Гюльриз ломает сухую колючку, несет ее в дом.
Вот выходит из дома, режет яблоки, взобралась по приставной лесенке на
крышу, положила яблоки на солнцепеке. Сама спустилась, вошла в каменную
кладовку, вынесла маслобойку и два кувшина, наверное с молоком. Начинает
новую работу... Ниссо немножко стыдно: сидит без дела. Но очень уж ей хорошо
на камне. Тепло. Клонит ко сну. Ниссо не борется с ленью. Протягивается на
камне ничком. Солнце греет заживающие ссадины. Ниссо опускает голову на
руки. Говорит себе, что ей надо убежать, но закрывает глаза, подставив левую
щеку горячему солнцу. Не спит, дремлет, но дремота властительней сна. Может
быть, Ниссо спит, но ей все слышится тонкий и веселый шум ручья, бегущего
между камнями. Ветер легкими порывами проходит по щеке Ниссо. Легко и
приятно шелестит листва, чуть-чуть ее задевая. Где-то в безмерных
пространствах сладкой дремоты тают далекие голоса людей, перекликающихся
внизу; стучит маслобойка Гюльриз... И все это - шум, шум баюкающий, сладкий,
спокойный, - лежать бы так и лежать всю жизнь!..
Никогда прежде не ощущала Ниссо такого спокойствия.
В тот утренний час, когда Гюльриз вошла в комнату к проснувшейся Ниссо,
Кендыри сидел на ковре в запертой лавке, перед зевающим купцом. Между ними
лежали мокрые лохмотья одежды Ниссо, и Кендыри рассказывал о ночном
посещении дома Шо-Пира.
Лучи пробивались в щели между створками резных дверей и освещали
загромоздившие лавку товары. Здесь было все, что только могло понадобиться
жителю гор: расписные ленчики седел и чугунные котлы; анилиновые краски в
банках с красивыми яркими этикетками; румяна и розовая каменная соль; чалмы
и иголки; кривые ножи и круглые зеркальца; сухой горох в джутовых мешках и
таинственные тибетские снадобья от всех болезней; зеленый подъязычный табак
и разноцветная пряжа; медные браслеты и глиняная посуда; узкогорлые кувшины,
душистые мази, бобы и просо - все, что можно привезти на ослах с базаров и
из колониальных магазинов любого захолустья Востока. Все эти товары,
покрытые пылью, лежалые и, видимо, слишком дорогие для жителей Сиатанга, не
обновлялись годами. И всякий раз, глядя на них, купец думал о наступающей
бедности и предавался воспоминаниям об ушедших годах доходной торговли с
мирами и сеидами. Жители Сиатанга изредка обращались к купцу только за
съестными продуктами да за опиумом, распространяемым Мирзо-Хуром и
составляющим главный источник его доходов. Торговля его обычно была меновой,
и только осенью задняя половина лавки наполнялась зерном и мукой, которыми
он сразу после сбора урожая взимал с ущельцев накопленные за год долги.
Поздней осенью он отвозил часть муки и зерна в Яхбар и, хорошо нажившись,
привозил в лавку новый запас опиума и все то, без чего не могли обойтись
ущельцы. Другую часть зерна он хранил в своей лавке до самой весны, чтобы
под огромные проценты ссужать его ущельцам при наступлении поры посевов.
Зимою, когда в селении, отрезанном снегами от всего мира, наступало худое
время, ущельцы приходили к купцу за чашкой пшеницы, за мерой гороху, за
несколькими пиалами сухих тутовых ягод. Прежде Мирзо-Хур никому ни в чем не
отказывал, зная, что только смерть может скрыть от него должника. Но теперь
настало иное время. Мало ли что может случиться! И все чаще приветливые
разговоры Мирзо-Хура кончались для смиренных и почтительных ущельцев ничем:
у них не было ни серебряных денег, ни хорошей одежды, ни крепкой посуды,
какую они могли бы оставить в залог. А урожай, неизменно обещаемый ими, уже
не был надежной меновой ценностью с тех пор, как в селении появился Шо-Пир.
Слушая Кендыри, Мирзо-Хур пощипывал жесткую бороду и, хмуря
угольно-черные брови, глядел на него исподлобья.
- Лучше нее, - говорил Кендыри, - я видел только девчонку в Хорасане, -
это было другое полукружие моей жизни. Я тогда был одет, как ференги, и ехал
верхом в Нишапур к брату местного халифа. Хорошее путешествие было! На ночь
остановился в каком-то саду. Выходит женщина, выносит мне вареные яйца,
кислое молоко, а я посмотрел на нее, - знаешь, в гареме Властительного
Повелителя нет таких женщин! Она думает: я - ференги, а я ей говорю: "Поедем
со мной, женой моей будешь, в Мешхеде у меня дом..." Она ехать не хочет.
Ночью я схватил ее, связал, положил на лошадь, три камня отъехал...
Кендыри долго рассказывал историю одного из своих похождений,
похвалялся красотой хорасанки.
- Но и эта неплоха тоже. Как первая луна, самый расцвет!
- Почему же ты в дом не вошел?
Кендыри оскалил зубы в сдержанной, холодной улыбке.
- Дело, Мирзо, прежде всего! И разве хороший охотник стреляет издалека?
Ничего, время придет, купец. Открой дверь немножко, платье ее посмотрим.
Мирзо-Хур толчком руки приоткрыл створку двери. Яркий луч упал на
платье Ниссо. Разложив мокрые лохмотья на коленях, купец вглядывался в узор
ткани.
- Это не Яхбар. Это Гармит, - сказал он. - Ты помнишь купца Мухибулло?
Кендыри прищурил глаза.
- За четвертым перевалом живет? У озера?
- Так... Еще, может быть, у Самандар-бека куплено. Но этот узор -
гармитский. Его делают только в трех селениях: в Дильшурча, в Наубадане, в
Джуме. Там есть старухи, знают его. В других селениях забыли. Видишь:
красная нитка с желтой, знаешь этот цветок? Хаспрох это, вырос из пота
Аллаха. Зеленый этот - поперек ему - что? Э, Кендыри, скажи - что? Все-таки
ты меньше моего знаешь. Никто не знает теперь, я знаю. "Об-и-себзи" -
называется этот цветок. Когда зеленое знамя ислама вступило в Лиловые Горы,
шел кровавый дождь. Это воины доблестных войск Властительного Повелителя
истребляли неверных огнепоклонников. Слава Аллаху, всех истребили, и там,
где прошло зеленое знамя ислама, вырос зеленый цветок, - старые люди так
говорят. Этот цветок здесь и вышит. Надо узнать, кто из Яхбара в эти три
селения ходил. А вот это, смотри...
Тяжелый и неповоротливый Мирзо-Хур, сидя на ковре, толстыми, мясистыми
пальцами, украшенными перстнями, перебирал одежду Ниссо. Увлекшись, он
разобрал значение всего узора, обрамлявшего ворот рубахи. Потом небрежно
швырнул ее на колени Кендыри.
- Пойдешь?
- Пойду, - сухо ответил Кендыри.
- К риссалядару сначала зайди и к Арбоб-Касиму... К Азиз-хону еще
зайди, у них уши острые, может быть, раньше узнаешь, у кого пропала жена или
дочь... А если не узнаешь, благословен путь твой да будет, иди в Гармит...
Если найдешь хозяина, скажи: дорогое дело, но можно вернуть...
- Ты объяснишь тут: я за товарами ушел, - думая о чем-то своем,
небрежно произнес Кендыри и, свернув платье Ниссо, вышел через заднюю дверь
во двор.
Мирзо-Хур, отвалив большой камень, распахнул настежь двери лавки. На
траве под тутовым деревом сидел оборванный Карашир. И хотя это только
Карашир, не имеющий даже халата, самый бедный, самый захудалый факир, на
котором едва держатся лохмотья грязной овчины, Мирзо-Хур с удовлетворением
щурит глаза. Ведь Карашир - один из тех, кто работает у Шо-Пира, кто признал
новую власть, повинуется каждому слову Бахтиора, нарушает Установленное,
открыто смеется над ним... И если Карашир сидит здесь, покорный и
терпеливый, значит, он, вероятно, долго боролся с собой и сюда его привела
та слабость, о которой хорошо знает Мирзо-Хур... Конечно, он пришел просить
опиума, и надо ему опиум дать, но сначала поговорить с ним...
Мирзо-Хур располагается посередине ковра. Карашир молчит. Может быть,
он стесняется заговорить первым? А вдруг так и не заговорит, встанет, уйдет?
- Наверно, ко мне пришел, сел под моим деревом? - не вытерпев, с
нарочитой грубостью говорит Мирзо-Хур.
- К тебе. Говорить пришел! - не вставая и не кланяясь, отвечает
Карашир, сидя в той же позе, что и купец.
- Значит, благодарение покровителю, хочешь сказать: привет?
- Пожалуй, скажу: привет! - отвечает Карашир. - У тебя мука есть?
"Ах, вот как, мука! - с неудовольствием думает купец. - Это дело
другое: значит, от советской власти муки не дождался. Но от меня тоже ее не
получит!"
Опыт, однако, приучил Мирзо-Хура никогда не отвечать на вопрос сразу.
И, испытующе взглянув на насупленного Карашира, он медленно произносит:
- Зачем через траву кричать будем? Иди, Карашир, сюда. Есть ковер для
хорошего разговора.
Карашир неохотно проходит в лавку, - присаживается на ковер, глядит на
купца надменно и важно, будто проситель не он, а купец. Молчит.
- Та-ак! - произносит купец. - Теперь разговор пойдет. Скажи, Карашир,
зачем тебе мука?
- Урожай еще не собрал. Детей много. Полмешка муки дашь, соберу урожай,
целый мешок отдам.
- Мешок мало. Три мешка дашь! - грубо заявляет купец и насмешливо
глядит Караширу в глаза.
Карашир, уязвленный этим взглядом, отвечает резко:
- Большую пользу себе делаешь? Корыстно нажиться хочешь?
- Всякий человек делает себе пользу.
- Не всякий бесчестно.
- Честность - для маленьких. Для больших - нет честности, иначе не было
бы больших людей.
- Есть и большие люди четные! - Карашир вызывающе глядит на Мирзо-Хура.
- Кто же? - купец язвителен, потому что уже знает ответ. - может быть,
ты хочешь сказать - твой Шо-Пир?
- Что можешь плохого сказать о нем?
- Ха! Чужую женщину взял!
- Не знаю я этого... - Карашир небрежно почесывает голое колено.
Самоуверенность Карашира раздражает купца. Не такого он ждал разговора.
- Ты не знаешь - все знают. Тебя заставляет работать, обещает блага в
этом мире... Когда ты есть захотел, ко мне посылает: "Бери у купца"!
Честность!
- Неправда, - горячо возражает Карашир. - Он не посылал меня.
- Ха! Сам пришел! Против воли его?
- Против воли, вот, да! Против него я пошел! Мой стыд, а не его стыд.
Жуликом он называет тебя, не велит ходить к жулику. Жулик ты и есть. Дурак
я, пошел к тебе. Не надо от тебя ничего. Дела с тобой не имею.
Карашир порывисто встает, запахивает полы овчины, обдав купца ее кислым
запахом.
Мирзо-Хур сразу соображает, что даже с таким должником расставаться в
ссоре не следует, быстро протягивает руку к полке, загроможденной мелочными
товарами, выхватывает маленький мешочек, молча сует его Караширу. В лице
Карашира растерянность и борьба.
- Нет! Не возьму, не надо, - сдавленным голосом произносит он,
соскакивает с порога и торопливо идет от дома.
- Погоди, Карашир! - кричит ему вслед купец. - Сегодня голодной будет
душа, курить захочешь, ко мне придешь - не дам. Сейчас бери... На!
И брошенный купцом мешочек падает у ног Карашира. Карашир хочет гордо
переступить его, но останавливается. Медлит раздумывая, быстро наклоняется,
сует опиум за пазуху, прижимает его к груди и, виновато ссутулившись,
уходит, не смея обернуться к победившему его и на этот раз Мирзо-Хуру. А
купец с торжествующей насмешливостью глядит ему вслед, стараясь унять только
теперь закипающий гнев...
За большими камнями, там, где тропа свернула к селению, Карашира
ожидает жена. Эту еще молодую, но уже иссохшую женщину недаром зовут Рыбья
Кость. Дав ей такое прозвище, ущельцы давно позабыли ее настоящее имя, и
даже сама Рыбья Кость редко вспоминает о нем. Удлиненное желтое лицо ее
всегда печально и строго, темные узкие глаза смотрят вниз, - кажется, за всю
свою жизнь она не взглянула на светлое небо. Ожидая Карашира, она сидит на
камне так неподвижно, будто сама превратилась в камень. Черные растрепанные
волосы спадают на плечи, засаленная длинная рубаха неряшливо распахнута.
Скрещенные на коленях пальцы обтянуты такой сухой и сморщенной коричневой
кожей, что, кажется, невозможно их разогнуть. Дома ее ждут восемь голодных,
полуголых детей, и она думает, что правильно сделала, заставив Карашира
пойти к купцу. Если он даст муки, - все равно, что будет потом, - только бы
он дал Караширу муки! - она сделает сегодня лепешки и сама тоже будет их
есть. Она не ела их уже целый год и, представляя себе их вкус, с нетерпением
глядит на тот камень, из-за которого сейчас с мешком на плечах появится
Карашир.
Но когда Карашир, наконец, появляется и Рыбья Кость хорошо видит, что
за плечами его нет ничего, ее худое лицо искажает злоба. Карашир робко
приближается зажимая мешочек с опиумом под мышкой: вот, в руках у него нет
ничего, вообще нет ничего, пусть она даже распахнет овчину... Такая неудача,
такая судьба: купец на дал ему ничего!
- Почему не дал? - вставая, хрипло спрашивает Рыбья Кость. - Что
сказал?
- Сказал: кончилась для таких, как я. Ничего, зато я колючие слова
бросил ему в лицо, пусть подавится ими.
Рыбья Кость молчит. Ведь вкус лепешки был уже у нее во рту... Нет,
что-нибудь тут не так, дурак ее муж, и, конечно, он виноват.
- Просить не умеешь! - выкрикивает она. - Гордый очень! У русского
гордости научился, веришь ему, а голодным надо забыть о гордости: хочешь,
чтоб дети твои передохли? Иди домой, без тебя обойдусь, о себе только
думаешь! Будет у нас мука!
И Карашир покорно побрел домой. Он думал о мешочке, зажатом у него под
мышкой. Он думал о том, что, все в мире презрев, он будет видеть страну
счастливых и жить в ней и весело болтать с женщинами, совсем не такими, как
эта злая его жена!
А Рыбья Кость почти бегом миновала деревья на берегу перед лавкой купца
и смело переступила порог.
Купец встретил ее таким холодным, презрительным взглядом, что смелость
ее сразу исчезла. Она опустилась перед ним на ковер, скрестив босые ноги.
- Ну? Теперь ты пришла?
- Пришла!... Муж мой дурак, не умеет просить... Теперь я иначе прошу,
почтенный. Ты давал нам раньше, теперь тоже дай, много не надо, дай, сколько
велит тебе бог; сама буду я отдавать...
- Сейчас можешь отдать? - нагло глядя на нее, процедил купец.
- Что есть у меня сейчас?.. Ио, Али!.. Ты говоришь...
Но испуг Рыбьей Кости сразу же сменяется равнодушной покорностью.
- Пусть так... Твоя воля, достойный.
Она думает о детях и о вкусе горячих лепешек. Купец пренебрежительно
оглядывает ее, лениво встает, проходит в темную половину лавки, выносит на
свет две черствые гороховые лепешки, швыряет их под ноги женщине.
- Рыбья Кость!.. Обглоданные кости нужны собакам!.. Но я добр, иди! За
эти прекрасные лепешки тебе ничего отдавать не придется.
И Рыбья Кость, пряча свое унижение, опустив голову так, что разметанные
волосы упали на лицо, неуверенным шагом побрела прочь от лавки. Лепешки она
прижала к груди и совсем не думала о еде.
Когда она скрылась за поворотом тропы, Кендыри. Собравшийся в дальний
путь, вышел из глубины лавки.
- Ты видел? - усмехнулся купец. - Я не слишком жадный...
- Видел, - безразлично произнес Кендыри и даже не улыбнулся. - Я бы
подавился такой... Видишь, на бедность свою жалуешься ты напрасно: свой
товар отдаешь не только в кредит!
- Конечно. И пусть этот нищий дурак не думает, что, назвав меня
жуликом, он дал мне это слово в подарок... Я тоже не бываю в долгу!..
Проведя день в безделье, Ниссо к вечеру забрела в дальний уголок сада
и, ползая на корточках под тутовыми деревьями, собирала сладкие ягоды. Они
были темно-синими, крупными, - таких крупных ягод в своем Дуобе Ниссо не
видела никогда. В саду Азиз-хона было несколько деревьев с очень крупными
ягодами, но те были желто-розовыми, и их приторно-пряный вкус не нравился
Ниссо.
Ниссо потеряла поясок. Длинная рубаха старой Гюльриз волочилась по
земле, мешала. Ниссо постепенно наполнила подол ягодами. Она и сама не
знала, зачем и для кого собирает их.
Ей никуда не хотелось уходить из этого с ада. Она чувствовала себя в
безопасности, не думала ни о чем.
Услышав мужские голоса, Ниссо притаилась за деревом. Она не испугалась
и поняла, что, в сущности, весь день дожидалась возвращения этого
непонятного, доброго человека. Вот он идет, мелькая за стволами деревьев, с
тем, другим, которого зовут Бахтиор. Этот другой ничем не примечателен, - он
такой же, как все; но русский...
Не выдавая своего присутствия, Ниссо прислушивается к спокойному голосу
русского. Он сейчас не смеется, он говорит что-то очень решительно, как
хозяин; Ниссо напрасно старается расслышать слова: сад шелестит листвою.
Пойти в дом? Девушке хочется поближе посмотреть на Шо-Пира, но все-таки
лучше остаться здесь.
Ниссо садится на траву, лениво пересыпает собранные ягоды и, выбирая
самые крупные, не спеша отправляет их в рот. По всему саду раздается громкий
зов:
- Ниссо! Э-гей, Нис-со!.. Вздрогнув, Ниссо отпускает подол рубахи,
ягоды сыплются на траву.
- Ниссо! Ну, иди же сюда. Где ты запряталась?
Надо, пожалуй, послушаться. Ниссо выходит навстречу Шо-Пиру.
Столкнувшись с нею лицом к лицу, Шо-Пир начинает неистово хохотать.
Ниссо обижена, озадачена - стоит, смущенно улыбаясь.
- Хороша! Ох, хороша! - подбоченясь, выговаривает, наконец, Шо-Пир. -
Да ты посмотрела бы на себя! Ну просто чучело чучелом!
Тут только Ниссо замечает, что рубаха сверху донизу измазана, что к
липким рукам пристала земля.
Она хочет убежать, но Шо-Пир удерживает ее.
- Идем, идем... Обедать пора.
И, шутливо подтолкнув Ниссо, ведет ее к дому.
- Что ты ей, нана, такую рубаху дала? Она в ней, как цыпленок в мешке?
- А не знаю, не знаю! - отвечает Гюльриз - Весь день не подходила ко
мне... Ниссо, повернись! Где поясок? Потеряла? Какая богатая! Возьми теперь
вот эту веревочку.
- Да пойди ты, умойся скорее! - говорит Шо-Пир, и Ниссо послушно уходит
за угол дома.
Бахтиор выносит из кладовки пиалку с абрикосовой халвой. Шо-Пир знает:
Гюльриз сварила эту халву, чтобы приберечь ее к Весеннему празднику.
- Что, Бахтиор, весна на душе у тебя?.. измазалась, как теленок,
невеста твоя! Мыться ее послал.
Бахтиор, вспыхнув, прикрывает халву ладонью, но не относить же ее
обратно в кладовку!
- Ты шутишь, Шо-Пир, кто-нибудь услышит, знаешь, какие разговоры
пойдут? Председатель сельсовета чужих женщин крадет?
- Какая она женщина? Не успела еще на мир взглянуть, - женщина!
Девчонка она!
- Нет, не девчонка! - убежденно произносит Бахтиор. - Женщина.
- И тебе, наверное, нравится? Скажи, нравится?
Бахтиор никак не может привыкнуть к подтруниваниям Шо-Пира. Он готов
обидеться, а Шо-Пир продолжает:
- Впрочем, почему бы в самом деле тебе на ней не жениться? Конечно, по
советскому закону. Ведь можешь же ты ей понравиться? Тебе двадцать есть
уже?.. Ну вот, поживет она у нас, подрастет, полюбит тебя. Ростом не вышел
немножко, но зато весел и горяч - во!
Гюльриз выносит из дома котелок гороховой каши.
- Сходи за девчонкой, нана! Что она там пропала?
- Рубашку стирает... - возвращаясь, говорит старуха. - Очень ты ее,
Шо-Пир, напугал.
- Да подай ей другую. Вот, в самом деле, коза!..
Когда, наконец, чистую, свежую, с заплетенными косами Ниссо удалось
усадить за стол, она заявила, что наелась тутовых ягод. Шо-Пир не стал ее
уговаривать, но велел ей сидеть со всеми.
Он с удовлетворением заметил, что Ниссо меньше дичится, на вопросы
отвечает охотно, хотя и сдержанно. Она уже запросто разговаривала с
Бахтиором, и он смущался, удивляя этим Шо-Пира, который не узнавал в нем
всегда решительного и смелого парня.
Энергия и решительность Бахтиора понравились Шо-Пиру в первый же год
его жизни в Сиатанге. Именно потому он и добился избрания Бахтиора
председателем сельсовета; самого же Шо-Пира ущельцы выбрали заместителем
Бахтиора.
В то время Бахтиору было семнадцать лет. Придя в Сиатанг, Шо-Пир, -
тогда еще вовсе не Шо-Пир, а демобилизованный красноармеец Александр
Медведев, - зашел в первый же тутовый сад, где вода канала была почище, а
деревья давали плотную тень. Снял с себя вещевой мешок, двустволку и
брезентовую полевую сумку, скинул с плеч скатку шинели и устало опустился на
сочную траву.
Жители селения рассаживались вокруг на траве, беззастенчиво разглядывая
незнакомца, с наивным любопытством ощупывали его одежду и вещи... И завели
между собой ожесточенный спор. Особенно горячился молодой черноглазый
ущелец, - он чуть не подрался с двумя стариками, утверждавшими что-то
повелительным, гневным тоном. Александр еще не понимал тогда языка
сиатангцев, но позже узнал: старики хотели его прогнать, и только факирская
молодежь, решив, что пришел он "от настоящей советской власти", отстояла
его.
Парнем, возглавившим местную молодежь, был Бахтиор. С того самого дня и
подружился с ним Шо-Пир. Скоро Александру стало известно, что советская
власть в Сиатанге только называется советской властью, ибо она в руках
двоюродного брата Бобо-Калона, самого богатого, фанатичного и знатного сеида
- старого Сафар-Али-Иззет-бека. Когда в Волости установилась советская
власть, этот старик, выполняя тайное решение сиатангской знати, запретил
факирам ходить по тропе, сообщавшей Сиатанг с Волостью: "Кто ступит на тропу
неверных, погибнет для жизни в раю, прокляты будут и он, и дом его, и жена,
и дети, и весь род его!" Но на случай прихода из Волости кого-либо от новой
власти Сафар-Али-Иззет-бек себя самого именовал "председателем ревкома,
сельсовета и большевиков". Сеиды и миры, изредка посещавшие Волость, не
забывали, зайдя в волисполком, произнести славословие "избраннику своего
народа, делающему жизнь бедных людей Сиатанга благословенной".
Волость в ту пору еще не могла направлять своих людей в глухие, почти
не исследованные ущелья Высоких Гор, - пришельцам из Сиатанга верили на
слово и удовлетворялись сведениями о том, что там, как и везде, установилась
советская власть и что никто на нее не посягает. По существу же,
Сафар-Али-Иззет-бек - ставленник сеидов и миров - ничем не отличался от
хана, ибо весь Сиатанг задыхался под его властью, не смея и думать о каких
бы то ни было переменах. И если все же до сиатангских факиров и доходили
слухи о том, что в Волости существует иная - подлинная советская власть,
которую держат в своих руках не миры и не сеиды, а сами факиры, то кто здесь
в те годы осмелился бы вслух заговорить об этом?!
Тем смелее было выступление Бахтиора, заявившего всем, что русского
человека он приютит у себя.
Александр узнал от Бахтиора, как тяжко живется здешним людям под
самозванной властью Сафар-Али-Иззет-бека. И сразу же почувствовал, что не
напрасно, - только от Волости, все в глубь да в глубь диких ущелий, - шел он
добрый десяток дней, ночуя в разных селениях, приглядываясь к людям, ища
среди них человека, который бы приглянулся сразу, вот так, как этот,
искренний в горячих своих речах, страстно жаждущий правды юноша Бахтиор. Да,
Александру сказали в Волости, что трудновато будет ему без опыта и в таком
отдалении одному. Но что, мол, пусть опирается на пролетарское свое чутье да
на совесть; и что уже ежели так твердо решил он жить в "глубинке" и
применить свои силы на пользу революции, то вот пусть идет вниз, по Большой
Реке: "Никого мы пока не посылали туда, не хватает у нас грамотных людей,
места-то, видишь ли, недостигнутые какие!.. Ну а ты все же, когда
обоснуешься где-нибудь там, используй всякую оказию, письма шли, будем тебе
по мере возможности помогать, в памяти тебя держать будем!"
...Тутовый сад у ручья, где ныне стоит дом Бахтиора, принадлежал тогда
одному из миров, позже ушедших в Яхбар. Жалким обиталищем Бахтиора и его
матери была задымленная пещера в скалах. Прожив несколько дней в этой
пещере, Александр Медведев решил остаться в Сиатанге.
Так кончились его долгие блуждания в Высоких Горах. И действительно,
что было делать ему? Возвращаться в родной городок? Других ждали семьи:
родители, жены, дети. Медведева никто нигде не ждал... Возвращаться туда,
где все было разрушено и уничтожено? В тот белостенный маленький городок,
среди бескрайних полей пушистого хлопка, откуда Санька еще с детства смотрел
на столпотворение бледных, как привидения, загадочных снежных пиков... Никто
не знал ни названий их, ни как далеко они простираются... Жители городка
рассказывали самые фантастические истории: будто там, среди ледяных высот,
живет племя страшных бородатых карликов, роющих себе пещеры во льду. Эти
карлики не знают ни трав, ни деревьев, ни обыкновенной человеческой пищи;
едят они только особенные, синие камни, а добывают их, перелетая с вершины
на вершину на крыльях огромных птиц. Многие жители городка клялись и
божились, что видели этих птиц и что однажды, в сильную бурю, одна из таких
птиц упала на главной улице и со сломанного ее крыла соскочил испуганный
карлик, пробежал по всей улице и скрылся под листьями хлопка за городком.
Когда Санька вырос, он понял, что все это сказки, но тайна гор
оставалась тайной. Мечта проникнуть в эти заповедные горы не исчезала, а
укреплялась. Конечно, может быть, не случись того страшного в его жизни, что
произошло позже, когда он стал уже взрослым человеком и обзавелся семьей,
он, вероятно, никогда так и не попал бы в эти горы, разъезжал бы на своем
грузовике по пыльным, знойным дорогам. Но жизнь повернулась иначе, и детская
мечта стала явью: вместе с красноармейским отрядом Александр оказался в этих
горах, боролся здесь с басмачами два с лишним года. Когда отряд в первый раз
из пустынных Восточных Долин, где встречаются лишь кочевники, проник к
Большой Реке и попал в одно из похожих на Сиатанг селений, Александр впервые
увидел вот таких - простых, но необыкновенных людей. И показалось ему тогда,
что, как в детской сказке, из горной пещеры выйдет какой-нибудь карлик,
сядет на птицу и полетит, - кстати, исполинских грифов Санька в Восточных
Долинах навидался немало.
Комиссар Караваев всегда утверждал, что красноармейцы должны дружить с
местным населением.
- Вот дело для нас, товарищи, - говаривал он, - остаться здесь да
помочь этим людям узнать настоящую жизнь. Поняли бы они, что такое советская
жизнь, что такое наш брат красноармеец. Поглядите, козлиными рогами землю
пашут! А как поют! Веселой музыка, верно, никогда не слыхали. Сплясать бы им
по-нашему, под тальянку!
- Известно, дикари! - умозаключил повар отряда Климов, старый солдат,
воевавший еще в русско-японскую, единственный в отряде вольнонаемный и
пожилой человек.
- Не дикари, - пресекал его рассуждения комиссар, - своя в них есть
культура, хоть и забиты они. Посмотрите, сколько в каждом из них гордости и
достоинства! Я вот вас частенько ругаю за грубость. Ведь вам у них поучиться
можно бы обращению... Кто слышал, чтоб они выражались так, как, ну,
например, иной раз, Климов, "отрекомендуешься" ты?..
- Товарищ военком, я же ведь старослужащий! - под обычный общий смех
оправдывался Климов.
- Так вот и будь примером другим, - строго продолжал Караваев, - да
знай, что культура у народа здешнего древняя, добрая, а только, как траву
свиньи, потоптали ханы ее. А теперь народ поднимается, только показать надо
ему, как жить. Разве нет у здешних людей желания жить получше? Бедность
одолевает их, горы мешают им хорошую жизнь увидеть! Разве и среди нас не
бывает отсталых? Вон Медведев - парень боевой, лучший красноармеец,
шоферскую специальность имеет, а в комсомол до сих пор не вступил, и поздно
уже ему теперь быть в комсомоле.
- Не все понимал я до службы в отряде, - обижался Санька.
- А теперь понимаешь? - улыбаясь, спрашивал комиссар.
- Теперь - конечно! В партию сразу вступить не задумался бы, если б...
- Если б что? - живо подхватывал комиссар. - Вступай. Рекомендацию тебе
дам.
- Не об этом я... - смущался Санька Медведев. - А что я сделал для
партии?
И начинался большой разговор о боевых заслугах Медведева, о бесстрашии
его, о тех случаях, когда он один, с кромки ущелья, поддерживал наступление
отряда стрелков и когда, вынеся из-под огня раненого товарища, долго плыл с
ним по горной реке... и когда... Многое припоминал ему тут комиссар и
говорил о том, что главная заслуга - его участие в борьбе с басмачами.
На все это Медведев обычно отвечал скромно и просто:
- Это - по службе.
- Разве служба не дело?
- Нет, надо такое, где я бы сам... от души... чтобы душою за новую
жизнь поборолся я. Стрелять-то всякий умеет.
И даже комиссар не мог разобраться в том, что именно значит это: "от
души". И говорил ему, что разве весь отряд воюет не от души? И что разве
действия отряда не помогут здешним людям стать советскими?
- Когда еще станут! - упрямо отвечал Медведев. - Кабы я сам их сделал
советскими!
- Ишь, чего захотел, а ты сделай, останься среди них, да и сделай! -
шутил комиссар, и все смеялись, а Санька Медведев умолкал, задумывался.
...Комиссар Караваев был убит в бою... Ну, а дальше...
Шо-Пир сидит за столом, вспоминает, что было дальше, а Ниссо и Бахтиор
уже совсем непринужденно ведут беседу.
- Разве ты не можешь купить себе жену, Бахтиор? - как взрослая
спрашивает Ниссо.
Бахтиор силится объяснить, что председателю сельсовета нельзя покупать
жен, а даром кто захочет отдать ему свою дочь? И нет таких здесь, что
понравились бы ему. Для них он просто хороший товарищ, с некоторыми даже
дружит тайком от мужей и родителей: "потому что все они - порабощенная
мужьями и отцами женская часть населения, которую нужно освободить от
гнета"...
Эти слова отвлекают Шо-Пира от его дум. Бахтиор крутит ложкой в
гороховой каше.
- Ты бы, нана, подшила ей рубаху, - говорит Шо-Пир, - посмотри:
запуталась в ней Ниссо.
- А где мое платье? - живо спрашивает Ниссо. - его еще можно зашить.
Ты, нана, не нашла его?
- Не нашла. Дэв унес, - простодушно отвечает старуха. - Наверно, твой
дэв, Ниссо. Не знаю, хороший или худой.
- А ты уверена, Гюльриз, - спрашивает Шо-Пир, - что у Ниссо есть свой
дэв? Может быть, просто платье упало в ручей?
- У каждого человека свой дэв есть! - убежденно отвечает Гюльриз. - Нет
человека без дэва. А в ручей не могло упасть платье: на террасе оставила...
- Темно было, - вставляет Бахтиор. - Может быть, из воды Аштар-и-Калон
вылезал? И теперь в желудке Аштар-и-Калона оно?
- А может быть, и еще что-нибудь похуже, - иронизирует Шо-Пир.
- Хуже желудка Аштар-и-Калона ничего быть не может! - восклицает
Бахтиор.
- А откуда ты знаешь? - щурит глаза Шо-Пир.
- Знаю я.
- А ты видел его?
- Не видел. Если увижу - умру. Кто увидит его - умирает.
- Выдумки все это, Бахтиор, Не стыдно тебе? Председатель сельсовета, в
драконов веришь... Никто не видел их, и никто от них не умирал...
- Правду я говорю, - хмурится Бахтиор, - кто увидит его - умирает.
- Неправда это! - вырвалось у Ниссо. И звонкий возглас ее так
решителен, что все с удивлением поворачиваются к ней.
- А ты откуда знаешь? - поддевает ее Шо-Пир. - А вот я думаю, драконы
все-таки есть, и Бахтиор прав. Что скажешь?
- Я... я... Все может быть... Только... - Ниссо с сомнением глядит
Шо-Пиру в лицо. - Нет, тебе лучше знать.
- Почему, Ниссо, мне лучше знать?
- Потому что... потому что пиры лучше знают...
- А при чем же тут пиры? Разве я пир?
- Ты? Ты больше. Ты - Шо-Пир, повелитель пиров.
Шо-Пир расхохотался так, что Ниссо смутилась: "Что глупого я сказала?"
- Ты слышал, Бахтиор? - сквозь смех говорит Шо-Пир. - Вот, выходит, за
кого она меня принимает... Это надо ж придумать! Словом, я вроде бога... Все
дело, оказывается в моей кличке. Сдержав, наконец, смех, Шо-Пир умолкает в
раздумье. Все ждут, что он скажет.
- Тебе пока этого, Ниссо, не понять, - тихо обращается Шо-Пир к Ниссо.
- Да и никто здесь, пожалуй, не понял бы. Но вот есть такое русское слово:
машина.
Он молчит и опять размышляет о прошлой своей жизни и о прежней, никому
здесь не понятной профессии... Сколько профессий он приобрел в Высоких
Горах! Научился делать двери, кровати, столы, табуретки, стараясь доказать
сиатангцам, что пользоваться ими удобно. Выстроил этот дом, не похожий на
другие, сообразил, как надо закладывать шпуры - взрывать порохом гранитные
скалы; не хуже любого караванщика может вьючить лошадь, верблюда, осла;
научился шить белье из грубой домотканой материи, накладывать лубок на
сломанную руку и изготовлять мази для лечения трахомы; находить путь по
звездам и переменчивым отблескам льдов, свисающих с остроконечных вершин;
делать бумагу из тутового корня; сооружать плоты из надутых козьих шкур...
Кто он теперь? Плотник и врач, портной и охотник... И еще ирригатор. И еще
агроном... Да, не меньше десятка профессий заменили ему здесь ту одну, какою
он жил, пока добровольно не пошел в Красную Армию после т о г о...
При этом воспоминании лицо Шо-Пира передернулось, спокойные глаза
зажглись болью и ненавистью... Но говорить об этом нельзя и лучше даже не
думать! А вот о Красной Армии можно. Бахтиор и Гюльриз, кажется, уже знают
все о скитаниях отряда по горам в погоне за басмачами. Это понятно им. Но
как сделать понятным для Ниссо, для Гюльриз, даже для Бахтиора рассказ о
культуре больших городов, о технике двадцатого века, о железных и шоссейных
дорогах? Как разъяснить им свою профессию, если не только автомобиля, но и
вообще какого бы то ни было колеса никто никогда здесь не видел, и если нет
здесь ни одной дороги, кроме узких головокружительных тропинок, что вьются
над отвесами пропастей?
И, взглянув в глаза Ниссо, внимательные, выжидающие, Шо-Пир полушутя
стал объяснять ей, что там, в далеких и не похожих на эти краях, он был
погонщиком огненных лошадей, - нет у них ни кожи, ни мяса, ни головы, ни
ума, ни сердца, - они сделаны руками людей из железа и дерева, люди ездят на
них там, за пределами гор. Есть места такие широкие, что хоть месяц не
останавливайся, - ни одной горы не увидишь.
- Есть русское слово "шофер", - добавил Шо-Пир после долгого рассказа.
- Называется так человек, который ездит на... ну, скажем, на железных
лошадях и управляет ими. Когда я пришел сюда, - Бахтиор, ты помнишь,
наверное, - Бобо-Калон спросил меня: "Кто ты?" Я ответил "Шофер". А
попробуй, Ниссо, на своем языке сказать "фф". Не выходит, вот видишь? На
твоем языке это выйдет: "пп", вот меня и назвали "Шо-Пир", а я не виноват,
что на вашем языке это значит: повелитель пиров... У нас и слова такого
нет... Смеялись надо мною, Ниссо, потому меня так и назвали... А теперь
скажи, поняла ты, что такое "машина"?
- Не знаю, Шо-Пир, - задумчиво произнесла Ниссо. - Может быть, поняла.
- Ну, когда-нибудь ты поймешь это лучше, сегодня покажу тебе машину
одну... А сейчас объясни, почему ты сказала "неправда", когда Бахтиор
заявил, что увидевший Аштар-и-Калона обязательно умрет?
- Видела его, - тихо произнесла Ниссо.
- Ну? - улыбнулся Шо-Пир. - Во сне?
- Во сне тоже видела... Ночью...
- И осталась жива?
- Вот жива... Теперь его не боюсь...
В разговор вмешалась Гюльриз:
- Не надо говорить об Аштар-и-Калоне... Нельзя говорить!
- А ты мне другой раз расскажешь о нем, Ниссо? - спокойно спросил
Шо-Пир.
Ниссо ответила не сразу и очень серьезно:
- Тебе, Шо-Пир, может быть, расскажу...
После обеда все вместе направились к дому. Ниссо попросила у Гюльриз
большое деревянное блюдо, сказав, что хочет принести собранные ягоды, и ушла
в глубь потемневшего сада. Шо-Пир вошел в дом и вынес из него свой
старенький граммофон.
- Показать ей хочешь? - спросил Бахтиор.
- Молчи, - лукаво подмигнул Шо-Пир. - Клади под платан кошму, пока
Ниссо не вернулась.
Сев на кошму вместе с Бахтиором, Шо-Пир быстро приладил крашенную
голубой краской трубу, выбрал пластинку и, наложив иглу на ее виток,
отодвинулся от граммофона. Гюльриз осталась в доме: она до сих пор с
недоверием относилась к этому "полному дэвов" ящику и предпочитала слушать
издалека.
Едва раздались слова пушкинского "Я помню чудное мгновенье", Бахтиор
вскочил.
- Я позову ее.
- Сядь, - дернул его за рукав Шо-Пир, - и не смотри туда, пусть она
думает, что мы забыли о ней.
Бахтиор вспомнил, как сам он весною испугался, услышав этот голос
впервые. Он едва сдерживал смех. Шо-Пир привалился к стволу платана.
Слова романса разносились над садом, полные властной силы. Шо-Пир не
оглянулся, когда хрустнув веткой, из-за деревьев осторожно выглянула Ниссо.
Бахтиор, сидя спиною к ней, уже давился беззвучным смехом. Ниссо помедлила,
осмотрелась, прислушалась... Осторожно поставила на траву блюдо, полное
ягод, неслышно подошла, остановилась, слушая, присела на край кошмы... Ни
единым жестом не выразила она своего удивления; внимательно вгляделась в
лицо явно не замечающего ее Шо-Пира, перевела восхищенный взор к трубе и,
чуть приоткрыв губы, замерла. Она, казалось, всем существом впитывала
летящий над садом голос.
Когда пение оборвалось, она вздохнула и, встретив испытующий взгляд
Шо-Пира, спросила:
- Шо-Пир, что это?
- Машина.
- А человек где?
- Какой человек?
- Душа которого здесь, - указала Ниссо на трубу.
Шо-Пир не улыбнулся.
- Далеко отсюда. Если пешком идти, надо год идти, - есть город, самый
большой город всех русских и всех народов, у которых советская власть. Этот
город называется Москва. Слышала ты это слово?
- Нет, Шо-Пир.
- Запомни: Москва. Человек, чей голос ты слышала, живет в Москве. А
душу свою в эти непонятные тебе слова вложил великий русский человек,
которого звали Пушкин.
- Он тоже в Москве живет?
- Нет, Ниссо... Умер он... Девяносто лет назад... Что же ты, Бахтиор,
не смеешься, ты же смеяться хотел?
Смущенный Бахтиор ничего не ответил, а Ниссо нетерпеливо спросила:
- А кто его душу кормит?
Шо-Пир сдержал улыбку.
- Тебе это трудно понять, Ниссо. Но я постараюсь тебе объяснить...
И стал объяснять устройство граммофона. Ниссо слушала молча, кивая
головой, и, наконец, сказала, что все поняла. И добавила, что ей непонятно
только, как этот голос может жить без еды и питья. Ниссо успокоилась, когда
Шо-Пир сказал, что в эту машину налито масло и что без масла она не могла бы
крутиться.
- А давно налито? - спросила Ниссо.
- Вот когда делали ее. Очень давно: в Москве.
Потом Ниссо спросила: сам ли Шо-Пир привез из Москвы эту машину, и
Шо-Пир объяснил, что он в Москве не бывал, а машину принес из Волости
Худодод, когда ходил туда весной с письмами, и что в Волости есть хорошие
люди, - прислали в подарок еще много вещей: и чай, и табак, и мыло.
И, объяснив все это, Шо-Пир задумался о Волости, - о тех людях из
волисполкома и партбюро, которым считает своей обязанностью слать с каждой
оказией донесения, именно такие - короткие, сухие, но очень ясные, какие
писал он когда-то командиру и комиссару, выполняя боевые поручения.
Немногословными, деловыми, суховатыми бывали всегда и ответы из Волости, но
Шо-Пир радовался им, как весточкам от родных; эти редкие письма развеивали
всяческие сомнения, укрепляли уверенность в своих силах, направляли всю
деятельность Шо-Пира... Благодаря этим письмам Шо-Пир никогда не чувствовал
себя одиноким, все больше, все органичнее сливая свои мысли и свою волю с
мыслью и волей партии...
Весь вечер Шо-Пир, Бахтиор и Ниссо провели, слушая одни и те же
пластинки, - запас их был невелик. Танцы и марши не вызывали интереса Ниссо,
но по ее просьбе Шо-Пир много раз повторял пластинки с песнями и романсами.
Слушая их, Ниссо думала о таинственной силе Шо-Пира, выводящего в мир
человеческий голос без тела.
Гюльриз все не появлялась. Шо-Пир ходил за нею в дом, но она в своем
похожем на все сиатангские жилища помещении доила козу и, не обернувшись,
заявила Шо-Пиру, что все отлично слышит издали и ничуть не боится машины, а
просто у нее и дома достаточно дела.
Когда Шо-Пир, наконец, отнес граммофон и оставил его в углу своей
комнаты, Ниссо потребовала подробных объяснений - кто такой был Пушкин,
хороший ли он человек? Шо-Пир рассказал, как умел, и у Ниссо составилось
впечатление, что тот, чья душа живет в машине, был самым прекрасным и добрым
из когда-либо живших людей.
Взошла луна. Все отправились спать. Ниссо, как и в прошлую ночь, легла
на кровать Шо-Пира, в его комнате, а сам Шо-Пир улегся на кошме, под
платаном. Ниссо долго лежала, не закрывая глаз, а когда убедилась, что все
уже спят крепким сном, тихо встала, подошла к граммофону, присела перед ним
на корточки, осторожно повернула к себе трубу и приложила к ней ухо. Труба
молчала, но Ниссо продолжала прислушиваться к ней, будто боясь нарушить сон
того, скрытого в ящике... Потом, вспомнив, что Гюльриз оставила на террасе
кувшин с козьим молоком, тихо пробралась на террасу, крадучись, принесла
кувшин и, приставив его к граммофонной трубе, стала заботливо, тоненькой
струйкой лить молоко в трубу.
Молоко с бульканьем исчезло в трубе. Ниссо отвела кувшин, помедлила,
сосредоточенная и суровая, и снова, дав трубе передохнуть, начала лить
молоко.
- Довольно, пожалуй, - сказала она себе. - Завтра, Пушкин, еще тебе
дам! - И поставила кувшин на пол.
Снова приложила ухо к трубе и, расслышав какие-то звуки довольная
улеглась в постель.
"Теперь он будет добрым ко мне, - подумала она и покачала головой. -
Столько времени жил голодным!"
Проснувшись на рассвете, она, не веря своим глазам, увидела на полу
вокруг граммофона огромную молочную лужу. Объятая недоумением и страхом
оттого, что добрая жертва ее не принята, она поспешно вытерла пол найденной
у порога тряпкой и охваченная самыми нехорошими предчувствиями, отнесла на
террасу пустой кувшин.
"Никто не должен знать о том, что случилось сегодня ночью", - решила
Ниссо и, печальная, тревожная, медленно ушла в дальний угол сада, чтобы
провести весь день в одиночестве. Нет, она решительно недостойна ничего на
свете хорошего!.. Наверное, проклятия Азиз-хона тяготеют над ней! А Шо-Пир
все-таки обманул ее, посмеялся над нею: он, конечно, большой русский пир,
очень сильный, повелевающий могущественными дэвами русских. Эти дэвы
по-русски называются "машинами", они бывают разными, злыми и добрыми
большими и маленькими, и, конечно, надо быть очень сильным человеком, чтобы
держать в подчинении этих дэвов! Но почему Шо-Пир ее обманул? Может быть,
просто не захотел ей признаться? Может быть с тем, кто признается, случается
что-нибудь очень плохое? Если так, то она готова простить Шо-Пира, ничего
плохого она не желает ему.
Еще туманны образы сраженья
В умах владык, задумавших его,
Не созваны полки, не взвешены сомненья...
Но сколько юношей в тот час уже мертво!
Так и в горах: висят снега лавины.
Ручей под ними только что рожден,
Но решена уже судьба долины, -
Ее дымов, посевов, песен, жен...
Древняя битва
Бахтиор выглянул из своего шалаша. Солнце еще не показалось из-за горы,
но уже осветило снега на зубцах вершин. Надо было идти на канал.
По обычаю сиатангцев Бахтиор спал под одеялом голый. Поеживаясь в
свежести не согретого солнцем воздуха, стал одеваться. Надел свои мешковатые
штаны, жилетку, накинул халат и по приставной лесенке выбрался из шалаша.
Под платаном, укутанный с головой суконным одеялом, лежал Шо-Пир.
Бахтиор решил его не будить: "Проснется сам, придет позже".
Подумал о Ниссо, конечно крепко спящей в комнате Шо-Пира, и направился
к пролому в ограде, размышляя о том, что для Ниссо надо сделать из камней и
глины пристройку к дому, - скоро начнутся осенние ветры, Шо-Пиру нельзя
будет ночевать в саду. Миновал ограду, легко прыгая с камня на камень, стал
спускаться к селению, над которым уже вились легкие дымки очагов.
Не найдя никого у крепости, Бахтиор сел на камень.
Он уже привык приходить сюда раньше всех и знал, что следующим после
него придет секретарь сельсовета Худодод, за ним с киркой и лопатой явится
Карашир, и они втроем начнут расчищать завал, закрывающий путь воде.
Все остальные явятся позже, гурьбой. Выроют ямку для табака, сунут в
нее соломинку, накурятся всласть и только тогда приступят к работе.
И весь день склоны ущелья над крепостью будут множить скрип и скрежет
переворачиваемых камней, звонкие удары по железу, беспечные разговоры
факиров.
А у сводчатой двери древней, чуть наклоненной над рекой башни весь день
просидит бывший владетель крепости - надменный Бобо-Калон. Он ни с кем не
перемолвится ни словом, и факиры будут обращать на него внимания не больше,
чем на камни, что лежат вдоль тропы.
Солнца все еще не видно, но ширится полоса света, медленно опускаясь по
склонам. Бахтиор ходит по нерасчищенному руслу канала, размечая работу,
присматривая, как и куда свалить каждый камень, стараясь предусмотреть все
трудности, чтобы заранее посоветоваться с Шо-Пиром.
Хитрый человек этот Шо-Пир: никогда ничего не прикажет работающим.
Спросят его, говорит: "Обращайтесь к Бахтиору". А сам слушает, что ответит
работнику, как распорядится работой Бахтиор. Если правильно, Шо-Пир
прикинется, будто и не слыхал его слов. Если Бахтиор даст неверное указание
- отзовет в сторонку: "А ну-ка, подумай еще!" Бахтиор думает, думает, и
Шо-Пир ждет, чтобы спокойно выслушать его мнение, и либо с ним согласится,
либо заставит Бахтиора думать еще.
Многому научился Бахтиор у Шо-Пира и теперь уже хорошо распоряжается
работами сам. Если придется прокладывать другой канал, Бахтиор сумеет,
пожалуй, работать самостоятельно.
По тропе поднимается Худодод с киркой на плече. Он совсем еще юноша,
худощав и тонок, но мускулы у него крепкие, работает хорошо и всегда весел.
Ворочает тяжелые камни, а сам поет песни, легкие песни поет.
Худодод подходит к Бахтиору, живыми, задорными глазами подмигивает ему:
"Здоров будь!" И, воткнув кирку в землю, глядит на тропу, по которой бредут
из селения другие факиры.
Солнце выходит из-за края горы, заливая крепость теплом и светом. И
вот, наконец, на обломках разрушенной башни мелькают загорелые ущельцы. Они
приступают к работе - звенят кирки и лопаты, щелкают и с грохотом валятся
камни.
Но Карашира и еще нескольких строителей канала все нет. Бахтиор
досадует, с нетерпением ожидая их: срывается намеченный распорядок работы,
стоило все утро раздумывать, кого и куда поставить!
Каждый день за кем-нибудь надо бегать в селение, будить, торопить, как
будто люди не понимают, что вода - для них же. И, негодуя на отсутствующих,
Бахтиор поручает Худододу наблюдение за работой, а сам спешит вниз.
В третьей с краю маленькой каменной лачуге живет Исоф. Он еще не стар,
работать умеет хорошо, но характер у него скверный: всегда ворчит, жалуется,
ругается. Бахтиор недолюбливает его, потому что Исоф до сих пор живет по
старым законам.
Бахтиор входит в лачугу без стука. С головой укрытый рваным халатом,
Исоф спит на голых каменных нарах. Очаг Исофа пуст и холоден, - ни посуды,
ни еды в лачуге не видно. С тех пор как жена Исофа, молодая еще Саух-Богор,
ушла на Верхнее Пастбище, никто не будит его по утрам, он готов спать
круглые сутки. Правда, он слабый, много ли могут дать ему три абрикосовых
дерева; даже тутовых деревьев у него нет! Две козы да маленькая овечка - все
лето на Верхнем Пастбище, а посев пшеницы за домом так мал, что даже хороший
урожай прокормит Исофа не дольше месяца.
Все это Бахтиор знает. Но раз ты обещал работать, раз ты ждешь от
Шо-Пира обещанной платы мукой, которую привезет караван, значит, нечего
спать по утрам! Бахтиор сердито толкает Исофа в плечо.
- А... Ты, Бахтиор? - приоткрывает сонное, изуродованное крупными
оспинками лицо Исоф, а выцветшая, взлохмаченная его борода стоит торчком. -
Иди! Зачем спать мешаешь?
- Как ленивый сеид ты, Исоф! - упрекает Бахтиор. - Все работают -
спишь. Ходи за тобой. Вставай.
- Вставай! Вставай! Пусть сгорит вся эта работа! Не рожаю. Успеется! -
Исоф опять сует голову под халат.
Бахтиор сдергивает с Исофа халат и, отшвырнув его в угол лачуги, молча
выходит. Исоф ежится на каменных нарах, лениво поднимается, почесывается,
ищет заспанными глазами халат, накидывает его на плечи и, еще не
окончательно проснувшись, выходит на солнечный свет. Щурясь, глядит на
солнце и, продолжая зевать, медленным шагом направляется к крепости.
А Бахтиор, деловитый, быстрый в движениях, ныряет из лачуги в лачугу,
будя других ущельцев, ругая их и не слушая никаких объяснений. Один за
другим выходят люди на тропу, ведущую к крепости: "Работать, конечно, надо,
но мир не рассыпался бы, если б Бахтиор дал поспать еще!"
Ниже других домов, у нагромождения скал, прилепился дом Карашира,
осененный листвою двух тутовников. Каменная ограда обводит деревья, и дом, и
маленький складень кладовки, вокруг которой бродят, давно сдружившись,
дряхлый осел и две худобокие козы. За оградой, в извилистых проходах между
разбитыми скалами, желтеет дозревающая пшеница. Проходы между обломками скал
похожи на запутанный лабиринт, но пшеница заполнила их своим желтым
разливом, и только один Карашир да жена его Рыбья Кость знают, сколько
пришлось им сюда потаскать земли на носилках, чтобы посеять эту пшеницу.
Проход в ограде завален камнями. Бахтиор перепрыгивает через них,
быстро обходит дом, наталкивается на ораву играющих у порога детей. Они
сразу окружают Бахтиора, но ему сейчас не до них.
- Карашир! - кричит он. - Ты дома?
На пороге возникает хмурая Рыбья Кость:
- Дома он... Напрасно пришел, Бахтиор... Не будет он сегодня работать.
- Почему не будет?
- Смотри! - поджав губы и кивком приглашая Бахтиора войти, Рыбья Кость
отступает от двери.
Бахтиор, пригнув голову, переступает порог и сразу останавливается,
ощутив сладковатый, одуряющий запах опиума. Вглядывается в темноту и
различает в углу Карашира. Хрипло бормоча, свесив с каменных нар руки и
голову, Карашир ловит под нарами нечто, видимое ему одному.
Закашлявшись, Бахтиор выскакивает за дверь и сразу закипает гневом.
- А ты, Рыбья Кость, что смотрела?
Женщина вскидывает на него полные слез глаза.
- Знала я? Откуда я могла знать? Пришла - он уже такой... Вчера весь он
такой, ночь всю - тоже, теперь утро - еще хуже стал!
- Где достал он?
- Не знаю, - нетвердо произносит Рыбья Кость. Решительно и злобно
повторяет: - Не знаю, ничего я не знаю!
- Так. Когда голова вернется к нему на плечи, передашь: мы будем новые
участки делить, я ему участка не дам.
- Как не дашь? - хватает Бахтиора за руку Рыбья Кость. - Пусть твое
дыхание оледенеет, не говори так!
- Не дам! - гневно подтверждает Бахтиор. - Не для курильщиков опиума
земля.
- На дашь? - подбоченилась в ярости Рыбья Кость. - Он богары не сеял,
чтобы строить этот канал. Ты власть - обещал нам землю. Верить тебе нельзя.
За Шо-Пиром идешь! Обоим вам коровий рог в горло!
Бахтиор плюнул, пошел прочь. Он чувствовал себя оскорбленным: сколько
раз уговаривал он Карашира бросить это плохое дело. Тот клялся, божился...
Конечно, никакого участка давать ему не надо. Пусть теперь кормится своим
опиумом! А все этот проклятый купец!
...Торопливым шагом Бахтиор приближался к лавке купца. Мирзо-Хур сидел
на ковре перед лавкой, попивая из пиалы чай. Бахтиор, минуя купца, вошел в
лавку.
- Где опиум?.. Давай сюда опиум! - в бешенстве крикнул он.
Мирзо-Хур отставил пиалу.
- Откуда опиум у меня? Давно не было опиума. Сельсовет постановил не
курить, я подчиняюсь, давно не торгую опиумом. Нет его у меня!
- Нет? Нет? Лжешь, вымя волчихи, лжешь! Не дашь, сам возьму!
И, прежде чем Мирзо-Хур сообразил, что ему делать, Бахтиор подскочил к
полкам, сорвал их одну за другой. Товары грудой рухнули на пол. Купец
кинулся к ним, но Бахтиор уже стремительно расшвыривал их по ковру.
Небольшой мешок с опиумом сразу же попался под руки, и, выскочив с ним из
лавки, Бахтиор опрометью побежал к береговому обрыву. Широко размахнувшись,
швырнул мешок в реку. Ослепленный яростью Мирзо-Хур, выхватив из-под халата
нож, погнался за Бахтиором.
- Вор, проклятый вор! Умер ты, уже умер ты!
Бахтиор увернулся, отскочил, поднял с земли увесистый камень. Губы
Бахтиора дрожали, тело напряглось, как тетива наведенного лука.
- Иди на меня, иди!
И, поняв, что Бахтиор может его убить, купец испугался, отступил.
Бочком добравшись до лавки, Мирзо-Хур ввалился в нее, тяжело дыша,
захлопнул за собой дверь и разразился проклятиями:
- Подожди, презренный! Кровавым дымом обернется тебе этот опиум! Свинья
твою нечестивую душу съест!
Бахтиор медленно опустил руку и, не понимая, как очутился в ней этот
камень, переложил его на другую ладонь. Опомнился, бросил камень и медленно
побрел вдоль берега по неровной тропе. Ему пришло в голову, что, быть может,
он слишком погорячился и надо было поступить как-либо иначе. Недовольный
собой, он размышлял, не осудит ли его поступок Шо-Пир, которому он давно
привык рассказывать все. Может быть, на этот раз умолчать?
Войдя в крепость, он принялся помогать факирам, мрачный и
неразговорчивый. Долго старался не попадаться на глаза Шо-Пиру. А когда тот
сам подошел к нему и спросил: "Где это ты пропадал?" - Бахтиор наклонился
над гранитным обломком, силясь его поднять, и проронил:
- Так, дело одно... Теперь хорошо!
Шо-Пир с недоумением посмотрел на него, понял, что от Бахтиора сейчас
толку не добьешься, отошел к одному из факиров и заговорил с ним о чем-то,
чего Бахтиор, погруженный в свои сомнения, слушать не стал.
Увидав, что Бахтиор успокоился, Шо-Пир вернулся к нему.
- Слушай, Бахтиор, а почему Карашира сегодня нет?
- Не будет он больше работать! - мрачно ответил Бахтиор. - Я
постановление сделал: Караширу участка не давать.
- Ну-ну? - прищурился Шо-Пир. - Ты что это - серьезно?
- Конечно, серьезно! - закипел Бахтиор. - За что землю давать? Обманщик
он! Против советской власти идет.
- Слушай, друг, не глупи! В чем дело?
- Опиума он накурился! Ты понимаешь?
- Но? Это, наконец, черт знает что! Где достал?
- У купца было припрятано, чтоб ему сдохнуть!
- Та-ак! - Шо-Пир примолк. - Ну, вот что скажу тебе... Карашир опиум
курит? Очень худо это. Но постановление твое тебе отменить придется. От
хорошей жизни он, что ли, курит? Самый бедный из бедняков, а ты вдруг -
земли ему не давать! Купец ему опиум сунул? Так ты с купцом и борись. А
ты... Э-эх, голова!
"Сказать или нет? Лучше не говорить!" Бахтиор недовольно скинул с себя
руку Шо-Пира, встал и, увидев, что работающий поблизости Исоф тщетно силится
перевернуть ребристую глыбу, подошел, сунул под нее свою кирку.
Оба принатужились, навалились, глыба медленно перевернулась. Исоф
выпрямился, отер лоб рукавом халата.
- Бахтиор!
- Что тебе?
- Значит, Караширу все-таки дадим участок?
- Дадим, - простодушно улыбнулся Бахтиор. - Правду сказал Шо-Пир,
немножко сердце горячее у меня.
Исоф оглянулся, поблизости работало несколько старых факиров. Надеясь
найти в них поддержку, Исоф решился сказать:
- Еще думаю я... Бобо-Калону участок дать надо.
- Что? - нахмурился Бахтиор. - Внуку хана участок?
- Не сердись, Бахтиор, - заторопился Исоф. - Я думаю так. Вот видишь,
он сидит, на нас смотрит. Мы люди, а он разве не человек? Нам - все, ему -
ничего? Разве правильно это? Тоже бедный сейчас, что есть у него? Нет ханов
теперь, что в нем осталось от хана? Он человек хороший, ничего нам плохого
не делает.
Факиры опустили кирки и лопаты: к такому разговору надо прислушаться!
Бахтиор с ненавистью взглянул на сидевшего у своей башни Бобо-Калона.
- Что раньше носили ему, забыл?
Исоф решил не сдаваться.
- То время прошло... А теперь смотреть на старика жалко.
Гнев снова овладел Бахтиором.
- А он нас прежде жалел? Ничего, живет вот, не пропадает! А ему уж
давно подыхать пора.
- Тише, Бахтиор, он услышит!
- Пусть слышит! - Бахтиор намеренно повысил голос. - Пусть слышит!
Собака он для всех нас, волчий хвост неотсохший... Работал я у него
мальчишкой. Знаю его тухлую душу. Участок ему давай!.. Бороду ему свою
расстели, Исоф, пусть сеет на ней пшеницу.
Исоф взялся за свою кирку. Один из факиров промолвил:
- Не надо Бобо-Калону участка. Прав Бахтиор. Это ты, Исоф, на свою
голову камень положить хочешь.
А Бахтиор тихо выругался и пошел в сторону, отшвыривая ногой мелкие
камешки.
Вечером, возвращаясь вместе с Бахтиором домой, Шо-Пир шел, сунув руки в
карманы и небрежно насвистывая. Бахтиор ветел в пальцах сорванный по дороге
прутик. Не выдержав молчания, кинул в сторону прутик, сказал:
- Шо-Пир, я был у купца, выбросил его опиум.
- Как выбросил?
- Схватил. В реку бросил. Он меня вором назвал, с ножом бросился на
меня. Я чуть не убил его камнем. Что было бы, если б убил?
Шо-Пир ничего не ответил. Он долго шел молча, раздумывая о том, что, в
сущности, Бахтиор прав. Конфискации трудно добиться, - ущельцы еще слишком
нерешительны и робки, чтоб выступить против купца. Долголетняя зависимость и
пристрастие к опиуму кажутся ущельцам естественными. Одной агитации,
пожалуй, здесь мало. Вот если бы...
- Эх, Бахтиор! - воскликнул Шо-Пир. - Беда наша в том, что граница
открыта. Ни одной заставы нет на границе. Была бы застава здесь,
пограничников хоть с десяток, живо прекратились бы все безобразия!
И, взмахнув рукой, грозя кулаком, Шо-Пир вдруг крикнул так, что Бахтиор
шарахнулся:
- Черт бы забрал эти горы! Перевернуть их пора!
Умолк и снова задумался.
Миновав селение, друзья поднимались к своему саду. Подойдя к пролому в
ограде, Шо-Пир остановился и, пристально глядя Бахтиору в глаза, произнес:
- А с купцом, Бахтиор, мы поступим так: будем присматриваться ко всему,
что он делает. Соберем такие факты, чтоб, когда настанет время, выложить их
на собрании все сразу. И тогда мигом, не дав никому поостыть, выгоним купца
отсюда... Согласен?
- Скажи, делать как! Все буду делать! - ответил Бахтиор. - Чтоб воздух
наш он не поганил, проклятый!
Солнце жжет ущелье прямыми лучами, но осень уже чувствуется в прохладе
ветерка. Он набегает волнами, несущими от маленьких полей Сиатанга дробный,
настойчивый рокот бубнов. Стоит только оторваться от вязанья, взглянуть
вниз, на мозаику желтых полей, чтоб увидеть женщин в белых рубашках, здесь и
там ударяющих в бубны. Пока хлеб не сжат, надо с утра до ночи бить в бубны,
отгоняя назойливых птиц, жадно клюющих зерно.
Но, сидя на кошме, посреди террасы, Гюльриз пристально смотрит на
красные, желтые, зеленые и синие нити овечьей шерсти. Четыре деревянные
спицы поочередно мелькают в ее сухих коричневых пальцах. Морщины склоненного
над вязаньем лица глубоки, но волосы старухи еще только у висков побелели;
искусственные, вплетенные в волосы косы кончаются толстыми шерстяными
кистями, окрашенными в густой черный цвет.
Косы не мешают Гюльриз: закинула их за плечи, и косы кольцами лежат на
кошме. Даже плотная белая материя домотканой рубахи не скрывает костлявости
Гюльриз, но в позе ее, в уверенных движениях рук все еще сохраняется
природное изящество женщины гор.
Чулок, который вяжет она, будет без пятки, - вырастет в длинный,
искусно расцвеченный мешок. Рисунок, подсказанный Гюльриз ее вольной
фантазией, не похож на те, другие, неповторимо разнообразные, какими
украшают чулки женщины Сиатанга; искусство вязания таких чулок известно в
Сиатанге издревле, никто за пределами гор не знает его.
Ниссо, поджав голые ноги, сидит рядом с Гюльриз и, помогая ей
разматывать окрашенную растительными красками шерсть, внимательно наблюдает
за чередованием затейливого узора. Ниссо очень хочется перенять от старухи
ее уменье. Уже несколько дней подряд, подсаживаясь к Гюльриз, Ниссо следит
за каждым движением ловких пальцев старухи. А потом украдкой уходит в
дальний уголок сада, усаживается возле каменной ограды под густыми листьями
тутовника и пробует вязать сама. У Ниссо нет хорошей шерсти, и слишком эта
шерсть дорога, чтоб решиться попросить у Гюльриз хоть моток. Ниссо подбирает
выброшенные старухой обрывки разноцветных ниток, связывает их в одну и
учится вязать. Пусть первый чулок будет кривым, испещренным узлами, - Ниссо
свяжет его сама, без посторонней помощи. И когда он будет готов, принесет
его Гюльриз, скажет: "Вот видишь, я тоже умею; теперь дай мне разноцветной
шерсти, я свяжу настоящие чулки, я подарю их..." Нет, она не скажет, кому
она их подарит, но... Пусть теперь Шо-Пир обматывает ногу тряпкой, прежде
чем надеть сапог, - а разве хорошо, если зимой, без шерстяных чулок, ноги
его будут мерзнуть?..
Шумит ручей. Ветерок приятен, - сладкий сегодня воздух... Мысли Гюльриз
- о сыне. Вот ее сын стал взрослым, большим человеком. Конечно, большим, раз
его даже сделали властью! Но непонятная это власть. В прежнее время если бог
дарил человеку власть, то с нею вместе дарил и жену и богатство. Богатство,
жена и власть, как три шерстяные нитки, сплетались в один крепкий шнурок,
имя которому было - счастье. А теперь вот власть у человека есть, а
богатство и жена совсем не родятся от этой власти... Не может этого понять
Гюльриз! Правда, есть теперь у нее с Бахтиором дом и даже сад, - раньше ни
дома, ни сада не было. Бахтиор говорит: "Мы богаты!" Но разве он понимает?
Бедность по-прежнему живет в их доме, земли для посева до сих пор у них нет,
все, что посеял в этом году Бахтиор, - маленький клочок богары, там, высоко
в горах, под самыми снежными склонами...
Задержав на вязанье руки, Гюльриз поднимает лицо и глядит выше селения,
на противобережный склон ущелья; щуря глаза, скользит вверх по склону - по
осыпи, по скалам над ней, высоко-высоко, туда, где, сверкая на солнце, к
верхним зубцам хребта припали снега... Там, под ними, почти неразличимое
отсюда, коричнево-зеленое пятнышко - это богарный посев Бахтиора. Холодно
там наверху: дозреет ли? Не вымерзнет ли на корню?
Гюльриз опускает глаза, продолжает перебирать спицы. Богара даст
Бахтиору хлеба меньше, чем Бобо-Калон давал его своему батраку. Но бедность
еще ничего бы: все кругом живут бедно, даже сам Бобо-Калон не имеет того,
что имел прежде. А вот жить мужчине без жены - разве годится? Будь прежнее
время, когда жен покупали, Бахтиор, конечно, не мог бы купить жены, жил бы
до старости одиноким. Но теперь-то ведь время другое. Вот Шо-Пир утверждает,
что мужчины женятся просто по любви, ничего не платя за жену. Но где взять
такую жену, за которую родственники не потребовали бы никакого товара?
Свобода есть, а свободных девушек нет, - ну, на ком в селении мог бы
жениться Бахтиор? И вот судьба привела к ним в дом эту девушку, - красивую,
совсем не плохую девушку. Шо-Пир сказал: "Не заставляй ее работать, Гюльриз,
пусть отдохнет сначала, привыкнет к нам, сама за работу возьмется..." Разве
Гюльриз хоть слово сказала ей? А она вот уже три дня работает. "Дай, нана,
посуду я тебе вымою! Дай постираю белье..." Тутовые ягоды на крышу выложила,
теперь подсушиваются они. Вчера утром сама сварила для всех бобовую
похлебку, а вечером взяла осла, пошла с ним к осыпи, целый вьюк колючки на
топливо привезла! А теперь вот хочет вязать чулки, - наверно, скоро
научится. Хорошая из нее выйдет хозяйка...
Не отрываясь от вязанья, Гюльриз продолжает свои старушечьи мечтанья.
Вот если бы правильным оказалось, что власть дает человек жену! Ведь и в
доме-то у них Ниссо потому, что Бахтиор - власть... Ниссо молода, почему бы
ей не полюбить Бахтиора? Сильный он, хороший он, лучше него разве есть хоть
один человек на свете? За Ниссо никому ничего не надо платить, - взял бы он
ее в жены, и богатство, может быть. Пришло бы в дом?
Бахтиор идет вверх по долине, туда, где за лавкой купца и за домом
Карашира зеленеет селение Сиатанг. От крепости, через селение, сюда, к
пустырю, скоро побежит вдоль тропы вода нового оросительного канала. И на
будущий год пустырь расцветет посевами и садами, и о голоде можно будет не
думать, - лучше всех заживут в Сиатанге факиры, хорошо придумал это Шо-Пир!
Русло канала на всем его протяжении почти готово, осталось выбрать из
него только крупные камни. Надо пройти посмотреть, много ли еще осталось
работы? Минуя лавку купца и дом Карашира, Бахтиор идет вдоль нового русла, -
оно легло как раз рядом с тропой. Но думает Бахтиор о Ниссо.
С тех пор как она появилась, жить стало как-то приятнее. Прежде, выйдя
утром из дому, Бахтиор о нем за весь день ни разу не вспоминал. А теперь
пойдет куда-либо по делу, так и тянет домой, скорей бы увидеть Ниссо...
Прибежит домой - кажется, тысячу слов сказал бы ей сразу, а увидит ее - и
молчит: странно устроен человек, внутри такие слова живут, а с языка ни
одного не срывается. Только не все люди устроены так: вот Шо-Пир целые
вечера разговаривает с Ниссо, позавидовать ему можно! И Ниссо не дичится, -
слушает его шутки, не обижается теперь, когда он смеется над ней, и задает
ему столько вопросов, что всякий другой человек устал бы на них отвечать.
Бахтиору обидно: почему она держится с ним иначе? Конечно, и к Бахтиору
она относится хорошо, но разве бывает с ним откровенной?.. А вот Шо-Пиру уже
все о себе рассказала. Вчера Шо-Пир сам признался: "Знаю теперь ее тайну,
немудреная эта тайна". Когда Ниссо ушла собирать траву "харкшор" для
масляного светильника, Шо-Пир сказал: "Ни слова не говорите девчонке,
держитесь так, будто ничего не знаете". И рассказал им о Дуобе, и о тетке
Ниссо, и об Азиз-хоне... Сам Азиз-хон купил ее в жены, подумать только! И
все-таки убежала она от него.
Конечно, она взрослая женщина, - как может Шо-Пир обращаться с нею, как
с девочкой? Известно, у русских замуж выходят позже, но все-таки странный
Шо-Пир человек: как не видит он, что она совсем взрослая? Не старухой же
замуж ей выходить!
Вчера Бахтиор спросил: "Что будем мы делать с нею?" Шо-Пир сказал:
"Пусть живет здесь, первую советскую семью сладим". Что хотел он этим
сказать? Бахтиор переспросил его, а он только рассмеялся. Шутит или
серьезно? Никогда его не поймешь. Может быть, он хочет жениться на ней?
И от этой мысли Бахтиора сразу охватила тревога. Но тропа к дому уже
позади, Бахтиор идет узеньким переулочком, поднимаясь к крепости.
Очень смешная Ниссо! Когда Шо-Пир исправлял граммофон, она зорко
следила за ним. И вдруг прошептала: "Наверное, умер дэв!" А он смеялся,
разобрал механизм, снова собрал. Ниссо помогала ему. Дал ей какую-то
маленькую пружинку, показал пальцем: "Поставь сюда!" Она обтерла пружинку,
поставила, и голос начал петь снова. И Ниссо сказала: "Теперь знаю, сама
могу научиться делать таких дэвов!" - и только сказала, голос вдруг
оборвался. Снова разобрали они граммофон, лопнула, оказывается, пружинка, и
Ниссо объявила: "Другую такую же сделать надо, - что тут особенного, просто
железка закрученная!" "Признаться по совести, Ниссо, наверное, умнее меня, -
думает Бахтиор. - Вот ничего я не понимаю в этих железках! А все-таки
граммофон испорчен. Шо-Пир говорит: нужны какие-то особенные инструменты,
чтоб вместо поломанной железки сделать другую, новую... Очень огорчилась
Ниссо!"
Старая, не пробитая еще каменная стена пустующей лачуги прерывает
размышления Бахтиора. Эту стену давно уже должен был сломать Худодод, - она
помешает, надо ему сказать.
Все-таки замечательным будет этот новый канал! Ханский канал огибает
селение поверху. Канавки, отведенные от него, режут селение поперек,
пересекая все сады и посевы - от горы до реки. Река течет внизу, под
береговым обрывом, воду из нее не поднять. А та вода, что бежит от старого
канала поперек селения по канавкам, иссякает на пути к береговому обрыву.
Поэтому с давних времен над рекой располагались самые бедные хозяйства -
хозяйства факиров. Им всегда не хватало воды.
Новый канал проведен вдоль селения, по самой его середине. Все сады и
посевы он оросит водой. Как напитается тогда почва в хозяйствах факиров, как
взойдут хлеба!
Бахтиор прошел уже половину селения; он не может не радоваться,
всматриваясь в новое русло. Хорошо поработали здесь. А сколько было споров
сначала! Там нужно было обрушить ограду сада, стоявшую на пути канала, здесь
пересечь пополам чей-либо посев. Один кричал: "Не хочу строить новую
ограду!" Другой: "Не хочу по моей земле пропускать канал, - меньше будет
земли у меня!" Всех уговаривал Шо-Пир: "Для общего блага!" А ему кричали:
"Какое мне дело? Моя стена! Делай что хочешь, мою стену не трогай!" А
все-таки вот удалось сделать все так, как решил Шо-Пир.
Свернув в узкий проход между каменными оградами, Бахтиор видит группу
ущельцев. Они толпятся в проходе, сидят на кромке плитняка под ветвями
тутовника; разгорячась в споре, они не замечают приближения Бахтиора.
Бледный, всклокоченный Карашир энергично жестикулирует, доказывая что-то
Исофу, нетерпеливо слушающему его.
- А я тебе говорю, - кричит Карашир, - солнце на ребрах! Вот, на
ребрах... - повторяет он, тыча себя большим пальцем в грудь.
- Не на ребрах, неправда, - хмуро перебивает его Исоф, - только с горла
уходит.
- Ленивое у тебя солнце! Считать не умеешь.
- А ты сам-то умеешь? - вмешивается молодой широкоплечий ущелец с
небрежно повязанным куском мешковины вместо чалмы.
Бахтиор подходит вплотную к спорящим, облокачивается на выступ стены,
слушает с интересом.
- Умею. Если не умею - остановите меня! - горячится Карашир. - Сорок
дней солнце на верхушке черепа отдыхало? Да?
Никто возразить не может: по календарному счету сиатангцев солнце,
поднявшись от пальцев ног, действительно стояло на верхушке черепа сорок
дней.
- Отдыхало, конечно, - говорит кто-то в толпе. - А как ты от этих
сорока дней считаешь?
- Считаю как? На сороковой день что делали мы? За два дня до этого у
Сохраба девочка умерла, хоронили ее. Так?
- Так! Так! - раздались голоса. - Правильно. За два дня.
- Через три дня после этого осел Хусмата сломал себе ногу. Так?
- Так! Так!
- В этот день солнце с верхушки черепа вниз пошло. Остановилось на лбу.
Три дня стояло на лбу. Зейнат из-за курицы подралась с Ханым. Это было на
третий день. Правильно? Потом солнце перешло на нос мужчины, три дня но носу
стояло. Во второй день после этого Шо-Пир к башне порох принес, сказал:
завтра башню взорвем, а ты сам, Исоф, тогда говорил: солнце на зубах
остановится - башни не будет! Сказал, помнишь?
- Сказал, - согласился Исоф, - не помню только, на второй или на третий
день.
- Не помнишь? Я помню! Башня рассыпалась, женщина к нам прибежала, -
продолжал Карашир, - солнце третий день на зубах стояло! Разве трудно
считать? Солнце на подбородок опустилось, я на канал не пришел. Это был
первый день солнца не подбородке...
- Неправда! - решительно возражает Исоф. - Это был второй день. Опиум
ты курил, не помнишь.
- Один день я больным лежал...
- Не один день, два дня!
- Один.
- Два, говорю.
Карашир беспомощно оглядывается, замечает Бахтиора, который прислонился
к ограде, молча глядит на спорящих.
- Вот Бахтиор пришел! - торжествует Карашир. - Скажи, Бахтиор, один
день или два?
- Два дня, - усмехнулся Бахтиор. - Зачем спорите?
Все оборачиваются к Бахтиору.
- Я говорю, - торопится Карашир, - через шесть дней урожай пора
собирать. Исоф говорит - через девять. Когда солнце придет на бедра - поздно
будет, сильные ветры начнутся, тогда уже провеивать надо, а разве успеем мы
быков выгнать, вымолотить зерно, если только через девять дней с серпами на
поля выйдем? Хорошо, пусть два дня я больным лежал!
- Что же спорить тут? - насмешливо говорит Бахтиор. - Идите к
Бобо-Калону. Он тридцать лет счет времени в своих руках держит, сами
говорите - мудрейший!
- Так говоришь! - хмурится Исоф и вдруг, растолкав ущельцев, вплотную
подходит к Бахтиору. - К Бобо-Калону почему не идем? А что теперь скажет
Бобо-Калон? Он делал зарубки на башне, каждый шаг солнца на башне отмечал, а
где теперь башня? Все люди знали, где солнце, теперь потерян путь солнца!
Когда урожай собирать - не знаем, когда быков выводить - не знаем, когда
серпы точить - тоже не знаем. Карашир кричит - сегодня солнце на ребрах, я
кричу - на горле, третий кричит - к животу подходит. Где солнце, спрошу я
тебя?
- А что Бобо-Калон говорит? - выпрямляется Бахтиор.
- Бобо-Калон что говорит? Вы башню разрушили, сами теперь за солнцем
следите. Пусть Шо-Пир ваш считает теперь, пусть Бахтиор считает... еще
говорит: если во времени ошибетесь - веры разнесут зерно из-под быков,
сгниет зерно от дождей, все перепутается у вас. Отказываюсь я, говорит, ваше
время считать.
- Ну и пусть отказывается! - оттолкнув Исофа, Бахтиор входит в толпу. -
Я пришел вам сказать: пора с серпами на поля выходить. Счет времени в своих
руках теперь держит Шо-Пир. По-своему он считает, правильный счет у него.
День за днем он считает. Зачем, говорит он, искать, де солнце - на бедрах,
на животе или в печенке, когда созрело зерно? Вы ждете своего дня, а зерно
пропадает. Половина урожая может пропасть, пока вы о солнце спорите. Ходил я
с Шо-Пиром по вашим полям, - зерно уже сыпаться начинает. Завтра точите
серпы. Послезавтра все на поля...
Выслушав Бахтиора, ущельцы заспорили еще ожесточеннее. Потеряли они
путь солнца. Надо найти его. Надо вспомнить все самые маленькие события в
селении, чтобы восстановить потерянный счет... Но отступить от него совсем?
Не первый раз уже Бахтиор заводит разговор о каких-то непонятных никому
месяцах, делит их на столь же непонятные части... Считает дни, как товар:
десятый, пятнадцатый, двадцать третий... Один раз досчитает до тридцати и
начинает счет снова, другой раз почему-то считает до тридцати одного...
Зачем этот новый счет, если всем известно, что после сорока зимних дней,
когда замерзшее солнце, не двигаясь, отдыхает, наступает время пробуждения
солнца? Зачем новый счет, если все знают, что, ожидая, солнце
останавливается лучами на собаке, которая, забившись от холода в угол,
подставляет солнцу свою короткую шерсть? Ей холодно, собаке она визжит и
просится в дом, и все девять дней, пока солнце ее согревает, называются
"временем собаки". А затем солнце переходит на хозяина дома и три дня стоит
на пальцах его ног. И каждому понятно, что "солнце пришло на мужчину" и что
надо выходить на поля, начинать уборку навалившихся за зиму камней... А
потом солнце начнет подниматься, задерживаясь по три дня на подъеме ноги, на
лодыжке, на икрах, под коленом, на колене, указывая людям, когда им надо
пахать, поливать поля, справлять маленькие и большие праздники... Дойдет до
верхушки черепа и, утомленное, замрет на сорок летних дней, чтобы затем
снова пуститься в обратный путь к пальцам ног. Всем от века ведомо точно:
сбор урожая начинается в тот самый день, когда солнце докатится до нижнего
ребра. И если ветры или холода придут раньше, чем нужно, или зерно к этому
дню недозреет, то это воля бога, значит, за что-нибудь он шлет наказание. О
чем же еще говорить? Вот только бы найти этот день! Как можно было разрушить
башню и не перенести куда-либо зарубки Бобо-Калона? Никто не подумал об
этом, и сам Бобо-Калон ничего тогда не сказал. Но Бахтиор - советская
власть, он обязан был об этом подумать; Шо-Пир, которого слушаются ущельцы,
тоже должен был об этом подумать.
- Нехорошо сделал ты, Бахтиор! - неприязненно говорит Исоф. - Мы идем с
тобой, потому что ты советская власть, потому что ты власть бедняков
факиров. Зачем ты спутал наш счет? Как на полях нам работать? Если мы не
найдем наш счет, что с урожаем станет? В другое селение спросить не пойдешь,
- сам знаешь, в каждом селении солнце по-своему ходит, другие там ветры,
холода там другие.
Бахтиор был немножко растерян, хотя и доказывал свою правоту. В самом
деле нехорошо получилось. Он и сам до сих пор никак не мог взять в толк тот
календарь, какой предложил сиатангцам Шо-Пир, - голые числа, ни с чем не
связанные названия, - как разберешься в них? Он говорит: сейчас "август",
что такое "август"? Никому не понятное слово! Как по такому слову считать
работу в садах, на полях и на Верхнем Пастбище? В одном Бахтиор уверен: если
Шо-Пир велит начинать сбор урожая через два дня, значит, так надо сделать.
Если послушаться Шо-Пира, будет лучше для всех, правильно работа пойдет,
пусть свой, русский, счет у него, но не хуже ущельцев он знает, хотя и живет
здесь недавно, когда какие ветры придут, когда зерно начнет осыпаться, когда
яблоки начинают падать, когда снег закроет пути от вымороженных пастбищ...
- Так, - закончил спор Бахтиор. - Значит, через два дня на поля
выходим. Шо-Пир сказал так. А за урожай я сам отвечаю.
- Хорошо, пойдем, - согласился, наконец, Карашир. - Я пойду, если ты
отвечаешь. Все равно в этом году плохой урожай, все голодные будем.
- Не будем голодными, когда придет караван, - коротко заявил Бахтиор и,
не дожидаясь решения остальных, вышел из толпы, направился к своему дому.
Ущельцы попробовали снова завести речь о солнце, но, понимая, что
точность их счета безвозвратно утеряна, наконец решили последовать указанию
Бахтиора: обещал - ну и пусть теперь за все отвечает! Несколько стариков
заявили, однако, что будут считать по-своему и выйдут на поля тогда, когда
сами сочтут нужным. Никто с ними спорить не стал, и все разошлись.
А Бахтиор, вернувшись домой, сообщил обо всем Шо-Пиру. Но Шо-Пир слушал
его улыбаясь и сказал ему, что счет на месяцы - советский, счет дней в
каждом месяце - тоже советский, а потому председателю сельсовета надо, не
боясь ничего, хорошенько понять этот счет, накрепко запомнить его и
постепенно приучить к нему всех ущельцев.
Через два дня почти все сиатангцы вышли на поля для уборки хлебов. Тех
безземельных ущельцев, что работали до сих пор на канале, Шо-Пир поставил на
помощь больным и слабым соседям. Ущельцы поверили, что Шо-Пир рассчитается с
ними мукой, которую привезет караван. Они взялись срезать колосья серпами и
таскать их за спиной на носилках к площадке, облюбованной всем селением для
молотьбы.
Новый канал был почти готов. Чтобы открыть путь воде, достаточно было
еще дня работы. Но Шо-Пир объявил, что праздник открытия канала состоится
после уборки и молотьбы.
Засучив штаны, босоногий, в жилетке, надетой на голое тело, Бахтиор
копошится возле террасы, сортируя принесенные от ручья камни. Он складывает
новую стену, хочет сделать пристройку к дому. Бахтиор ничего не говорит, но
Ниссо догадывается: пристройка - для нее!
Бахтиор трудится уже второй день. Он пользуется тем, что работа на
канале приостановилась и что можно никуда не ходить; он очень старается и не
хочет, чтобы кто-нибудь ему помогал.
Пощелкивают камни, укладываемые Бахтиором, снизу от селения доносятся
звуки бубнов, - они то замирают, то гремят басисто и переливчато,
приближаемые волной ветерка.
Ниссо и Гюльриз сидят рядышком, склонив головы над цветными нитями
шерсти.
Гюльриз продолжает вязать чулок. Ниссо аккуратно подбирает обрывки
шерстяных ниток, зажимает их в кулаке. Шо-Пир все пишет что-то в своей
тетрадке. Задержит карандаш, подумает, зачеркнет написанное, пишет опять. Но
вот встает, заложив ладони на затылок, потягивается, подходит к террасе.
- Плохо, Гюльриз, с урожаем в этом году. Понимаешь, считал я... Если
все, что с полей соберут, на посев оставить, хлеба даже теперь есть нельзя
будет. Начнут его есть - на посев не хватит, что будет селение делать
весной?
- Сейчас яблоки в нас, ягоды, абрикосы, горох, бобы. Зачем трогать
хлеб? - сурово отвечает старуха. - Потерпеть можно.
- Так ты же понимаешь, Гюльриз, люди о лепешках весь год мечтали!
- Мечтали - не ели. Ты говоришь - караван придет?
- Придет - муку привезет, не зерно. Сеять муку нельзя. Голодные все, не
захотят каравана дожидаться, все нет его, видишь! Станут молоть зерно, вот и
не хватит его на посев.
Старуха молчит. Потом рассудительно замечает:
- Думай, Шо-Пир. Твоя голова большая...
- А ты, Гюльриз, думаешь как?
- Зачем спрашиваешь старуху? Что я скажу? Может быть, глупое я скажу.
Только, по-моему, пускай не мелют зерно, пускай подождут каравана.
- Ты думаешь так? - неожиданный ответ старухи показался Шо-Пиру
решеньем простым и разумным. Как это ему самому в голову не пришло? Но разве
можно заставить голодных не есть долгожданного хлеба? Во всяком случае,
слова старухи надо хорошенько обдумать.
- А ты что скажешь, Ниссо?
Ниссо быстро оборачивается к Шо-Пиру: смеется он, что ли, над ней, - ее
спрашивает?
- Ничего не скажу я, Шо-Пир, - тихо отвечает она и расщипывает нитку
зеленой шерсти.
- Эх ты, пуганая! Погоди, мы еще в сельсовет тебя выберем! - И уже
серьезно, Шо-Пир обращается к старухе: - Пожалуй, Гюльриз, схожу сейчас на
поля, посчитаю еще. Самому надоел горох. Сегодня опять гороховую похлебку
нам сваришь?
И, не дожидаясь ответа старухи, идет прочь от террасы, не оглядываясь,
погруженный в раздумье, направляется по тропе к желтеющим внизу посевам.
Гюльриз видит долгий, провожающий уходящего взгляд Ниссо, и спицы в
пальцах старухи мелькают еще быстрее.
Бахтиор, выведя осла, завьюченного пустыми корзинами, ушел к голове
канала за глиной. Посидев недолго со старухой, Ниссо подумала, что теперь,
когда мужчин нет, никто не заинтересуется тем, что она может делать в саду
одна, и направилась в сад.
Прошла его весь и у ограды, на излюбленном своем местечке, вынула
из-под камня начатое вязанье, отряхнула землю с самодельных спиц. С
удовлетворением вгляделась в узор: чулок получался ладный. Никто не должен
был здесь Ниссо потревожить, и она спокойно взялась за работу.
Но за оградой, таясь среди крупных камней, лежал человек. Второй день
уже он наблюдал за Ниссо. Второй день искал случая поговорить с нею наедине.
Злился, теряя время, но вот, наконец, Шо-Пира и Бахтиора нет, девчонка одна,
предлог для разговора придуман...
Кендыри тихонько отполз назад, сделал большой круг за камнями и, выйдя
к подножью осыпи, уже открыто, неторопливым шагом направился к Ниссо.
Увидев идущего к ней человека в сером халате и в тюбетейке, Ниссо
рассматривала его без удивления: наверное, к Бахтиору идет, по делу.
Кендыри неторопливо перелез через ограду и, словно только теперь
заметив Ниссо, свернул к ней.
- Здравствуй, темноглазая! Шо-Пир дома?
- Нет, - небрежно ответила Ниссо.
- Бахтиор?
- Тоже нет.
Кендыри досадливо цокнул языком, постоял.
- Надо мне их... Дело есть. - Устало вздохнув, Кендыри подсел к Ниссо.
- Подожду, пожалуй.
Ниссо, опустив голову, продолжала работать. Кендыри улыбнулся, зубы и
десны его обнажились.
- Хорошо у тебя выходит.
- Плохо выходит, - не глядя на пришельца, равнодушно произнесла Ниссо.
- Не умею еще.
- Неправда, умеешь. Вот этот рисунок - это у тебя что? Цветок Желтое
Крыло? Немножко не так вяжешь - сюда желтую нитку надо, конец листа загнутый
будет, - и Кендыри обвел пальцем орнамент.
- Сюда? Почему думаешь? - живо спросила Ниссо.
- Знаю этот цветок. Красивее будет!
Кендыри замолчал. И пока Ниссо, ведя нитку крутым изгибом, заканчивала
рисунок листа, он молча наблюдал.
- Так? - спросила Ниссо.
- Так. Видишь, совсем красиво... Другие - весь ряд - веди так же. Э!
Некогда мне сидеть... скоро придет Бахтиор?
- За глиной пошел к голове канала.
- Пойти туда разве? - рассуждая сам с собою, продолжал Кендыри. - Нет,
лучше здесь подожду! - Помолчал и снова обратился к Ниссо: - Слышал я, ты с
гор прибежала?
- Да, - чуть слышно проронила Ниссо.
- Хорошо тебе здесь?
- Хорошо.
- Конечно, хорошо. Шо-Пир - человек хороший, Бахтиор тоже хороший,
спасибо им, теперь все мы хорошо живем. Не то что в Яхбаре.
- Почему - в Яхбаре? - спросила Ниссо и впервые внимательно взглянула в
лицо собеседнику. Его прищуренные глаза были устремлены поверх ограды, на
склон горы.
- Потому что раньше в Яхбаре я жил, - будто не замечая подозрительного
взгляда Ниссо, проговорил Кендыри, - ушел оттуда. Если бы тебе там пришлось
побывать, узнала бы, какая там жизнь. Для бедного человека там одни палки, а
воздуха нет. Если бы ты захотела послушать меня, рассказал бы я тебе, как
там плохо.
Подозрительность Ниссо сменилась сочувствием. Она уже готова была
поделиться своими мыслями о Яхбаре, но сдержалась и только спросила:
- Яхбарец ты?
- Нет, - нахмурился Кендыри, - не люблю яхбарцев.
- Я тоже их не люблю, плохие, слышала, люди.
- Много плохих, - убежденно промолвил Кендыри. - Только есть и хорошие.
- Наверное, нет хороших.
- Есть. Знаю одного человека. Тоже ушел оттуда, в Сиатанге живет.
Ниссо задержала спицу.
- Кто же такой? Не знаю.
- Купец один бедный... Мирзо-Хуром зовут... Слышала?
- Не слыхала.
- Разве Шо-Пир и Бахтиор не говорили тебе о нем? - внимательно следя за
выражением глаз Ниссо, спросил Кендыри.
- Не говорили... Не слышала.
Кендыри повернулся к ней.
- Спроси у них, скажут... Добрый он человек, помогает всем нам. Вот,
знаешь, мне тоже помог. Я - брадобрей, нищим сюда пришел, он крышу мне дал,
одежду дал, ничего не просил взамен... Приютил - вот как Шо-Пир тебя. Для
Шо-Пира чулок вяжешь?
- Так, учусь.
- А шерсть у тебя какая?
- Вот видишь, хорошей нет.
Кендыри покрутил между пальцами узловатую нитку.
- Э... Знаешь что? У Мирзо-Хура есть хорошая шерсть. Купил он ее, без
чулок зимой холодно; только связать некому, одиноко живет... Сказать ему -
душа добрая - даст он тебе...
- Платить ему надо... Мне нечем...
- Даром отдаст. Так лежит она, портится.
Соблазн был велик. Ниссо представляла себе большие клубки разноцветной
шерсти, новые, длинные - выше колен - чулки на ногах Шо-Пира. Вздохнула:
- Не возьму даром.
Кендыри понял, что удар его точен. Он сделал вид, что задумался. Он
долго молчал. Затем заговорил вполголоса, медленно: Ниссо, конечно, права,
не желая взять шесть даром, но дело можно устроить иначе: купцу очень
хочется, чтобы кто-нибудь связал ему хоть пару чулок. Если б Ниссо взялась,
он дал бы ей шерсти и на вторую пару. Заработав эту шерсть, она сделала бы
другие чулки себе или кому хочет - например, Бахтиору, или, еще лучше,
Шо-Пиру, который, всем известно, ходит в русских сапогах и будет мерзнуть
зимой.
Забыв о вязанье, Ниссо слушала Кендыри. Сумеет ли она сделать купцу
чулки так, чтобы он остался доволен? Ведь она еще только учится вязать!
Ниссо высказала свои сомнения, но Кендыри заспорил: опасенья напрасны,
он видит по этому начатому чулку, что у Ниссо глаз точный, выдумка есть, -
рисунок получается превосходный.
Кендыри предложил Ниссо сейчас же, с ним вместе, сходить к купцу, -
совсем недалеко. Пока Бахтиор ходит за глиной, они успеют вернуться. И если
Ниссо хорошо сделает чулки, Мирзо-Хур даст ей другие заказы, она станет
зарабатывать, ей не придется даром есть хлеб Бахтиора.
...Вслед за Кендыри Ниссо смело переступила порог лавки. Она немножко
оробела, увидев на ковре чернобородого человека в распахнутом яхбарском
халате. Купец читал какую-то ветхую рукописную книгу. Мирзо-Хур скрыл свое
удивление только после многозначительного взгляда Кендыри.
- Я привел ее к тебе, добрый Мирзо-Хур, - произнес Кендыри. - Девушка
знает твою доброту, я сказал ей, что ты не из тех яхбарцев, которых я так
ненавижу... Прекрасно она чулки вяжет, согласилась сделать тебе... Пойдем, я
сам выберу вместе с тобой ту шерсть, которую ты ей дашь. Самую красивую надо
дать.
Через несколько минут перед Ниссо грудой лежали мотки разноцветной
шерсти, и Мирзо-Хур сказал:
- Бери. Для хорошей девушки ничего не жалко... Свяжешь мне чулки по
своему вкусу...
- Тот рисунок, - серьезно вставил Кендыри, - Желтое Крыло сделаешь так,
как я показал тебе. Не торопись, делай медленно. А почему ты без красных
кос? У нас в Сиатанге без красных кос девушки не ходят...
Ниссо знала это. Но у старой Гюльриз не было красных кос, а черные не
полагаются девушкам. Что ответить этому человеку?
- Дай ей красные косы, Мирзо, - коротко сказал Кендыри. - Пусть
привяжет и будет как все.
- Не надо, - смутилась Ниссо. - Не надо мне кос...
- А! Не скромничай понапрасну! - с ласковой укоризной покачал головой
Кендыри. - Теперь среди нас живешь, какие могут быть разговоры? Возьми.
И, не дожидаясь ответа купца, Кендыри отступил в угол лавки, поднял
крышку китайского сундука, вытянул из груды одежд пару красных кос, белую
рубашку с расшитым шелковой ниткой воротом, плоскую ковровую тюбетейку...
...Растерянная, взволнованная, с мешком за спиной Ниссо вышла из лавки.
- Я к Бахтиору другой раз приду! - сказал ей на прощанье Кендыри. -
Когда сделаешь чулки, принесешь сюда. Да благословит тебя покровитель!
Обойдя сад, Ниссо перелезла через ограду, вернулась к своему укромному
местечку и, зная, что тут никто не видит ее, вытряхнула содержимое мешка на
землю. На траву легло дорогое яхбарское ожерелье: тонкие квадратные
пластинки темно-синего лазурита, соединенные серебряными колечками.
Ниссо подняла ожерелье, разложила его на ладонях, разглядывала с
восхищением: в каждом шлифованном камешке, как звезды в предутреннем небе,
поблескивали золотые точки пирита.
Такое ожерелье носила старшая жена Азиз-хона, и другие жены всегда ей
завидовали. Ниссо вспомнились красные бусы, однажды надетые на нее
Азиз-хоном. Она забыла о них тогда, убегая в ту страшную ночь...
Воспоминание омрачило Ниссо. Разглядывая синие камни, Ниссо сообразила, что
эту вещь не оплатишь никакой работой. С досадой, почти со злобой, подумала:
"Зачем Кендыри положил это?"
И все же надела ожерелье на шею и, перебирая пальцами серебряные
колечки, отбросив в радости все сомнения, пожалела, что у нее нет с собой
зеркальца. Поиграв с чудесными камешками, скинула с себя ветхую рубашку
Гюльриз, надела новое платье, цветистую тюбетейку и, думая только о том,
какая сейчас будет красивая, стала подвязывать к своим черным волосам
шерстяные красные косы с пышными кистями на концах.
Среди черных скал образовалась небольшая круглая площадка. Находясь в
самой середине сиатангской долины, но отгороженная от нее громадой
остроугольных, расколотых страшными ударами гранитных глыб, эта площадка
казалась местом диким и неприветливым. Однако ущельцы утрамбовали ее глиной,
принесенной от головы оросительного канала, приспособили для молотьбы
хлебов.
Несколько хозяйств, объединясь, приводили сюда двух или трех быков и,
рассыпав на площадке ровным слоем колосья, гоняли животных по кругу. Копыта
кружащихся, мнущих колосья быков медленно выбивали зерно. Иного способа
молотьбы в Сиатанге не знали.
Каждое утро ущельцы стаскивали к площадке снопы, рассаживались вокруг
по скалам и, дожидаясь своей очереди, вели бесконечные разговоры.
В тот день, когда Шо-Пир отправился на поле проверить свои подсчеты
урожая, а Ниссо в сопровождении Кендыри побывала у купца, к ущельцам,
сидящим вокруг площадки, спустился Исоф. Снопы за его спиной высились
огромною грудой. Это был весь урожай с крошечного клочка его земли.
Сбросив снопы, Исоф молча присел на камень, тяжело дыша и не вытирая
пота, который крупными каплями катился по оспинам его худого лица. Хотя
Исофу было только тридцать четыре года, он казался стариком.
Здесь же с самого утра сидел Карашир: Худодод обещал ему привести быка
от одного из соседей.
Карашир кивнул на сброшенные Исофом снопы.
- Все, Исоф?
- Все. Весь урожай за год! - мрачно вымолвил Исоф.
- У меня и то в три раза больше будет!
- Не хвались! - слизывая с губ пот, произнес Исоф. - У тебя такой же
голод, как и у меня, будет... Для всего селения покровитель приготовил
голод. А может быть, и еще какую-нибудь беду.
- Почему думаешь так, Исоф?
- Грех на селении нашем.
Ущельцы, сидящие на скалах, переглянулись. Карашир спросил:
- О каком грехе говоришь?
- Что буду тебе отвечать? Установленным пренебрегаешь!
Карашир, сунув руку за овчину, почесал волосатую грудь. Помедлил,
подумал - обидеться ему или нет? Но что все-таки хочет сказать Исоф?
- Все мы теперь забываем об Установленном, - медленно проговорил Исоф.
- Слишком много Шо-Пира слушаемся. Бахтиор стал мудрейшим у нас.
За Бахтиора Карашир обычно вступался, Исоф правильно рассчитал; Карашир
провел пальцами по впалым щекам и сердито буркнул:
- Не вся мудрость в твоем Бобо-Калоне.
- Не вся! Старый судья Науруз-бек тоже человек мудрый. Я сегодня слушал
Науруз-бека. В таком большом деле всем не мешало бы послушать его совета.
Два тощих быка, шурша колосьями, неторопливо ходили по кругу. Шуршание
их копыт мешало ущельцам прислушиваться к словам Исофа. А он, наверное,
хочет сказать что-то важное! Ущельцы, сидевшие на скалах, спустились к
площадке и молча расположились вокруг Исофа. Убежденный, что все теперь
будут слушать его со вниманием, Исоф, свесив с колен коричневые руки и
смотря мимо людей на быков, произнес:
- Кендыри из Яхбара вернулся.
Умолк. Все ждали, что скажет он дальше. Но Исоф не торопился. Что же
тут важного? Кендыри много раз ходил в Яхбар и много раз возвращался. Может
быть, в Высоких Горах началась война? Или, может быть, исмаилитский живой
бог требует непредусмотренной подати от миллионов пасомых? Если так, это
действительно важно; кто из жителей Сиатанга не должен платить подати
Ага-хону? А вот с тех пор как нет в Сиатанге пира, никто за податью не
приходил. Что, если Кендыри принес весть о приближении халифа, который
потребует с сиатангцев все долги сразу?
- Говори, Исоф! - не вытерпел ущелец с седой, будто истлевшей, бородой,
владелец одного из кружащихся по площадке быков.
- Скажу, - поднял голову Исоф, освобождаясь от глубокого раздумья. -
Кендыри вернулся, сказал на ухо купцу, купец рассказал Науруз-беку... Знаете
Азиз-хона?
- Кто не слышал о нем! - вымолвил владелец быка. - Большим ханом был.
- Он и сейчас большой хан, - важно промолвил Исоф. - Весь Яхбар покорен
ему. Тропа в большие города проходит мимо селений его. Захочет - закроет
тропу. Захочет - товары Мирзо-Хура мимо него не пройдут. Человек власти!
Исоф замолчал опять. Когда простой факир, подобный Исофу, начинает
говорить с важностью, надо прислушиваться: наверное, сила появилась за
спиною его. Все ждут, что скажет он дальше.
- Весной молодую жену захотел купить Азиз-хон. Красивую жену взял он
себе в наших горах. Сорок монет заплатил за нее. Любит ее. Хорошо у него
жила. Зовут ее - слышали это имя? - Ниссо.
- Какая Ниссо? - быстро вымолвил Карашир. - Не та ли...
- Я говорю, Карашир! - повысил голос Исоф. - может быть, ты говорить
теперь будешь?
Ущельцы переглянулись. Карашир умолк.
- Та! - хлопнул себя по колену Исоф. - Та самая! Негодная тварь убежала
от Азиз-хона, а мы, дураки, пустили ее в наше селение. Живет у мужчин, а мы
молчим! Гнев Азиз-хона на нас!
Последние слова Исофа прозвучали угрозой. Молчаливые ущельцы
почувствовали ее. Нехорошо, когда большой человек гневается на маленьких...
Каждый из сидящих вокруг Исофа размышлял по-своему, но каждый из них
понимал, что такое дело - совсем не простое дело. Если бы не новая власть в
Сиатанге, следовало бы прогнать женщину, отдать ее Азиз-хону; сказать ему:
не знали мы, кто она. Но женщина сейчас у Шо-Пира и Бахтиора! Все может
кончиться не так просто...
Понял это и Карашир и сказал:
- Может быть, теперь уже не захочет взять ее к себе Азиз-хон? Наверно,
проклял такую жену!
- Проклял? Все равно, сначала захочет вернуть. Что сделает он с
неверной женой потом - какое нам дело? Мы должны вернуть ее мужу.
- Шо-Пир не позволит! - убежденно вымолвил Карашир. - время теперь
другое.
- Плевать на Шо-Пира нам! Чужих слушаем.
- Не чужой он. О нас заботится.
- О себе он заботится! Руки длинные! - раздраженно перебил Исоф.
- Неверно это! - выкрикнул молодой ущелец.
- Неверно это, и я говорю! - вскочил с камня другой.
Карашир осмелел, тоже вскочил с камня и, придерживая овчину, подступил
к Исофу:
- Стыдно тебе так говорить, Исоф! Когда ты был служкой у пира, тебя
ногой били в живот, когда я сеидам навоз собирал, камнями били меня... Кто
бьет нас теперь? Кто помог нам, если не наш Шо-Пир? Три года он здесь живет,
что сделал себе? Быков завел, коров, лошадей, сады? Ничего нет у него!
Гороховую похлебку, как и мы, ест! Бахтиор, скажешь, дом имеет, корову
имеет, сад у него? Плохо это? Неправда, хорошо это: всех нас беднее был
Бахтиор! У тебя, Исоф, больше ничего нет - ты работать не любишь. У меня
больше нет ничего, потому что... знаете все: грех на душе моей, больной
валяюсь, двужизненный дым голову мою кружит, а все-таки сквозь дым вижу я:
вода на пустырь пойдет - для нас. По слову Шо-Пира пойдет, - понимаем мы!
Теперь Шо-Пир женщину себе взял? Хорошо, пусть взял, не у нас отнял ее, сама
прибежала! Почему ему жены не иметь? Или Бахтиор не мужчина разве? Настоящий
мужчина не поделит жены с другим. Живут, как друзья, в одном доме, не
ссорятся, не убивают друг друга, значит, позора в их доме нет, значит, о
свадьбе скоро услышим!
Распаленный Карашир уже размахивал руками перед Исофом, а тот, мрачный,
стоя перед ним с искаженным лицом, напрасно старался его перебить.
- Слушай ты меня, нечестивец! - толкнув в грудь Карашира, прокричал,
наконец, Исоф. - Установленное собаке кидаешь? Об этом не буду с тобой
говорить, о другом слушай! Мирзо-Хур сказал: Азиз-хон закроет тропу, не
позволит ему покупать товары, голод придет, что будем делать тогда? Твоего
зерна, пока солнце до колена дойдет, не хватит. Моего зерна - до лодыжки не
хватит. Как без купца проживешь? Камни будешь варить? Колючей травой восемь
детей прокормишь?
Упоминание о голоде сразу подействовало на Карашира. Гнев его
улетучился. Отступив на шаг, он неуверенно произнес:
- Караван придет...
- Веришь? - язвительно протянул Исоф. - Я не верю. А еще скажу: злоба
Азиз-хона - нехорошая злоба. Из-за проклятой распутницы не надо ее вызывать!
Не я это говорю. Мудрость словами судьи Науруз-бека так говорит. Бога
гневим, Азиз-хона гневим, Бобо-Калона и купца гневим, из-за чего? Из-за
дряни чужой? На нее глядя, наши женщины повернутся спиною к мужьям. В глаза
нам станут плевать. Отдать ее Азиз-хону - делу конец, беды нам не будет.
- Правильно! Отдать! - послышались голоса сгрудившихся вокруг Исофа
ущельцев. - Истину говорит!
Карашир беспомощно оглянулся:
- Кричите! Сельсовет не допустит этого!
- Сельсовет? - усмехнулся Исоф. - Что нам твой сельсовет? Что такое
сельсовет? Твой Шо-Пир говорит: сельсовет делает, как народ решает! Слышишь,
что решает народ?
- Не народ здесь, двадцати человек не будет.
- Двадцати? Хорошо. Пусть весь народ соберется! Весь Сиатанг! Большое
собрание устроим. Увидишь, что скажет народ.
Крики спорящих уже разнеслись далеко. Не понимая, что происходит,
перепрыгивая со скалы на скалу, к площадке сходились другие ущельцы и
вступали в спор.
Люди, которых Ниссо никогда не видела, о существовании которых даже не
знала, здесь, среди черных, беспорядочно нагроможденных скал, решали ее
судьбу. Словно тучи сгущались над головой девушки, не ведающей о приближении
беды. Эта беда была страшнее пасти Аштар-и-Калона.
В узком проходе между иззубренными каменными громадинами показался
Шо-Пир. Увидев его, спорящие разом притихли.
- Что за шум, друзья? - спросил Шо-Пир, подойдя к площадке и оглядывая
взволнованных ущельцев.
Все молчали.
- Может быть, не хотите сказать мне, о чем был спор? Я не стану и
спрашивать.
- Собрание надо, - наклонившись над своими снопами и перебирая их,
угрюмо буркнул Исоф.
- Собрание? Зачем?
- Дела всякие есть.
- Какие? - сказал Шо-Пир так тихо, что его могли бы и не услышать. Но
все услышали и молчали.
- Какие дела, Исоф? - так же тихо повторил Шо-Пир.
Глядя сбоку на пыльные сапоги русского, Исоф проворчал:
- Разные есть.
- Скажи ты, Карашир.
- Я скажу! Твоя Ниссо, Шо-Пир, - жена Азиз-хона. Требует ее Азиз-хон
назад... Вот о собрании разговор - не знаем мы, как народ решит...
Губы Шо-Пира сжались. Ущельцы сумрачно следили за выражением его лица.
Шо-Пир сдержался.
- Что же... Давайте устроим собрание... Только сейчас, пока молотьба не
кончена, некогда собираться. Вот в праздничный день, когда будем канал
открывать, - заодно тогда.
Резко повернулся, пошел прочь от площадки. Худшее из того, что он мог
предвидеть, случилось.
Но, поднимаясь к своему дому, сосредоточенный, злой, Шо-Пир ни на миг
не усомнился в том, что он победит. Будет большая борьба, и надо продумать
все как можно тщательнее. Хорошо уж и то, что ему удалось выиграть время. Во
всяком случае, ни при каких обстоятельствах, никогда, Ниссо не будет отдана
Азиз-хону! Ибо в Сиатанге есть и будет всегда советская власть! А откуда
идет злоречье, ему, кажется, было ясно.
Долго возится Бахтиор, собирая между камнями глину, и, наконец,
наполнив обе корзины, щелкает осла хворостиной. Под желобами старого канала,
среди камней, орошенных падающими каплями, растут маленькие цветы "хаспрох".
Сорвав цветок, Бахтиор закладывает его стебель под тюбетейку, весело
напевает однотонную песенку, одну из тех коротеньких песенок, какие ущельцы
поют всякий раз, когда ничто не нарушает их беспечного настроения:
Из нас двоих беспокойней ветер:
Я терплю, он терпеть не хочет, -
Он трогает лицо твое и трогает волосы,
А я только жду и смотрю на них...
Бахтиор не думает о том, что поет; подгоняя осла, он следит, чтоб тот
не зацепился корзиной за какой-нибудь выступ. Спускаясь через крепость,
Бахтиор мельком взглядывает на старую черную башню. Бобо-Калона не видно, но
он, вероятно, в башне, - Бахтиору хочется петь громче, чтоб старик, услышав,
позавидовал факиру, у которого сегодня так хорошо на сердце.
- "Из нас двоих беспокойней ветер", - громче повторяет Бахтиор и
внезапно меняет песенку:
Козленок бежит по тропе,
Ружьецо заряжено,
И я попадаю в печень!
А может быть, старика нет дома? Но куда мог бы он уйти? Ах, все равно!
Что думать о старике, у которого жизнь на исходе! А вот у Бахтиора она
только еще начинается. Весело жить - солнце такое высокое. Даже осел, топоча
копытцами, весело помахивает хвостом. Камни, смазанные глиной, лягут прочно.
И сложенная Бахтиором стена, может быть, простоит еще дольше, чем стены этой
старинной крепости. Хороший у Бахтиора дом, теперь будет он еще лучше.
Конечно, лучше: в нем теперь слышен смех, очень веселый смех - радостный,
легкий смех.
Я терплю, он терпеть не хочет, -
Трогает лицо твое и трогает волосы...
Бахтиор идет и поет, спускаясь к селению, и цветок под его тюбетейкой
покачивается, щекочет лицо, благоухает... "Трогает лицо твое и трогает
волосы..." Слова песенки входят постепенно в сознание, в сотый раз Бахтиор
повторяет их. Бахтиору приятно, что смысл этих слов теперь по-новому понятен
ему.
Внизу селение. А вот среди скал - круглая маленькая площадка. Два
чьих-то быка ходят по ней, кружась, а у площадки собрались люди. Один бык -
белая шея, белое пятно на левом боку. "Чей это бык?" - думает Бахтиор, не
прерывая песенки. Ах, все равно - молотьба идет так, как надо, все идет так,
как надо... Свежий ветерок тоже дует, как надо, весело дует!
Бахтиору незачем спускаться к площадке: огибает склон поверху, гонит
осла домой... И кровать надо для Ниссо сделать - деревянную, широкую,
русскую, - так, чтоб она заняла половину пристройки, которую сложит Бахтиор
из камней. Теперь Бахтиор - спасибо Шо-Пиру! - уже сам сумеет сделать такую
кровать. "Из нас двоих беспокойней ветер... А я только жду и смотрю на
них..." Слова путаются, Бахтиор напевает, думая совсем не о песенке.
Подходит к своему саду, минует его; осел сам останавливается у камней,
сложенных возле террасы. Сейчас Бахтиор выроет яму, растворит водой глину,
до вечера будет работать... Гюльриз сидит на террасе, вяжет пестрый узор, а
где же Ниссо? Но зачем искать ее взглядом, - наверное, в саду, сейчас
выйдет.
И, сгрузив глину, сбросив халат, Бахтиор принимается за работу.
Из комнаты на террасу выходит Ниссо, и Гюльриз испытующе глядит на
сына, - что скажет он?
Ниссо - в новом платье, со спущенными на грудь красными косами, в
синей, вышитой яркими цветами лотоса тюбетейке, - в самом деле, такая Ниссо
очень хороша, совсем взрослая девушка... Ниссо смотрит на Бахтиора, стоит
рядом с Гюльриз, но ждет, чтобы Бахтиор увидел ее.
И, опустив измазанные жидкой глиной ладони, Бахтиор глядит на Ниссо,
полный недоумения, не сразу понимая, что именно преобразило ее.
Трет ладонь о ладонь, сбрасывая с рук комья глины, медленно подходит к
террасе, поднимается по ступенькам и останавливается перед Ниссо.
- Где ты это взяла? - не скрывая восхищения, произносит он.
Ниссо прямо глядит на него, чуть-чуть улыбается и молчит.
- Скажи, Ниссо! Почему молчишь? Нана, ты ей дала?
- Откуда у меня, сын, такие богатства?
Обе они улыбаются, но зачем шутить, - откуда у Ниссо этот наряд?
- Где взяла? - уже с оттенком тревоги повторяет вопрос Бахтиор.
- Ведь, правда, красивое, Бахтиор? - лукаво дразнит его Ниссо. - Где
взяла, спрашиваешь?.. Скажу! Хороший человек дал.
- Как это дал? Кто мог дать? Шо-Пир?
- Разве, кроме Шо-Пира, в Сиатанге других нет?
- Других? - Сердце Бахтиора сжимается. - Кто тебе это дал? Говори!
- Хороший человек, говорю, - продолжает улыбаться Ниссо.
Бахтиор вплотную подступает к Ниссо, лицо его сумрачно, глаза остры и
тревожны.
- Не шути, Ниссо... Кто дал? Даром дал?
Гюльриз с беспокойством следит за сыном. Ниссо уже не улыбается, в
глазах Бахтиора она никогда не видела гнева. И в ответе ее неуверенность.
- Кендыри зовут этого человека... Приходил сюда...
- Кендыри тебе дал? - Бахтиором сразу овладевает ярость. - Покровитель,
что такое еще?! Почему Кендыри? Откуда знаешь его?
- Почему не знать? Разве плохой человек? - И, пугаясь угрожающего
взгляда Бахтиора, Ниссо добавляет: - Не Кендыри дал, купец дал, ходила к
купцу я... Добрый он...
Бахтиор хватает Ниссо за плечи и, не помня себе, кричит ей в лицо:
- Купец... Платье... Кендыри... Ходила... Сумасшедшая ты... Собака он.
Снимай платье! Снимай, говорю!
Трясет за плечи ошеломленную Ниссо, сбрасывает с нее тюбетейку, треплет
за ворот платья. Ниссо, вскрикнув, пытается вырваться. Гюльриз вскакивает,
кладет руки на плечи Бахтиору.
- Перестань, мой сын! Оставь ее. Ты с ума сошел!
И в тот же миг раздается зычный голос Шо-Пира:
- Бахтиор!
Бахтиор сразу оставляет Ниссо, она опускается на пол, скрыв руками
лицо.
Шо-Пир уже на террасе.
- Что происходит здесь? Ошалел, Бахтиор? В чем дело?
- Бешеный он! - бормочет Гюльриз. - Ой-ио! Сына своего в первый раз
боюсь.
Не зная, куда девать руки, Бахтиор теребит шерстяной поясок. Ему
стыдно, но гнев еще не прошел.
- Вот! Красивая она - видишь? Спроси, где платье взяла? Куда ходила? С
кем разговаривала?
- Ходила! Разговаривала! - передразнивает Шо-Пир. - Ты, может быть,
хан?
Лицо Шо-Пира побагровело. Бахтиору непереносим его взгляд. Гюльриз
делает вид, что продолжает вязать чулок. Подогнув ноги, Ниссо испуганно
смотрит с пола на мужчин. Шо-Пир, смягчившись, обращается к ней:
- Кто дал тебе платье?
- Не сердись, Шо-Пир, - тихо отвечает Ниссо, и большие взволнованные
глаза ее блестят надеждой. - Кендыри сюда приходил, к купцу мы ходили...
Купец дал...
- Купец? С Кендыри, говоришь, ходила?
Зачем Шо-Пир смотрит на нее так? Лучше бы закричал, как Бахтиор! Ниссо
молчит. Ей хочется сказать правду Шо-Пиру, но... ведь именно ему она хотела
тайно приготовить подарок. Сказать про платье... - значит сказать про
шерсть, а эта шерсть...
Гюльриз видит, что Шо-Пир хмурится больше. Она угадывает его мысли и
решает вмешаться:
- Не то думаешь ты, Шо-Пир! Шерсть она вяжет, у меня учится. Купец
заказал ей чулки, шерсть дал, за работу дал плату.
- Нана! - с обидой взмаливается Ниссо. - Я просила тебя...
- Молчи, молчи! Ты просила... - прикрикивает на нее Гюльриз. - Теперь
дело другое - видишь, что получается! Лучше пусть знает Шо-Пир.
- А зачем чулки вдруг понадобились ему? - оборачивается к старухе
Шо-Пир, но Бахтиор не дает ей ответить:
- Пусть снимет платье, я брошу его в нос купцу!
Шо-Пир внимательно разглядывает одеяние Ниссо. Платье идет ей, она
действительно в нем хороша. Шо-Пиру жалко Ниссо.
- Вот что, Бахтиор... Решим дело иначе. Купец дал. Неспроста дал - не
знаю, какой расчет. Но рассудим так: купец дал товар, на то и купец он,
чтобы товары свои продавать. Платье цену имеет, он хочет, чтоб Ниссо
отработала. Но за шерсть и за платье он получит расчет иначе: я сам
рассчитаюсь с ним, а платье пусть останется у нее, пора приодеться ей!
- Как рассчитаешься?
- Мое это дело... А ты, Ниссо, без нас в селение больше не ходи.
- Конечно, - подхватывает Бахтиор. - Пусть не ходит! Незачем ей туда
ходить!
- Не потому, Бахтиор, - перебивает Шо-Пир, возвращаясь к обычной
насмешливости. - Вижу я, какая ты советская власть, готов запереть Ниссо. По
другой причине...
- По какой, Шо-Пир?
- По такой, - Ниссо, слышишь? - есть люди, которые хотят тебя вернуть
Азиз-хону.
Если бы сам Азиз-хон появился вдруг на террасе, Ниссо, вероятно,
испугалась бы меньше. Она побледнела.
- Не пугайся так, глупая, - сказал Шо-Пир. - Хорошо, что мы знаем об
этом. И не тревожься. Ты останешься в Сиатанге. Только, пока я не разрешу
тебе, никуда не ходи. А сейчас вставай! Бахтиор, ты, кажется, глину привез?
Подними-ка вон тюбетейку. Эх ты, вымазал всю!
Был вечер, один из тех тихих вечеров, что бывают только в горах, когда
ущелье, остывая от дневного жара, до краев налито тишиной, когда каждый
шорох, звук скрипнувшего под ногами камня, всплеск ручья на маленьком
перепаде разносятся над долиной, свидетельствуя об ее величавом покое.
Лунный свет медленно овладевал миром. Где-то внизу печально и тихо рокотала
пятиструнка, да время от времени в другой стороне переливалась свирель.
Бахтиор давно взобрался по лесенке в свой шалаш, а Ниссо отправилась
спать в комнату.
Шо-Пир сидел на террасе, спиною к саду, сжимая пальцами колено, и,
легонько покачиваясь, беседовал с сидящей перед ним на ковре прямой и
строгой Гюльриз.
Шо-Пир рассказывал старухе о том, как живут женщины за пределами гор,
там, где навсегда уничтожено Установленное. И пока Шо-Пир ни слова не сказал
о Ниссо, старуха слушала его молча, только поблескивая в лунном свете умными
запавшими глазами. Мысль привлечь женщин к тому собранию, что решит судьбу
Ниссо, казалась слишком смелой даже самому Шо-Пиру. Но он надеялся на
Гюльриз, только она могла ему помочь.
Но вот Шо-Пир сказал все. Молчала Гюльриз, передумывая ту свою заветную
думу...
- Теперь Азиз-хон требует нашу Ниссо... - как будто без всякой связи со
сказанным произнес Шо-Пир. - Как ты думаешь, Гюльриз, отдадим?
- Красивая! - осторожно ответила Гюльриз. - Не забудет ее Азиз-хон!
- А что сделает, если не забудет?
Лучше Шо-Пира понимала Гюльриз, что такой человек, как Азиз-хон, пойдет
на все. Лучше Шо-Пира знала она былое могущество Азиз-хона. В ту пору, когда
Сиатангом владели сеиды и миры, даже Бобо-Калон боялся его, хотя и считал
себя независимым от Яхбара. Боялся больше, чем русского наместника, жившего
со своими солдатами в той крепости, что сейчас называется Волостью. Пусть
Сиатанг считался владением русского царя, Азиз-хон к Сиатангу жил ближе, и
слова его всегда были делом потому, что русские солдаты с винтовками никогда
не приходили сюда... И что Азиз-хону мог бы противопоставить Шо-Пир? А мало
ли что может придумать Азиз-хон, решив любым способом вернуть Ниссо?
Гюльриз ответила:
- Страхом свяжет сердца наших мужчин.
- Чего им бояться?
- Бахтиор - один, ты - один. За тобой мужчин мало, как трава они,
против ветра стоять не могут. Против тебя - обычай, сильные еще у нас
старики; молодые, как старики, есть тоже.
- При советской власти дела решает счет голосов.
- Плохой счет будет у наших мужчин! Мало таких, кто против
Установленного пойдет.
- А ты пошла бы?
- Я женщина.
- Женщина тоже может поднимать руку!
"Что он сказал? Если правильно его понять... Даже десять кругов прожив,
от сиатангских мужчин не услышать бы этого! Но Шо-Пир сказал так, он думает
так, - вот как пристально смотрит, ждет!.."
- От рождения пророка Али такого не было, - наконец тихо произнесла
Гюльриз.
- Советской власти тоже от рождения Али не было, - очень серьезно
сказал Шо-Пир.
- Кому нужна одна моя рука?
- Женщин в селении много. Бахтиор сумеет их сосчитать.
- Сумеет... - полушепотом подтвердила Гюльриз. - Если их много будет.
Думаю я: головы у женщин одинаковы, руки - не знаю, как...
- Если ты пойдешь по домам разговаривать...
Приложив руку к морщинистому лбу, Гюльриз, казалось, забыла о Шо-Пире.
Он слушал дальние переливы свирели.
- Так, Шо-Пир, - твердо произнесла старуха. - Знаю тебя. Ты, когда
чего-нибудь хочешь, стены не знаешь. Но только я по домам не пойду.
- Не пойдешь? - встревожился Шо-Пир. - Как же тогда?
- Не пойду по домам. Не смотри на меня так. Глупая, может быть, я, но
по-своему думаю. В каждом доме мужчина есть. С женщиной один раз я поговорю
и уйду, он потом сто раз ей наперекор скажет; ударит ее, дэвов страха на нее
напустит... Надо иначе делать, по моему разумению. Надо с теми говорить, кто
далеко от мужчин. Половина наших женщин сейчас на Верхнем Пастбище живет,
скот пасет. Ты знаешь закон Установленного: ни один мужчина не может туда
пойти. Даже если жена там родит, не может пойти туда, если пойдет - все
женщины камнями прогонят его. Потому что они - Жены Пастбищ. Скажи, когда
собрание будет?
- Нана! - в волнении, первый раз называя так Гюльриз, вскочил Шо-Пир. -
Лучше и не придумать! Мудрая ты! Иди к ним. Через три дня молотьбе конец.
Один день на канале работать будем. На пятый день собрание надо устроить.
Как думаешь?
- Хорош, Шо-Пир, на пятый... Сядь здесь, зачем стоишь? Вот так...
Завтра я пойду на Верхнее Пастбище, и останусь там. После молотьбы кончается
время летнего выпаса. После молотьбы все мужчины вместе должны подняться на
Верхнее Пастбище. Им надо увести вниз своих жен и свой скот; надо взять
посуду, и вещи, и все, что дал скот за лето... Скажи всем: сначала собрание,
потом пусть идут наверх... А я скажу Женам Пастбищ: есть новый закон -
спускаться в селение и гнать скот без мужчин. И мы придем в день собрания...
- А если побоятся женщины?
- Если женщины побоятся, тогда Ниссо нужно отдать Азиз-хону. Я этого не
хочу, Шо-Пир. Если побоятся женщины, значит, моему сыну не нужна его глупая
мать, значит, мне умереть пора...
Поймав себя на полупризнании, Гюльриз положила костлявые пальцы на шею
Шо-Пира, привлекла его лицо к себе, пытливым, долгим взглядом изучала
выражение его глаз.
Шо-Пир ждал, не понимая порыва старухи.
- Так, Шо-Пир, - голос Гюльриз дрогнул. - Я смотрю на тебя, и я верю
тебе, ты, наверно, святой человек, тебе можно сказать... Знать мне надо: ты
хочешь, чтоб Бахтиор взял в жены Ниссо?
Шо-Пир сам не раз думал об этом. И сейчас, прямо смотря в блестящие
глаза Гюльриз, он, не задумавшись, коротко сказал:
- Да, Гюльриз.
Но сказав так, почему-то сразу почувствовал свое одиночество, душа его
затомилась. Однако он поборол себя. Сняв руку Гюльриз и не отпуская ее,
горячо воскликнул:
- Да, нана, твоему сыну я хочу счастья... Завтра утром иди на Пастбище!
И тихо добавил:
- А мне теперь можно спать...
- Правда, Шо-Пир, время спать! - ласково промолвила Гюльриз и провела
ладонью по мягким его волосам, как будто большая голова Шо-Пира была головою
сына.
Шо-Пир встал и, подумав о том, что за все последние семь лет жизни
никто ни разу не гладил его волос, со стесненным сердцем направился к
платану, под которым его ждала кошма, заменяющая постель.
Лег на кошму. Залитый лунным светом, пробивающимся сквозь листья,
вспомнил далекий, родной, уже семь лет не существующий дом... И тот страшный
день, когда на своей полуторатонке, полной голодных, исхудалых
красноармейцев, он подъехал к этому дому и увидел в саду только обугленные
развалины. За два часа перед тем почтарь из его маленького городка позвонил
по телефону в город и успел сказать: "Скорее! Пришли басмачи!.." В
телефонную трубку был слышен выстрел, и голос почтаря оборвался... Шо-Пир
гнал машину полным ходом. Въезжая в селение, видел пустившихся наутек
всадников, подъехал к своему дому. Но было поздно: в развалинах лежали
обугленные трупы двух женщин, ребенка и старика. Это были жена, мать, отец и
маленькая дочка Шо-Пира. У всех, кроме дочки, оказалось перерезанным горло,
а у дочки размозжена голова... И молодой шофер Санька Медведев, похоронив
близких, уехал из городка навсегда и в тот же вечер вступил добровольцем в
Красную Армию, чтобы бить, бить, без конца бить и уничтожать басмачей...
С тех пор никто никогда не приласкал его. Впрочем, однажды ласковая
рука гладила его плечо. Но это была мужская, загрубелая в горных походах
рука. Разве забудется день, когда все товарищи его, демобилизовавшись,
отправлялись на север? Был вечер в пустынных горах, - каменная долина далеко
простиралась от юрт. Командир, усатый, дородный Василий Терентьич, ввел
Медведева в юрту, приказал всем выйти и, усадив боевого товарища рядом с
собой, завел с ним разговор по душам. "Возвращайся с нами, чего ты блажишь?"
- уговаривал командир, но Медведев молчал и, наконец, упрямо сказал: "Не
поеду, не сердись на меня, Терентьич!" - и все впервые рассказал командиру.
Тот слушал его, пощипывая выцветшие усы, поглаживая ладонью его плечо.
"Понимаю, парень, - сказал, - коли не к кому тебе возвращаться, делай
по-своему. Правильно тебе говорил комиссар. Я и сам привык к этим горам,
кажется, никогда б не расстался... Ну, сыщи себе родимый дом, здесь живи.
Везде есть хорошие люди, может, и правда сумеешь быть им на пользу!"
Вытянувшись гуськом, уходил отряд. Косые лучи закатного солнца освещали
выгоревшие гимнастерки красноармейцев. Они удалялись верхами, и Медведев
готов был уже рвануться за ними, - так больно вдруг стало сердцу. Но он
опомнился, оглянувшись, увидел старого дунганца с жиденькой бородкой,
который стоял за ним, сложив на животе руки, не стесняясь слез, катившихся
по желтому, исхудалому лицу. Это был Мамат-Ахун, целый год скитавшийся
вместе с отрядом проводник, которому тоже некуда было возвращаться и который
решил стать погонщиком оставленных отрядом в кочевом ауле больных
верблюдов... И, глядя на него, Медведев чуть было не заплакал сам.
И вот сколько лет прошло, старая жизнь забыта, даже слова "Санька
Медведев" кажутся чужими, относящимися к кому-то другому, - было бы странно
вместо привычного Шо-Пир услышать вдруг прежнее имя, - а ласка грубоватой
мужской руки словно и сейчас ощущается на плече... И теперь это вот -
неожиданное прикосновение старухи! "Прав был Терентьич! - думает грустный
Шо-Пир, глядя на раздробленный листьями лик луны. - Тут тоже есть хорошие
люди, и что ж - разве не на пользу им я живу?"
Но горькие мысли, которые Шо-Пир всегда умел отогнать, на этот раз
завладели им на долгие часы ночи... И, лежа на кошме, не противясь печальным
раздумьям, Шо-Пир вспоминал всю свою странную, суровую, одинокую жизнь... И,
сам не зная почему, неожиданно для себя задумался о Ниссо... Долго думал о
ней с какой-то заботливой нежностью и постепенно перешел к мыслям о том, чт
и как должен сделать он, чтобы добиться признания всеми ущельцами ее права
жить в Сиатанге... Размышления Шо-Пира стали точными, он снова был
человеком, воздействующим на ущельцев силой своего простого, решительного
ума, человеком, знающим, чего хочет он, и умеющим подчинять себе
обстоятельства так, чтобы они помогали ему идти к ясно представленной цели.
И когда все нужные выводы были сделаны, когда луна закатилась за гребень
горы, а привычный шум ручья снова возник в ушах, Шо-Пир повернулся на правый
бок и погрузился в сон. Но в самый последний миг сознания, услышав храп
Бахтиора, подумал: "А Бахтиор, конечно, любит ее!.."
Как в зало суда, в мирозданье,
Сквозь тяжесть застывших пород,
Легкости высшей созданье -
Мысль - кодекс познанья несет...
...Так встаньте ж! То Жизнь идет!..
Судья камней
По календарю сиатангцев солнце стояло на коленях мужчины, потому что -
впервые этой осенью - вдоль ущелья дул сильный холодный ветер. Это
исполинские ледники напоминали людям о своем существовании. Ночь была с
легким заморозком, и потому факиры в своих просвистываемых ветром домах
просыпались раньше обычного. Проснувшись, они сразу вспоминали, что хлеба
уже убраны и что можно никуда не спешить. Вертясь от холода под рваными
овчинами и халатами, каждый тешил свое воображение размышлениями о том, что
не плохо было бы разжечь огонь в очаге и, присев перед ним на корточках,
набраться на весь день тепла. Но зима была еще далеко, и тратить ветки
колючки из запаса, заготовленного на зиму, мог бы только неразумный и
расточительный человек. Нет, лучше проваляться под своим тряпьем до тех пор,
пока солнце не встанет прямо над крышей дома и лучами переборет холод,
принесенный ветром от ледников.
Только Бахтиор и Шо-Пир в это утро поднялись, как и обычно, рано.
Накануне новый канал был окончен, русло расчищено на всем протяжении - от
крепости до пустыря, и лишь в голове канала осталась огромная каменная
глыба, преграждавшая путь воде. Эту глыбу Шо-Пир решил убрать в
торжественный день открытия канала. Разговоры о советском празднике, о воде,
о новых участках, о большом собрании велись по всему Сиатангу.
Направившись к пустырю, чтобы разметить и обозначить новые участки,
Шо-Пир и Бахтиор зашли сначала к Исофу, затем к Караширу, разбудили их и
вместе с ними пришли на пустырь. Ветер дул непрерывным потоком; казалось
непонятным - откуда берется такая плотная, давящая масса воздуха; камни
пустыря, пропуская ветер в свои расщелины, пели тоненькими протяжными
голосами; слова, произносимые Шо-Пиром, уносились вниз по долине и почти не
были слышны спутникам. Карашир ежился, горбился, кутаясь в лохмотья овчины,
Исоф непрестанно поправлял свою раскидываемую ветром бороду, Бахтиор поднял
ворот халата, и только Шо-Пир шел легко и свободно, словно никакой ветер не
мог проникнуть сквозь туго обтянувшую его гимнастерку.
Шо-Пир любил ветер и в такую погоду всегда становился веселым.
Ни одного облачка не было в небе, оно казалось нежней, чем всегда, и
прозрачность его представлялась тем более удивительной, что несущийся
плотный воздух, казалось, можно было видеть, и не только слышать и ощущать.
Грядя нагроможденных скал отделяла селение от пустыря. Она обрывалась
невдалеке от жилья Карашира. Пустырь - нижняя узкая часть долины - был
сплошь, до самой реки, усеян мелкими камнями. В проходе между скалистой
грядой и обрывом к реке Сиатанг виднелась лавка Мирзо-Хура. Мимо нее
проходила тропа, ведущая из селения через пустырь к мысу, за которым
начиналось глухое ущелье. Купец неспроста поставил свою лавку именно здесь:
ни один человек, поднимающийся от Большой Реки, не мог бы обойти купца
стороной.
Новый канал, пройдя все селение, вступал в пустырь между лавкой купца и
грядою скал. Здесь он разветвлялся на десяток узких, веерообразно
расходящихся канавок; каждой из них предстояло оросить один-два участка.
Канавки по краям были выложены камнями, кое-где подкреплены ветками
кустарника и принесенной из-за крепости глиной.
Бродя по этим, пока еще не тронутым водою канавкам, Шо-Пир и его
спутники складывали на каждом участке каменную башенку. Шо-Пир выискивал
плоский обломок сланца и острым камешком вырисовывал на нем хорошо понятные
сиатангцам изображения.
Карашир и Исоф с недоумением следили за возникающими под рукой Шо-Пира
рисунками.
- Зачем это? - спросил Карашир, когда Шо-Пир поставил на первой башенке
осколок сланцевой плитки с нацарапанным на нем скорпионом.
Шо-Пир отделался шуткой и обозначил несколько других участков
изображениями рыбы, змеи, козла...
Карашир и Исоф продолжали работу, решив про себя, что Шо-Пир совершает
какой-то недоступный их пониманию священный обряд. Когда Карашир,
всматриваясь в укрепленное на одной из башенок замысловатое изображение
дракона, не утерпел и, качая с сомнением головой, осторожно спросил: "Что
будет?" - Шо-Пир коротко по-русски ответил ему: "Жеребьевка", но тут же
рассмеялся и объяснил, что в день открытия канала ущельцы будут тянуть
наугад камешки с такими же точно рисунками.
- Вытянешь Змею - тебе участок Змеи достанется, вытянешь Рыбу - участок
Рыбы.
Карашир сказал, что Шо-Пир это мудро и справедливо придумал, но был
разочарован: в действиях Шо-Пира не оказалось ничего священного и
таинственного.
Затем вместе с Исофом Карашир отстал и долго ходил молча, складывая
новые башенки. А потом подошел к Шо-Пиру:
- Значит, большой праздник будет?
- Конечно, большой! Как же не праздник, когда такие, как ты, бедняки
участки для посева получат?
- Хорошо, большой праздник! - мечтательно подтвердил Карашир. - Баранов
зарежем, плов сварим, гору лепешек на молоке напечем. Ешь целый день! Вот
такой толстый живот у меня будет! - Карашир развел руками и, ткнув пальцев
Исофа, хихикнул: - У него кожи на животе мало, наверное лопнет! А еще,
Шо-Пир, скажи: музыканты будут играть?
- Словом, ты, я вижу, когда-то на ханском празднике был? А мяса там
много ел?
- Сам не был я, Шо-Пир... У сеидов был праздник... Я факир, факиры
рядом стояли, смотрели... Много мяса было... Ио! Наверное, сорок баранов
резали! Теперь все факиры на празднике будут, тоже надо баранов, ну, пусть
не сорок, пусть десять. Нет, знаешь, лучше, пожалуй, двадцать... Где столько
мяса возьмешь?
- А когда тот праздник был, где сеиды баранов брали?
- Своих резали, - быстро ответил Карашир, но осекся: - Нет, не своих -
у факиров брали тогда, у нас брали, мой маленький ягненок тоже на плов
пошел.
- Значит, и теперь у тебя возьмем!
- Хе! - лукаво сощурился Карашир. - У меня нет барана.
- Нет? Ну, и есть ты не будешь! - решительно вставил молча слушавший
Бахтиор.
- Как это? Все будут, а я не буду?
- Почему ты думаешь, Карашир, что все будут? - спросил Шо-Пир. - а
другие где баранов возьмут? Или своих последних зарежут?
Карашир соображал медленно:
- Как же будет?
- Обойдемся и так...
- Праздник без еды? - с досадой сказал Карашир. - Значит, нам, как и
при хане, есть не дадут?
- А кто дать должен?
- Кто праздник устраивает. Власть!
- А власть - это кто? Вы же сами - власть. Ты, кажется, думаешь: у меня
или у Бахтиора сотня баранов есть? Подарить могу?
Карашир умолк. Перед его опущенными глазами были снова только сухие
камни. Совсем нерешительно добавил.
- И музыканты не будут играть?
- Скучный праздник! - сказал Исоф, повернулся спиной к Шо-Пиру, стал
разглядывать далекую ледяную вершину.
- Неужели, когда по вашим участкам вода побежит, скучно вам будет? -
произнес Шо-Пир, укрепляя новый рисунок на только что выложенной башенке.
Все промолчали. Задумчивым казался даже Бахтиор. До сих пор он как-то
не думал об этом, но ему тоже представлялось... впрочем, он был вполне
согласен с Шо-Пиром.
Ставя башенки, расчищая засоренные канавки на следующих участках, все
хранили молчание. Возле башенки, обозначенной изображением Рыбы, Карашир
остался один. Долго ходил вдоль канавки, определяя наклон участка,
представляя себе, как по нему будет разливаться вода; измеряя его шагами,
присматривался к камням, которые предстояло убрать перед посевом. Карашир,
казалось, забыл, что ему сейчас следует участвовать в общей работе. Шо-Пир
окликнул его:
- Что делаешь там, Карашир? Иди-ка сюда! Последняя башенка!
Карашир медленно подошел:
- Шо-Пир!..
- Что скажешь?
- Тот участок - Рыбы участок - мой будет, хорошо?
- Почему так? - сразу возбудился Исоф. - Пусть тогда мне пойдет!
- Нет мне! - горячо воскликнул Карашир.
Шо-Пир остановил их движением руки:
- Что спорите? Сказано - жребий!
- Пускай по жребию мне Рыба будет!1
- Не надо ему! Чем я хуже?
Шо-Пир рассмеялся:
- Идите-ка теперь по домам, кончена наша работа...
Карашир и Исоф, уныло перебраниваясь, ушли; ветер трепал их одежду.
Задумчивый Бахтиор обратился к Шо-Пиру:
- Правду они говорит, Шо-Пир! Без еды какой праздник?
- Я и сам думаю, Бахтиор... Но что можем мы сделать? В будущем году
иначе праздник будем устраивать, а пока... Вот если б караван сегодня или
завтра пришел - лепешек из муки напекли бы, а я бы им русский пирог
приготовил. Не ел, небось, никогда? Беспокоюсь я: черт его знает, не
случилось ли, с самом деле, беды с караваном? Ни слуха о нем. Нехорошо
получается.
- Очень нехорошо, Шо-Пир! Домой пойдем теперь?
- Пойдем, пожалуй...
По расчетам Шо-Пира, караван давно уже должен был прийти в Волость.
Кроме пути вдоль Большой Реки, по которому было десять дней караванного
хода, существовал и другой, соединявший Сиатанг с Волостью, путь - прямиком
через труднодоступный перевал Зархок и далее, к Большой Реке, соседним
зархокским ущельем.
Этим недоступным для каравана путем опытный и бесстрашный пешеход мог
бы достичь Сиатанга из Волости за семь суток.
Шо-Пир знал, что едва караван придет в Волость, оттуда сразу же пошлют
в Сиатанг гонца с сообщением, сколько ослов ущельцы должны направить за
предназначенными им грузами.
Но проходили и семь суток и десять суток, истекали все новые,
перекладываемые Шо-Пиром со дня на день сроки, а ни гонца, ни каравана не
было. Шо-Пир тщетно ждал хоть каких-нибудь известий.
Убежденный, что караван придет, Шо-Пир обещал ущельцам, строившим
канал, расплатиться с ними мукой. Поверив Шо-Пиру, многие из них ради работы
на канале пренебрегли домашним хозяйством. Вместо того, чтобы ставить
капканы в горах, запасаться съедобными травами, сеять неприхотливый,
многосемянный, но вредный для здоровья патук, они половину лета ворочали
камни, прокладывая новое русло. Даже те, у кого были посевы, не могли без
охоты, без заготовки съедобных трав, без новых долгов купцу обеспечить себе
на зиму хотя бы полуголодное существование...
Все свои надежды Шо-Пир возлагал на караван. Письмо, давно принесенное
Худододом из Волости, гласило, что караван покинул исходный пункт еще весной
- значит, должен был прийти обязательно. Мало ли что, однако, могло с ним по
дороге случиться! Во время блужданий с красноармейским отрядом Шо-Пир изучил
хорошо пространства Высоких Гор и потому теперь ясно представлял себе путь
каравана. Высочайшие перевалы, безлюдные нагорные долины тянулись вдоль
неспокойной Восточной границы; проведав о первом караване советских товаров,
рискнувшем направиться к малоисследованным окраинам Советского государства,
сюда могла ворваться какая-нибудь басмаческая банда...
Сейчас, шагая вместе с молчаливым Бахтиором по неровной тропинке,
Шо-Пир убеждал себя, что караван, конечно, обеспечен хорошей охраной и
потому, без сомнения, придет. Значит, нужно добиться, чтобы ущельцы до его
прихода не растратили зерно, - иначе им нечего будет сеять весною.
- Я вот что решил, Бахтиор, - заговорил Шо-Пир. - Надо, чтоб ущельцы
вынесли постановление: собранного зерна не трогать! Как ты думаешь, всем ли
понятно, почему урожай в этом году плох?
- Конечно, понятно: старый канал - воды мало; зимой лавины ломали его;
дождей почти не было; посеяли мало, помнишь, половина народу у купца зерно в
долг брала!
- Вот-вот, это главное: нехватка воды и купец... Если первое понимают
все, а второе...
- Шо-Пир! - неожиданно раздался звонкий голос Ниссо; ни Бахтиор, ни
Шо-Пир не заметили, что идут уже по своему саду.
Ниссо выбежала из-за деревьев.
- Посмотри, как я сделала, готово теперь!
- Что готово? - не сразу понял Шо-Пир, разглядывая ее руки, измазанные
до локтей ярко-красной краской.
- Выкрасила! Смотри!.. Иди сюда! - и осторожно, двумя пальцами, потянув
Шо-Пира за рукав гимнастерки, Ниссо увлекла его за собой.
Бахтиор пошел следом, чуть обиженный: и на этот раз, как всегда, Ниссо
обращалась к Шо-Пиру.
Возле обеденного стола под ветвями платана, натянутое между стволами
деревьев, алело полотнище; с него капала красная краска. Под деревом на трех
закопченных камнях стоял большой чугунный котел, до краев наполненный той
же, уже остывающей краской.
Полотнище было половиной ветхой красноармейской простыни Шо-Пира,
доселе хранимой бережно, а в это утро разорванной им пополам, чтобы сделать
два красных флага.
Рано утром Шо-Пир вместе с Ниссо кипятил в котле сушеный цветок
"садбарг", собранный за лето Гюльриз, чтоб варить из него краску для
шерстяных ниток. Ниссо отлично справилась: полотнище было выкрашено ровно,
без пятен.
Накануне Шо-Пир долго объяснял Ниссо, что такое флаг, и почему он
должен взвиться над новым каналом, и что такое революция, и кто был Ленин,
как заботился он обо всех людях в мире, которые честно трудятся. Ниссо
слушала Шо-Пира с огромным вниманием, шепотом повторяла великое имя и с
таким чувством, будто впервые проникает в сокровенную чудесную тайну,
запоминала каждое произносимое Шо-Пиром слово.
Все чаще в последние дни пыталась Ниссо представить себе громаду
необъятного мира, существующего за пределами видимых гор. Самые
фантастические, сказочные образы возникали в ее представлении всякий раз,
когда, наслушавшись Шо-Пира, не в силах заснуть, она подолгу смотрела на
звездное небо. Чем ближе к порогу неведомого подводил ее своими
удивительными рассказами Шо-Пир, тем скорее хотелось ей проникнуть в это
неведомое, узнать все, о чем до сих пор она никогда не думала.
Она безусловно поверила Шо-Пиру, что красный цвет - цвет свободы и
счастья, и сделала простой вывод: флаг над каналом будет талисманом, несущим
в Сиатанг счастье. И весь день, пока она красила полотнище, ей думалось, что
раз она сама трудится над созданием этого талисмана, прикасается к нему и
первая держит его в руках, то больше всего счастья и свободы достанется ей
самой... Вот почему так радостно она встретила Шо-Пира сейчас, вот почему
волновалась, желая услышать от него, что все сделано ею в точности так, как
нужно! И пока Шо-Пир разглядывал натянутое между стволами полотнище, Ниссо
блестящими от волнения лазами следила за выражением его лица. Шо-Пир был
доволен.
- Хорошо! - медленно сказал он и повторил: - Хорошо сделала! А второе
где?
- Вот! - просияла Ниссо, подскочила к котлу, сунула обе руки в красную
жидкость; осторожно извлекла из нее вторую половину окрашенной простыни и,
разворачивая ее над котлом, подала уголок Шо-Пиру.
- Держи! Крепко держи! - повелительно крикнула она, увидев, что уголок
чуть не выскользнул из пальцев Шо-Пира. - Сразу давай развернем, выше
подними, пусть вода сойдет, иначе будет пятно!
Шо-Пир повиновался, и второе алое полотнище натянулось между стволами
тутовника.
- Вот! - гордая своей работой, сказала Ниссо. - Это где будет?
- А этот мы над новыми участками поставим... Смотри, Бахтиор! Разве
может быть праздник скучным? А? Без красных флагов в самом деле соскучился
я! Смотри: горит! - И, как-то вдруг увидев за малым большое, с вдохновением
добавил: - Ведь мы же с тобой, Бахтиор, революцию делаем!
Бахтиор смотрел не на флаг, а на Шо-Пира. В эту минуту его простодушное
лицо выражало такую чистую радость, что Бахтиор улыбнулся, сам не зная чему.
Шо-Пир, словно вдруг спохватившись, что обнажил свою душу, с нарочитою
грубоватостью произнес:
- А ужин, Ниссо, конечно, забыла нам приготовить, а?
- Не забыла! - самолюбиво отвергла упрек Ниссо.
- Все гороховую похлебку варишь? Ох, надоело! Ну, тащи ее поскорей,
есть хотим. Иди же да руки хорошенько отмой!
Ниссо ушла нехотя, удивленная, даже обиженная внезапной строгостью тона
Шо-Пира.
- Так вот! - решительно повернулся к Бахтиору Шо-Пир. - Я и говорю:
нехватка воды и купец... Это главное. Вода теперь будет, а купец... Надо
сделать так, чтобы на будущий год от купца не зависеть. Запретить всем
молоть зерно, чтоб до прихода каравана потерпели. Караван привезет муку,
раздадим ее, пеки тогда хоть гору лепешек, а пока...
- Как запретишь, Шо-Пир?
- Всего бы лучше: собрать зерно у людей - да под один замок. Но так,
чтоб поняли и сами принесли добровольно!
- Не выйдет это, Шо-Пир! Никто не понесет! Старики скажут: отобрать
зерно у нас хотят. Не поймут!
- Не поймут? Пожалуй, так... Что ж, останется одно: пусть держат у
себя, но обещают не молоть до каравана...
- Если у себя - обещать могут...
- Вот! Ты и поговори со своими теперь же... А на собрании объявим,
попробуем убедить всех! Смотри, Ниссо похлебку несет! Молодец она, без
Гюльриз с хозяйством отлично справляется.
Ниссо осторожно несла на вытянутых руках маленький дымящийся чугунный
котел, сосредоточенно глядя под ноги...
Шо-Пир быстро пошел ей навстречу и взял из ее рук котел.
Ветер дул двое суток без перерыва, выметая из-под оград накопившуюся за
лето пыль, срывая плоды и листья с деревьев, вздымая над селением солому,
выхваченную из прикрытых камнями, сложенных на крышах стогов. В ночь перед
открытием канала он внезапно стих. При большой зеленовато-желтой луне в
селении Сиатанг наступила полная тишина. Утром воздух был особенно чист,
селение казалось умытым.
В туфлях на босу ногу, в накинутом на плечи длинном яхбарском халате
Мирзо-Хур вышел из своей лавки и, прислонясь к обогретой солнцем стене,
долго смотрел на горы, на просыпающееся селение, не белесоватые космы
стремящейся мимо его лавки реки. Кендыри, в одном белье, в белых шароварах и
чесучовой рубашке, шнырял мимо него, налаживая навес над своей цирюльней:
брадобрей в это утро ждал посетителей.
Закрепив навес, Кендыри прислонился к стене рядом с Мирзо-Хуром,
неторопливо направляя на черном каменном оселке большую, кривую, как нож
мясника, железную бритву. Мирзо-Хур, постучав о ладонь маленькой
тыквинкой-табакеркой, высыпал из нее щепотку крупитчатого зеленого табаку.
Заложив табак под язык, протянул тыквинку брадобрею. Кендыри отрицательно
качнул головой, его бесстрастное, всегда недвижное лицо обратилось к
Мирзо-Хуру, и купцу показалось, что презрительные глаза Кендыри о чем-то
спрашивают его. Мирзо-Хур помолчал, привесил тыквинку к поясу, запахнул
халат; подумал, что Кендыри, в сущности, нет никакого дела до его неудач. В
эту ночь купец несколько раз просыпался и все размышлял о том, что расчеты
его на предстоящий день никак не оправдываются. Единственным человеком, с
которым Мирзо-Хур мог поделиться своими сомнениями, все-таки был Кендыри, и
потому, сплевывая зеленую от табака слюну, сдерживая набухшее зелье,
прижатым к нижним зубам языком, Мирзо-Хур невнятно произнес:
- Это у них называется праздник?
- Праздник, - подтвердил Кендыри.
Купец, заложив руки за спину, поковырял пальцем осыпающуюся глину
стены.
- Когда у хана праздник бывал, нас, купцов, он согревал, подобно
благословению покровителя... А этот вот, как ветер над ледниками, - ничего
не несет в себе, пустой! Хоть бы кусок материи продал я, хоть бы тюбетейку
муки или ягод или горсть соли... Ничего!.. Не могу больше жить здесь,
Кендыри! Уйду. Совсем уйду... В Яхбар, в Гармит или еще дальше - куда ноги
осла понесут меня, все равно! В пустыне жить лучше... Ума во мне нет,
прозябаю здесь, тебя слушаю. Зачем это мне?
- Молчи! Ты знаешь зачем! - сухо ответил Кендыри, щуря глаз на
сверкающее лезвие бритвы.
- А, Кендыри, что такое "молчи"? Зачем мне ждать того, чего, пожалуй,
вовсе не будет? Верных в этом мире мало ль, что жить мне среди неверных?
Почему слушал я тебя до сих пор? Можно затратить монету, когда она принесет
десять, можно затратить сто, когда они дадут тысячу. Я трачу, трачу, живу
здесь... Что это дает мне, кроме твоих обещаний?
- Ты не все видишь, Мирзо. У кабана глаза короткие, смотрит вниз, неба
не видит. Ты - человек, почтенный человек, для чего у тебя глаза?
- Я не вижу конца, но вижу разоренье мое. Выгодных дел я не вижу здесь.
Ты, Кендыри, мне хочешь помочь, спасибо тебе, но ты все пока - брадобрей!
- Без брадобрея и борода пророка не обходилась! - бесстрастно произнес
Кендыри. - Погоди, и она растет...
- Я умру прежде, чем она вырастет! Дикому козлу среди камней и тому
каждый день нужно щипать траву.
- У тебя есть трава.
- Это что? О девчонке ты говоришь? Скажи, у Азиз-хона гнев один на нее
или любовь?
- Зачем тебе знать это?
- Хэ, зачем! Гнев один - больше сорока монет не даст, просить нечего.
Любовь - даст сто монет, умно поговорить - двести даст! Как ты разговаривал
с ним?
Кендыри надоели жалобы Мирзо-Хура.
- Хочешь знать как? Хорошо. Я тебе скажу. Я не разговаривал с ним.
- Ты не был у Азиз-хона? - всплеснул руками купец. - Ты же мне сказал:
был.
- Был во владениях его. Ниссо от него убежала, разве не довольно мне
знать?
- Кендыри, я не понимаю тебя! Почему ты не разговаривал с ним?
- Разговаривать - обещать. Обещать - сделать. А девчонка пока еще
здесь.
Мирзо-Хур понял, что Кендыри злится. Всегда, когда Кендыри злился, он
говорил отрывисто. Но Мирзо-Хур хотел выяснить все до конца:
- Сегодня здесь, завтра там будет. Как рассуждаешь? Сегодня собрание.
Верные ходили ко мне, я к ним тоже ходил, думают одинаково: гнать ее надо
отсюда. Свое слово скажут. Я тоже скажу. Ты скажешь, и разве тебя не
послушают? Есть люди - знают: за твоими словами горы. Ты разговаривать
будешь?
Кендыри слушал нахмурясь. Даже всегдашняя застывшая улыбка сошла с его
насупленного лица. Он медлил с ответом, явно испытывая терпение купца.
- Возможно, буду... - наконец неопределенно ответил он и добавил с
досадой: - Довольно об этом, Мирзо. Смотри, народ идет. Я что? - Кендыри
хихикнул. - Брадобрею тоже деньги зарабатывать надо! А ты... хочешь быть
маловерным? Уйти хочешь? Иди! Только, уйдя, с кого получишь долги?
- А живя здесь, я их получу?
- В сто раз получишь, Мирзо! Когда у верблюда большой путь в пустыне,
он семь дней ничего не пьет! А если терпенья нет - дело твое, иди!
Оставив встревоженного купца, Кендыри, помахивая бритвой, встал под
навесом цирюльни, осклабился двум подошедшим к нему надменным старикам.
Купец, пожевывая губами, медленно удалился в лавку.
Острогранный коричневый камень составлял все оборудование цирюльни.
Посетитель, подогнув ноги, усаживался на камень; рядом с посетителем Кендыри
ставил большую деревянную чашку с мутноватой речной водою. Один из двух
пришедших стариков, зобатый, с всклокоченной бородой, сказав слова
приветствия, занял указанное ему место и замер в молчании. Второй старик
присел на корточки и, прислонившись к стене, подставил солнцу свое лицо,
закрыв пораженные трахомой глаза, казалось, задремал.
Кендыри, стоя над стариком, принялся скрести его лицо. Ни мыла, ни
полотенца, ни каких-либо иных принадлежностей не полагалось. Жесткие волосы
старика скрипели; стиснув зубы, он терпеливо дожидался конца операции.
Напрасно было бы думать, что в искусстве бритья Кендыри не знает ничего
более совершенного. Бреясь в одиночестве сам, он пользовался маленькой
сингапурскою бритвою; усердно мылил кисточкою свои тугие длинные щеки и,
глядясь в зеркальце, думал, что если в его лице нет и намека на красоту, то
все-таки даже среди сиатангцев ему не следует быть заросшим щетиною.
Сиатангцев же он брил так, как делал бы это на его месте всякий иной
бродячий брадобрей в пределах Высоких Гор. И сейчас, едва жесткие волосы
зобатого старика притупили бритву, Кендыри, отдернув левый рукав рубашки,
плюнул на свою волосатую руку и стал править о нее бритву так, словно его
рука была самым замечательным оселком.
- На собрание, Науруз-бек, придешь? Невзначай спросил Кендыри
молчаливого посетителя.
- Мимо меня этот день. Что буду на собрании делать?
- Знаю: участка тебе нет, вода канала не для тебя, - произнес Кендыри.
- Но ты приходи. Русский много говорить будет.
- Не для меня будет.
- Может быть, против тебя будет. Волки нападают на стадо, пастухи не
должны бежать.
- У пастухов таких зубов нет. Старый судья теперь не судит, сельсовет
теперь судит. Я теперь не пастух, я овца.
- Старый судья может справедливое слово сказать... Разве ты не
считаешь, что Бобо-Калону тоже нужно участок дать?
- Бобо-Калон бедней всех сейчас, - тихо произнес Науруз-бек и нагнул
голову, предоставляя брадобрею заросшую, морщинистую шею. - Но
справедливости нет. Ничего не дадут ему.
- Откуда знаешь?
- Есть и факиры, которые думают так, как я. Исоф недавно при всех
говорил, через него пробовали мы наше слово. Бахтиор собакой Бобо-Калона
обругал, сам Бобо-Калон слышал.
- Да-а... - протянул Кендыри, берясь за голову старика, - а ты все-таки
приходи. Поговори с Бобо-Калоном сначала. Другие будут дела. Все придут. Так
нужно.
- Если нужно, приду! - согласился Науруз-бек и замолк.
Возясь с всклокоченной бородой старика, Кендыри посматривал на пустырь,
простирающийся за лавкой до осыпи, которой ограничивалась нижняя часть
сиатангской долины. Он давно уже заметил несколько бродивших там ущельцев;
изучая намеченные башенками участки, они, видимо, рассуждали о том, кому
какой участок достанется. Среди этих людей Кендыри видел Исофа и Карашира,
они о чем-то горячо спорили, размахивая руками, сердясь, наклоняясь к
канавкам, перебрасывая с места на место камни...
Кендыри знал, о чем они спорят, и знал, что их спор бесполезен, но он
был доволен: страсти в Сиатанге разыгрываются. С нетерпением ждал он, когда
спорщики приблизятся к цирюльне.
Отпустив Науруз-бека, Кендыри занялся вторым стариком. Науруз-бек тем
временем зашел в лавку, и оттуда слышался приглушенный разговор. Кендыри не
сомневался, что купец говорит о Ниссо.
Брея старика, Кендыри спокойно обдумывал каждое слово, какое он скажет
сегодня на собрании. От этих слов зависит многое в успехе задуманного им
плана - плана, подобного шахматной доске, на которой каждый из ущельцев рано
или поздно станет двигаться сообразно его желаниям. Ошибок с этой сложной и
умной игре не будет, надо только продумать все до мелочей!
Когда второй, торопливо побритый старик поднялся с камня, а яростно
спорящие Карашир и Исоф были уже близко и можно было заговорить с ними, не
повышая голоса, Кендыри произнес:
- Подойди, Карашир! Бороду поправить надо тебе?
- Не надо, - с важностью ответил Карашир, однако подошел ближе.
- Почему не надо? Сегодня праздник. Ничего с тебя не возьму, хочу
сделать твое лицо красивым. Садись! И ты, Исоф, тоже садись, подожди. -
Кендыри подавил смешок и добавил: - Всем, кто участки получит, сегодня даром
бороды брею!
"Кто откажется от бесплатной услуги? - подумал Карашир, сел, скрестив
ноги, на камень, поморщился под бритвой, коснувшейся его шеи. Исоф, все еще
думая об их споре, не решился, однако, продолжать его в присутствии Кендыри
и молча уселся на землю.
- Скажи мне, Карашир, - сказал Кендыри, - с нового участка камни на
спине станешь таскать?
- Почему на спине? Осел есть у меня.
- А если Мирзо-Хур за долги возьмет у тебя осла?
Карашир отодвинулся, отстранил рукой бритву, уставился в склоненное над
ним лицо брадобрея.
- Почему возьмет?
- А что еще с тебя взять?
Карашир уверенно махнул рукой:
- На будущий год богатым сделаюсь. Пшеницы много посею. Хлебом отдам.
- На будущий! - усмехнулся Кендыри, держа над головой Карашира бритву:
- Но в этом году станешь просить у купца еще?
- Не стану! - Карашир повернулся спиною к Кендыри. - Плюю теперь на
купца!
- Плюй, плюй! - нажимая лезвием, произнес Кендыри. - А пока, я слышал,
купец хочет долги потребовать с тех, кто плюет на него.
- Не может этого быть! - прямо сказал Карашир, однако умолк и больше
уже не произносил ни слова. В самом деле, что, если купец потребует все
долги сразу? Просто захочет отомстить за те слова, какие Карашир кинул ему в
лицо прошлый раз? Не только ослом тогда не расплатиться, пожалуй, и козу, и
двух оставшихся кур, и... Карашир начал подсчитывать в уме все свои долги и
даже перестал обращать внимание на боль, причиняемую брадобреем, неторопливо
ворочающим его голову... Карашир подумал, что, пожалуй, зря поругался с
купцом и что, во всяком случае, не следует с ним ссориться больше.
- А ты не отдавай ему ничего, - склонившись к самому уху Карашира,
прошептал Кендыри.
- Как? - Карашир обернулся так резко, что Кендыри едва успел отвести
бритву.
- Так... Разве Шо-Пир тебе до сих пор не советовал этого?
- Шо-Пир? Нет! Как можно?
- Когда скажет он - меня вспомни! - так же тихо произнес Кендыри и
сразу заговорил громко: - Ну вот, теперь ты красив! Иди, а ты, Исоф, садись,
тоже будешь красивым!
Но тут они услышали отдаленный отрывистый звук бубна, которым - было
условлено - Бахтиор сзывал к голове канала всех ущельцев, чтобы приступить к
торжеству открытия. Не захотев дожидаться Исофа и даже забыв поблагодарить
Кендыри, Карашир поспешил на зов.
Из садов и домов селения в узенькие проулочки, слыша настойчивый и
нарастающий дробный звук бубна, выходили ущельцы и устремлялись к тропе,
ведущей в крепость.
Ветер, словно ему была нужна только передышка, задул снова.
Над полуразрушенной стеной крепости, в сплошной струе ветра, трепетал
красный флаг.
Ниссо, оставшаяся дома одна, все утро всматривалась в прозрачную даль,
чтоб увидеть, когда этот флаг появится. Ниссо очень хотелось быть в этот
день на канале, но Шо-Пир велел ей остаться дома и не уходить никуда, пока
не придет за ней Бахтиор или пока с Верхнего Пастбища не вернется Гюльриз.
Впервые в своей жизни Ниссо скучала по людям и, не зная до сих пор скуки, не
понимала, что с ней происходит. Ей хотелось побежать к крепости и увидеть,
как вода потечет по новому руслу; ей хотелось быть вместе с Шо-Пиром; ей не
сиделось на уже привычной террасе, с которой видны были и селение, и река, и
крепость, и пустырь, недавно изрезанный тоненькими канавками. Но Ниссо
слишком хорошо знала, что сегодня решается ее судьба, что ущельцы сегодня
будут много и долго о ней говорить, что сам Шо-Пир беспокоится о том, чем
кончатся эти разговоры. Когда ей приходило в голову, что вдруг, в самом
деле, ее отдадут Азиз-хону, она снова чувствовала себя затравленным
зверьком. Шо-Пир сказал, что этого никогда не будет, но ведь он не бог, он
один, тех людей много, может быть, они окажутся могущественнее его? Все
последние дни Ниссо жила в неукротимой тревоге за свою судьбу; наблюдая за
Шо-Пиром и Бахтиором, она чувствовала, что они тоже тревожатся; Шо-Пир
совсем не смеялся над ней последние дни, был как-то особенно ласков. Ниссо
угадывала, что он думает о ней чаще, чем хотел бы показать ей...
Все утро Ниссо смотрела с террасы вниз; слушала призывный звук бубна,
видела людей, идущих через селение. Они еще не дошли до крепости, когда,
встречая их, над древней стеной взвилась полоса красного флага. "Моя душа в
нем!" - подумала Ниссо и едва удержалась, чтоб не побежать туда. Затем люди
вошли в полуразрушенные ворота крепости, прошли сквозь нее и направились
выше, в глубь ущелья, - гора скрыла их от Ниссо...
Над стеной крепости в сплошной струе ветра трепетал красный флаг...
Ущельцы, собравшиеся на узком каменистом берегу реки Сиатанг, там, где
была голова канала, смотрели на этот флаг, и на сухое русло канала, и на
обломки скалы, лежащей поперек русла, над самым обрывом в реку, и на
Шо-Пира, и на Бахтиора, - все ждали, что будет дальше, и разговаривали между
собой почему-то вполголоса.
Шо-Пир, сидя на краю канала, тоже очень тихо переговаривался о чем-то с
Бахтиором; тот, позабыв, что на его коленях лежит двуструнка, уже не играл
на ней, а только чуть пощипывал жильную струну. Струна под его пальцами
издавала все один и тот же тоненький звук.
Ущельцы - молодые и старые - были в халатах: серых, черных, коричневых.
Босые и в цветных чулках, выпиравших из сыромятной обуви, они сидели и
лежали на камнях вдоль русла канала, а некоторые взобрались на скалы,
взгроможденные над рекой.
Среди пришедших сюда не видно было только Бобо-Калона; он с утра не
выходил из своей башни и явно не желал показываться снующим через крепость
людям. Купец и Кендыри тоже не пришли. Женщин не было ни одной, но Шо-Пир то
и дело поглядывал в сторону верховий ущелья, ожидая появления Гюльриз с
Женами Пастбищ. Тропа, уходящая туда, оставалась, однако, безлюдной. Уже
четверо суток прошло с тех пор, как Гюльриз ушла на Верхнее Пастбище, и
Шо-Пир не знал, что происходит там. Он признавался себе, что если намерение
Гюльриз окончится неудачей, то ему придется увезти Ниссо в Волость и
оставить там, ибо мало ли что может произойти с ней в селении? Как добиться
благоприятного решения участи Ниссо? Все последние дни Шо-Пир продумывал
речь, которую произнесет на собрании, и подбирал в уме доводы, наиболее
убедительные для ущельцев.
Когда все ущельцы собрались, Шо-Пир приступил к делу без всякой
торжественности.
- Сейчас пустим воду! - негромко сказал он, обращаясь ко всем. И,
обойдя обломок скалы, коротким жестом подозвал к себе готовых взяться за
работу ущельцев. - Давайте, товарищи, уберем эту глыбу! А ты, Худодод, иди к
голове канала и слушай. Когда я три раза ударю в бубен, пусти воду в канал!
Человек двадцать, подсунув под остроугольную глыбу ломы и кирки, толкая
друг друга, старались сдвинуть с места последнюю преграду.
Отбросив беспокойные мысли, Шо-Пир тоже навалился на лом.
- Дружней! Дружней! Вот так!
Глыба со скрипом повернулась, ущельцы разом от нее отскочили, она
закачалась, давя мелкие камни, тяжело прокатилась вниз, с грохотом ударилась
в край берегового утеса и бухнулась в реку Сиатанг... Шо-Пир трижды ударил в
бубен. Худодод несколькими ударами лома выбил середину каменной, укрепленной
лозами кустарника стенки, вода мгновенно развалила ее, хлынула из реки в
освобожденное русло канала. Ответвленная от основного, круто уходившего вниз
течения, вода перестал бурлить и, набежав в оставшуюся от сброшенной глыбы
яму, быстро ее заполнила, решительно устремилась дальше, разлилась во всю
ширину канала, понеслась к крепости. Толпа ущельцев молча наблюдала ее
стремительный бег. Карашир вдруг сорвался с места и с криком: "Ио, Али!" -
побежал вдоль канала. И все, кто стоял и смотрел на воду, словно
подстегнутые этим криком, с веселыми возгласами ринулись вслед за Караширом.
Крича: "Вода! Вода! Вода! Вода!" - Карашир как безумный пробежал через
крепость, спрыгнул на тропу, ведущую к селению, и помчался по ней, стараясь
перегнать воду. Ущельцы, крича во весь голос, бежали за ним...
Охваченный общим порывом Бахтиор, зажав под локоть двуструнку, тоже
было устремился за ними, но оглянулся и увидел, что оставшийся один Шо-Пир,
улыбаясь, неторопливо идет вдоль канала; Бахтиор сразу остановился, будто и
не думал бежать, со смехом указал Шо-Пиру на толпу:
- Смотри, Шо-Пир! Как козлы прыгают!
- Даже те, кто до сих пор только рты с насмешкой разевали! - ответил
Шо-Пир. Его голубые глаза заискрились, а сквозь здоровый загар проступил
легкий румянец. - Идем со мной. Большое дело сделано, Бахтиор!
Достигнув селения, вода коричневой змеей пересекла его. Прыгая через
ограды, сокращая путь сквозь сады, рассыпаясь по переулочкам, ущельцы бежали
к раскинутому за селением пустырю. Женщины выбирались на плоские крыши, били
в бубны и перекрикивались, а платья их трепетали на сильном ветру. Дети,
прыгая, суетясь, перебегали путь взрослым, швыряя в воду мелкие камни,
оглашали весь Сиатанг веселым визгом.
Вода понеслась мимо лавки купца. Мирзо-Хур и Кендыри, стоя под навесом
цирюльни, молчаливо глядели на мелькающих мимо них сиатангцев. Сразу за
лавкой вода веером разбежалась по узким канавкам, обрамлявшим участки
каменистого пустыря. Устав от бега, старики, отставая от молодежи и
набираясь степенности, шли теперь, тяжело дыша, уже стыдясь охватившего их
порыва.
Позади всех, вместе с Бахтиором, медленно шел молчаливый Шо-Пир. Он
приблизился к пустырю, когда вода растеклась по всем канавкам, а ущельцы,
уже успокоенные, бродя по каменной россыпи, снова спорили: кому какой
достанется участок... Выбрав среди камней пустыря большую и возвышенную
гнейсовую плиту, Шо-Пир встал на нее.
- Теперь пора! Бахтиор, открывай собрание!
- Собрание! Собрание! - замахав руками, во весь голос завопил Бахтиор.
- Здесь собрание будет. Зовите всех женщин, сами садитесь!
Накануне Бахтиор обошел все дома в Сиатанге и велел ущельцам прийти на
собрание вместе с женщинами. Никто из ущельцев вчера не возражал, но сейчас,
усаживаясь рядом с Шо-Пиром за гнейсовой плитой, как за большим столом,
Бахтиор видел вокруг только мужчин. Впрочем, Бахтиор нисколько не удивился.
Шо-Пир напрасно надеялся, что женщины придут, - вот ни одной не видно: те,
что гремели в бубны, стоя на крышах, снова попрятались по домам; разве
пустит на собрание жену хоть один муж!
Но под грядою скал показалась одинокая женская фигура. Шо-Пир и Бахтиор
вгляделись: это шла, приближаясь к ним, Рыбья Кость.
- Смотри! Жена моя! - подскочил к Шо-Пиру возбужденный и радостный
Карашир. - Я сказал ей: побью, если на собрание не придет!
Шо-Пир отлично знал, что Карашир и букашки зря не обидит и что именно
Рыбья Кость всегда бьет своего мужа.
- Вижу, боится тебя жена! Уж я тебя прошу, пожалуйста, не бей ты
сегодня ее.
- Пришла! Пожалуй, не буду, - важно ответил Карашир и, вполне
удовлетворенный разговором, отошел в сторонку.
По тропе к пустырю приближались четыре женские фигуры. Все со вниманием
воззрились на них, глядя, кто это может быть. Но, когда женщины приблизились
и все узнали в них верных Установленному старух, никто не стал
интересоваться ими, и они уселись на камни поодаль от мужчин. Рыбья Кость
подошла к Караширу и усадила его рядом с собою.
Неожиданно для всех на пустыре показался Бобо-Калон. Он шел, важный и
гордый, как патриарх, не глядя на окружающих, не отвечая на приглушенные
приветствия своих приверженцев. Он шел, опираясь на палку, не перепрыгивая с
камня на камень, а выбирая плавный путь между ними; серебряная пряжка
блистала на солнце, показываясь на туго стянутых шароварах Бобо-Калона
всякий раз, когда ветер надувал полу его белого, с длинными рукавами халата.
Дряхлый сокол покачивался и чуть приподымал крылья, сохраняя равновесие на
плече своего хозяина... Бобо-Калон сел на камень позади всех, положив палку
у ног, и опустил глаза, явно не желая замечать окружающего. Сокол на его
плече задремал. Увидев Бобо-Калона, Мирзо-Хур и Кендыри отделились от стены
лавки и тоже направились к пустырю. Обойдя всех ущельцев и словно не выбрав
подходящего места, они повернули обратно. На их пути сидели Карашир и Рыбья
Кость. Проходя мимо них, купец как бы невзначай наклонился и тихо
пробормотал Рыбьей Кости:
- За Ниссо стоять будешь - все долги потребую!
- Что он сказал тебе? - быстро спросил жену Карашир, едва купец и
Кендыри прошли мимо.
- Сказал: муж у тебя дурак! - огрызнулась Рыбья Кость, и Карашир
недовольно зашмыгал носом.
Купец и Кендыри подсели к Бобо-Калону, что-то сказали ему. Но
Бобо-Калон, насупившись, не поднял опущенных глаз.
- Не пришла нана, - беспокойно шепнул Бахтиор Шо-Пиру, - без женщин
собрание... Как разговаривать будем?
Шо-Пир тревожился не меньше Бахтиора, предвидя, что разговора о Ниссо
не миновать, - неспроста сюда явился Бобо-Калон, неспроста приплелись
закоснелые в древних обычаях старухи, неспроста Мирзо-Хур и Кендыри подсели
к Бобо-Калону... Ну пусть! Как бы там ни было, от их злобы Шо-Пир девочку
убережет, а собрание поможет ему уяснить многое во взаимоотношениях
ущельцев!.. Во всяком случае, следовало отвести разговор о Ниссо на самый
конец собрания: может быть, все же часть приверженцев Установленного до
конца не досидит?
Видя, что на пустыре собрались почти все сиатангцы, что, удобно
расположившись на камнях, они уже ждут с нетерпением, Шо-Пир тихо сказал
Бахтиору:
- Ну что ж, начинай!
Бахтиор поманил к себе Худодода и двух молодых ущельцев, членов
сельсовета. И когда все они подсели к гнейсовой плите заменяющей стол,
Бахтиор наклонился и вытянул из-за камня свернутый красный флаг, спрятанный
здесь накануне, - второй флаг, выкрашенный Ниссо. Туго запахнув халат,
Бахтиор оперся рукою о плиту. Кромка камня пришлась ему чуть выше колен, он
легко вспрыгнул на каменный стол, выпрямился во весь рост и, широко
размахнувшись древком, распахнул красный флаг, сразу подхваченный шумно
затрепетавшим в нем ветром.
- Ио! - крикнул из толпы восхищенный Карашир и сразу умолк: Бахтиор,
требуя тишины, взмахнул левой рукой и быстро, решительно заговорил...
Шо-Пир улыбнулся и, взяв из руки Бахтиора древко флага, вставил его в
расщелину камня.
Сорок три женщины - почти половина жительниц Сиатанга - проводили лето
на Верхнем Пастбище. Жили они в складнях из остроугольных камней, затыкали
сухой травой щели, спали, прижимаясь к теплым бокам овец, вместе с овцами
дрожали по ночам от леденящего ветра, вместе просыпались еще до рассвета. С
рассветом выгоняли овец и коров на пастбище - узкая высокогорная долина
наполнялась блеяньем и мычаньем стада, лениво разбредающегося по склонам,
заросшим альпийскими травами. Даже в середине лета трава по ночам
покрывалась инеем, а иногда и снегом; женщины, выгоняя скот, шли босиком, и
ни одной из них не приходило в голову, что где-либо может быть жизнь без
вечной стужи, ледяных ветров и лишений. Рассвет заливал розовыми тонами
облака, стоявшие в долине густым туманом. Громады облаков неспешно
поднимались, как ленивые многолапые чудища, гонимые ветром на голубое
небесное пастбище; скалистые склоны по бокам долины оказывались черными и
блестели от мириад росинок, игравших в косых лучах солнца; заиндевелая
шерсть овец становилась мокрой, стада окутывались легким клубящимся паром:
солнечное тепло медленно вступало в долину. Жены Пастбищ вместе с животными
радовались теплу, их тела переставали дрожать, вновь наливались жизнью...
Начинался обычный день. На зубах животных похрустывала трава, женщины
заводили тихие песни, рассказывали одна другой сны, вспоминали своих детей и
мужей, забыв о вечно повторяющихся страхах ночи. И вот уже где-нибудь под
скалой занимался огонек костра, в воздухе пахло кизяковым дымком, дымок,
курчавясь, стлался по долине, на углях сипели чугунные и глиняные кувшины,
кипела вода, подбеленная молоком... Женщины собирались вокруг костров,
ломали твердые шарики кислого козьего сыра, насыщались и снова расходились
по долине следить, чтобы какая-нибудь овца не застряла в расщелине между
камней, не утонула в ямах, заполненных стеклянно-чистой водой журчащего
посреди длины ручья, не забежала бы слишком высоко на обрывистый склон...
Вечерами женщины возвращались в задымленные каменные берлоги, доили
коз, овец и коров, бережно несли широкие долбленые чаши, мешали деревянными
ложками молоко, сбивали сметану и масло, наполняли простоквашей кислые
бурдюки, висевшие по стенам на больших деревянных гвоздях; а затем
вечеровали у костров, беседуя о мужчинах, которым вход сюда запрещен, о
любимых животных, о туманах, которые с темнотой вновь подбирались к долине,
о солнце, которое с каждым днем ходит все ниже над ледяными зубцами гор, о
дэвах - добрых и злых, маленьких и больших, смешных и страшных...
Новая ночь заставала женщин лежащими среди сбившихся в кучу овец, -
женщины засыпали не сразу, перед сном им бывало страшно, они думали о
таинственных духах, летающих между высокими звездами, иногда затмевая их.
Они боялись снежных барсов, иной раз подкрадывающихся к оградам летовок,
мяукающих, как огромные хищные кошки... Заснув, наконец, женщины ворочались
до утра, вцепляясь ногтями в теплую овечью шерсть, то одна, то другая охала
и стонала, бессильно борясь со страшными снами...
Над ними завывал ветер, потрескивали висячие ледники, бродила бездомная
холодная луна, стремясь пробиться сквозь темные облака, напитывая их
зеленоватым светом.
Сюда, в эту спрятанную среди горных вершин долину, три дня назад пришла
из Сиатанга Гюльриз. Прежде всего она обошла все стадо, разыскала свою
корову и двух овец, пощупала овечьи бока, потрогала вымя коровы, прошептала:
"Благодаренье покровителю, не болеют!" - и только тогда направилась к
летовке, чтобы отдохнуть после трудного подъема и - еще до темноты -
поспать. Вечером, когда все сорок три женщины собрались в летовке, Гюльриз
рассказала о том, что делается внизу, кто и сколько собрал зерна, кто болен
и кто здоров, о взрыве башни, о новом канале и новых участках, обо всем, что
интересовало каждую проводившую здесь лето женщину. Не все относились к
Гюльриз одинаково, не все разговаривали с нею как с равной. Здесь были две
или три жены обедневших сеидов, здесь была родственница ушедшего в Яхбар
халифа, здесь была племянница судьи Науруз-бека. Остальные были женами и
дочерьми факиров, но некоторые из них не любили Гюльриз за то, что ее сын
Бахтиор не признавал Установленного... Но все-таки все эти женщины жили
здесь одинаковой жизнью и помогали одна другой, все тосковали и мерзли,
вместе пасли стада, вместе боялись дэвов, вместе спали, ели и пили... Каждая
из них уважала старость - а Гюльриз была здесь самой старой, - и потому
слова ее были выслушаны внимательно.
В первый вечер Гюльриз ничего не сказала о появлении в Сиатанге Ниссо.
Но на следующее утро, удалившись на пастбище с женами тех ущельцев, которые
в жизни своей и в делах своих шли за сыном ее, Бахтиором, Гюльриз поведала
спутницам и эту последнюю новость. И сказала, что до сих пор всегда
тосковала без дочери, а вот теперь есть дочь у нее, живет в ее доме... И
описала так подробно прошлую жизнь, горести, печали и беды Ниссо, что всем
стало жалко ее, - старуха Гюльриз хорошо знала, как и чем можно вызвать
жалость у женщин Сиатанга!
И в тот же день весть о Ниссо обошла всю летовку, и каждая из сорока
трех женщин слушала о Ниссо по-своему.
Гюльриз своих затаенных надежд не выдала: зачем женщинам знать, что
Ниссо, может быть, станет женой Бахтиора? Гюльриз понимала, что такое
зависть и недоброжелательство, и разве не самым лучшим мужчиною в Сиатанге
был ее Бахтиор? Но кто может позавидовать или пожелать зла старухе,
захотевшей иметь взрослую дочь - помощницу в хозяйстве, усладу для стареющих
глаз? А потом стала напоминать своим собеседницам жизнь каждой из них - о,
старая Гюльриз знала их жизнь, как свою, - половина этих женщин родилась,
когда Гюльриз уже была замужем! И, заводя задушевные беседы то с одной, то с
другой, говорила:
- Ты, Зуайда, родившаяся в год Скорпиона... Когда ты прожила один
только круг и снова вошла в год Скорпиона - стоила полмешка риса, одного
барана и маленького козленка. Я помню, как купивший тебя твой муж Нигмат
схватил тебя за волосы, когда ты плюнула ему в глаза, и тащил тебя по камням
через все селение домой, как после этого ты две зимы и два лета плакала! А
потом Нигмат чинил старый канал над крепостью и упал вместе с камнями вниз,
и голова его раскололась на две половины, - ты помнишь? В тот день ты совсем
не плакала, ты улыбалась после похорон, когда твой брат Худодод взял тебя в
дом и сказал, что уже не продаст тебя замуж. Я знаю, мечтала ты иметь
хорошего мужа и здоровых детей, а живешь одна, - пройдет твоя жизнь, как
проходит молодость... Пусть добра тебе хочет Худодод, но есть ли в твоем
сердце радость? Скажи, где мечтанья твои?
Широкоглазая, с веснушчатым темным лицом, со спутанными, пахнущими
кислым молоком волосами, Зуайда отвечала:
- Зачем вспоминаешь? Разве не все живем одинаково?
- Что делать старухе, как не вспоминать старое?! - произносила Гюльриз
и, умолкнув, охая и вздыхая, упираясь морщинистыми руками в колени, вставала
с зеленой травы, шла поперек долины и подсаживалась к другой женщине.
- Саух-Богор! По годам ты действительно "Травка Весны", но смотрю я на
твое лицо - от глаз твоих к вискам уже разбежались морщинки... Не закрывай
рукою лицо, чт тебе меня, старой, стыдиться? Брат Исофа, твой муж
Иор-Мастон, хорошим был человеком, ты любила его, и он тоже тебя любил,
зачем только ушел он за пределы Высоких Гор? Ты не веришь, что он жив? Я
думаю, может быть, он жив, только он никогда не вернется! Если бы он не
ушел, разве взял бы тебя в жены Исоф как наследство от брата? Знаю я,
стонешь днем ты от рук Исофа и во сне, по ночам, стонешь, будто тебя душат
дэвы. И что хорошего получилось от того, что дом любимого тобой Иор-Мастона
стал проклятым домом? Разве хорошо, что живешь ты с Исофом? Разве радость
тебе твои дети?
- Для чего вспоминаешь плохое, Гюльриз? - чуть слышно отвечала
Саух-Богор и, срывая травинку за травинкой, покусывала их мелкими, белыми,
как у сурка, зубами. - Боюсь я Исофа, но нехорошо тебе говорить об этом!
- Нехорошо? Ты права! - сурово произнесла Гюльриз. - Пусть я о радостях
твоих поговорю, назови мне какую-нибудь радость, о ней пойдет разговор!
Саух-Богор долго думала, напрасно стараясь отыскать в своей памяти хоть
маленькую радость.
- Неужели у тебя никакой радости для хорошей беседы нет? - подождав
достаточно и всматриваясь в лицо собеседницы острыми немигающими глазами, с
жестокостью спрашивала Гюльриз.
Саух-Богор молча вздыхала, а Гюльриз, покачав головой и ласково
дотронувшись тремя пальцами до худого плеча женщины, поднималась и уходила
по сочной траве долины.
Так два дня ходила она по этой долине, высматривая, где сидят одинокие
женщины, приближалась к ним, как старая хищная птица, клюя их в самое сердце
беспощадными словами и затем оставляя наедине с их думами. Умная Гюльриз
знала, что делает, знала также, что ни одна из женщин не поделится этими
словами со своими подругами, и с жестоким удовлетворением замечала, что на
третий день ее пребывания здесь Жены Пастбищ перестали петь песни - ходили
понурые, словно отравленные. И когда у самой Гюльриз сердце ныло, будто
придавленное невидимым камнем, она радовалась горькою радостью, думая о сыне
своем Бахтиоре и о том, что, если бы не Ниссо, всю жизнь жил бы он
одиноким... С ненавистью думала она о тех, кто хочет отдать Ниссо Азиз-хону,
и говорила себе, что у нее хватит материнских сил добиться, чтобы этого не
случилось.
А под вечер третьего дня Гюльриз рассказала всем женщинам летовки, что
завтра в Сиатанге большое собрание, на котором мужчины будут говорить о
Ниссо, а Шо-Пир будет считать руки тех, кто поднимет их, желая, чтоб у
старой Гюльриз не отняли дочь и не отдали ее Азиз-хону. "Пожалейте меня, -
сказала Гюльриз, - пойдемте утром со мной, поднимем руки, чтоб Ниссо
осталась мне дочерью". И Жены Пастбищ сначала не понимали, чего хочет от них
Гюльриз. Но Гюльриз сказала, что, считая по солнцу, подходит время им уйти с
летнего пастбища и совсем необязательно дожидаться мужчин, которые явятся
сюда, чтобы сопровождать своих жен и дочерей вниз, в селение... Новое время
пришло, и кто осудит женщин, если они явятся в селение сами и на несколько
дней раньше? Ну, пусть будет крик, пусть будут недовольны мужчины, но что
они сделают, если все женщины станут кричать в один голос? Когда от стада
бежит одна овца, ее бьют палками, чтобы она возвратилась к стаду; когда
бежит все стадо, кто удержит его?
Слова Гюльриз выслушали все сорок три женщины, но вместо того, чтобы
помолчать и подумать, стали волноваться и голосить.
Поднялся большой спор. Племянница судьи Науруз-бека вскочила и,
расшвыривая ногами мелкие камни, прокричала, что старуха Гюльриз одержима
дэвами, что речи безумной нечего слушать, что лед рухнет с гор на тех, кто
станет слушать нечестивые слова нарушительницы! И многие женщины закричали,
что никуда не пойдут, ибо ради чего нарушать Установленное? А другие
сказали: уважают они мать Бахтиора, жалеют ее, но тоже никуда не пойдут,
потому что им страшно: ведь, кроме мужчин, есть еще и покровитель; гнев его
одинаково поражает овцу и все стадо и может даже обрушиться на селение и на
мужчин, не укротивших женщин, и на детей, и на сады, и на всю страну гор! Но
Зуайда, Саух-Богор и еще несколько женщин молчали. Гюльриз, казалось, не
замечала их. Она умолкла и, вцепившись пальцами в свои волосы, углубилась в
неотвязные думы. Гюльриз в самом деле казалась безумной.
Долго еще, до глубокой ночи, продолжались крики и споры в летовке. Но
Гюльриз уже поняла: дело ее проиграно. Жены Пастбищ не пойдут завтра вниз;
Ниссо не станет женой Бахтиора, а старость самой Гюльриз будет пуста и суха,
как старость всех сиатангских женщин...
И ночью Гюльриз вышла из летовки и отправилась блуждать по мертвой,
окутанной черным туманом долине и хотела уже одна возвращаться вниз и
подошла к той, единственной, уводящей отсюда тропе. Но, вступив на нее,
подумала, что ночью в тумане можно с этой тропы упасть и лучше уж подождать
до утра.
Постояв над черной невидимой пропастью, старая Гюльриз заломила руки.
Ей показалось, что сейчас, так же как в молодости, ее начнут душить слезы.
Но слез не нашлось, только сухое, прерывистое дыхание вырвалось из горла.
Старуха бессильно уронила руки, повернулась и медленно направилась к
летовке. Вступила за ограду, где дышали спящие овцы, нащупала несколько
тучных, раздвинула их курчавые, пахнущие мокрой шерстью бока, втиснулась в
эту теплую груду, легла...
А на рассвете, когда овцы зашевелились, толкаясь, заблеяли жалобно и
многоголосо, Гюльриз встала и, проталкиваясь меж ними, прошла мимо других
женщин к выходу из летовки.
Все женщины смотрели на нее молча. Но когда она вышла за ограду и
пошла, не оглядываясь, ломая босыми ногами обмерзшую за ночь траву, Зуайда
вдруг выбежала следом и, взмахнув руками, крикнула:
- Гюльриз, подожди!
Гюльриз остановилась, словно раздумывая: стоит ли ей оглянуться?
Прямая, худая, зябнущая на ветру, стояла так, пока не услышала нестройное
блеяние и топот выбегающих из-за ограды овец. Две коровы обогнали Гюльриз, и
она, искоса глянув на них, увидела, что это ее корова и корова Саух-Богор и
что обе они навьючены деревянной посудой, бурдюками с кислым молоком и
рваными козьими шкурами. Гюльриз обернулась, думая, что из летовки выбегает
все стадо, но увидела: плетневые воротца снова закрылись, а по тропе спешат
к ней, подгоняя своих овец палками, Зуайда, Саух-Богор и еще шесть женщин -
те, кто во время спора молчали.
Гюльриз сразу все поняла. Из ее строгих, вдруг заблестевших глаз
выбежали непрошеные слезинки. Она смахнула их и, когда Зуайда подошла и
сказала: "Ночью мы разговаривали... Другие не хотят, мы идем", - сурово
ответила: "Покровитель даст счастье вам, пожалевшим старуху!"
Овцы бежали за ней, подгоняемые идущими сзади женщинами, коровы шли
медленно, погромыхивая посудой. Зуайда, обогнав всех, поравнялась с Гюльриз,
взяла ее за руку и шла тихо, как дочь, ведущая свою мать...
Гюльриз смотрела прямо перед собой и, уронив руку Зуайды, вступила на
выводящую из долины, штопором спускающуюся тропу. Овцы вытянулись гуськом за
старухой, женщины побрели за овцами, долина с зеленой подмороженной травой
ушла вверх, скалы скрыли ее от глаз обернувшейся Саух-Богор, и только синий
дымок летовки вился над ущельем, догоняя женщин, нарушивших Установленное,
поборовших тысячелетнюю боязнь.
Восемь женщин шли за Гюльриз в селение Сиатанг, где в этот день начался
советский праздник. Восемь женщин впервые в истории Сиатанга шли с Верхнего
Пастбища вниз без мужчин, наперекор Установленному, шли по велению своих
иссушенных горем сердец, сами не понимая значения того, что они совершают в
истории Сиатанга.
Ниссо с террасы видела все, что происходило внизу: люди бежали вдоль
канала, крошечные их фигурки усеяли пустырь; потом взвился красный флаг там,
где острое зрение Ниссо различало среди других фигурок - наверно, совсем не
думавшего о ней в ту минуту - Шо-Пира. Кто-то, вероятно Бахтиор, стоял на
камне под красным пятнышком флага и размахивал руками; ветер порой доносил
гул голосов. Потом все кинулись к Шо-Пиру. Ниссо сначала даже испугалась,
но, всматриваясь зорче, различила: ущельцы, тесно его обступив, поочередно
протягивали руки к чему-то черному, что Шо-Пир держал перед собой. Толпа
разомкнулась, и несколько человек разбежались по пустырю, вдоль канавок;
толпа поредела, от нее отделились люди; размахивая руками, суетясь, снова
собрались вокруг Шо-Пира...
Ниссо захотелось есть. Она пошла в кладовку, набрала из деревянной
чашки полную горсть тутовых ягод. Снова стала смотреть. И почему-то теперь
Ниссо не слишком тревожилась о себе, - то ли крошечные фигурки людей,
наблюдаемые так издалека, сверху, казались ей безобидными, то ли просто ей
надело тревожиться... Зрелище занимало, развлекало ее.
Но вот на тропинке показался человек в белом халате. Человек
поднимался, приближался к Ниссо. Она узнала в нем Бахтиора.
Бахтиор, конечно, идет за ней, ей сейчас придется спуститься туда, к
этим людям! Маленькие фигурки внизу сразу стали чужими, жестокими людьми, -
они будут говорить о ней, судить ее, как виноватую, желать ей зла!.. А
Шо-Пир станет кричать на них и бороться с ними, и вообще станет страшно, и
уже сейчас страшно!.. Бахтиор приближается, - что скажет ей Бахтиор? Скажет:
беги, тебя решили отдать... Или скажет другое? Что будет?
Зябко передернув плечами, Ниссо беспокойно оглядела свое новое,
полученное от Кендыри платье, медный браслет на левой руке, - на нем
ослепительно сверкнул солнечный луч, - ждала, перебирая красную кисть косы
дрожащими пальцами...
Бахтиор подошел к террасе.
Чувствуя, что щеки ее горят, Ниссо провела по ним ладонями, хотела
улыбнуться Бахтиору, но улыбка не получилась.
- Ты пришел, Бахтиор?
- Пришел, Ниссо, - просто ответил Бахтиор, - идем вниз, о тебе разговор
теперь. Скользнув по ее фигуре мгновенным, будто проверяющим взглядом,
добавил: - В чужом платье пойдешь?
Разговор о платье уже был утром, Шо-Пир сказал: "Пусть в этом пойдет,
не в рубашке же Гюльриз ей быть перед всеми?" - и Бахтиор согласился. А
сейчас вот опять начинает, к чему это?
- Что было внизу? - спросила Ниссо, и Бахтиор торопливо заговорил.
- Понимаешь, глупые у нас люди! - Бахтиор засмеялся. - Участки делили.
Шо-Пир тебе рассказывал, как будем делить? Вот так делили: он шапку держал,
все по очереди из нее вынимали камни... Карашир участок Рыбы очень хотел,
Исоф тоже очень хотел участок Рыбы. А камень, на котором мы рыбу нарисовали,
достался Худододу. Он пошел смотреть свой участок, а Карашир и Исоф побежали
за ним. Побили его, потом между собой подрались! Карашир дергал бороду
Исофа, Исоф с Карашира овчину стянул. Шо-Пир закричал - знаешь, от такого
крика деревья перестают расти, - побежал, разнял дерущихся, ругать их
начал... Пойдем, разговаривать некогда. Ждут тебя...
Ниссо, однако, еще не собралась с силами, ей хотелось затянуть
разговор.
- А скажи, Бахтиор, тебе дали участок?
- Дали! Ничего, тоже хороший участок. Весной пшеницу сеять поможешь
мне? Скажи мне, Ниссо, поможешь? Вот хорошо мы стали бы вместе работать!
И Бахтиор так взглянул на Ниссо, что она впервые потупилась перед ним,
но сразу вскинула голову и - скорей, только бы он не заметил смущения, -
заговорила:
- Что будешь сеять? Еще скажи, о зерне разговор был? Как решили?
- Спорили очень долго. Одни кричат: "Соскучились животы у нас! Год
ждали хлеба!" Рыбья Кость кричит: "У меня восемь детей!" Еще кричат: "Не
хотим каравана ждать! Есть хотим, лучше через год голод, чем сейчас голод!"
А Шо-Пир, знаешь, что им сказал?
- Наверное, хорошо сказал им Шо-Пир!
- Шо-Пир сказал: "Сейчас не голод! Есть места, где траву едят, вы траву
не едите еще! Лучше двадцать дней на одном туте сидеть, чем голодать всю
зиму и еще целый год. Если начнете есть собранное зерно, на сколько дней его
хватит? Что будете сеять на будущий год?" Вот так Шо-Пир сказал, и один
факир ответил ему: "Это правильно, осел траву под собой ест, на навоз
ложится; мы люди, а не ослы, не надо трогать зерно, не надо его молоть..."
Так сказал, все спорить устали, Мирзо-Хур начал говорить, ему не дали...
- Значит, не будут трогать?
- Не будут. Сказали. Идем теперь, беспокоюсь я, нана не пришла...
Ниссо не хотелось идти.
- Идем, Ниссо, слышишь? - громко, но неуверенно повторил Бахтиор.
- Что будет со мной, Бахтиор? Скажи, Бахтиор?
В словах Ниссо он услышал мольбу и помрачнел.
- Идем... Сам не знаю...
Подавив вздох, Ниссо встала и молча сошла со ступенек террасы. Бахтиор,
забыв об обычае, который требовал, чтоб женщина всегда шла позади мужчины,
пропустил Ниссо и двинулся за ней следом. Ниссо шла по тропе, прикрывая рот
и нос широким рукавом. Ее лицо было тревожным и бледным. Она не скрывала от
Бахтиора своего страха, а он не научился еще находить слова, какими можно
ободрить женщину. И тоже шел молча. "Вот, - думал он, - решат отдать
Азиз-хону... Что будет тогда? Шо-Пир не отдаст. Шо-Пир скроет ее, уведет в
Волость, так сказал он вчера. Что я буду делать? Я тоже пойду... Шо-Пир в
Сиатанг вернется, я не вернусь. Там останусь. Рядом с ней буду жить!"
Красные привязанные косы Ниссо падали ей на грудь, красные кисти их при
каждом шаге ударялись об ее колени и тяжело раскачивались; Бахтиор следил за
пальцами босых ног Ниссо, - как осторожно касались они острых граней камней!
Ниссо шла по тропе покорно, как овечка, которую ведут на заклание.
Мысли ее были о Шо-Пире: хватит ли у него могущества, чтоб не дать ее в
обиду? Приближаясь к пустырю, всматриваясь в толпу сиатангцев, она
выискивала в ней Шо-Пира. И, увидев его, глубоко вздохнула. Над каменной
плитой трепетал флаг. Ниссо пристально вглядывалась в красную волну флага,
подумала, что в неизбежной опасности он ей поможет, и пошла уверенней, а
глаза ее стали дерзкими.
- Большинством решать будем? - спросил Мирзо-Хур, первым нарушив
тишину, какой встретили ущельцы появление Ниссо.
Тишина эта была долгой и напряженной. Она началась, когда Бахтиор
провел Ниссо к Шо-Пиру, Худододу и другим членам сельсовета. Она
продолжалась, пока две сотни глаз, скрестив взгляды на лице Ниссо, на руках
ее, на косах, на платье, изучали ту, о которой все эти дни было столько
разговоров - открытых и тайных, громких и приглушенных, полных зла и добра,
расчета и зависти. Вот она перед ними, как на суде, - неверная жена мужа,
беглянка, рискнувшая обрушить на себя гнев могущественного человека Высоких
Гор... А она красива, это видят все, Азиз-хон не был дураком, купив себе
такую жену! Она, должно быть, смелая: стоит, прикрыв руками только
подбородок да губы, а глаза смотря прямо, дерзко смотрят ее глаза!..
Шо-Пир хорошо понимает вопрос Мирзо-Хура - ехидный вопрос, но что
ответишь купцу? Сколько было разговоров о том, что теперь все дела решаются
большинством.
Шо-Пир думает об отсутствующей Гюльриз, о Женах Пастбищ, обводит взором
сидящих вокруг мужчин и считает немногих, которые могут открыто выступить
против Установленного. И, неприязненно взглянув на купца, Шо-Пир отвечает
резко:
- Большинством!
Тишина продолжается. А купец, сам не замечая того, самодовольно
потирает руки...
"Сейчас говорить или послушать сначала, что скажут? - думает Шо-Пир. -
пожалуй, пусть лучше выговорятся... Послушать надо сначала". Встает,
обращается к выжидающим первого слова ущельцам:
- Товарищи! Вот девушка... Из Яхбара пришла... Мучают там людей, на
советскую сторону они и бегут! Среди нас хочет жить она, как человек. Пришла
к нам за справедливостью и защитой. Пусть узнает, что народ наш свободен,
что справедливость в нем есть. Кто хочет говорить первый?
- Я хочу! - поднялся зобатый Науруз-бек, и все напрягли внимание: давно
уже не говорил перед народом бывший судья. - Ты, Шо-Пир, сказал о
справедливости в нашем народе? Верно это: справедливость в нашем народе
есть, но ты не понимаешь ее. Недавно ты здесь и мало что знаешь. Вот ты не
знаешь, кто сотворил Высокие Горы. А мы это знаем. Их сотворил Молчащий,
когда увидел, что на земле повсюду распространился грех. Он сотворил их,
чтоб было на земле безгрешное место. Тогда вырос в горах наш народ. Зеленая
звезда освещала его своими лучами, только для нашего народа светила эта
звезда. Но однажды в нашу страну пришла женщина. Она пришла из тех мест, где
был распространен грех, и она принесла грех сюда. В ту ночь Зеленая звезда
погасла и упала на землю. Камни, которые до тех пор были зелеными, в ту ночь
почернели... С тех пор наша страна называется Подножием Смерти, в ней только
черные камни, они придавили землю. И разве у нас светлое небо? Взгляни
быстро на небо, ты увидишь, оно черное, и только потом оно покажется тебе
голубым! Оно черное, черное... Все это сделала женщина, пришедшая в наши
горы. С тех пор все потомки ее черны, черны у них души. Ты знаешь, кто эти
люди? Эти люди - факиры... Ты говоришь, наш народ справедлив? Ты не прав.
Справедливы и белы только те, кто произошел не от той женщины, - шана, сеиды
и миры. Ты пришелец, Шо-Пир. Что ты знаешь о нашем народе? Что знаешь ты о
шана, сеидах и мирах? А знаешь ли ты, что миры, шана и сеиды не одеваются в
черные одежды? Что бог запретил им иметь черный скот? Что каждый родившийся
черный ягненок должен быть зарезан? Что если мир придет к кому-нибудь в дом
и в доме найдется для него только черное одеяло, он никогда не накроется им?
Он выйдет из дома, потому что так установлено! Посмотри на нас: мы сидим
вместе здесь - в халатах белых и черных... Кто сидит в черных? Факиры,
потомки греха, потомки женщины, женщины, убившей свет Зеленой звезды. Однако
вижу в белом - факира... Нарочно надел, Бахтиор? Смеешься над Установленным?
Смейся! Твой час придет!
В гневном исступлении Науруз-бек потрясал руками. Его зоб качался под
бородой. Брызжа слюною, он обращался уже не к Шо-Пиру, а ко всей толпе, он,
казалось, готов был наброситься на всякого, кто осмелится ему возразить. Он
кричал:
- Женщина к нам пришла? Ха! Разве это женщина перед нами? Смотрите все
на нее! Она как будто такая, как все. Мы знаем: она жена хана. Но она
рождена от факира, - ее душа черна и презренна. Это только преступное
подобие женщины, совершившее великий, смерти достойный грех. Хорошо, мы
оставим ее, но что будет? Солнце погаснет и упадет на землю, если мы оставим
ее среди нас. Все травы и воды станут такими же черными, какими в тот раз
стали камни. И все люди умрут... И наши горы, ставшие после первого греха
Подножием Смерти, будут теперь Горами Смерти... Этого хочет Шо-Пир? Об этой
справедливости говорит? И вы, факиры, этой свободы ждете? Не слушайте, люди,
Шо-Пира, он безумец! Пусть сами женщины скажут, правильны ли мои слова, -
вот сидят старые, мудрые женщины... Зейнат Богадур, ты мудрая женщина,
встань, скажи свое слово!
Науруз-бек умолк, и одна из четырех старух, ожидавших поодаль, встала,
обратилась к затаившим дыхание ущельцам.
- Я видела во сне три луны, - сказала она. - Три луны на небе я видела
в ту ночь, когда к нам прибежала эта, - старуха протянула костлявую руку,
указывая сухим, дрожащим пальцем на стоящую, как изваяние, Ниссо. - Что это
значит? Так значит: две луны пришли на небо ждать, когда солнце погаснет.
Прав Науруз-бек, правду он говорит. А утром я доила корову, из ее вымени
текло кислое молоко! Значит, трава уже становится черной. Мы не видим этого,
пока еще солнце не погасло, но коровий желудок уже все чувствует, потому что
скотина всегда прежде людей чует беду... Кто объяснит, почему это случилось
в ту ночь, когда в Сиатанге в первый раз появилась эта - бежавшая от
Азиз-хона жена? Кто объяснит?
- Пусть Бобо-Калон объяснит! - послышался голос в толпе. - Пусть
объяснит мудрейший...
- Правильно! - воскликнул, подняв обе руки, Мирзо-Хур. - Я здесь чужой
человек, мне все равно. Я всех готов слушать. Послушаем Бобо-Калона! Скажи
свое слово, Бобо-Калон!
Шо-Пир и Бахтиор переглянулись.
- Бобо-Калон... Бобо-Калон! - кричали в толпе.
- Пусть говорит, черт с ним, - кивнул Шо-Пир Бахтиору, - пусть
выговорятся они до конца! - И, коснувшись руки стоявшей перед ним бледной
Ниссо, сказал: - Сядь и будь спокойна!
Ниссо опустилась на камень.
- Смотри на них, не опускай головы! - прошептал Шо-Пир, и Ниссо,
поставив локоть на каменный стол, подперла подбородок ладонью.
Бобо-Калон встал. Руками оперся на палку, устремил взор поверх всех
сидящих к вершинам гор и заговорил медленно, как бы читая на зубцах вершин
начертанные там и зримые только ему слова:
- Моя борода бела, мои руки сухи, я прожил пять кругов; от года
Скорпиона до года Зайца - пять раз. Глупы те, кто хочет изменить мир,
который вечен и неизменен. Вот эта гора стояла всегда, как стоит сейчас. Вот
эта река, что бежит позади меня, шумела так же, и воды в ней было не больше,
не меньше. И солнце светило, и травы росли, и ночь приходила после каждого
дня, и луна по ночам плыла. Все было всегда как сейчас. Все было так тысячу
лет назад, тысячу лет подряд... Что установлено в мире, люди менять не
должны. Это истина, в ней мудрость и свет. В ней счастье каждого человека...
- И ты думаешь, Бобо-Калон, о своем счастье сейчас? - вдруг язвительно
выкрикнул Бахтиор.
- Яд в твоих словах слышу, Бахтиор, - продолжал Бобо-Калон. - Мое
счастье - в покое души и в созерцании истины... Я думаю о счастье сидящих
здесь. Я думаю даже о тех, кто ныне одержим беспокойством. О белых людях я
думаю и о вас, о черных факирах, думаю, ищущих счастье во лжи. Прав
Науруз-бек: первый грех был от чужой женщины, этот грех погасил свет Зеленой
звезды. Вот опять к вам пришла чужая женщина! Разве в прежнее время был бы у
нас разговор? Такую женщину положили бы в мешок, весь народ бил бы ее
палками, чтоб потом выбросить в реку... Настало время иное: вокруг этой
женщины разговор о справедливости... Но все, что совершается в мире,
совершается по воле покровителя. Вот мое слово: пусть эта женщина останется
здесь, и пусть гаснет солнце и травы становятся черными!
Бобо-Калон сел на камень. Ниссо стало страшно, и она с тревогой в
глазах обернулась к Шо-Пиру.
Шо-Пир, знавший много преданий и легенд сиатангцев, решил, что сломить
направленное на него оружие можно только таким же оружием. Надо было сейчас
же, немедленно придумать что-то необычное, действующее на воображение
ущельцев. Мысль работала с необычайной быстротой... Да, да, все на свете
меняется каждый миг, река прорезает горы, ущелье углубляется и растет, и
ханского канала когда-то не было вовсе, а долина орошалась исчезнувшим ныне
ручьем, а вот теперь есть новый канал, которого не было год назад... Но об
этом потом, а сейчас надо иначе...
- Так! - произносит Шо-Пир, выпрямляясь и выступая вперед. - Выслушайте
меня! Я пришел издалека! Но я тоже кое-что знаю. Мир ваших гор - это еще не
весь мир. Разные есть миры на нашей великой земле. Есть такие: год ехать
верхом - ни одной горы не увидишь. Есть такие: деревьев так много - огонь
зажги, ветром его гони, а все-таки всех деревьев не пожрет никогда. Есть
такие, где и самой земли нет, а только вода, кругом вода, как пустыня -
вода. У вас даже слова такого нет, чтобы назвать мир воды. Каких только
стран нет на нашей земле - есть такие, где солнце полгода не выходит на
небо, дни и ночи темны одинаково, а другие полгода - ночей не бывает, не
спускается солнце с небес...
Шо-Пир запнулся, подумал: "Черт! Мало я книг читал!" Он чувствовал на
себе выжидающие взоры ущельцев. Лоб его покрылся испариной. Он снял с головы
фуражку, вертя ее руках, глядел на нее. Коснулся красноармейской звезды... И
вдруг, подняв фуражку, заговорил быстро, уверенно:
- Вот смотрите! Что это блестит? Смотрите, что это? Это звезда, красная
звезда, вы видели ее на моей шапке много раз. А вы о ней думали? Нет! Откуда
она? Что означает? Я вам скажу... В тех землях, откуда я к вам пришел, было
много бед! Были люди такие, которые... волки были они, не люди: убивали
справедливость на наших землях. Сами - белые, руки у них - белые, а
сердце... Вот, смотрите на ледники ваши: далеко? Как отсюда до ледников -
наши поля. По грудь мою высотой вырастает на них пшеница, такой пшеницы и во
сне не видели вы! Мой народ собирал ее. Все зерно сложить - выше ваших гор
было бы. А люди голодали хуже еще, чем вы. А почему голодали? Те, проклятые,
волчье племя, все отнимали у нас... Миллион! Тутовых ягод на всех ваших
деревьях, наверное, меньше миллиона... А у нас там - много миллионов людей.
Но у тех, проклятых, были ружья, тюрьмы и палачи для таких, как мы, для
миллионов. Правили они нами, горло перегрызали всем непокорным, заковывали в
железные цепи руки и ноги. Боролись мы, восставали, в мученьях умирали. Но
вот пришел человек, мудрейший, великий человек, в мире таких еще не бывало!
В его сердце было любви к справедливости столько, ненависти ко злу столько,
словно весь народ вместил он в сердце свое! И закипела в нем живая красная
кровь, рождая бессмертное зовущее слово - всесильное слово всего народа.
Зажглось оно огромной красной звездою. И лучшие друзья того великого
человека, а за ними тысячи смелых, крылатых духом вознесли над миром красный
свет этой звезды; проник он в миллионы сердец, и вспыхнули они разом, сжигая
везде проклятых насильников, пробуждая в племени справедливость, радость и
счастье, о которых люди мечтали тысячу лет...
"Теперь скажу, - подумал Шо-Пир, - теперь получится! Об Октябрьской им
расскажу, о товарище Ленине, и как в гражданскую воевали, и как..."
- Шо-Пир! Шо-Пир! - схватив за рукав вдохновленного созданием новой
легенды Шо-Пира, горячо воскликнул Бахтиор. - Смотри, идут! Скорее, скорее!
- Что такое? - обернулся Шо-Пир. - Кто идет?
- Жены Пастбищ идут! Смотри!
Шо-Пир, а за ним и все собравшиеся на пустыре сиатангцы обернулись к
последним домам селения, из-за которых вприпрыжку, мыча и гремя деревянной
посудой, выбежали на тропу коровы, подгоняемые женщиной. За нею россыпью, по
камням прыгали овцы. Из-за угла последнего дома показались еще несколько
женщин; они бежали, пронзительными криками понукая овец, стегая их
хворостинами. Женщины явно стремились сюда, к пустырю, на собрание!..
Этого не было никогда! Вся толпа знала, что этого не было никогда. Мир
переворачивался на глазах...
Жены Пастбищ возвращаются раньше времени и без мужчин! Жены Пастбищ
спешат на собрание, не боясь смотрящих на них мужчин. Жены Пастбищ, - не
привидения, не сон и не дэвы, - вот они бегут сюда по тропе, гоня скот, и
первой бежит, размахивая рукавами белого платья, с распущенными по ветру
волосами старуха Гюльриз! А за ней... Каждый из ущельцев всматривается в
женщин, бегущих за ней, - не может быть, чтоб среди них была его жена или
дочь!
И только Шо-Пир стоит, сунув руки в карманы, и уголки его губ
вздрагивают, ему хочется в эту минуту смеяться радостно, неудержимо! Сам
того не замечая, он сжимает большой горячей ладонью плечо доверчиво
приникшей к нему Ниссо.
Коровы мычат, овцы оглашают воздух блеянием, далеко разносятся резкие
женские голоса.
Неужели старой Гюльриз все удалось? Что будет сейчас? Что будет?
Но сдержанная улыбка сходит с лица Шо-Пира: пять, шесть, восемь...
девятая... Овцы еще бегут, но где ж остальные женщины?
Неужели их только девять? Неужели никто больше не покажется из-за гряды
скал?
А эти девять уже приблизились, ущельцы уже различают их лица, но Шо-Пир
глядит дальше, туда, где под скалами виден черный дом Карашира, из-за
которого выбегает тропинка... Она пуста!
Бахтиор тихонько дергает за рукав Шо-Пира, взволнованно шепчет:
- А где же остальные, Шо-Пир?
Шо-Пир проводит рукой по глазам, будто зрение его утомилось.
- Больше нет, Бахтиор! - упавшим голосом говорит он, но, кинув взгляд
на толпу, горячо шепчет: - Ничего, это ничего. Пусть девять! Ты же
понимаешь? И это здорово!
Коровы, добежав до пустыря, разом останавливаются, раздирают тишину
упрямым, протяжным мычанием. Блеющие овцы, наскочив на людей, пугливо
рассыпаются, и женщины бегут за ними, крича на них, стараясь хлесткими
ударами собрать их в кучу.
Шо-Пир видит Саух-Богор и сразу отыскивает взглядом Исофа, - вот он
стоит, застыв, кулаки его сжаты; разъяренный, он весь напряжен, еще минута -
он кинется к жене. Мгновенно оценив положение, Шо-Пир срывается с места,
легко прыгая с камня на камень, бежит сквозь толпу сиатангцев к женщинам,
сгоняющим овец.
И, едва добежав, весело, во весь голос кричит:
- Большой праздник! Слышите, товарищи? Большой праздник сегодня! Наши
подруги пришли! - И так, чтоб все слышали, чтоб никто не успел опомниться,
восклицает: - Саух-Богор, здравствуй! Зуайда, здравствуй! И ты...
здравствуй, Нафиз! И ты... Мы ждали тебя, Гюльриз! Бросайте овец. Идемте со
мною, почетное место вам!
Кто из мужчин в Сиатанге до сих пор так разговаривал с женщинами?
А Шо-Пир, окруженный ими, взяв под локоть Саух-Богор, уже ведет ее
сквозь толпу к тому камню, за которым стоят Бахтиор, Худодод и товарищи
их... И понимает, что уже не кинется на свою жену Исоф. Вот он стоит,
пропуская женщин мимо себя, бледный, с трясущимися губами, негодующий, не в
силах понять, что же это такое: его жену, держа под руку, проводят мимо
него, а он не имеет власти над ней, не смеет обрушить на нее свою ярость!
Саух-Богор идет, опустив глаза, она побледнела тоже, только сейчас
осознает она всю дерзость своего поступка, но Шо-Пир ободряет ее. Другие
женщины жмутся одна к другой, проходя с Шо-Пиром сквозь толпу, под взглядом
мужских глаз.
Справа на камне сидит Бобо-Калон, - Шо-Пир проходит мимо так, будто не
замечает его, но быстрый, мельком брошенный Шо-Пиром взгляд не пропустил
ничего: палка Бобо-Калона переломлена пополам; смотря в землю, он ковыряет
обломком щебень под ногами, а вместо него, выгнув шею и задрав клюв, сердито
смотрит на женщин сокол, сидящий на плече старика... А рядом с Бобо-Калоном,
облокотившись на камень, полулежит Кендыри, невозмутимый и даже, кажется,
чуть-чуть улыбающийся. Чему улыбается он? И так же, как Бобо-Калон, потупив
взгляд, купец Мирзо-Хур поглаживает и поглаживает свою черную бороду.
- Садитесь, гости! - спокойно говорит Шо-Пир, подведя женщин к
гнейсовой, заменяющей стол плите. - Худодод, посади сестру с собой рядом!
Садись, Зуайда... Вот Ниссо, которая вас ждала!..
И, заняв прежнее место, Шо-Пир резко оборачивается к толпе.
Тишины уже нет, - медленный, глухой в толпе нарастает ропот. Надо не
потерять решающего мгновения, этот ропот надо прервать...
- Науруз-бек! Слушай ты, Науруз-бек! - отчетливо и уверенно произносит
Шо-Пир. - Ты кричал, Науруз-бек: "Пусть женщины сами скажут, чьи правдивы
слова!" Зейнат Богадур о трех лунах сказала нам? О скисшем молоке нам
сказала? Старая, мудрая женщина! Вот еще одна старая, мудрая женщина - среди
этих, пришедших к нам, - кто не знает нашей Гюльриз? Здесь спор у нас был,
Гюльриз, что делать с Ниссо? Скажи, Гюльриз, и ты свое слово, послушаем мы!
- Нечего ей говорить! - вскочив с места, подбоченясь, кривя лицо,
пронзительно крикнула Рыбья Кость. - Я тоже женщина, говорить хочу!
Распутница эта Ниссо, от мужа ушла, за двумя мужчинами прячется! Тварь она,
зачем нам такую! Гнать ее надо от нас, гнать, гнать, гнать!..
- Правильно! Зачем нам такую? - подхватил с другой стороны пустыря
Исоф. - Зараза она - наши жены не повинуются нам, Не собаки мы, хозяева мы
наших жен! Азиз-хону отдать ее!
- Отдать! Пусть уходит! - выкрикнул еще какой-то ущелец, перешагивая
через толкнувшуюся в его ноги овцу.
- Камнями бить!
Решающий момент был, казалось, упущен. Но тут сама Гюльриз легко, как
молодая, выбежала вперед.
- Довольно волками выть! - перекрывая все выкрики, возгласила она. -
Меня, старую, слушайте! Кто слушает змеиные языки? Лжет Рыбья Кость,
одержима она, наверно! Не мужчины взяли к себе Ниссо. Я сама взяла ее в дом,
моей дочерью сделать хочу, нет дочери у меня! Пусть живет у меня, пусть
посмотрят все, какой она будет! Силой взял ее себе Азиз-хон, не была она
женою ему, ничьей женой не была. Не ханская у нас власть, новая у нас
власть, какое нам дело до Азиз-хона?
Уронившая лицо на ладони, оскорбленная, полная смятения, ужаса, Ниссо
теперь подняла голову, следит за старой Гюльриз. А Шо-Пир, зная, что дело
решится голосованием, понимает, что расчет на Жен Пастбищ все-таки
провалился; он обдумывает, что надо сказать ему самому, простое, самое
важное. Он знает: ущельцы в своих настроениях переменчивы, язвительная
насмешка и короткая острая шутка сразу всех расположат к нему...Ему
вспоминается комиссар Караваев. Если бы, живой, он был сейчас здесь!..
А Гюльриз все говорила, рассказывая собравшимся о своей трудной жизни,
в которой ни один человек не мог бы найти дурного поступка. Это было
известно ущельцам. Даже самые враждебные Бахтиору люди относились к ней с
уважением и потому сейчас слушали Гюльриз, не перебивая. И когда Гюльриз
кончила говорить и воцарилось молчание, Мирзо-Хур испугался, что уже
подсчитанные им будущие барыши могут выскользнуть из его рук. Он поспешно
встал.
- Ты, Мирзо, молчи, - тихо сказал ему Кендыри. - Не надо тебе говорить.
- Скажу, не мешай, - махнул рукой купец и закричал собранию: - Пусть
так! Как старый соловей, пела нам Гюльриз! Может быть, и красиво пела! Может
быть, эту ханскую жену можно ставить здесь. Может быть, проклятие не падет
на нашу землю. Я чужой человек, я пришел из Яхбара. Там власть одна, здесь -
другая. Но для честных людей повсюду один закон! Вы забыли, Азиз-хон платил
за Ниссо сорок монет. Если у человека убежала корова и прибежала в чужое
селение и чужие люди оставили ее у себя и не хотят вернуть тому, от кого она
убежала, что скажет хозяин? Он скажет: "Отдайте мне деньги, которые стоит
она, иначе вы воры!" Кто же из вас хочет славы: все живущие в Сиатанге -
воры? Дайте мне сорок монет, я отнесу Азиз-хону, тогда не будет беды! Так
сказал я. Что ответите мне?
Довод купца снова вызвал волнение ущельцев: кто мог бы найти у себя
сорок монет?
Снова поднялся Науруз-бек:
- Большинством решать будем! Поднимайте руки. Считать будем руки!
- Считать! Считать! - закричали ущельцы.
И тут с места поднялся Кендыри. До сих пор он держался незаметнее всех.
Но он ясно ощущал: старики говорили то, чего ждал он от них, что ему было
нужно. Но результат ему был нужен другой. Людей здесь, в Сиатанге, для него
не существовало: в затеянной им тонкой игре он относился к ним, как к
фигурам на шахматном поле; Ниссо представлялась ему пока только одной из
пешек... Но именно этой пешкой рассчитывал он кончить большую игру...
Уверенный в себе, встав с места, он очень спокойно потребовал:
- Я говорить хочу!
Казалось бы, Кендыри был всего-навсего брадобреем. Почему бы
приверженцы Установленного захотели внимать ему? Но, услышав его
требовательный возглас, Науруз-бек закричал:
- Пусть говорит! Слушайте Кендыри все!
И покорные Науруз-беку старики мгновенно примолкли. В наступившей
тишине Кендыри не торопясь подошел к Шо-Пиру, улыбнулся ему, молитвенно
сложив на груди руки, обратился к ущельцам.
- Я маленький человек, - тихо начал Кендыри. - Я живу здесь, да простит
меня покровитель, но раньше я жил за Большой Рекой... И теперь хожу туда по
милости Мирзо-Хура. Доверяет он мне свои торговые дела. Маленькие люди любят
слушать разговоры о больших людях. Азиз-хон - большой человек во владениях
своих, и большие о нем идут разговоры. Слушал я, почему не послушать? Так
говорят: купил он себе молодую жену и жил с ней. Жена Азиз-хона была как
лепесток цветка. Но женщины подобны воде; пока стенка кругом, вода
неподвижна, чиста, и в ней отражается небо. Если стенка сломается, вода
убегает из водоема, бежит бурная, мутная, бьется по камням, не находит себе
покоя и сама не знает своего пути: куда наклон есть, туда и бежит, все
ниже... Не закрыл ворот дома своего Азиз-хон. Убежала его жена. Вот она: вы
все ее видите! Разные здесь говорились слова. Говорили, что солнце погаснет,
если в Сиатанге останется женщина, принесшая грех. Но не эта женщина решает
судьбу миров. Что она? Жена, неверная мужу! А разве мало в мире неверных
жен? Разве перестает от этого расти хоть одна травинка?.. Нет! Судья
Науруз-бек был не прав. Он принял пылинку за гору. И Бобо-Калон был не прав.
Гюльриз хочет взять Ниссо в дочери? Старой женщине нужна в хозяйстве
помощница... Жалко нам этого? Нет. Может женщина жить одна? Я слышал о
законах советской власти: по этим законам женщина может жить одна; пусть
живет здесь и пусть работает. Ей тоже можно участок дать: захочет сеять
пшеницу, пусть сеет... Мирзо-Хур говорит: Азиз-хону надо сорок монет отдать?
Ха! Нужна ему жена, которая покрыла себя позором! Не нужна, плевать ему на
такую жену. Он уже купил себе новую - моложе и красивее Ниссо, и заплатил за
нее сто монет. Азиз-хон - богатый человек и могущественный, каждый день он
может покупать себе новых жен! Что ему эти сорок монет! Он может их бросить
под копыта ослу, он может их бродячим музыкантам отдать... Он не вспомнит о
них... А если нужно их отдавать, разве Ниссо сама не может вернуть? Пусть на
ней лежит долг. Что ж? Кто живет без долгов? Разве все вы не должны
Мирзо-Хуру? Разве вы воры, что до сих пор не отдали долгов купцу? Купец
доверяет всем. Дело купца - кредит. Мирзо-Хур уже сказал свое слово, он уже
поверил Ниссо, что она может вернуть долги. Вот она сидит в новом платье!
Его дал Ниссо в долг сам Мирзо-Хур. Он дал ей шерсть, чтобы она вязала
чулки, она уже вяжет их, работает, чтоб отдать долг Мирзо-Хуру. Пусть
работает дальше. Пусть два года работает - она отдаст все долги и те сорок
монет, что Азиз-хон заплатил за нее. Мы знаем: Шо-Пир хочет помочь ей,
Бахтиор тоже хочет помочь, иначе разве решила бы Гюльриз взять себе Ниссо в
дочери? Вот я о себе скажу: я нищим пришел, теперь все есть у меня. Спасибо
купцу, помог мне. Знал он: тот, кто пришел сюда, не уйдет назад. Я не ушел и
все долги ему отдал. Кто из нас не отдаст свои долги купцу? Разве мы не
честные люди? Я вам скажу: он немножко обижен, торговля его не идет, он даже
хочет отсюда уйти, признаюсь вам, он говорил мне. Зачем обижать его? А если
он, правда, захочет уйти? Все долги ему тогда сразу отдавать! Разве можем мы
это? Я спрашиваю: кто мог бы сразу отдать все долги?
Кендыри замолк. Ущельцы молчали. Озадаченный неожиданной речью Кендыри,
не понимая, что заставило его встать на защиту Ниссо, Шо-Пир тоже молчал.
Шо-Пир видел, что речь Кендыри не вызывает ни у кого возражений, Бобо-Калон
молчит, Науруз-бек молчит, и все старики молчат. Шо-Пир чувствовал, что за
словами Кендыри скрывается нечто, совершенно ему не понятное, но вместе с
тем было ясно: Кендыри требует оставить Ниссо в селении. Его доводы вовсе не
так убедительны для тех, кто с таким ожесточением требовал изгнания Ниссо,
однако никто ему не возражает, все как будто согласны с ним... И ведь почти
все, что сказал Кендыри, мог бы сказать и сам Шо-Пир... Во всяком случае,
Кендыри говорил не как враг. Черт его разберет, что тут происходит!
А Кендыри уже оборачивается к Шо-Пиру, открывая свои желтые зубы:
- Ты хотел, Шо-Пир, чтобы все поднимали руки? Считай! Вот моя первая -
за то, чтобы Ниссо осталась. Пусть живет среди нас, свободной будет пусть!
Кто еще поднимет руки за мной?
Кендыри глядит на толпу. И - странное дело - первым поднимает руку
Науруз-бек. Старики в недоумении глядят на него, он кивает им головой, и,
слепо повинуясь ему, они медленно тянут вверх руки. Поднимаются руки
Гюльриз, Саух-Богор и всех пришедших с Верхнего Пастбища женщин... Поднимают
руки бедняки, получившие сегодня участки. Шо-Пир, не веря глазам, видит, что
голосующих за Ниссо уже явное большинство. Бобо-Калон встает и, глядя под
ноги, медленно уходит с собрания. Мирзо-Хур царапает свою бороду, но
молчит...
Ниссо стоит выпрямившись, на лице ее красные пятна.
- Что скажешь, Шо-Пир? - то ли с торжеством, то ли с насмешкой
улыбается Кендыри. - Народ решил: она остается здесь!
Шо-Пир не отвечает ни словом: да, народ так решил, и это хорошо, но
Шо-Пир недоволен собой, - случилось что-то, чего он не может понять. Одно
ясно ему: над приверженцами Установленного Кендыри имеет необъяснимую
власть. Нищему брадобрею, пришельцу из иного мира они повинуются слепо. Кто
такой Кендыри? В чем тайная сила его? Каковы истинные его намерения?
Шо-Пир поднимается и устало заявляет, что собрание окончено. Ущельцы
расходятся медленно, перешептываются. Науруз-бек успокаивает негодующего
купца.
67
С тех пор как три зерна взросли, -
Ячмень, пшеница, рожь, -
Других найти мы б не могли
В опаре всех хлебов.
Три страсти в жителях Земли -
И больше не найдешь -
Страх, вера и любовь легли
В основу всех основ.
Но мы без страха век иной
Основой укрепим двойной!
Встающее солнце
Конечно, Бахтиор все это сделал бы гораздо быстрее, но его уже не было
в Сиатанге, а у Ниссо еще не хватало сноровки: ведь ей до сих пор никогда не
приходилось выкладывать каменные стены! К тому же приготовленные камни были
разной величины, и, прежде чем выбрать подходящий, приходилось перебрасывать
всю кучу, наваленную в углу. Выбрав камень, Ниссо вертела его, прилаживая то
так, то иначе, - ей казалось, что камень не лег достаточно прочно и что под
тяжестью других он обязательно упадет.
Пока день за днем она таскала в корзине камни от подошвы осыпи и месила
глину, - ей представлялось, что выложить стену - самое пустое и легкое дело.
Конечно, эта - третья - стена пристройки будет ничуть не хуже двух первых,
поставленных Бахтиором. Сегодня Ниссо трудилась с рассвета, но к полудню ей
удалось поднять стену не выше, чем до своей груди, и работа становилась
тяжелей с каждым часом, потому что камни приходилось поднимать все выше...
Ниссо работала без передышки: ей хотелось как можно скорее увидеть
комнату готовой, покрытой плоскою крышей, вровень с крышей всего дома. Надо
будет посередине обязательно сделать очаг, хотя Шо-Пир и говорит, что
никакого очага не нужно, зачем, мол, в одном доме два очага? Будь дом
Бахтиора таким же, как все дома в Сиатанге, - одно помещение для всех, -
можно бы и не спорить. Но ведь сам Шо-Пир хочет, чтоб здесь каждый жил в
своей комнате, и если у Ниссо теперь тоже будет отдельное жилье, то как же
не сделать в нем очага!
Ниссо вся измазалась, глина кусочками засохла даже в ее волосах. Если б
Ниссо работала и дальше одна, ей к вечеру не удалось бы выложить стену выше
чем до уровня своих плеч. Но вот сейчас, после того, как Шо-Пир вошел сюда и
укладывает камни сам, а Ниссо только подносит ему те, на которые он
указывает, работа идет с изумительной быстротой. Как ловко он все делает!
Тот камень, который Ниссо несет, сгибаясь, охватив двумя руками и прижав к
животу, Шо-Пир принимает на ладонь, - подбросит его на ладони, чтоб он
повернулся как нужно, и сразу кладет на раствор глины с соломенною трухой. И
камень ложится так, будто местечко поудобнее выбирал себе сам.
- Вот этот теперь, Шо-Пир? - спрашивает Ниссо, дотрагиваясь до
надтреснутого валуна.
Шо-Пир оборачивается.
- Не этот. Вон тот, подлиннее.
- Этот?
И, приняв от Ниссо камень, Шо-Пир продолжает разговор:
- Значит, там, говоришь, трава хуже была?
- Наверное, хуже. Голубые Рога никогда так за лето не отъедалась.
- Может быть, она больна была?
- Нет, не взял бы ее тогда яхбарец у тетки... Там у нас все коровы были
очень худые... А эта... Когда я первый раз ее чистила, я удивлялась: ни
одного ребра не нащупать... И такая большая!
- Положим, больших коров ты и не видела! Вон тот теперь дай... Этот
самый... У нас в России такие коровы есть, - эта теленком показалась бы! Как
в раю, Ниссо, ничего у вас тут хорошего нет... Бревен для крыши и то не
найдешь подходящих.
- А те, Шо-Пир, что вчера принес?
- Это тополевые жердочки-то? Да у нас из таких и дрова нарубить
постыдятся. У нас вот бывают деревья! - Шо-Пир широко развел руки. Затем,
кинув глиняный раствор. Размазал его по кладке.
- Все хорошее у вас, - задумчиво вымолвила Ниссо, подавая новый камень.
- Почему же ты живешь здесь?
- А вот хочу, чтоб у вас все тоже было хорошим! Тебя вот, красавицу
хочу сделать хорошей.
- Меня? - серьезно переспросила Ниссо и умолкла.
Несколько минут они работали в полном молчании.
- Шо-Пир! А как же у вас бывает, если у вас не покупают жен?
- Как бывает? А просто: если кто любит, то и говорит ей: "люблю". И
если она тоже скажет "люблю", то и женятся.
- И все?
- А что же еще? - улыбнулся Шо-Пир. - Свадьбу играют. В книгу запишут,
что муж и жена. И все.
- Сами пишут?.. Вот возьми, этот годится?
- Годится, давай! Сами и пишут: имя свое... И ты будешь замуж выходить
- напишешь.
Ниссо опять замолчала. Слышалось только постукивание камней.
- Никогда замуж не выйду! - решительно сказала Ниссо.
- Почему же так, а?
- Потому, что никто меня не полюбит... Плохая я?
- Чем же плохая ты?
- Конечно, плохая!.. Из-за меня солнце на землю может упасть... Все
люди умрут, я умру, ты умрешь... Я не хочу, чтоб погасло солнце!
- Эх, ты! Только и дела солнцу, что на землю падать из-за девчонок.
Глупые люди болтают, а ты слушаешь!
- Разве Науруз-бек глупый? И Бобо-Калон глупый? Все говорят: он
мудрейший! Я неверная жена, я зараза для всех, очень я, наверное, плохая...
Разве ты не слышал, что про меня говорили? Помнишь, что про меня закричала
Рыбья Кость? Зачем ты мне дом строишь, Шо-Пир? Почему не гонишь меня? Я,
наверное, зло тебе принесу... Знаешь, Шо-Пир, я все думаю... Вот возьми еще
этот камень...
- Эх, Ниссо, ты, Ниссо! Ну, о чем же ты думаешь?
Ниссо нахмурилась: может быть, в самом деле не говорить Шо-Пиру, о чем
она думает? Может быть, он рассердится, если она скажет ему, что ей хочется
умереть? Зачем жить ей, когда она такая плохая? Зачем приносить людям
несчастье? А главное, зачем приносить несчастье Шо-Пиру? Нет, лучше не надо
ему говорить.
- Опять замолчала! Ну, о чем же ты думаешь? Что в самом деле очень
плохая? Да?
- Конечно, Шо-Пир! Так думаю...
- А скажи, кому и что плохого ты сделала? Убила кого-нибудь? Или
украла? Или с утра до вечера лжешь?
- Не знаю, Шо-Пир... Нет! А слушай, правду тебе скажу... Хочу я
убить... Вот так - нож взять и убить, сразу ножом убить!
- Ого! Кого это? Ну-ка дай камень, вон тот... Не меня ли уж?
- Тебя? Что ты, Шо-Пир, нет! - Ниссо кинула такой изумленный взгляд,
что Шо-Пир в этом забавлявшем его разговоре почуял нечто серьезное. - Как
мог ты подумать? Тебя я... - Ниссо чуть не сказала то самое слово, которое
поклялась себе не произносить никогда. - Тебя я... не хочу убивать...
- А кого же?
Ниссо бросила обратно в груду поднятый ею камень, подступила к Шо-Пиру,
с удивлением наблюдавшему за ее вдруг исказившимся лицом, и сказала тихо,
внятно, решительно:
- Азиз-хона я хочу убить... И всех, кто против меня...
- Ну-ну! - только и нашелся, что ответить, Шо-Пир. - Давай-ка лучше,
Ниссо, дальше работать.
Ниссо снова стала подавать камни. Стена уже была высотою по плечи
Шо-Пиру, и он работал теперь, занося руки над головой. Это было неудобно, он
подложил к основанию стены несколько крупных камней, встал на них.
- Нет, Ниссо! - наконец сказал он. - Ты совсем не плохая. Самое главное
- ты, я вижу, хочешь работать; это очень хорошо, что ты никогда не сидишь
без дела. Гюльриз очень довольна тобой. Ты ей помогаешь во всем.
- Конечно, помогаю. Она одна... Ты по селению ходишь, Бахтиор ушел...
Скажи, Шо-Пир, почему так долго нет Бахтиора?
- А ты что, соскучилась?
- Я не соскучилась. Гюльриз говорит: почему его нет так долго?
- Значит, караван еще не пришел в Волость. Бахтиор ждет его там,
наверное...
- Шо-Пир!
- Ну?
- Я не понимаю, скажи...
- Чего ты не понимаешь?
- Не понимаю, почему здесь все люди говорят, что голодные... Вчера -
тебя не было - Зуайда приходила сюда, с Гюльриз разговаривала, со мной тоже
вела разговор: плачет и говорит - голодная. Почему голодная? Яблоки есть,
ягоды есть, молоко есть... Разве это плохо? Когда я в Дуобе жила, мы вареную
траву ели, только вареную траву, и говорили: ничего, еще трава есть! Жадные
в Сиатанге люди! По-моему, тут хорошо!
- Да, конечно... Здесь хорошо... - медленно проговорил Шо-Пир, и ему
вдруг вспомнилось сочное жареное мясо с картошкой и луком - с поджаренным,
хрустящим на зубах, луком, без которого не обходились и дня в
красноармейском отряде. Отряд водил за собой отару скота. Каждый вечер, едва
раскинут палатки... Э!.. Шо-Пиру так захотелось есть, что он провел языком
по губам... Здесь вот, когда Шо-Пир глядит на барана, он забывает, что этого
барана можно зажарить и съесть. Раз в год, не чаще, ущельцы решаются
зарезать барана, - ох, эта каждодневная гороховая похлебка! Да яблоки, да
тутовые сушеные ягоды и кислое молоко... Раз бы пообедать досыта, котелок бы
борща со сметаной, черного хлеба с маслом!
- Конечно, Ниссо, - повторил он, - здесь хорошо. Погоди, вот привезет
Бахтиор муку, станет еще лучше... А помнишь, я тебя спрашивал... Скажи,
Ниссо, почему ты не хочешь вернуться в Дуоб?
- Зачем? Там все люди чужие.
- Но ведь ты там родилась?
- Злые все со мною были там. Азиз-хону тетка меня продала.
- А в Яхбаре тоже все чужие?
- Тоже. Чужой народ.
- А здесь?
-Здесь? Сначала думала: тоже чужие...
- А теперь?
- Бахтиор, Гюльриз, ты... Еще Зуайда, Саух-Богор... Нет, не чужой
народ.
- Как же ты говоришь - не чужой? А я вот русский?
- Ты, Шо-Пир? Ты, наверное, смеешься? Ты и есть самый мой народ!
- А кто же не твой народ?
- Азиз-хон - не мой, Науруз-бек - не мой, Бобо-Калон - не мой, Рыбья
Кость - не мой. Все, кто зла мне хотят, - не мой!
Шо-Пир улыбнулся и даже перестал укладывать камни.
- Ну, я согласен. Только вот Рыбья Кость - не чужая.
- Она не чужая? Что она про меня говорила!
- Ну, глупости говорила, ты еще с ней помиришься.
- С ней? Никогда! - со злобой выкрикнула Ниссо. - Вот чужая, вот
ящерицын язык! Крысу ей в рот!
Шо-Пир опять рассмеялся. Ниссо обиделась.
- Ты не знаешь, Шо-Пир. Она не любит тебя и Бахтиора не любит... Она
Бахтиору даже осла не дала, когда он уходил.
- Как не дала? А где же ее осел?
- Видишь, Шо-Пир! Ты ничего не знаешь, Бахтиор по всему селению ходил,
ослов собирал, так?
- Так.
- К ней пришел тоже. Я же знаю! Ты на канале был, а я с Бахтиором
вместе ходила - помнишь, ты сам сказал: помоги ему согнать всех ослов...
Рыбья Кость не дала. Карашир больной был, опиум курил, мы пришли. Рыбья
Кость нас прогнала, сказала: не дам своего осла. Бахтиор ругался. Мы ушли.
Не дала!
- Почему же он мне ничего не сказал?
- Не знаю. Ты сказал - двадцать пять ослов, мы двадцать четыре собрали.
Когда Рыбья Кость нас прогнала, мы в другой дом пошли - к Зуайде мы пошли.
Брат ее, Худодод, дал последнего... Ничего, он хороший человек тоже... А
Рыбья Кость - как змея, ненавижу ее!
- Ну, насчет нее мы с тобой еще разберемся. Давай-ка дальше работать.
Только вот что: полезай наверх, мне уже не достать, теперь я тебе камни
подавать буду, а ты укладывай. Если я полезу, пожалуй, стена обвалится.
- Не влезть тут, Шо-Пир, камни могут упасть.
- Давай подсажу!.. Э-эх!
Подхватив Ниссо, Шо-Пир вдруг впервые почувствовал силу и гибкость
девушки, безотчетно прижал ее к себе. Но сразу же высоко поднял ее на
вытянутых руках... Она уцепилась за камни и села верхом на стенку. Уловив в
растерянных глазах Ниссо необычный блеск, Шо-Пир сказал себе: "Глупости! Она
же еще девчонка!" - и, резко наклонившись над грудой камней, выбрав самый
увесистый, подал его Ниссо:
- Держи крепко, не урони... Тяжелый!
Ниссо ухватила камень, втиснула его в раствор глины.
Продолжая работать, они молчали. Стена была уже выше роста Шо-Пира.
Отдав купцу своего осла, Карашир так накурился опиума, что трое суток
подряд находился в мире видений. Давнишняя мечта о счастливой жизни томила
его. Ему казалось, что он идет посреди реки, по плечи погрузившись в золотую
воду. Вода приподнимает его и несет вниз с невероятною быстротой. Он
взмахивает руками, и золото волнами разбегается из-под его рук. Он делает
шаг - и целые страны проносятся мимо. То перед ним страна из прозрачных
фиолетовых гор. Карашир видит женщин, живущих внутри этих гор, они движутся
в фиолетовой толще, как рыбы в глубинах озера, - они спешат к берегу, чтоб
увидеть его, могучего и знатного Карашира; он устремляется к ним, но чем
ближе подходит к берегу, тем плотнее становится вода, - и Карашир не может
передвигать ноги; ему кажется, что он увязает в этой золотой и страшной
трясине; он кидается обратно к середине реки, а женщины на берегу смеются...
Течение вновь подхватывает его, он делает шаг, и - проходит, может быть,
вечность - перед ним уже другая страна: горы покрыты коврами, вытканными из
разноцветной шерсти, он приближается к ним и видит: песок по берегам реки -
совсем не песок, а россыпи белого вареного риса, и людей кругом нет, и,
кажется, весь этот рис приготовлен для него одного, стоит только нагнуться;
но едва он приближался к берегу, ковровые склоны гор покрывались полчищами
зеленых крыс, они сбегались к реке и начинали пожирать рис, и Карашир
слышал, как чавкают и хрустят зубами эти неисчислимые полчища... Он в страхе
снова кидался к середине реки, и течение подхватывало его, и по берегам
открывались новые страны... Время исчезло в этом беге по золотой реке,
тысячи стран уже промелькнули мимо, надежды сменялись самым страшным
отчаянием. Карашир то радовался, то кричал от ужаса... Карашир выбрался из
золотой реки только на третьи сутки, когда вода в ней вдруг стала не
золотой, а обыкновенной и очень холодной. То Рыбья Кость, которой надоели
крики и бормотанья мужа, вылила на него три больших кувшина холодной воды.
Но и очнувшись, Карашир долго еще пролежал на каменных нарах, не в
силах приподнять голову, которую раздирала невыносимая боль. Однако он
затих, и Рыбья Кость знала, что теперь, пролежав еще полдня, он, наконец,
придет в себя.
Когда сознание окончательно вернулось к Караширу, он увидел, что Рыбья
Кость сидит на полу и, катая между коленями большой круглый камень,
перемалывает в муку сухие ягоды тутовника. А вокруг нее сидят восемь детей,
ждут, когда мать сунет им по горсти этой сладкой муки.
- Дай мне тоже, - чуть шевеля губами, цедит Карашир и протягивает с нар
волосатую руку.
- Опомнился? - злобно глядит на него Рыбья Кость и отшвыривает его
руку. - Где мука?.. Ну-ка, скажи теперь, где мука?
- Ты... оглашенная! Какая мука? У тебя под носом что?
- Не эта, собачий хвост! Пшеничная мука где? Ну-ка, вставай! - Рыбья
Кость дергает Карашира так, что он падает с нар. - Три дня валяешься... Где?
Карашир садится на полу, припадая к каменным нарам, потирает ушибленный
бок, силится вспомнить.
- Не понимаю, - нерешительно говорит он.
- Не понимаешь? Черви мозги твои съели. Пусто у тебя там, пусто, а?
Потянувшись к Караширу, Рыбья Кость больно долбит его кулаком по лбу.
Карашир отстраняется, он чувствует себя виноватым, он не хочет ссориться с
женой и сейчас боится ее.
- Не помню, - бормочет он, - болит голова...
- Осел где? Где осел наш? Я спрашиваю... Где?
- Осел?
Ага! Теперь Карашир сразу все вспомнил. Как же это было в самом деле?
Он шел на свой новый участок и вел осла. Зачем он повел с собой осла? Ах,
да, он ходил за глиной, чтобы подправить края канавки, потому что вода
просачивалась между камнями. Когда он проходил мимо лавки, купец окликнул
его; он не хотел отвечать, но купец окликнул его еще раз... Он остановился.
Тут-то все и произошло: купец потребовал у него осла за долги, последовала
ссора, а потом купец сказал, что, получив осла, даст в долг до весны целый
мешок муки. А перед тем Рыбья Кость ругалась и требовала, чтоб свое
собственное зерно Карашир размолол на мельнице, а он не согласился, потому
что на собрании решили не трогать зерна, - и Шо-Пир так велел, и Бахтиор, и
все так решили. И купец сначала тщетно уламывал Карашира, а потом как-то так
получилось, что в руках Карашира оказался кулек с опиумом, и он отдал купцу
осла и только просил, чтобы купец дал ему довезти на осле мешок муки до
дому. Купец сказал, что лучше сделать это ночью, чтоб в селении не было
пустых разговоров. Он согласился и, сбросив глину, оставив осла купцу,
вернулся домой и сказал жене, что осла пришлось отдать, но зато ночью они
вместе сходят к купцу и возьмут у него мешок муки... А потом... Что же было
ночью? Нет, он не помнит, что случилось ночью, и вообще больше ничего не
помнит.
- Ты за мукой к Мирзо-Хуру ходила? - спрашивает Карашир, потирая
ладонью разбитый лоб.
- Ходила.
- Где мука?
- Это тебя, собачье племя, надо спросить, где мука! Не дал мне купец
муки.
- Почему не дал?
- Сказал: "Твоя мука твоей и останется, но будет пока лежать у меня. У
тебя сейчас есть свое зерно, когда не будет его, тогда дам".
- А ты объяснила ему, что...
- Что ему объяснять? Смеяться стал, кричал: "Постановление, для дураков
постановление!.. Просто власть хочет себе все зерно забрать, советским
купцам, наверное, его продали, ждут, когда за ним явятся. А вы верите!" Вот
что он сказал! Еще сказал: "Мельница в крепости есть, идите и мелите свое
зерно, пока Бахтиора нет. Ночью, - сказал мне, - иди, чтоб ни Шо-Пир, ни его
прислужники не увидели..." Я ему сказала, что для посева тогда не хватит, он
мне: "Пять лет каждую весну тебе для посева даю, неужели на шестой год не
дам?"
- Дает? Так дает, что теперь и молоть нам нечего!
- Молчи ты, дурак! Он правду сказал: дает все-таки... А теперь я больше
голодной не буду. Тебя ждала, когда дэвы выйдут из твоей головы. Сегодня
ночью снесем наш мешок на мельницу.
- Смеешься? - привстал с нар Карашир. - Против постановления я не
пойду!
- Пойдешь!
- Не пойду!
- Пойдешь! - прошипела Рыбья Кость. - Довольно... Я Бахтиору осла не
дала, боялась, что пропадет! Ты отдал купцу его, пропал он. Теперь молчи,
или уши я оторву тебе! - и она вцепилась ногтями в ухо Карашира. - Пойдешь?
Карашир молча старался оторвать пальцы Рыбьей кости от своего уха. Она
ударила его по щеке и, рассвирепев, стала лепить оплеуху за оплеухой.
Ошалелый, он вырвался, наконец, и, отмахиваясь, пополз на коленях в глубину
нар. Соскользнув с них, опрометью кинулся к выходу, нечаянно наступив на
руку дочки. Девчонка пронзительно взвизгнула, заревела. Рыбья Кость кинулась
к ней, а Карашир тем временем выбежал во двор и, проскочив его, оказался
среди беспорядочно нагроможденных скал. Здесь, слабая от паров опиума,
голова его закружилась, он опустился на землю в расщелине между скалами,
уронил голову на руки, замер в отчаянии. Затем, света не видя от головной
боли, заполз поглубже в расщелину и, скрытый от посторонних глаз, завалился
спать.
Успокоив ребенка, Рыбья Кость вышла искать Карашира. Но, не найдя его
во дворе, вернулась в дом. "Увидит, что я успокоилась, придет сам!" Карашир,
однако, не возвращался. "Надо его найти, - подумала Рыбья Кость, - а то еще
накурится снова!"
Пересекла двор и, углубляясь то в один, то в другой проход между
скалами, добрела до круглой площадки, где ущельцы недавно молотили хлеб.
Здесь Карашира тоже не оказалось. Рыбья Кость повернула обратно и неожиданно
увидела невдалеке стоящую на коленях Ниссо.
Рыбья Кость, крадучись, приблизилась к ней и, скрытая углом скалы,
остановилась. Раздвигая руками щебень, Ниссо собирала в мешок оставшуюся от
обмолота и занесенную ветром соломенную труху. "Вот как, - со злобой
подумала Рыбья Кость, - за чужой соломой охотится!" - и подошла вплотную к
Ниссо.
Ниссо резко обернулась, не поднимаясь с колен.
- Это ты? - едко произнесла Рыбья Кость. - Я слышу шорох - думаю, не
курица ли моя сюда забежала... Что делаешь?
- Крышу обмазывать надо, глина есть, соломы нет, вот собираю, - холодно
вымолвила Ниссо.
- Твоя, наверно, солома?
- Ничья, по-моему... труха это, ветер занес...
- Добрый ветер! От своих отнимает, чужим приносит... Покровитель да
поможет тебе! Слышала я, Бахтиор для своей батрачки выстроил дом? Хорошо
властью быть, можно батрачку взять - никто ничего не скажет... Жалею тебя,
ездят теперь на твоей спине!
Возмущенная Ниссо вскочила:
- Глупости говоришь! По своей воле работаю!
- Для себя или для людей?
- А хотя бы и для людей? Для хороших людей не жалко!
- Это кто хороший? - подбоченилась Рыбья Кость. - Бахтиор, что ли? Был
факир, как мы, власть взял, белый халат надел, теперь разбогатеть хочет?
Из-за него мои дети голодны, сама голодна. Свой хлеб и есть нельзя даже!
- Ничего ты не понимаешь! Шо-Пир объяснял...
- Собака твой Шо-Пир! Для тебя он хороший, для меня собака. Бахтиор
тоже для тебя хороший... Одного мужа мало, еще двух завела! Дрянь ты...
- Я дрянь? Ах ты, змеиная кожа! - вдруг рассвирепела Ниссо, кинулась к
Рыбьей Кости и вцепилась ей в волосы. - Скажи еще - дрянь?!
Рыбья Кость, в свою очередь, вцепилась в косы Ниссо, крича:
- Дрянь, воровка, чужую солому крадешь! Убирайся отсюда!
Таская одна другую за волосы, обе повалились на землю. Если б камни не
были острыми, драка продолжалась бы долго. Но, ободрав себе бок, Рыбья Кость
вскочила первая и с пронзительным криком: "Убить меня хочешь, убить!" -
схватила с земли острый камень, швырнула его в Ниссо. Ниссо уклонилась,
рванулась к Рыбьей Кости, но та, продолжая ругаться, уже скрылась за углом
скалы.
Ниссо вернулась домой злая и недовольная собой. Стоило ей, в самом
деле, связываться с этой полоумной? Рыбья Кость исцарапала руки и плечи
Ниссо да еще разорвала платье. Впрочем, ей тоже досталось. Ниссо с
удовольствием вспомнила нанесенные Рыбьей Кости удары. Уж конечно, Рыбья
Кость теперь по всему селению будет говорить о ней гадости. Пусть! Ниссо
покажет всем, что ей плевать на подобные разговоры. А для Шо-Пира... ну и
для Бахтиора, Ниссо будет делать все, все!
Замешивая принесенную соломенную труху в жидкой глине, Ниссо с
нетерпением ждала Шо-Пира, чтоб вместе с ним обмазать крышу пристройки.
Бахтиор и Худодод, отправляясь в Волость, обещали вернуться не сиатангской
тропой, ведущей от Большой Реки, а более коротким, хоть и трудным путем, -
через перевал Зархок. Тропинка к перевалу, идущая мимо дома Бахтиора,
поднималась зигзагами прямо по склону встающей за садом горы. С утра в этот
день Шо-Пир ушел вверх по тропинке, чтобы где-то на пути к перевалу починить
тот висячий карниз, через который Бахтиору и Худододу будет очень трудно
провести груженых ослов. И вот уже скоро закат, а Шо-Пира не видно!
Не дождавшись Шо-Пира, Ниссо подняла на крышу плоское корыто с
раствором. Подоткнув платье, ползая на корточках, она ладонями размазывала
глину по крыше. Время от времени поглядывала на уходившую вверх от сада
тропинку, - воздух был чист и прозрачен. Тропинка видна издалека; Шо-Пир все
не появлялся. С тех пор как исчезла луна, ветра не было, - осень, казалось,
выпросила себе у зимы еще немного покоя и из последних сил держалась в
сиатангской долине. Но даже и в безветренную погоду дни были холодными.
Ниссо зябла и, думая о Шо-Пире, досадовала, что до сих пор не связала ему
чулки, - ведь там, на пути к перевалу, сейчас еще холоднее. Ведь он не
прожил всю жизнь в Высоких Горах, не привык, наверное, плохо ему!
"Только кисточки сделать осталось, - думала Ниссо. - Домажу вот этот
угол, возьмусь за чулки, завтра ему подарю, не то еще выпадет снег..."
Но и домазывать угла ей не захотелось. Бросив обратно в корыто
зачерпнутую было пригоршню жидкой глины, Ниссо обтерла руки, спустилась с
крыши во двор. Наскоро обмывшись в студеном ручье, направилась к террасе,
чтобы выпросить у Гюльриз моточек синей шерсти.
Подойдя к террасе, Ниссо увидела Гюльриз, стоявшую неподвижно, спиною к
ней. Запрокинув голову, старуха глядела из-под ладоней на зубчатые, облитые
снегами и в этот час окрашенные густым потоком заката вершины горного
склона.
- Что смотришь, нана?
Тут только Гюльриз заметила девушку, потерла ладонью напряженную шею,
тяжело вздохнула:
- Если Бахтиор не придет завтра или сегодня, пропала наша богара.
- Какая богара, нана?
- Вот желтое пятнышко, видишь? - Гюльриз протянула жилистую руку к
горам и повела худым пальцем по очертаниям горящих в закате склонов. - Там
посеял Бахтиор богару. Видишь?
- Вижу теперь, - произнесла Ниссо. - Ничего не говорил он мне. Почему
так высоко?
- Где найдешь ближе землю? Просила его сразу после собрания пойти
принести хлеба, а он: "Некогда, мать! Успею. Сначала в Волость надо
сходить!" Все о других думает, о себе думать не хочет. И Шо-Пиру сказал:
"Ничего, долго еще не пропадет богара". А я знаю - пропадет. Завтра сама
пойду туда; старая я теперь, как взобраться, не знаю. Молодой была - ничего
не боялась.
- Не ходи, я пойду! - не задумываясь, сказала Ниссо.
Старуха оглядела девушку, будто оценивая ее силы. С сомнением покачала
головой:
- Носилки длинные, длиннее тебя. Ты ходила с носилками?
- Никогда не ходила, - призналась Ниссо.
- Тогда как пойдешь? Качаться на скалах надо, на одном пальце стоять,
другой ногой - дорогу искать. Ветер дует, тяжелые носилки за спиной, с ними
прыгать нельзя... Много лет надо ходить с носилками, чтоб научиться лазить в
таких местах. Упадешь - мертвой будешь! Бахтиор подкладки из козлиного рога
к подошвам привязывает, когда ходит на богару. Он взял их с собой, других
нет... Шо-Пир хотел пойти туда, я сказала ему: нельзя, не обижайся, русский
не может так ходить, как мы ходим по скалам. Послушался, не пошел. И ты не
ходи. Я тоже не пойду. Один Бахтиор мог бы, но нет его. Пускай богара
пропадает.
- А что весной будем сеять?
- Не знаю. Шо-Пир сказал: не беспокойся, будем... Откуда мне знать, что
Шо-Пир думает? По-моему, траву варить будем!
- Нана! - горячо воскликнула Ниссо. - Я много ела травы, я могу жить
травой, ты тоже, наверное, можешь... Шо-Пир - большой человек, руки большие,
ноги большие; хорошо есть ему надо, что будет с ним? Пропадет, если траву
есть будет. И Бахтиор тоже - мужчина!
- Вот я и говорила Шо-Пиру! Смеется. Говорит: Бахтиор муку привезет.
- А как ты думаешь, нана, привезет он?
- Не знаю, Ниссо. Мужчины сначала выдумают, потом своим выдумкам верят,
у мужчин всегда в уме надежд много... Я думаю: может быть, не привезет...
Они поговорили еще, делясь сомнениями. Старуха вспомнила прошлые
тяжелые зимы и свою жизнь: как трудно ей приходилось, когда Бахтиор был еще
маленьким, а муж ее, отправившись зимой на охоту, бесследно пропал в снегах.
Ниссо слушала Гюльриз, и в душе ее поднималась острая жалость и к старухе, и
к Бахтиору, и к самой себе. Вот Шо-Пир рассказывает о стране за горами, где
люди совсем не так - очень хорошо живут. Нет, этого, пожалуй, не может быть!
Пожалуй, правда, даже такой человек, как Шо-Пир, просто придумывает сказки!
Хороший он, жалеет Ниссо, хочет развеселить ее!
Гюльриз рассказала, что прошлой весной Бахтиор не захотел взять зерно в
долг у купца, ходил в Волость, принес оттуда мешок зерна, а потом вздумал
лезть вот на эти высоты. Все смеялись над ним, говорили, что он сумасшедший,
а он все-таки полез и расчистил там площадку, засеял, а теперь вот убрать
надо было, а он не убрал - о других заботится, а где слова благодарности?
Недружные люди в селении, как цыплята без курицы! Под крыло бы их всех да
пригреть!
- А ты думать об этом не смей, - старуха показала на зубцы вершин. - У
нас и носилок нет.
- А с чем Бахтиор пошел бы?
- Бахтиор? У Исофа брал он, мужа Саух-Богор.
- Знаю. Ходила к нему с Бахтиором, когда ослов собирали... Нана?
- Что, моя дочь?
- Дай мне немного синей шерсти... На кисточки к чулкам не хватает.
Получив моток, Ниссо отправилась в пожелтевший сад, к излюбленному
камню, но не месте ей не сиделось. Спрятав работу, она выбралась из сада и
побежала в селение.
Саух-Богор приняла Ниссо хорошо, как подругу, и обещала дать носилки,
но только чтоб об этом не узнал Исоф:
- Не любит он тебя! Знаешь, после собрания он так меня избил, что три
дня я лежала. - Саух-Богор показала Ниссо припухшие синяки кровоподтеки. -
Только ты никому не говори об этом, иначе поссорюсь с тобой!..
- Хорошо, не скажу, - ответила Ниссо и с внезапной, неведомой к кому
обращенной злобой добавила: - Только я бы... не позволила бы я, Саух-Богор,
бить себя!
- Ночью приходи, - сказала Саух-Богор, будто не услышав Ниссо. - Исоф в
полночь как раз... - Саух-Богор запнулась. - У стены я носилки оставлю.
Спать он будет ночью!
- Хорошо, я приду ночью, - согласилась Ниссо и подробно расспросила
Саух-Богор, как нужно наваливать груз на носилки, чтоб он не нарушил
равновесия и чтоб не сполз набок, когда, может быть, придется пробираться с
ним в трудных местах.
Довольная и уверенная в себе, она вернулась домой. Шо-Пир был уже
здесь, но очень устал и, едва Гюльриз накормила его кислым молоком и
сушеными яблоками, завалился спать, - все еще в саду на кошме, потому что,
несмотря на холодные ночи, не хотел расставаться со свежим воздухом.
Задолго до рассвета Ниссо выбралась из дому, потихоньку прокралась
сквозь сад, спустилась в селение.
Жилье Саух-Богор находилось на полдороге к крепости. Все небо было в
облаках, скрывших звезды и укутавших ущелье так плотно, что тьма была
непроглядной. Ниссо знала: надо ждать снегопада, в горах снег уже, вероятно,
выпал, и идти, пожалуй, опасно. Но об опасностях Ниссо не хотела
задумываться и убедила себя, что путь к богаре найдет...
Подходя тесным переулком к дому Саух-Богор, она вдруг услышала скрип
камней.
- Тише, кто-то идет. Стой, дурак! - явственно послышался в темноте
голос Рыбьей Кости.
"Что она делает здесь?" Сердце Ниссо забилось учащенно.
- Кто тут? - сдавленным голосом произнес Карашир.
Рыбья Кость оказалась смелей - возникла в темноте прямо перед Ниссо.
Ниссо различила и согнутую под тяжелым мешком фигуру Карашира.
- Ну, я! Идите своей дорогой, - загораясь злобой, ответила Ниссо.
- Это ты? Вот как! - отступила в темноту Рыбья Кость. - Что делаешь
тут? Шляешься по ночам? Смотри, Карашир, вот кого они пригрели: люди спят, а
распутница бродит... Как думаешь, к кому она крадется?
Ниссо чувствовала, что сейчас снова кинется на ненавистную женщину. Но
Карашир сказал:
- Оставь ее, жена. Не время для ссоры.
На этот раз Рыбья Кость послушалась мужа. Бормоча что-то себе под нос,
она исчезла во тьме вместе с тихо попрекающим ее Караширом.
Ниссо двинулась дальше, стараясь догадаться, что за мешок нес Карашир и
куда? Ни до чего не додумавшись, потихоньку, прокралась во двор Исофа,
нащупала оставленные Саух-Богор у стены носилки. С трудом взвалила их на
плечи, обвязалась сыромятными ремешками и отправилась в путь. Никто не
заметил ее, пока она пробиралась к подножью каменистого склона.
Добравшись до подножья склона, она медленно начала подъем, цепляясь за
выступы камней, когда порыв ветра грозил сбить ее с ног. Ветер разогнал
облака, Ниссо поняла, что снегопада пока не будет. Она очень хотела
подняться как можно выше, прежде чем наступит рассвет. Только бы Шо-Пир и
Гюльриз не увидели ее с носилками на этих склонах!
Когда красный рубец зари набух над гребнем противоположной горы, а небо
сразу заголубело, Ниссо, исцарапанная, потная, задыхающаяся, была уже так
высоко над селением, что простым глазом вряд ли кто-либо мог ее обнаружить.
Волосы на ветру хлестали ее раскрасневшееся лицо, взгляд был быстрым и
точным, сразу замечавшим именно тот выступ или ту зазубрину в скале, какая
была нужна, а в тонких, плотно сжатых губах выражалась твердая, упрямая
воля. Пальцы босых ног были такими чуткими, что, казалось, видели то, чего
нельзя было увидеть глазами.
Перебраниваясь, Карашир и Рыбья Кость медленно подымались к крепости.
Миновав полуразрушенные ворота, приблизились к мельнице и удивились, услышав
тихий, протяжный скрип вращающегося жернова. Отведенная из нового канала
вода, журча, бежала под мельницу и маленьким водопадом рассыпалась с другой
ее стороны. Рыбья Кость, нащупав притолоку входа, пригнулась и первая
вступила в длинное, узкое помещение мельницы, к ее удивлению полное людей. В
дальнем углу мигал крошечный огонек масляного светильника, тускло освещавший
сидящих вдоль стен мужчин. Рыбья Кость, не задумываясь, потянула за собой
растерянного Карашира, сдернула с его спины мешок, кинула его на другие
навороченные у входа мешки.
- Много народу вижу, благословение покровителю! - сказала она,
усаживаясь на мешках и вглядываясь в обращенные к ней лица безмолвствующих
ущельцев. - Карашир, тут и тебе место есть!
Карашир, несмело озираясь, сел.
- Как в доброе время собрались, - продолжала Рыбья Кость, обращаясь к
молчащим мужчинам. - Тебя, Исоф, вижу... Али-Мамата вижу... Здоров будь,
справедливый судья Науруз-бек! Да будет светла твоя борода, и ты здесь,
почтенный Бобо-Калон? Другие мелют, и мы пришли... Позволишь ли нам?
- Круг, размалывающий зерно, умножает блага живущих! - спокойно и
наставительно произнес Бобо-Калон. - Покорный Питателю подобен огню, не
нарушающему законов!
Карашир понял, что, придя сюда, он как бы возвращается в круг
почитающих Установленное и что Бобо-Калон напоминает ему об этом. Встретив
взгляд Али-Мамата, племянника бежавшего в Яхбар мира Тэмора, Карашир заметил
насмешку в его мутноватых глазах. И, чувствуя, что, ожидая его почтительного
приветствия Бобо-Калону, все сидящие смотрят на него пренебрежительно,
уязвленный Карашир молчал. Стоило ли два года идти против Установленного,
ссориться со всеми, кто негодует на новую власть, чтоб сейчас, из-за мешка
муки, снова признать себя презреннейшим из презренных, самым ничтожным из
всех сиатангских факиров?
Карашир мрачно смотрел на огромный круг вращающегося жернова, на
деревянную лопаточку, которой Исоф сдвигал в сторону накопившуюся перед
каменным кругом муку, и не размыкал губ. Если б Карашир повернул лицо к
смотревшим не него осуждающими глазами приверженцам Установленного, он,
вероятно, не удержался бы и произнес то, что от него ждали... Но мысли
Карашира закружились, как этот тяжелый жернов; Карашир представил себе
приветливое лицо Шо-Пира, и улыбку его, и дружеское прикосновение Шо-Пира к
его плечу; только разговаривая с Шо-Пиром, Карашир чувствовал себя достойным
уважения человеком, только в общении с Шо-Пиром исчезало в нем привычное
чувство униженности. И вот сейчас, когда впервые в жизни недоступный и
важный Бобо-Калон сам обратился к нему и ждет от него, от ничтожного факира,
ответа на свои слова, Караширу вдруг захотелось показать, что он не тень, у
него есть своя воля, свой ум. Кровь бросилась в голову Караширу, он знал,
что обида, какую он может нанести Бобо-Калону сейчас, - при всех этих всегда
враждовавших с ним людях, - будет жить в Бобо-Калоне до конца его дней...
Вскинув голову, Карашир взглянул прямо в лицо внуку хана, тусклый огонек
светильника отразился в его полных ненависти глазах:
- Почтенный шана, как мельник, ждет подаяния от факиров... Сколько
возьмешь за размол, благородный Бобо-Калон?
Если бы Карашир плетью ударил Бобо-Калона, старик, вероятно, не поднял
бы ладони так стремительно, как сделал это, словно отбрасывая нанесенное ему
оскорбление. Рыбья Кость, закрыв рукавом лицо, кинулась ничком наземь и
потянулась рукой, стремясь почтительно коснуться ног старика:
- Прости его, почтенный шана, дэвы свернули ему язык, наверное, опиум
еще кружит разум его... Закрой слух свой, не знает он, что говорит!
Сжатые кулаки Бобо-Калона, остановившиеся в глубоких орбитах налитые
кровью глаза, трясущиеся от негодования губы испугали Карашира, но, поборов
свой страх, он, сам вдруг разъярившись, схватил за плечи распластавшуюся
перед Бобо-Калоном Рыбью Кость, поднял ее и, как куль муки, выволок наружу,
в темную холодную ночь.
- Иди, проклятая, из-за тебя все! Ничего мне не надо - ни муки, ни
зерна! Убирайся, не место нам здесь!..
И когда Рыбья Кость попыталась кинуться на него, он вдруг в бешенстве
схватил ее за шею и тряс, тряс до тех пор, пока она не сомлела в его руках.
Тут он сразу пришел в себя, поволок ее к водопаду, рассыпавшему брызги за
мельницей, сунул ее голову в струю холодной воды и, когда она все-таки не
пришла в себя, положил на мокрые камни. В темноте он не видел ее лица.
Подумал, что, наверное, совсем задушил жену, уронил голову ей на плоскую
грудь, обнял Рыбью Кость и заплакал...
В темноте у дверей мельницы послышались возбужденные голоса. Кто-то
сказал: "Жалко, поделить лучше". Другой сердито крикнул: "Не жалко". Мимо
Карашира прошел согнутый, с грузом на спине человек - это Али-Мамат пронес к
брызжущей воде мешок с зерном Карашира, а за ним по пятам, подталкивая его
палкой, следовал Бобо-Калон.
- Бросай! - приказал Бобо-Калон.
Из распоротого мешка зерно тяжелой струей посыпалось в воду. Али-Мамат,
должно быть, хотел часть зерна утаить для себя, потому что послышался голос
Бобо-Калона: "Все! Все! И это! Да развеет вода нечистое!" Вода в канале
зашипела, все затихло.
Карашир, уткнувший лицо в грудь Рыбьей Кости, слышал это как бы сквозь
сон. А когда Рыбья Кость с протяжным вздохом очнулась, в темноте вокруг
мельницы уже не было никого. Мерно поскрипывал жернов, стучал по камням
водопад, и Карашир, подумав, что не все еще в мире пропало, принялся гладить
мокрые спутанные волосы жены.
Утром, проснувшись от холода, Шо-Пир скинул с головы ватное одеяло и
увидел, что горы над самым селением покрылись снегом. Этот снег оставили
стоявшие над ущельем ночью, а к утру поднявшиеся высоко, разорванные ветром
облака. В свежей белизне склонов вырезались черными полосами грани отвесных
скал. Селение, однако, еще не было тронуто снегом - желтые, облетевшие сады
волновались под ветром. При каждом порыве его листья долго кружились в
воздухе, неслись над рекой, над домами, над серой пустошью обступающих
селение осыпей...
Прежде всего Шо-Пир подумал о Бахтиоре и Худододе: положение становится
очень серьезным; если они все еще ждут каравана в Волости, надежды на муку
придется оставить; если же они с грузом вышли и снега застали их в пути,
значит, застрянут под перевалом, и нужно собирать народ им на помощь... Но
кто может знать, где сейчас находятся Бахтиор с Худододом? В одном можно
быть уверенным: застряв в снегах, Бахтиор ослов с мукой не бросит, а пошлет
Худодода в селение за помощью. Но ждать, конечно, нельзя, надо пойти самому
или послать кого-нибудь навстречу.
Шо-Пир отбросил в сторону одеяло. Дрожа от холода, быстро оделся;
взошел на террасу, заглянул в комнату Гюльриз. Сидя на корточках перед
очагом, она раздувала огонь.
Гюльриз обернулась, сказала встревоженно:
- Зима спустилась... Где Бахтиор?
- Придет, - скрывая свои сомнения, протянул Шо-Пир. - Наверное, близко
уже! Что, Ниссо еще спит?
- Не показывалась... Значит, спит.
- Устала, должно быть, - сочувственно сказал Шо-Пир, - пускай спит.
Кипяточку бы мне поскорей, Гюльриз. Дела сегодня много...
Когда вода в кувшине вскипела и Шо-Пир, накидав в пиалу сухих яблок,
выпил кисленького настоя, он велел Гюльриз взглянуть, почему, в самом деле,
так заспалась сегодня Ниссо. Гюльриз вернулась на террасу, сказала, что
постель Ниссо смята, а ее самой нет.
- Ты и утром ее не видела?
- Не видела... Не понимаю... Куда ушла?
Шо-Пир несколько раз окликнул Ниссо - никто не отозвался. Уходя из
дому, она всегда говорила старухе, куда идет. Шо-Пир подумал: не случилась
ли какая беда? Как было не сообразить до сих пор, что, возможно, Мирзо-Хур
или приверженцы Бобо-Калона захотят украсть девушку и за хорошее
вознаграждение вернуть ее Азиз-хону? Чего не случается в этих местах!
Однако никаких следов борьбы в комнате Ниссо не было, ночью тишина не
нарушалась ничем. Шо-Пир всегда спал чутко, - он бы проснулся, если б Ниссо
хоть раз крикнула. И все-таки, обыскав весь сад, Шо-Пир не на шутку
встревожился.
"Пойти в селение, искать ее надо!"
Шо-Пир торопливо идет в свою комнату, распахивает шкаф, хватает
завернутое в тряпку охотничье ружье, поспешно ищет гильзы, пыжи, сыплет на
стол из старой консервной банки порох. Этим ружьем, подарком командира
отряда, он здесь почти не пользовался... Шо-Пир сам не понимает, зачем все
это он делает, куда пойдет с ружьем; руки его дрожат...
И когда, появившись на пороге комнаты, Гюльриз неожиданно окликает его,
Шо-Пир, не оборачивается, чувствуя, что он бледен.
- Шо-Пир! Из головы ушло! Я знаю, где она... Сумасшедшая, пошла на
богару, на нашу богару - принести хлеба! У Саух-Богор, наверное, носилки
взяла... Пойди к Саух-Богор, спроси...
Шо-Пир сдерживает неожиданный вздох и резко кладет ружье на стол.
- Неужели туда пошла? Зачем ты пустила ее?
- Разве я пускала ее? Я сказала: и думать не смей! Шо-Пир, ведь она
может упасть... убьется!..
- Наверное, упадет, убьется, - говорит Шо-Пир, но в тоне его не
тревога, а успокоенность.
Гюльриз удивлена: он смеется. Шо-Пиру неловко, что он смеется, но
теперь не стыдно смотреть в глаза Гюльриз. Он знает, в лице его нет
волнения.
- В самом деле, там не трудно сорваться. А правда, Гюльриз, она
все-таки не трусиха?
- Сумасшедшая она! - хмурится Гюльриз. - О Бахтиоре мы беспокоимся,
теперь за нее еще надо бояться, - посмотри, на горах снег!
- Вернется - крепко ей, нана, попадет от меня! - Шо-Пир кладет на место
ружье, порох, гильзы, пыжи. - Пойду к Саух-Богор спрошу. А потом делами
займусь, - надо позаботиться, чтоб Бахтиор с Худододом не застряли
где-нибудь под перевалом.
- Вот хорошо, Шо-Пир! Ой, как я боюсь за него!
И Шо-Пир уходит из дому. И почему-то вспоминает тот день, когда, не
обращая внимания на арыки и колдобины, мчал свой наполненный красноармейцами
грузовик из города в то селение, где басмачи, может быть, еще не успели
причинить зла... Да, да, вот так же думал он о жене, такое чувство испытывал
тогда, выжимая газ до предела.
"Неладно все это!" - наконец заключает Шо-Пир, заметив, что селение уже
недалеко. Смотрит на горы, внимательно вглядывается, ища в высоте крошечное
желтое пятнышко, но там, где оно виднелось всегда теперь, как и по всему
склону, - блистающий снег.
"Как бы в самом деле не сорвалась... хоть и умеют они лазать, как
козы... Ох, и озорная же девчонка!"
И, отведя взгляд от горного склона, заставляет себя думать о Бахтиоре.
Оставшись одна, Гюльриз занялась тканьем, но непрестанно отвлекалась,
поглядывая то на склон, по которому должна была спуститься с тяжелой ношей
Ниссо, то в другую сторону - на тропинку, бегущую с перевала, откуда мог
явиться Бахтиор. Придет или нет? С грузом или без груза будут его ослы?
Вчера Гюльриз поделилась с Зуайдой последней меркой гороха и отдала
Саух-Богор чашку просяной муки, из которой хотела испечь лепешки Бахтиору,
если он вернется ни с чем... Саух-Богор сказала, что муж ее утром уйдет на
охоту, может быть, пробудет в горах несколько дней, может быть, не убьет ни
одного козла, потому что пороха осталось у него всего на три выстрела, а
после собрания купец никому и ничего в долг не дает. Шо-Пир сказал: "Отдай",
- и она отдала муку, хотя, по ее мнению, Исоф мог бы прокормиться в горах и
запасом тутовых ягод... Да он, наверное, и не пошел сегодня, увидев, что
выпал снег, обидно - зря отдала муку!
Сколько дней уже провела Гюльриз в ожидании, сердце ее изныло. А
сегодня ноет оно особенно: перевал закрылся, снег белеет всюду, - страшен ей
этот снег! Старуха думает и о Ниссо и о Бахтиоре. Думает то, о чем только
однажды сказала Шо-Пиру. Не напрасно ль сказала, не лучше ли было б таить
эти думы? Нет, Шо-Пиру можно сказать, у него большая душа, он понял...
Гюльриз вяжет новую рубашку Ниссо, зимнюю шерстяную рубашку. Вяжет
заботливо, как невесте, и задумавшись, уже не глядит ни на склон горы, ни на
тропинку, ведущую с перевала... И вдруг вздрагивает, услышав вдали трубный
крик осла...
Отбросив работу, Гюльриз глядит из-под ладоней на зигзаги тропинки, и
слабое ее сердце бьется сильно, как в молодости: по тропинке, гоня перед
собой тяжело навьюченных ослов, спускается ее сын. Он хромает. Почему
хромает? Но это ничего! Он идет, он жив! А позади идет Худодод. Но кто же
тот, третий, перед Худододом едет на осле? Одет не по-здешнему... Это
чужой... Но Гюльриз сейчас не до любопытства. Она улыбается, всматриваясь в
Бахтиора. Длинная палка мелькает в его руке. Он опирается на нее.
Распахнутый халат развевается на ветру, значит сыну жарко, ведь так и должно
быть: когда человек идет быстро, ему всегда жарко... Ветер доносит песню -
сын поет свою любимую песню, - значит, все хорошо!
Старуха не трогается с места, не машет рукой, - нет у них, ущельцев,
привычки показывать свои чувства. Следует даже придать суровость лицу... Но
как бьется сердце!
Вот он уже близко, ослы топочут копытцами по камням, он их подгоняет:
"Эш! Эш!" - из-под его тюбетейки торчит белый цветок. Откуда зимою он взял
белый цветок? Но он сильно хромает, что могло случиться? Как долго ходил ее
Бахтиор, как устал, наверно!
- Здравствуй, мать! - весело говорит Бахтиор, кивнув головой и
останавливая сгрудившихся ослов на дворе. - Все хорошо?
Старуха кидает быстрый взгляд на того, чужого. Он сидит на осле.
Русские сапоги, зеленые штаны, овчинная дорогая шуба, шапка с наушниками,
каких Гюльриз не видала. Это русский? Нет, это не он, это женщина, из-под
шапки видны длинные черные волосы... Приехавшая устало слезает с осла,
снимает поклажу.
- Благословен покровитель! Хорошо, - отвечает Гюльриз Бахтиору и
дрожащими пальцами помогает ему развязывать узлы арканов, стягивающих туго
набитые джутовые мешки. Мысли Гюльриз ревнивы: "Зачем с Бахтиором женщина?
Ехали вместе. Кто она?" Но тут же старуха соображает: "Русская. Значит, не к
Бахтиору. К Шо-Пиру, наверное... Ну, это ничего... это даже хорошо..."
Гюльриз продолжает развязывать узлы, а сама глядит на ноги сына: обувь
изорвана, пальцы обмотаны тряпьем. Как, наверно, болят его ноги! Сколько
острых камней, сколько снега было на его пути!
- Отчего хромаешь, сын?
- Дурной осел на меня упал! Ничего, удержал его, вон этот! - Бахтиор
указывает на маленького, принадлежащего Худододу осла с окровавленной
мордой; кровь запеклась и на ободранной шерсти.
- Ничего! - усмехается исхудалый, с иссохшими губами Худодод. - Будь
здорова, Гюльриз!
- Здоров будь, Худодод! - Старуха глядит на губы сына - они тоже
растрескались, покрылись коростой. Как ввалились у Бахтиора глаза!
Бахтиор оборачивается к женщине, расстегивающей крючки тесного
овчинного полушубка:
- Товарищ Даулетова, вот моя мать! - и шепотом добавляет матери: - К
нам работать приехала. Другом нам будет!
Гюльриз хочет спросить: "Какая для русской женщины у нас работа? Может
быть, это жена Шо-Пира? Никогда не говорил, что у него есть жена!", но
женщина уже подошла к Гюльриз, приветливо протягивает руку:
- Здравствуй, Гюльриз! Счастье в твоем доме да будет!
"Откуда знает по-нашему, если русская? Хорошо сказала!" - думает
Гюльриз, смущенно протягивая руку. Гюльриз не привыкла к рукопожатиям,
пальцы ее неестественно вялы.
- Спасибо. Добрые слова слышу. - Гюльриз еще больше смущается и, не
зная, как вести себя с приезжей, обращается к сыну: - Долго шли, Бахтиор?
- Пришли! - равнодушно отвечает он. - Товарищ Даулетова, ты садись,
отдыхай.
- Долго, Бахтиор, ты будешь так меня называть? - улыбается Даулетова. -
Говорила тебе: зови меня Мариам!
Бахтиор бормочет в смущении:
- Хорошо, Мариам...
Он сбрасывает на землю первый тюк и толкает осла кулаком. Осел сразу
ложится навзничь, взбрасывает копыта, извиваясь, старается размять и
почесать взмокшую, горячую спину. Худодод кидается к нему, бьет его палкой,
силится поднять на ноги.
- Шо-Пир где? - спрашивает Бахтиор.
- Вниз, в селение, ушел. Сейчас, наверное, придет. - Гюльриз показывает
на вершину горы: - А Ниссо туда, не спросясь, ушла.
- Ушла? Как ушла? - быстро спрашивает Бахтиор, а Гюльриз пытливо
заглядывает ему в лицо: есть ли в сердце сына тревога? Уж очень быстро он
спросил - наверное, есть! И добрые глаза Гюльриз искрятся.
- Богару принести пошла, носилки у Саух-Богор взяла! - говорит она
успокоительно, помогая сыну отвязывать вьюки, и уже по-хозяйски спрашивает:
- Привез что?
- Нехорошо Ниссо сделала! Трудно там! - еще раз взглянув на высокий
снежный склон, Бахтиор мрачнеет; но зачем матери знать его думы? - Муку
привез. Рис привез Шо-Пиру подарок маленький: сахару три тюбетейки, русского
табаку - одну, чаю - одну, пороху - банку. Спасибо русскому командиру,
хороший человек оказался. Много русских туда пришло. Киргизы, узбеки и
таджиков много, вот товарищ Мариам с ними, - Бахтиор кидает улыбку присевшей
на один из мешков Даулетовой. - Все по-новому там, пусть Мариам расскажет.
Далекий был путь. Снега много на перевале...
Даулетова вынимает из кармана полушубка круглое зеркальце, снимает
ушанку, разглядывает свое обветренное, круглое, с выступающими скулами лицо,
заплетает растрепанные косы.
Собрав развьюченных ослов и привязав их к деревьям, чтоб дать им
выстояться, Бахтиор говорит Худододу: "Теперь иди! - и Худодод торопливо
уходит домой, в селение.
- Куда складывать будем? - спрашивает Бахтиор, и Гюльриз советует ему
не трогать мешков, пока не придет Шо-Пир.
Бахтиор садится на кошму, разостланную старухой под деревьями,
приглашает Даулетову сесть рядом. Гюльриз выносит Бахтиору деревянную чашку
с кислым молоком. Он протягивает ее Даулетовой. Мариам, сделав несколько
жадных глотков, возвращает чашку Бахтиору, и он, поднеся к обмороженным,
иссохшим губам, залпом выпивает молоко. Гюльриз очень хочется услышать
рассказ обо всех подробностях путешествия, но Бахтиор уже растянулся на
кошме, его глаза закрываются от усталости. Гюльриз незаметно отходит в
сторону, Бахтиор спит. И, как была в расстегнутом полушубке, спит приезжая
женщина.
Гюльриз уходит в дом, выносит две подушки, бережно подкладывает одну
подушку под голову Бахтиора, другую - Даулетовой. Затем опускается перед
сыном на корточки и замирает в этой позе, не отрывая глаз от его
безмятежного лица и отгоняя согнутою ладонью неведомо откуда прилетевшего
жука.
Весть о прибытии муки мгновенно облетела все селение. Кое-кто
встретился с Худододом, когда он торопливо шел домой, любопытствующие
ущельцы устремились за ним, но, к их разочарованию, войдя в дом, Худодод
сразу же завалился спать; другие видели, как цепочка ослов спускалась по
зигзагам тропы и исчезла в саду Бахтиора. Побросав работу, многие ущельцы
поспешили туда.
Когда Шо-Пир, запыхавшись, подоспел к своему дому, перед каменной
оградой уже толпился народ. Никто не решался нарушить обычную вежливость -
войти во двор или в сад. Но любопытство было неодолимо, и потому, приникнув
к ограде и сидя на ней, ущельцы обсуждали все, что им было видно.
- Пришел! Пришел! - расступаясь перед Шо-Пиром, возбужденно заговорила
они. - Бахтиор пришел, с ним женщина, наверно русская, спит...
- Знаю, знаю! - отмахивался Шо-Пир, хотя еще ничего толком не знал, и,
миновав пролом в стене, обойдя спящих, сказал Гюльриз: - Тише! Пусть спят.
Гюльриз наскоро сообщила все, что знала сама, и очень удивилась, когда
Шо-Пир, всматриваясь в лицо Даулетовой, сказал:
- Не знаю, кто это. Не русская она, наверно таджичка.
Досадуя на ротозеев, Шо-Пир прикинул в уме вес привезенного груза,
ощупал сваленные в кучи мешки, занялся сортировкой.
Затем осмотрев ослов, решил сразу же вернуть их владельцам, толпившимся
у ограды.
Шо-Пир отвязывал ослов, выводил их по одному за ограду; владельцы
тотчас кидались к Шо-Пиру и, окруженные советчиками, принимались деловито
щупать ноги, ребра, шею осла, неизменно при этом вздыхая и рассуждая о том.
Как вреден такой дальний путь, как добрый осел исхудал, как сбиты его
копытца. Зная характер ущельцев, Шо-Пир не обращал внимания на причитания и
жалобы и продолжал выводить ослов, пока на дворе не остались только
маленький, с окровавленной мордой ослик Худодода да широкоухий осел Бахтиора
и еще два осла, владельцы которых отсутствовали. Ущельцы потребовали назад
арканы, потнички и всю амуницию, но Шо-Пир, собрав ветхое имущество в кучу,
заявил, что во избежание путаницы и нареканий вернет все это на следующий
день через Бахтиора.
Затем Шо-Пир ушел в дом. Расчет его оказался правильным: ущельцы,
убедившись, сто смотреть больше не на что, обсуждая событие, удалились.
Шо-Пир велел Гюльриз взять из привезенных продуктов все, что ей
вздумается, и приготовить обильный и вкусный ужин.
Ниссо не возвращалась, и Шо-Пир, присев возле спящего Бахтиора,
составляя в тетради список привезенного, поглядывал на тот склон горы, по
которому Ниссо должна была спуститься в селение.
Спящая на кошме рядом с Бахтиором женщина вызывала недоумение. Шо-Пир
сразу определил, что эта таджичка, судя по одежде, видимо, городская, -
сапоги и полушубок военного образца, ватные, защитного цвета брюки тоже.
Зачем она явилась сюда? Шо-Пиру очень хотелось узнать поскорее новости, но
приехавшие крепко спали. Надо было терпеливо ждать, когда они проснутся.
Под вечер первой проснулась Даулетова. Села, протерла заспанные глаза.
Увидела Шо-Пира.
- Вы товарищ Медведев? - просто и дружески протянув руку, по-русски, с
легким акцентом заговорила она. - То есть вы тот, кого здесь зовут Шо-Пиром?
Привет вам от Швецова.
Шо-Пир сдавил пальцы Даулетовой так, что она, вырвав руку, быстро
замахала ею.
- Виноват! - смутился Шо-Пир. - Это я русской речи обрадовался. Швецов?
Кто это?
- В Волости новый замнач гарнизона.
- Спасибо. Только я не знаю его.
- А он вас знает. Слух о вас далеко идет!
- Ну, скажете! Как в норе живу.
- В Волости знают вас... Только, по-моему, Швецова и вы знать должны. В
отряде Силкова служили?
- Василия Терентьевича? Как же!
- И Швецов там служил. Забыли?
Шо-Пир взволновался:
- Постойте! Швецов? Маленький такой, щуплый?
- По сравнению с вами? Ну, скажем так: худощавый, небольшого роста! -
Даулетова улыбнулась. - "Шуме-ел камыш, де-е-ревья гнулись, а ночка
темна-а-я бы-ы-ла!.."
- А! - обрадовался Шо-Пир. - Ну, значит, тот самый! Без этой песни дня
не было у него! Красноармейцем был, гармонист хороший! Петькой зовут?..
- Правильно, Петром Николаевичем! С ним я приехала. Он меня сюда и
сманил, давно хотелось ему в эти края вернуться.
Подумав: "Здорово! Пошел, значит, в гору!" - и сожалея, что вежливость
велит отложить волнующий разговор о Швецов, Шо-Пир спросил:
- А вы что, работать сюда приехали?
- Ага. Учительницей... Где тут школа у вас?
- Школа? - Шо-Пир был озадачен вопросом. - Какая здесь школа!
- Разве нет? - смутилась Даулетова. - Ну ничего, мы соберем актив
комсомола, организуем школу!
- Комсомол? - еще более изумился Шо-Пир. - Да вы, товарищ... как вас
зовут? Да откуда здесь быть комсомолу?
- И комсомола здесь нет? - в свою очередь, удивилась Даулетова. - А
мне, когда комитет комсомола меня посылал, сказали... Впрочем... - Даулетова
окинула взглядом обступившие Сиатанг горы, селение внизу, иссушенные
осенними ветрами сады. - У нас считали... Мы в карту вглядывались... На ней
река Сиатанг пунктиром намечена, а внизу сказано: "Составлено по расспросным
сведениям". На этой карте Волость и Сиатанг - почти рядом, все те же горы...
Ну, считали, что раз в Волости есть комсомол, то... - Даулетова улыбнулась.
- Кажется, я действительно попала в глухое место...
Проснувшийся Бахтиор старался вникнуть в полупонятный ему разговор.
- Зовите меня Мариам.
- А фамилия ваша?
- Даулетова... А я-то целый год сиатангский язык изучала, думала,
приеду - сразу начну работу со здешними комсомольцами... А тут,
оказывается... - Мариам покраснела. - Вы не думайте, что я о трудностях!
Словом, неясно я себе представляла... Как же вы тут живете?
- А ничего живу. Поглядите: вот дом, вот сад, вот парни, какие у меня в
друзьях! - И чтоб рассеять свое смущение, Шо-Пир так хлопнул по колену
ничего не ожидавшего Бахтиора, что тот испуганно привскочил, а Даулетова
расхохоталась.
- Ничего, Бахтиор! - усмехнувшись, по сиатангски промолвил Шо-Пир. - не
пугайся, это я объясняю, какой ты у меня хороший! - И снова по-русски
обратился к Даулетовой: - А вы, коли к нам приехали, жить у нас будете, сами
увидите, какие тут дела. Советскую жизнь устраиваем!.. Это что у вас, наган?
- В городе дали. Сказали по Восточным Долинам поедете, разное там
бывает. Только не пригодился.
- Ну и здесь тоже не пригодится. Штучка хоть и хорошая, однако в
селение пойдете, снимите ее, а то, пожалуй, вас и за женщину не посчитают.
Скажите, где ж это караван четыре месяца пропадал? Мы думали - крышка!
- Четыреста верблюдов, - на весь край товары везли. Ну, а верблюды,
знаете, пока Восточными Долинами шли - ничего, а поближе к Волости перевал
уже снегами закрыт, зима раньше там начинается, выше вот этого дерева там
снега!
- Знаю, купался в них! Там и летом снег. А как же прошли с верблюдами?
- Про то и речь! Тропинки узкие начались, никак не пройти верблюдам.
- Значит, застряли?.. Над Соленым озером, что ли?
- Именно! Наши на Восточную границу поехали лошадей доставать -
неспокойно там, вернулись ни с чем. А мы месяц под перевалом прождали,
верблюды начали падать, нет подножного корма. Девяносто верблюдов пало.
Назад идти? Швецов говорит: "Не по-нашему это!" Да и позади уже снега
выпали. Мы половину груза под скалами сложили, - теперь весною его возьмут,
- сами вкруговую; километров двести круг сделали; вот и пришли.
- Досталось, значит?
- Ничего, досталось! Сюда, в Сиатанг, знаете, еще несколько работников
ехало: Ануфриев - фельдшер один, толстяк, Дейкин - комсомолец, кооператор.
Во все крупные селения люди назначены были. Только почти все, как добрались
до Волости, там и остались, кое-кто заболел, другие - просто так, до весны,
говорят, проживем, тогда двинемся на места...
- А вы что же?
- А я? Вот с Бахтиором вашим приехала. Хорошая вышла оказия!
Кооператору без товаров и делать здесь нечего, а фельдшер, хоть и отощал в
дороге, а все-таки толстяк, куда ему зимой? Лазать не может, да и трусоват
немножко... Словом, весной сюда явятся.
- Ну, вы, я вижу, молодец! - сказал Шо-Пир. - С Бахтиором-то как?
Сдружились? - и, не заметив, что переходит на "ты", добавил: - Значит,
по-здешнему говорить можешь?
- Говорю! - и Мариам нараспев произнесла всем известную в Сиатанге
песенку:
Горный козленок с тропы на тропу
Прыгает и качается...
Девушка моя легче его.
Глаза, брови, как уголь!
- Вот ты какая!.. А научилась где?
- Райком несколько стариков разыскал - переселенцев из этих мест. Целый
год меня обучали... А Бахтиор? Ну, если б не он, я бы сюда не добралась!
Перейдя на сиатангский язык, Даулетова продолжала рассказывать. Бахтиор
принял участие в разговоре.
Шо-Пир узнал, что в Волость приехал новый секретарь партбюро по фамилии
Гветадзе, человек, хорошо знающий особенности жизни в горах.
- Он сказал мне, - сообщила Даулетова: - "Писать Шо-Пиру не буду, раз
едешь ты, а передай ему на словах..."
И Даулетова подробно перечислила все порученные ей для передачи советы
и указания Гветадзе. Речь шла о работе по разъяснению местным жителям
проводимых в Высоких Горах советских мероприятий: об орошении пустующих
площадей (Шо-Пир с удовлетворением подумал об уже действующем новом канале);
о наблюдении за сохранением поголовья скота; об ожидаемой посевной ссуде; о
подготовке помещений для амбулатории, кооператива, школы; о работе по
раскрепощению женщины... Затем Даулетова стала рассказывать обо всем, что
творится в мире. С грустью подумав, что уже давно не держал в руках ни одной
газеты, Шо-Пир, слушая Даулетову, забыл об окружающем.
Гюльриз, уже в сумерках, позвала всех туда, где на кошме, под платаном,
расставлена была вся имевшаяся в доме деревянная и глиняная посуда,
наполненная сдобными лепешками, изюмом, сливками, колотым сахаром, горками
вареного риса.
- За Худододом сходить надо бы, давно такого пиршества он не видел, -
сказал Шо-Пир. - Сходи, Бахтиор!
- Вот хорошо это, сейчас приведу... Шо-Пир, что будем делать? Темно
уже, а Ниссо нет!
- Ниссо? И верно, где ж это Ниссо?
- И я все думаю! - вмешалась Гюльриз. - Вы разговариваете, забыли, а я
думаю: беда, наверно, случилась...
Но тут, словно только и дожидалась, когда заговорят о ней, в темном
саду показалась Ниссо. Огромная ноша пригибала ее. С трудом переставляя
тонкие босые ноги, Ниссо продвигалась между деревьями, ветви цеплялись за
покрытые примерзшим снегом снопы. Конец ослабшей веревки волочился за
носилками по земле. Шо-Пир и Бахтиор, вскочив, кинулись к девушке; ее
опущенное к земле лицо было скрыто копной разметанных волос. Ветка
тутовника, задев за носилки, нарушила равновесие. Ниссо упала на колени,
снопы прикрыли ее.
Шо-Пир и Бахтиор быстро разметали снопы, и из желтых колосьев
показалась черная лохматая голова. Ниссо откинула назад волосы, и все
увидели ее утомленное лицо, но огромные глаза сияли счастливо и возбужденно.
- Вот! Хлеба тут на десять дней, - сказала она прерывающимся голосом. -
Я не думала, Бахтиор, что ты сегодня придешь...
Обильное угощение не обрадовало, а скорее огорчило Ниссо. Шо-Пир это
понял, нагнулся, обнял девушку в приливе неожиданной нежности, поймал себя
на желании поцеловать Ниссо прямо в полураскрытые губы. Ниссо не
шелохнулась, не опустила глаз; она была полна гордости. Шо-Пир только
потрепал спутанные мокрые волосы девушки.
- Ах ты, барсенок! Кто же тебе позволил идти туда?
- Свободная я... Ты же сам говоришь, Шо-Пир! - горячо выдохнула она и,
взглянув на Даулетову, смутилась, выскочила из груды снопов и побежала к
дому.
- Глядите! Еще бегать может! - рассмеялся Шо-Пир. - Гюльриз, веди-ка ее
сюда. Все в порядке теперь. Есть будем... Э-эх, - заломил он руки, - жизнь у
нас хороша!
Было решено: пока Бахтиор, Худодод и Шо-Пир не выстроят дома для школы,
Мариам и Ниссо поселятся в новой пристройке. Здесь же будут храниться все
привезенные Бахтиором продукты. Шо-Пир обещал на следующий же день заняться
изготовлением деревянных кроватей для девушек, а в эту ночь обе легли спать
на мешках с мукой, застланных кошмами и ватными одеялами.
Чуть не всю ночь проговорили они в темноте, рассказывая каждая о себе.
Двадцатилетняя Мариам решила именно с этой девушки начать свою
воспитательную работу и хотела, применяясь к ее развитию, подружиться с ней.
Ниссо с гордостью чувствовала себя ничуть не менее взрослой и опытной.
- Значит, ты такая же, как и я? - заключила Ниссо.
- Такая же... Только от Азиз-хона не убегала.
- Это потому, что там ханов нет. Но зато ты была очень больна от
голода.
- Да, если б меня не подобрали тогда и не увезли в детский дом, я бы
так и умерла на улице Самарканда.
- Расскажи мне, что такое детский дом и что такое улица Самарканда?
Ниссо слушала не перебивая. Но потом задала сразу столько вопросов, что
Мариам объявила:
- Знаешь, давай лучше я тебе каждый день буду рассказывать о чем-нибудь
одном. Очень много нужно рассказывать. Хорошо?
- Хорошо, - согласилась Ниссо. Помолчала, раздумывая, и сказала: -
Значит, ты за работу свою все время деньги получать будешь?
- Буду.
- Я тоже хочу.
- Будешь, если всему научишься.
- А ты книги, значит, умеешь читать?
- Умею.
- Я тоже хочу. И сама, куда хочешь, ездишь?
- Конечно.
- Я тоже хочу. А как там ездят? Шо-Пир говорил такое слово: машина. Ты
ездила?
- Ездила.
- Вот это я тоже хочу! Расскажи, как на них ездят?
Мариам покорно принялась рассказывать об автомобилях, железных дорогах
и самолетах. Ниссо слушала, наконец перебила Мариам:
- Вот это все ты тоже, как и Шо-Пир, выдумываешь! Сказки это, но я тоже
хочу!.. У тебя есть муж?
- Нет, не хочу замуж.
- Ну, и я не хочу. А ты никакого мужчину не любишь?
- Нет, не люблю.
- А я вот люблю! - горячо воскликнула вдруг Ниссо, сразу спохватилась и
замолчала, прикусив палец.
Мариам в темноте улыбнулась, хотела спросить: "Кого?" - но раздумала и
сказала:
- Давай спать, Ниссо.
- Давай, - глухо ответила девушка, и хотя после этого в помещении
воцарилась тишина, но обе долго не засыпали. Мариам думала о том, что никто
и никогда не должен узнать об ее чувстве. Пусть тот, кто покинул ее в
Самарканде, теперь подумает: куда она делась? Но кого же здесь любит Ниссо?
Бахтиора, наверное? Что она понимает в любви? Когда будет ей, ну, хоть
восемнадцать, тогда, может быть, и пойдем, как это горько и радостно!..
А Ниссо, лежа на спине, глядела в темноту и думала, что напрасно она
сказала Мариам это слово, больше никому никогда не скажет его. Ах, если б
Мариам могла понять, как это радостно и как горько!
Утром, когда Шо-Пир и Бахтиор завели большой разговор о распределении
привезенной муки, девушки еще спали. Гюльриз заглянула к ним и решила их не
будить.
С этой ночи Шо-Пир снова мог спать в своей комнате. Проснувшись раньше
других, наскоро одевшись, он набил трубку привезенной махоркой и с
наслаждением закурил. Не умывшись и не причесавшись, лохматый,
невыспавшийся, он сразу же сел за стол и занялся подсчетами. Раздать
привезенную Бахтиором муку предстояло тридцати двум беднейшим ущельцам.
Шо-Пир решил дать каждому по два пуда - на три месяца, до весны. Этого
кое-как хватит им, при любых обстоятельствах избавит их от голода, от
необходимости варить траву. Двадцать пудов следует оставить в запасе, на
всякий случай. Восемь пудов риса тоже останутся в запасе - выдавать рис
Шо-Пир решил только по праздникам или в виде премий за ту или иную работу.
Составив список ущельцев, которым предстояло получить муку, Шо-Пир велел
Гюльриз разбудить Мариам и Ниссо и, перекинув через плечо полотенце,
отправился к ручью.
За чаем он сообщил, что сегодня будет раздавать муку, и, прочитав
список, предложил Бахтиору сейчас же спуститься в селение, обойти дома
обозначенных в списке и объявить, что мука будет выдана бесплатно и что
каждый должен привезти на своем осле обмолоченное зерно: Бахтиор сохранит
его до весны, а весною возвратит владельцам для посева.
- Пока ты вниз сходишь, я весы сделаю, - сказал Шо-Пир, - а вы,
девушки, пересыпьте муку и разделите ее на равные доли. Потом поможете мне
выдавать ее.
Бахтиор ушел, а Шо-Пир добавил:
- Ну, возьмемся и мы за дело! А то набежит народ, тут такое будет!
Ниссо и Мариам отправились в пристройку. Шо-Пир взял у Гюльриз для
весов два больших деревянных блюда и выбрал из наваленных на дворе тополевых
жердей одну попрямей и потолще.
Ниссо попросила Шо-Пира дать ей флаг. Оба флага после собрания
хранились в комнате Шо-Пира. Шо-Пир сказал: "Это правильно!" - и вынес из
дому флаги. Ниссо вместе с Мариам вывесила их под дверью пристройки;
веселая, возбужденная, поднялась на террасу, вернулась с большим ножом.
- А это зачем? - спросила Мариам, склоненная над мешком и уже
выбеленная мукой.
- Зарубки на столбе делать!
Первыми явились два низкорослых ущельца, которых Ниссо не знала. Они
ничего с собой не принесли - ни зерна, ни мешков. Шо-Пир, прикрывая лицо от
мучной пыли, велел Мариам выдать им по два пуда.
- А почему? - сказала Ниссо. - Где их зерно?
- Вот ты какая строгая! У них нет его и не может быть, они не сеяли
ничего, работали на канале, только теперь получили участок на пустыре. Дай
им! - И Шо-Пир обернулся к ущельцам: - А мешки принесете.
Весы еще не были готовы, и Шо-Пир, определив на глаз вес двух
опорожненных на треть мешков, взвалил их на спину ущельцам. Они ушли
сияющие, преображенные.
Шо-Пир, торопясь доделать весы, оставил девушек одних.
Третьей в помещение робко вошла Зуайда, и за нею просунулась морда
осла. Осел повел ушами, ему не понравилась пыль, он круто повернулся и
лягнул порог двери.
Все рассмеялись. Похлопав по крупу осла, Зуайда сбросила с него два
тяжелых мешка, сама втащила их в помещение.
- Сюда ставь! - сказала Ниссо. - Зерно здесь будем складывать.
И, помогая Зуайде перетащить зерно в угол, добавила:
- Видишь, Зуайда, не напрасно ты руку за меня поднимала, богатство
сейчас тебе дам!
Кивнув Мариам, - не мешай, мол, сама справлюсь, - определила на глаз
вес мешка, приподняла его, стукнула об пол и, объятая облаками мучной пыли,
сказала:
- Бери!
В мешке было не меньше трех пудов. Ниссо это знала. Зуайда смутилась,
но Ниссо повелительно повторила: "Бери!" - и они вдвоем поволокли мешок к
двери. Пока Зуайда, навьючив на спину осла мешок, прикручивала его веревкой,
Ниссо торопливо прошла в глубину помещения, где были сложены рис и сахар, и,
схватив приготовленный кулек, искоса глянув на стоящую спиной к ней Мариам,
вышла наружу.
- Это тебе, Зуайда, еще, - тихо проговорила Ниссо. - Сердце хорошее
утебя. Никому не говори: рассердится Шо-Пир. Приходи ко мне, когда дела не
будет, просто так приходи, всегда моя гостья ты!
Зуайда поцеловала Ниссо, толкнула осла кулаком и пошла за ним следом.
Ниссо вернулась в помещение и деловито сделала три зарубки.
После этого долго не приходил никто. Мариам и Ниссо удивлялись
отсутствию ущельцев.
Шо-Пир, сделав весы, выбирал камни, которые должны были заменить гири.
За оградой он неожиданно увидел Кендыри. "Зачем он здесь?" - подумал Шо-Пир,
а Кендыри, поймав его взгляд, перелез через ограду и спокойным шагом
приблизился к нему. Осмотревшись, как бы желая убедиться, что никто, кроме
Шо-Пира. Не видит его, он почтительно поклонился, приложил одновременно одну
ладонь к груди, а другую ко лбу - так, как здороваются повсюду на Востоке,
но только не в Сиатанге.
- Да будет с тобою здоровье, почтенный Шо-Пир.
- Здравствуй! - продолжая выбирать камни, ответил Шо-Пир. - Ко мне?
- К тебе, если позволишь, Шо-Пир, - сказал Кендыри. - Разговор к тебе
есть. Без чужих ушей поговорить с тобой можно ли?
- Чужих ушей здесь нет. Говори, - Шо-Пир отложил камни, кинул взгляд на
халат и на тюбетейку Кендыри, вгляделся в его неподвижное лицо. - Важный
разговор, что ли?
- Для тебя - важный. - Кендыри постарался не заметить выглянувшую из
дверей Ниссо. - Может, пойдем в дом?
- Пойдем, - согласился Шо-Пир, встал, потер ладонь о ладонь и
направился вместе с Кендыри к дому.
Выходя из помещения, Ниссо увидела Рыбью Кость, сразу насупилась,
презрительно повела губами. Рыбья Кость стояла у порога пристройки, что-то
объясняла Мариам.
- Пришла? Что надо тебе? - с вызовом подступила Ниссо.
- Шо-Пир где?
Ниссо полна высокомерия и надменности.
- Нет Шо-Пира сейчас. Мариам, что она говорила тебе?
- Муку просит.
- Ты тоже хочешь муку получить? - язвительно спрашивает Ниссо.
Рыбья Кость бледнеет от злобы, но, овладев собой, коротко бросает:
- Давай!
- Не дам! Тебе нечего делать здесь!
Мариам с недоумением следит за их разговором. Обе, сжав кулаки, готовы
кинуться одна на другую. Мариам встает.
- Погоди, Ниссо! Кто она?
Ниссо презрительно молчит. Мариам обращается к Рыбьей Кости.
- Ты кто?
- А ты сама кто? - выкрикивает Рыбья Кость.
- Я? Учительницей буду у вас, ты не волнуйся, скажи свое имя - в списке
я посмотрю.
- Рыбья Кость ее имя! - выкрикивает Ниссо. - Разве ты, Мариам, не
видишь? Какое еще может быть у нее имя?! Нет в списке ее, Шо-Пир утром
читал, я помню. Не полагается ей.
- Ты дохлая кошка, с тобой не говорю! - кричит Рыбья Кость. - Дрянь
она, смотри список, жена Карашира я!
- Обе вы бешеные, смотрю, - спокойно, берясь за список, замечает
Даулетова. - Ниссо, перестань! А ты не ругайся. Не знаю, что между вами
такое. Карашир в списке есть.
- Карашир есть, этой змеи нет. Где Карашир? Где его зерно? Они сеяли.
Не принесла зерна - не давать!
Мариам растерянно поднимает глаза на жену Карашира.
- Если ты жена Карашира, то почему, в самом деле, не привезла зерна?
Рыбья Кость, поджав губы, молчит, в угрожающих глазах - гнев; лицо
мучительно дергается, да, она знает - Бахтиор. Придя к ней в дом, сказал
Караширу: "Возьми осла, отвези зерно, получишь муку". Карашир хотел было
признаться во всем, но побоялся ее. Она велела ему остаться дома, пошла сюда
одна, надеясь как-нибудь уладить это, выпросить у Шо-Пира муку. Но всем
распоряжается эта. Кинуться бы на нее, выцарапать ей глаза! Но Рыбья Кость
вспоминает о детях, купец обманул, от него ничего теперь не получишь, дома
ни крупинки муки, ни зернышка, впереди зима... Нет, все что угодно, только
бы получить муку! Рыбья Кость глядит через дверь: полно мешков, даже стены,
даже пол весь в муке - в белой, добротной, пшеничной, - сколько горстей
можно собрать с одного лишь пола! Вся злоба пропала, в глазах только
жадность. Смирившись, она произносит очень тихо:
- У меня нет зерна... Дай муки... Хоть немного муки!
- Как нет? - неистовствует Ниссо. - Не верь ей, Мариам! Спрятала! Есть
у нее, вон, смотри! - Ниссо резко оборачивается, показывает на распростертое
внизу селение. - Смотри, Мариам, тот дом, тот посев, Не меньше других зерна
собрала она. Ничего не дам, врет она! Когда мы собирали ослов, чтобы Бахтиор
пошел в Волость, она нас прогнала.
В глазах Рыбьей Кости слезы.
- Дай! - чуть слышно произносит она.
- Не дам! - отрезает Ниссо.
- Погоди, Ниссо... Пусть Шо-Пир скажет сам. Подождем Шо-Пира.
- Нечего ждать Шо-Пира, скажет то же, что я. Уходи отсюда! Слышишь, или
камнями тебя прогоню!
Рыбья Кость ничего не отвечает. С ненавистью, сквозь слезы взглянув на
Ниссо, она поворачивается, минует пролом ограды, скрывается за камнями.
Явное злорадство Ниссо удивляет Даулетову.
- Ты злая... И я не знаю, права ли ты. Надо было, чтоб она подождала
Шо-Пира. С кем это он говорит так долго?
- Ничего, Мариам, ты не понимаешь! - выпаливает Ниссо.
Ей немножко стыдно: почему Рыбья Кость перестала кричать и заплакала?
Конечно, хорошо, что она так унижена, но лучше было б, если бы не заплакала.
"Нет, - отгоняет Ниссо внезапную жалость, - все врет она, так ей и надо!"
- Ты спрашиваешь, Мариам, с кем разговаривает Шо-Пир? Зовут его
Кендыри, хороший человек, бороды бреет здесь... Помощник купца.
- Все-таки я спрошу у Шо-Пира об этой женщине.
- Спроси, спроси! Она хотела, чтоб меня отдали Азиз-хону...
- Ах, вот в чем дело! - Бросив взгляд на тропу, Даулетова замечает
Рыбью Кость, присевшую на камнях. Ясно: решила дождаться Шо-Пира. Даулетова
ничего не говорит Ниссо.
- Шо-Пир, ты знаешь... Я живу здесь год.
- Знаю, год.
- Я живу у купца. Ты тоже знаешь.
- Знаю.
- Ты ко мне не приходил - бреешься сам. Я к тебе не приходил,
разговоров с тобой не вел. Скажи, почему?
- По-моему, это ты сам мне можешь сказать.
- Для этого я сейчас пришел.
- Видно, за год успел надумать, что сказать?
- Не смейся. Объясню, ты поймешь. Я много ходил по горам, людей видел.
Разную видел власть. Бродячий брадобрей не привык разговаривать с властью;
есть страны, где меня били; в других местах - гнали камнями, думали, что я
вор. В Канджуте я два года лежал в тюрьме, знаешь, почему лежал?
- Откуда мне знать?
- Канджутцы не любят англичан. Любят русских.
- Допустим.
- Это правда. На площади Чальта я брил людей. Распространился слух, что
я хороший мастер. Пришел солдат, сказал: идем к туму, будешь брить его
бороду! Власть приказывает, я пошел, начал брить ему бороду. Он стал хвалить
англичан. Я глупым был, не подумал, сказал: твой народ любит русских! Одна
сторона бороды тума осталась невыбритой, а меня положили в тюрьму. Тюрьма
была под землей, скорпионы, пауки змеи ползали по лежащим. Меня били
палками, - вот след на щеке, вот еще - видишь? - на лбу, еще вот! - Кендыри
распахнул ворот халата, показал красные рубцы на груди. - Другие умирали, я
жив остался. Потом меня выгнали из тюрьмы. Я пришел в Яхбар, болел, во рту у
меня был вкус смерти. Человек сказал мне: идем со мной, будешь брить бороду
Азиз-хона, высокая честь. Я вспомнил Канджут, я знал, какая это высокая
честь. Убежал. Прибежал сюда. Стал жить у купца Мирзо-Хура. Жил этот год у
него, помощником ему стал, в сердце моем была благодарность. К тебе не шел и
к Бахтиору не шел: вы власть. Я вспоминал Канджут и боялся власти. Но я
целый год издали смотрел на тебя и теперь понимаю, что канджутцы, которые
хвалили русских, правду мне говорили и что справедлива советская власть. Я
не понимал, почему ты не любишь купца. Теперь мне ясно почему: он человек
недостойный...
- Ты что? Поссорился с Мирзо-Хуром?
- Я не ссорился с ним. Но бедному брадобрею дорога с факирами, купец
идет другой дорогой. Лицо у меня некрасивое, не смотри на мое лицо - смотри
в сердце. Сердце у меня чистое. Ты удивился тому, что я говорил на собрании?
- Странно было, почему защищаешь Ниссо.
- Купец назвал меня собакой после собрания. Если б у купца была власть,
он бросил бы меня в тюрьму. Старики удивляются, думали: помощник купца
говорит так, значит так надо для Установленного. Все подняли руки за мной.
Теперь ненавидят меня, но уже поздно: Ниссо здесь осталась... Скажи, ты
теперь понимаешь, почему я так говорил?
- Не знаю, Кендыри. Если не лжешь...
- Покровитель видит, не лгу! Зачем ложь, Шо-Пир? Какая мне польза?
- Ну, что ж ты хочешь мне рассказать?
- Хочу сказать: дикий народ в Сиатанге, не видел еще ничего. Я видел
многое. Знаешь, что купец с людьми делает? Понимаю больше, хоть я простой
брадобрей...
Кендыри завел рассказ о проделках купца. Шо-Пир слушал внимательно.
- Теперь скажу главное, - продолжал Кендыри. - Ты хотел, чтобы ущельцы
были сытыми целый год. А купец сделал так, что все-таки будет голод...
- Это почему ж голод?
- Слушай, Шо-Пир! Купец говорил всем: "Караван не придет, никакой муки
вам не будет. Бахтиор и Шо-Пир вас обманывают. Собранное вами зерно они
продали новым, советским купцам; Бахтиор ушел, чтобы привести их сюда:
придут с ружьями, возьмут зерно. Пока не пришли, идите тихонько к
Бобо-Калону, он откроет вам мельницу, мелите зерно, пеките лепешки,
остальное несите мне; вы знаете меня пять лет, я скажу советским купцам, что
вы отдали мне свою муку за долги; у меня советские купцы не возьмут ее - за
мною власть Азиз-хона; не захотят со мной ссориться, уйдут с пустыми руками.
Каждый раз, когда вам надо будет печь лепешки, приходите ко мне, всегда дам,
сколько нужно. А весной я поеду во владенья Азиз-хона и привезу для посева
зерно, как привозил вам пять лет. Зиму будете сыты, а весною получите
зерно..." Так говорил им купец. Понимаешь, Шо-Пир? Купцу они верят больше,
чем верят тебе; за купцом - Установленное, за тобой - разрушение его. По
ночам, чтоб ты не знал, они ходили на мельницу, мололи зерно, а то, что не
успели смолоть, отнесли к купцу. Теперь у половины факиров уже нет зерна. А
вчера пришел Бахтиор с мукой - без советских купцов, с обещанной тобою
мукой, и ущельцы поняли, что Мирзо-Хур подбил их на плохое дело. Теперь
верят тебе и боятся, что купец уедет в Яхбар и увезет с собою зерно. Думают
так, потому что купец взял у них за долги семнадцать ослов; взял у тех,
которые не дали своих ослов Бахтиору, когда он уходил за мукой. Купец
приготовил себе караван. Я, Кендыри, все эти дни жил в горах. Ты знаешь
вверх по ущелью Кривую долину? В ней еще есть трава, там пасутся ослы, для
них хватит, - я, как дурак, пас там этих ослов. Пас их и думал: нехорошее
дело делаю. Каждый день я ходил сюда, Мирзо-Хур передавал мне новых ослов,
взятых за долги, я по ночам уводил их в Кривую долину. Вчера пришел: шумят
ущельцы, потому что Бахтиор вернулся с мукой, потому что у многих теперь
будет советская мука, но нет уже ни зерна, ни ослов, купец уйдет и,
наверное, не придет назад, а что они будут делать весной, когда настанет
время посева? Я, по глупости, много дурного делал. Приносил опиум для купца,
выполнял все его поручения. Но вчера я подумал: правдива моя душа, дела тоже
должны быть правдивы - подчиниться советской власти хочу, жить хочу, как
простой человек, среди простого народа. И вот я перед тобой; все тебе
рассказал. Каждое мое слово - правда. Времена настали такие, когда человек
может правдой жить, с чистым сердцем, с руками чистыми. Иди проверяй, всех
спрашивай - я скажу тебе, у кого сейчас нет зерна, у кого сейчас нет
ослов... К Али-Мамату пойди, к Ширим-Шо пойди, к Исофу пойди, к Рахиму
пойди, к Караширу пойди, к Хайдару, и к Муборак-Шо, и к Раджабу, и к
Богадуру, и к Али-Нуру... Мне нечего больше тебе сказать. прошу тебя об
одном: боюсь мести купца, пусть о нашем разговоре он не узнает. Бедный
брадобрей ищет покоя и мира, верит тебе, как не верил прежде никакой власти.
Дай мне обещание!
- Хорошо, Кендыри, - медленно произнес Шо-Пир. - Это я пока могу тебе
обещать...
И Кендыри, снова приложив ладонь к сердцу и пальцы другой руки ко лбу,
низко поклонившись, ушел, оставив Шо-Пира в глубокой задумчивости. Не
перебивая Кендыри, внимательно слушая все, что он говорил, Шо-Пир следил за
выражением его лица и старался догадаться, так ли искренен Кендыри, как
хотел казаться? Глаза Кендыри были холодны, лицо неподвижно, и все время,
пока он говорил, ничего располагающего не было в этом лице. Но вместе с тем
слова Кендыри были убедительны, и если все, что он говорил, окажется
правдой... Но неужели действительно купцу удалось выманить у ущельцев и
ослов, и зерно, и муку? Если Кендыри сказал правду, нужно немедленно
действовать, много зерна они перемолоть не могли, значит, оно находится у
купца. А если так, то один искусный удар может навсегда избавить сиатангцев
от всех проделок купца.
Шо-Пир выбил пепел из трубки, решительно встал, вышел из комнаты на
террасу.
- Приходил кто-нибудь?
Он не успел получить ответ: в проломе ограды показалась Рыбья Кость.
Она почти бежала, прижимая руки к груди.
- Шо-Пир! - воскликнула она, упав на колени. - Умру я, у мрут мои
дети... Не слушай ее, Шо-Пир!
- Что еще такое? Встань! Рассердился Шо-Пир. - Хан я тебе, что ли?
Встань, говорю, сейчас же!
Рыбья Кость пыталась охватить руками его сапоги. Шо-Пир поднял ее:
- Стой прямо, слышишь?
Рыбья Кость, зажав руками рот, сдерживала рыданья.
- В чем дело?
- Ниссо не дала муки! - сказала Даулетова, прислонившись к косяку
двери. - Вот она тут скандалила. Без зерна пришла.
Ниссо вскочила:
- Она меня дрянью зовет, воровкой зовет, батрачкой зовет, Бахтиору осла
не дала, без зерна пришла, старая падаль она, зачем давать ей муку?
Шо-Пир с изумлением глядел на пылающее лицо Ниссо. Забыв о своих
слезах, Рыбья Кость снова кинулась на Ниссо с бранью, взвизгивая и крича.
Шо-Пир, не зная, как образумить ее, отступив на шаг, ждал, когда она уймется
сама.
- Жизни мне нет, света нет, прокляты будьте вы все, камни варить мне,
что ли? Нет у меня зерна, нет у меня осла, ничего нет у меня, смерть мне, и
детям моим смерть. Пойду разобью им головы, пусть не оживут, пусть черные
дэвы возьмут их души.
- Довольно! - крикнул, наконец, Шо-Пир. - Замолчи! И ты, Ниссо,
замолчи! Отвечай, Рыбья Кость, почему у тебя нет зерна? Где зерно?
- Врет она, спрятала!
- Молчи, Ниссо...
- Покровитель убьет меня, правду говорю! - всплеснула руками Рыбья
Кость. - Осла нет! Зерна нет!
- Где они?
- Горе мне, я не знаю... Только нет их у меня, нет, нет, нет!
- Подожди. Ты не знаешь, я знаю. Ты отдала своего осла Мирзо-Хуру? Так?
Не бойся, скажи!
Женщина потупила взгляд.
- Ну?
- Так, - наконец решилась Рыбья Кость. - Не я отдала. Карашир отдал...
- Я это знаю. Хорошо. Ты либо Карашир на мельницу носили зерно? Мололи
его? Купцу отдали?
- На мельницу носили. Не мололи, не отдали...
- Где же оно?
- Пропало, Шо-Пир. Пропало, совсем пропало. Бобо-Калон велел его в воду
выбросить!
- Как выбросить? А ну-ка рассказывай... Спокойно мне говори, не враги
мы тебе, ничего плохого не сделаем.
И когда Рыбья Кость, сначала волнуясь, причитая и запинаясь, а потом
внятно и просто рассказала всю правду, Шо-Пир, мрачный, но очень спокойный,
обратился к Мариам и Ниссо:
- Видите, какие у нас здесь творятся дела? Ты вот, Ниссо, женские свары
с Рыбьей Костью устраиваешь, я, как слепой ишак, ничего не вижу, а тут...
Э!.. Твое дело, Рыбья Кость, маленькое... Спасибо, что все рассказала.
Узнала теперь купца! Иди вниз спокойно, будет тебе мука... Некогда мне
сейчас. Скажи, хочешь, чтоб снова у тебя был осел? И твоя мука у тебя была?
И чтоб Карашир никогда больше не курил опиума? И чтоб дети твои были здоровы
и сыты, и чтоб ты сама одета была? Хочешь, чтоб было так?
- Поцелую следы того, кто поведет меня по этой дороге!
- Так вот. Следы целовать тебе незачем. А дорога твоя проста. Иди в
селение, расскажи всем, что купец с тобой сделал. Много таких, как ты,
пугливых. Как мыши, вы прячетесь по темным углам... Скажешь еще: я сейчас
приду, всем будут возвращены отобранные ослы, всем будет возвращено зерно,
все факиры от меня получат муку. Скажи всем: Шо-Пир слово дает. А теперь
иди!
- А мука, Шо-Пир?
- Ты слышала? Все тебе будет, если сделаешь так, как я сказал. И не
бойся купца: кончилась сила его...
Не подняв головы, Рыбья Кость пошла к пролому в ограде.
Шо-Пир рассказал Мариам и Ниссо все, что знал теперь о последних
проделках купца.
На тропе показался Бахтиор. Он подошел, запыхавшись, размахивая
рукавами накинутого на плечи халата, взволнованный, возбужденный. Бахтиор
начал рассказывать, что ущельцы идти за мукой боятся: у них нет зерна, и у
многих из них нет ослов. Бахтиор, обойдя дома, убедился в этом и знает, куда
все девалось.
- Все, Бахтиор, известно, - прервал его Шо-Пир. - И вот что я решил,
Бахтиор. Мы сейчас пойдем с тобой в селение. Ущельцы волнуются, и это
хорошо; мы поведем их в лавку купца, все отберем у него. Если мы пропустим
такой момент, мы никогда себе этого не простим.
- Я тоже пойду! - воскликнула Ниссо.
- Хорошо. Только сначала навьючишь на нашего осла два пуда муки и
отвезешь ее Рыбьей Кости. Ты понимаешь теперь, что напрасно ее ненавидела?
- Понимаю, Шо-Пир...
- Ну, так действуй! Пусть прежде, чем пойдем мы к купцу, Рыбья Кость
убедится, что я ей не лгу и что мои обещания - не обещания купца. Ты еще и
во двор к ней войти не успеешь, а уже все селение узнает, что ты привезла ей
муку. И я нарочно именно тебя посылаю: хочу, чтоб Рыбья Кость помирилась с
тобой... Мариам. Закройте здесь все. Больше никому ничего сегодня мы не
будем давать. Идем, Бахтиор!
Таким, как сейчас, - быстрым в движениях, уверенным в каждом своем
поступке, в каждом слове - Шо-Пир бывал прежде, когда его отряд готовился к
боевой схватке, когда все зависело от четкости, стремительности, спокойствия
каждого красноармейца. Шо-Пир ощущал в себе ту давно не испытанную легкость,
ту спокойную приподнятость духа, какие всегда отличали его в дни боев с
басмачами... Это настроение преобразило даже его лицо: сжатые губы, прямой и
строгий взгляд поблескивающих серо-голубых глаз, чуть-чуть нахмуренный
лоб...
Ниссо уже гнала по тропе навьюченного мукою осла. Даулетова запирала на
деревянный замок тяжелую дверь пристройки.
- Я тоже пойду! - крикнула она прошедшему мимо Шо-Пиру.
- Отчего же! Идите! - по-русски ответил Шо-Пир.
Шо-Пир правильно рассчитал. Войдя в селение, он увидел группы
возбужденных ущельцев. То, что прежде каждый скрывал от других, теперь
обсуждалось всеми: власть знает о том, что произошло. Тайное стало явным. И,
уже не думая о последствиях, факиры делились своими сомнениями и высказывали
надежды на то, что власть, может быть, все-таки даст им муку. Только сейчас
для всех становилась ясной система хитрых вымогательств купца. Все понимали
теперь, что наущения Мирзо-Хура о караване неких советских купцов, будто бы
скупивших зерно, оказались ложью.
Приверженцы Установленного расхаживали по селению и, минуя шумные
группы факиров, делали вид, что не слышал язвительных замечаний. Пошепчутся
- успокоятся, думали они. Такие, мол, взрывы гнева факиров бывали и прежде,
с тех пор как появилась новая власть, а шана, сеиды и миры выронили из рук
узду, управлявшую народом. Но гнев факиров подобен внезапному ветру: дай
дорогу ему, он пронесется, как сквозь ущелье, и тишина возникнет сама собой.
Однако, когда в селении появились Шо-Пир и Бахтиор, приверженцы
Установленного сразу сообразили, что на этот раз тишина не возникнет сама
собой и лучше закрыть глаза на все, что может произойти. Скорее добраться до
своих домов и не выходить из них.
Те, к кому подошел Шо-Пир, почувствовали, что им уже не встать тихонько
и не уйти, бежит всегда виноватый, лучше переждать, может, гнев власти
минует их?
Но Шо-Пир, не обращая на них внимания, подсел к факирам, заговорил
просто, приветливо, так, как разговаривают с друзьями. Языки факиров
развязались: размахивая руками, тыча себя в обозначенные худобой ребра,
показывая лохмотья ветхих одежд, факиры изливали душу в жалобах на купца.
- Что будем делать, Шо-Пир?
- Совсем мы нищими стали, голодать будем?
- Зачем купец нас обманывал?..
А из переулочков, из-за оград все подходили люди. Они издали следили за
разговором, сначала с опаской, потом с надеждой. Большой начинается
разговор, надо послушать его!
И толпа растет вокруг Шо-Пира и Бахтиора...
А Шо-Пир отлично все понимает: ему не нужно ни горьких причитаний, ни
гневных выкриков, - он видит нарастающее возмущение; короткими насмешливыми,
язвительными словами он разжигает его. И замечает, что в толпу
протискиваются женщины и слушают жадно и никто их не гонит.
"Пора!" - говорит себе Шо-Пир и легким скачком взбирается на ограду.
Придерживаясь рукой за голую ветку тутовника, обращается к внезапно умолкшей
толпе:
- Боялись вы до сих пор! Чего боялись? Посмотрите, какая мы сила! Кто
помешает вам добиться справедливости? Почему, как рыба на крючок, попались
вы на лживые обещания купца? Год за годом купец вытягивал из вас все: урожаи
хлеба, ягод и яблок, скот, одежду... половину жизни убиваете вы, чтоб отдать
ему долги, а он живет среди вас, руки на животе греет. Он мошенник, вор!
Почему все ваше зерно у него? Почему вы ему отдали последних ослов? Чего
боитесь? Ваши ребра торчат, дети умирают от голода! К черту пустые
разговоры! К черту пустой страх! Никаких нет за вами долгов, ничего вы купцу
не должны! Зерно, украденное им, ваше! Ослы, украденные им, ваши! Шерсть от
ваших овец, шкуры лисиц, пойманных вами в капканы, - все у купца, у вора...
Идемте к нему, возьмем обратно и разделим каждому его добро. Идемте за мною!
Шо-Пир спрыгивает с ограды и, кивнув Бахтиору, решительным шагом
направляется к лавке купца. Толпа, как бурный поток, движется за ними.
Купец, увидев приближающуюся толпу, торопливо выходит из лавки. Он
хочет незаметно обогнуть стену дома. Шо-Пир резко кричит ему: "Подожди!"
Сложив руки на груди, Мирзо-Хур стоит, наклонив голову, как
разъяренный, но испуганный, не решающийся броситься вперед бык. Впрочем, он
только кажется таким: сердце его бьется все глуше и совсем замирает от
страха, приковавшего его к месту. Подойдя к нему вплотную, Шо-Пир видит, что
губы Мирзо-Хура дрожат и что он боится поднять опущенные глаза.
А на плоской крыше лавки появляется Кендыри. Он глядит на толпу. Шо-Пир
успевает заметить: Кендыри усмехнулся одним краешком губ. Скрестив ноги, он
усаживается на крыше в той спокойной и непринужденной позе, в какой
пребывают, предавшись молитве, все мусульмане.
- Ну что ж! - неспешно произносит Шо-Пир. Пришло время, Мирзо-Хур,
рассчитаться с долгами. Открывай свою лавку, мы не тронем тебя, если та
отдашь народу все, что взял у него. Где зерно?
И толпа, растекаясь, кольцом окружает лавку.
Купец неверным шагом входит в нее, распахивает настежь створки дверей.
И первой, промелькнув мимо Шо-Пира, в раскрытые двери вбегает Ниссо.
- Куда ты, Ниссо?
А Ниссо уже юркнула в темную глубину лавки, и через минуту вся толпа
слышит ее звонкий голос:
- Здесь зерно, Шо-Пир, до самого потолка! И мука!.. Муки сколько!..
Половина дома, в которой живет Гюльриз, озарена полыхающим красным
отсветом. В огне очага медленно потрескивает хворост. Тьма висит по углам; в
ней тонут полочки с глиняной посудой, козьи шкуры и одеяла, сложенные в
глубине каменных нар. Четыре закопченных столба, подпирающих потолок,
обозначают квадрат пола внизу и квадрат дымового отверстия наверху. Дым
течет в это отверстие, и когда клубы его на мгновение слабеют, видны звезды.
На каменных нарах вокруг очага сидят и полулежат Бахтиор, Шо-Пир, Мариам,
Ниссо, Зуайда, Худодод, Карашир и Рыбья Кость. У огня на корточках, залитая
красным светом, хлопочет Гюльриз. Вареный рис уже съеден. В большом котле
кипит вода. Гюльриз понемногу вливает в нее из кувшина вечернее молоко,
размешивает его большой деревянной ложкой. Рыбья Кость в новой грубоватой
рубахе необычно опрятна, даже черные, с проседью, волосы ее заплетены в две
жидкие косы. Она любовно смотри на личико спящего на ее коленях ребенка.
Когда Карашир в новом халате верхом на осле торжественно въехал в сад
Бахтиора, а Рыбья Кость, шедшая за ним, внесла в дом ребенка, Мариам
испугалась: лицо ребенка было черным. Рыбья Кость объяснила, что незадолго
перед тем ребенок споткнулся, раскровенив лицо об острый камень, и тогда она
обмазала его смесью сажи и бараньего сала, выпрошенного у одной из соседок.
С трудом добившись у Рыбьей Кости согласия, Мариам целый час осторожно
снимала ватой и вазелином эту "лечебную" мазь. Теперь ребенок мирно спит на
коленях матери, и только три багровые ссадины видны на его безмятежном лице.
Гости пребывают в том приятном состоянии, когда спорить уже никому не
хочется, разговоры возникают и обрываются, и всем доставляет удовольствие
переменный жар очага, нежно обвевающий лица, а тьма, скрывающая углы,
создает особый, суровый уют. Бахтиор, свесив ноги с нар, снова и снова
наигрывает на тихой двуструнке и чуть слышно поет:
Страсть к тебе в печени...
Горный козленок устремился в твою сторону.
Я схватился за голову от страданий!
Вода - по каналу, вода - по каналу!
Понапрасну он старается спасти свою душу.
Все слушают. Бахтиор, полузакрыв глаза, видит перед собой только Ниссо,
сидящую у огня, руки - на коленях, задумчивую, тихую, губы повторяют
напеваемые Бахтиором слова. Бахтиору приятно, что его песня нежит Ниссо, он
поет уверенно, с вдохновением. Ниссо глядит на свои новые мягкие сапоги, не
замечая их. Мысль ее витает далеко, может быть, она представляет себе те
края, о которых теперь часто думает, стараясь проникнуть в тайну большой
жизни, из которой пришли сюда Шо-Пир и Мариам, Бахтиору хочется, чтоб Ниссо
поняла, почему он поет именно эту песню, но как ему угадать мысли Ниссо?
Шо-Пир полулежит на нарах, распахнув свой ветхий красноармейский
ватник. Цветные чулки, подаренные сегодня Ниссо, обтягивают ноги Шо-Пира
выше колен. Он задумчиво всматривается в профиль склоненной над очагом
Зуайды. Как и все, она слушает тихую песню Бахтиора. Ее профиль тонок и
строг, большой лоб отражает игру красного пламени. Шо-Пир глядит бездумно,
но Зуайда словно чувствует его взгляд, быстро поворачивается: что смотрит
он? Теперь ее лицо грубовато: нос слишком широк, глаза несоразмерно малы,
Шо-Пир переводит взгляд на потное, красное лицо Карашира, который привалился
спиной к столбу, закрыв глаза, с выражением блаженной умиротворенности.
Сытый, довольный теплом, черный в своем новом, незапятнанной белизны халате,
он дремлет. Много лет ему, наверное, не было так хорошо!
- А Карашир спит, - произносит Шо-Пир.
Карашир приоткрывает глаза.
- Не сплю.
- Какой он стал важный в новом халате! - посмеивается Шо-Пир.
- Теперь важный! - покровительственно говорит Рыбья Кость. - А там, как
щенок, вертелся!
- Где? - спрашивает Шо-Пир.
- А ты разве не видел?
- Нет. Что делал он?
Бахтиор прижимает ладонью струны:
- Когда я с Кендыри и Караширом из Кривой долины ослов привел...
- Ну? Что было?
- Я тоже не видела, - выходит из своей задумчивости Ниссо.
- Ты, Ниссо, - говорит Бахтиор, - с Худододом мешки из лавки
вытаскивала, а Шо-Пир и Мариам на площадке перед дверьми товары считали.
Когда мы ослов привели, помнишь, все ущельцы из лавки бросились...
- Ну, - говорит Шо-Пир, - я сидеть остался.
- Ты остался, а мы смотрели... Ущельцы все бросились, даже спорить
забыли, кому что дать; прибежали, каждый своего осла обнимает, щупает,
Карашир верхом на осле сидит...
- Я расскажу! - перебивает Рыбья Кость. - Он сидит. Я подбежала: мой
осел! Здоров ли, смотрю...
- Смотришь, - усмехается Карашир. - Шею его обнимает, уши его гладит,
сама плачет, все смеются кругом!
- Не плакала я!
- Плакала! Лицо сморщилось, слезы текут!
- Что ж, текут! - Рыбья Кость прикрывает рукой рот мужа. - Не слушай
его, Шо-Пир! Ведь уже думала, не увижу осла моего. Исоф тоже плакал. А потом
вскочил на своего, как бешеный скачет кругом. Муж мой, дурак, тоже скакать
захотел, а осел под ним не идет. Исоф сам подскакал к нему, начали они
бороться, друг друга за плечи стаскивать. Люди хохочут. Я думаю: всем забава
мой муж, дурак! А сейчас, смотри, сидит важный.
- Пусть поважничает! - говорит Шо-Пир. - Теперь время для него другое
пришло.
- Почему другое?
- А как же? Халат новый, у жены его платье новое, зерно есть - сами
ущельцы долю ему отделили, мешок проса тоже достался ему, опиума больше
курить не будет.
- Почему не будет? - спрашивает Бахтиор.
- Потому что, когда ты, Бахтиор, с ним и с Кендыри ушли за ослами, а
Худодод и Ниссо из лавки все выносили, опиум у купца нашелся. Где ты нашла
его, Ниссо?
- В углу, под тряпьем. Две ковровые сумы, зашитые! Пусть помнит меня!
Продать меня Азиз-хону хотел!.. Шо-Пир, а как теперь с чулками быть, которые
я связала ему? Отдать?
- Очень хочется?
- Он шерсть дал мне... Его чулки... честно будет!
- Что ж, отдай! А только, как думаешь, откуда у него шерсть?
Зуайда коснулась колена Шо-Пира:
- Мы ему шерсть давали. Я сама давала, стригла моих овец.
- Даром? - спрашивает рыбья Кость, ладонью прикрыв от жары ребенка.
- Не даром. Обещал краски мне дать.
- Дал?
- Дал шерсть обратно, сказал: халат сделай, сделаешь - краски дам. Я
халат сделала, ему отдала, до сих пор ни красок, ни шерсти не получила.
- Когда это было? - спрашивает Шо-Пир.
- Прошлой зимой.
- Так что, выходит, этот халат ты просто обратно получила сегодня?
- Не этот, другой... Тот, который я сделала, знаешь, кому сегодня
пошел? Вот он, Худодод, на тебе, когда Шо-Пир тебе дал его, я сразу
узнала...
- А мой, - выпятив грудь, произносит Карашир, - кто сделал?
- Этот? - Зуайда пощупала двумя пальцами полу халата. - Не знаю... Наши
женщины тоже.
- Так как же ты, Шо-Пир, поступил с опиумом? - спросил Бахтиор.
- А тебя, Бахтиор, вспомнил! Взвалил сумы на плечи, люди расступились,
смотрят на меня. По твоему примеру - в реку выбросил.
За стенами, захлебнувшись свистом, пронесся ветер. Дым, спокойно
выходивший в отверстие, заметался, обдал сидящих у очага, снова рванулся
вверх, - все взглянули туда, - звезд в темном небе не было видно.
- А небо в облаках! - заметил Шо-Пир.
- Холодно стало. Мороз, - вымолвила Гюльриз, и Ниссо, подумав о чем-то,
сказала:
- Шо-Пир, а где ты спать будешь?
- Как где? В комнате у себя.
- Все-таки... Ты говоришь, русские дома хорошие, а по-моему, плохие.
- Почему это?
- Вот в твоей половине... Очага посередине нет, а в стене две дыры.
- Окна-то?
- Зачем такие большие?
- Для света.
- А зимой что делать будешь?
- Заколочу.
- Вот и темно.
- Это потому так, Ниссо, что стекол пока у нас нет. ваш караван,
Мариам, привез стекла?
- Привез. В Волости остались.
- Значит, весной здесь будут! Сыграй-ка еще, Бахтиор!
Бахтиор положил пальцы на две струны, щипнул их раз, другой, заиграл.
Склонив голову, ни на кого не глядя, запел. Худодод вынул из своего чулка
деревянную дудочку и стал насвистывать в лад Бахтиору. Его тонкие губы
напряглись, худые щеки надулись. Дудочка посвистывала, переливалась странной
печальной мелодией, и, перебирая пальцами, Худодод изредка подмигивал
Бахтиору, чтоб тот замедлил или ускорил темп.
Резкий порыв ветра распахнул дверь, буйный свист ветра заглушил
мелодию, дым опять заметался, прошел волной по полу, все невольно прикрыли
глаза.
- Вот как задувает! - сказал Худодод, встал и, закрыв дверь, вернулся к
огню.
- Чай готов, - сказала Гюльриз, когда дым рассеялся и огонь очага
отогнал холод, внесенный ветром. - Шо-Пир, наш чай будешь пить?
- С солью, да с салом, да с молоком? Ну нет, Гюльриз! Мне насыпь просто
щепотку чая вот в это кувшин... Вода вскипела в нем?
- Кипит давно.
- И мне оттуда! - сказала Мариам. - привыкла я к сахару.
Гюльриз разлила всем жирное чайное варево. Карашир стал пить обжигаясь.
- Мало! - сказал он.
- Чего?
- Соли еще дай!
Гюльриз протянула ему кусочек розовой каменной соли. Он опустил его в
деревянную чашку.
- И сахару дай!
- И с солью и с сахаром? - изумился Шо-Пир.
- Конечно! - сказал Карашир. - Новое теперь время!
- Вкусно? - прищурился Шо-Пир.
- Конечно! Ханы, наверное, пили такой.
Все выпили чай. Шо-Пир заговорил первым.
- В последний раз так пируем! Завтра раздадим всю муку, ты, Ниссо, с
Мариам жилье свое там устроите, а рис, сахар, все запасы мы с Гюльриз в
кладовку сложим. Сама не бери, Гюльриз, и никому не давай!
- Хорошо, что факиры сюда зерно привезли, - глубокомысленно заявила
Ниссо. - А то опять понесли бы на мельницу. Теперь Рыбья Кость по ночам
спать будет.
Рыбья Кость нахмурилась:
- А ты, неизвестно зачем, по ночам шляться не будешь.
Шо-Пир поднял руку:
- Опять, кажется, решили рассориться?
- Теперь не поссоримся, - серьезно сказала Ниссо.
Бешеный порыв ветра вновь распахнул дверь, посуда зазвенела, пустые
деревянные чашки сорвались с нар и покатились по полу, висевшая под потолком
козья шкура упала на Мариам, пламя очага метнулось...
- Снег! Снег! - закричала Ниссо.
В дверь густыми хлопьями со свистом ворвался вихрем снег, белые хлопья
повалили и сверху, из дымового отверстия.
- Эге! - крикнул Шо-Пир. - Зима!
Все вскочили.
- Потолок закрыть надо! - выкрикнул Бахтиор.
- Корову сюда! - заголосила Гюльриз. - Ослов! На клевер камней еще!
Бахтиор, Худодод, Гюльриз кинулись к двери, прорываясь сквозь воющий
снежный вихрь, выбежали из помещения. Дым, мешаясь со снегом, закружился,
слепя глаза. Рыбья Кость укутала в подол проснувшегося ребенка, согнулась
над ним. Снег врывался крупными хлопьями, влил из дымового отверстия,
кружился в красном дыму, шипел на мечущемся огне очага.
Шо-Пир, Ниссо, Карашир бросились во двор.
Долгое время в снежной темноте, в свисте ветра вокруг дома слышались
озабоченные возгласы, мычала корова, неистово орали ослы. Кто-то затопотал
по крыше. Огромный деревянный щит со скрипом ударился в край дымового
отверстия. Чьи-то руки тащили его, пока отверстие не закрылось... Снежный
сквозняк оборвался. Зуайда стала собирать разбросанную по полу деревянную
посуду.
Гюльриз и Ниссо ввели облепленную снегом корову, поставили ее в стойло,
Бахтиор, таща за загривки двух упирающихся овец, толкнул их туда же. Карашир
и Худодод вогнали в помещение обоих ошалевших ослов, те остановились как
вкопанные, но им не понравился дым, и, топоча копытами, они круто
повернулись и устремились обратно. Худодод защелкнул засов, и ослы остались
стоять мордами к двери.
В помещении стало мокро и дымно. Не имея выхода, дым стлался теперь все
ниже и ниже. У всех слезились глаза. Отряхиваясь от тающих хлопьев, озябшие
люди жались к огню. Гюльриз подбросила в очаг охапку хворосту, но дым сразу
стал едким и невыносимым.
- Гасить надо огонь! - сквозь кашель сказал Шо-Пир. - Ну-ка, Ниссо,
скажи теперь, что русские дома хуже! Да, кстати...
Шо-Пир внезапно кинулся к двери, отодвинул засов, выскочил из помещения
на террасу, кинулся в свою комнату. Здесь, врываясь в незастекленные окна,
свободно кружился снег. Разыскав в темноте давно заготовленные щиты, Шо-Пир
вместе с прибежавшим на подмогу Бахтиором заложил окна. Полез в шкаф,
нащупал глиняный сосуд масляного светильника, поставил его на стол, зажег и,
слушая свирепо завывающий за окнами ветер, принялся обтирать полотенцем
засыпанный снегом стол. Один за другим гости вошли в его комнату.
- Ну вот! - сказал Шо-Пир. - Теперь Сиатанг надолго отрезан от всего
мира.
- Надо домой идти, - беспокойно заявила Рыбья Кость. - Дети одни!
- Куда сейчас пойдешь? - спросила Ниссо. - Пережди ветер.
- Нет, пойду! - сказала Рыбья Кость. - Идем, Карашир. Выводи осла.
- И я пойду! - промолвил Худодод.
- А ты, Зуайда, останься у нас ночевать. Мы в своей комнате на мешках
спать будем.
- Конечно, останься! - подтвердил Шо-Пир.
И Зуайда ответила:
- Хорошо, останусь!
Провожая гостей, Шо-Пир и Ниссо вышли на террасу. Буран в темноте
усиливался. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно.
В этот самый час, погасив огонь в своей опустевшей лавке, купец, в
тысячный раз бормоча проклятья, вместе с Кендыри вышел из дому.
Он решился идти, несмотря на буран, опасаясь, что за ночь тропу к
Большой Реке закроют снега, и тогда ему придется зимовать в Сиатанге.
Кендыри уговаривал переждать буран, но купец остался непреклонным. На
нем были два халата, шерстяная чалма, две пары узорчатых сиатангских чулок,
рукавицы из козьей шерсти. Кендыри был одет так же, как и купец. За спиной у
обоих были большие, туго набитые мешки. К ним были прикручены одеяла и по
три пустые козьи шкуры, которые нужно будет надуть, чтобы переправиться
через Большую Реку. На поясе Мирзо-Хура висел тяжелый мешочек с золотым
песком и серебряными деньгами: четыреста монет, только что выкопанных
Мирзо-Хуром из земли. В руках у путников были длинные палки.
Сгибаясь под ношей, сбиваемые с ног жестким ветром, путники исчезли в
буране. Только отчаяние может заставить людей устремиться такой ночью в
далекий путь.
Нащупав под ногами тропу, Мирзо-Хур вдруг обернулся и с ненавистью
погрозил незримому в снежной буре селению.
Скорей угадав, чем увидев, этот его жест, Кендыри осклабился.
Кто знает, какая мысль могла заставить его улыбнуться в такую минуту!
Идем мы пшеницей, колосья лелеем.
Вся жизнь наша в этих поющих стеблях!
Но помните: стебли доступны и змеям,
Тихонько свистящим: "Ля илля иль Аллах!"
В орошенных долинах
Казалось, нигде в мире нет такой стужи, таких леденящих ветров, как
здесь, в сиатагнском ущелье, на высоте в несколько тысяч метров над уровнем
моря. Куда ни взглянуть - как будто ковром из чистейшей ваты покрыты вершины
и склоны, и только черные прорези отвесных скал, на которых не держится
снег, дают отдых ослепленному сверкающей белизной глазу. Но еще чаще,
покачиваясь, затягивая весь видимый мир, наползает на цепенеющее от холода
ущелье непроницаемый, медленно волнующийся туман.
Отрезанное от всего живого, словно заколдованное, селение слушает
только протяжный злой свист сталкивающихся ветров, шелест лавин, грохот
дробящегося по уступам льда.
Как сохранить хоть немного тепла, если нет даже щепок и в каменном
очаге можно жечь только сырую колючку? У кого от едкого дыма не станут
слезиться и слепнуть глаза? Как защищаться от холода, если в доме нет ничего
теплого, кроме рваного одеяла - одного на всю многочисленную семью, а одежда
ущельца - только халат из козьей шерсти, надеваемый чаще всего на голое
тело? Как согреть свою кровь, если надо скупиться даже на горячую воду,
подбеленную горстью муки, беречь сухие ягоды тута, которых, конечно, не
хватит до далекой весны?
Ущельцы не молятся богу, - их странная религия такова, что не требует
от них никаких молитв; в прежние времена за все селение сразу молился пир, к
нему нужно было только нести последнего маленького козленка, нести все, на
чем в дни приношений останавливался его повелительный взгляд. Бог далек,
богу незачем прислушиваться к жалобам и мольбам ничтожных созданий, - он
слушает только пиров, которые одни умеют разговаривать с ним. Пира больше
нет в Сиатанге, и бедные факиры все реже вспоминают о боге, но дэвы
по-прежнему живут под землей, и в речной воде, и в мятущемся облаке, и в
ветре, пронизывающем каменные жилища, - они страшны и необоримы, они каждому
ущельцу грозят неведомой, но всегда ожидаемой бедой. Их нет только в чистом
огне, ярко пылающем, не лживом и беспорочном, в огне, благосклонном ко всем
живущим, в незапятнанном, неизмеримом, дружественном, могучем и непобедимом
огне... Он убивает злобу дэвов и удаляет проклятие, питает тело, и душу, и
разум... Он кормилец и защитник людей - светлый и зрячий, поющий и
животворящий, достойный созерцания, многоликий, прекрасный, горячий огонь!
Огонь! Огонь! Надежда, услада и радость зимующих в диких обледенелых горах
терпеливых и мужественных ущельцев...
И каждый ущелец в своем жилище оберегает маленький спасительный
источник жизни. Вся семья жмется к очагу день и ночь, дети и взрослые тянут
к нему иззябшие руки, долгими часами безмолвно глядят на него, вслушиваясь в
его многоязычную, всегда неповторимую речь, читая его быстролетные письмена,
как самую мудрую, единственную доступную им, таинственную, прекрасную
книгу...
И чем дольше прячется за мглою холодных туманов отвернувшееся от людей
отдыхающее от летнего пути солнце, тем драгоценней ущельцам каждая, самая
маленькая, искра огня: пусть едкий и горький дым наполняет жилище, сушит
дыхание, пусть слезятся больные глаза, только б никогда не угасал в доме
благодетельный тысячерогий огонь... Пока он живет и пылает, все в этом мире
не страшно, все можно переждать и перетерпеть: весна рано или поздно придет,
туманы развеются, отдохнувшее солнце снова возьмется за свою живительную
работу; селение Сиатанг, пробуждаясь от зимней жестокой спячки, услышит
многошумное пенье воды, бегущей по всем склонам, по осыпям, по каждой
наклонной бороздке в скалах: не сразу, постепенно сдаваясь, растают
нагроможденные зимою снега, освободится от них земля; колеблемый солнцем,
растворится в воздухе легкий прозрачный пар; скажут ущельцы: "Вот солнце
коснулось собаки, которая мерзла всю зиму, и вот уже оно переходит на пальцы
ног мужчины; пора позабыть о зиме!"
И выйдут из своих жилищ, в первый раз за долгое время выйдут все сразу
и разложат по долине большие костры и, очищаясь от накопленных за зиму
грехов, станут с песнями прыгать через эти костры, как прыгали тысячу лет
назад их предки - огнепоклонники. А вечером все вместе отправятся туда, где
теперь живут Бахтиор и Шо-Пир, и поднимутся по тропе еще выше, к тому месту,
где ручей выбегает из скал, и, дождавшись темноты, станут омываться в его
чистейшей, холодной, разбивающейся об их колени воде...
И пройдут еще, может быть, годы, прежде чем древние обычаи сиатангцев
исчезнут вместе с дэвами и страхом перед тайнами всесильной природы...
исчезнут, как исчезли в других, расколдованных новой, советской жизнью
трущобах, где выпрямился, стал бесстрашным, мудрым и гордым победивший
тысячелетнюю тьму Человек!
Длится зима в Сиатанге. Никто никуда не может уйти из селения. Никто не
может прийти в него. Что бы ни случилось в мире, никто в Сиатанге не узнает
о том до весны. Унылое время, кажется, остановилось. Чему можно радоваться
здесь? Кто здесь может смеяться?
Но в бывшей лавке купца Мирзо-Хура слышны смех и веселые разговоры.
Здесь создана первая сиатангская школа. Каждое утро приходят сюда Мариам,
Бахтиор и Ниссо. Каждое утро они встречаются здесь с Зуайдой, Худододом и с
их молодыми друзьями. Разжигают очаг, рассаживаются перед огнем на ковре.
Мариам привезла с собой из Волости три книги: "Об основах ленинизма",
арифметику и букварь. Первая книга - самая интересная: Мариам читает абзац,
переводит или пересказывает его своим внимательным ученикам.
Ниссо уже знает, что все услышанное ею не сказка. Ниссо знает уже так
много, что ей представляется иногда, будто она не раз побывала в Москве, и в
Ташкенте, и даже в Ленинграде: там, где и сама Мариам никогда не бывала.
Ниссо носит на груди подарок Мариам - маленький металлический портрет Ленина
- и гордится: ни у кого в Сиатанге такого нет! В сотый раз Бахтиор просит
Ниссо рассказать всем, как она бросилась в пасть Аштар-и-Калона, просит не
для того, чтобы услышать давно известное, а чтоб все смеялись вместе с
Ниссо. И ему хочется, не отрываясь, смотреть на смеющийся рот Ниссо, такой
чистый, такой недоступный! Подруги Ниссо вспоминают другие истории и
спрашивают Мариам, что выдумали старики и что могло быть в действительности?
Однажды в школе долго царило торжественное молчанье... Зуайда первая
решилась рискнуть здоровьем своего маленького козленка, привела его сюда
после долгих уговоров Мариам. Привязала козленка к двери, сама при всех
сняла с его шеи треугольный кожаный амулет; держа амулет на ладони, поднесла
к огню очага.
Такие амулеты, прежде продаваемые пиром, а в последнее время привозимые
из Яхбара купцом, всякий ущелец носил на своей груди, под мышкой или на
сгибе руки. Такие же амулеты ущельцы вешали на шею скотине. От сглаза, от
дэвов, от смерти, от болезней - от всяких несчастий предохраняли подобные
амулеты. Кто до сих пор рискнул бы навлечь на себя или на свою скотину беду?
Кто решился бы усомниться в святости заключенного в кожаном треугольнике
заклинания?
Мариам взяла у Бахтиора нож. Все затаили дыхание.
- Посмотри, Зуайда, умрет или нет твой козленок! - сказала Мариам,
вспарывая острием ножа амулет.
Вынула, развернула узкую полоску желтоватой бумаги с тайными,
отпечатанными в неведомой типографии знаками.
И заклинание, осторожно передаваемое из рук в руки, обошло круг,
вернулось к Мариам.
- Сколько, Зуайда, заплатила ты за это купцу?
Скрывая волнение, Зуайда рассказала, что амулет был куплен ее покойной
матерью, задолго до появления в Сиатанге купца. Мать, кажется, отдала за
него пиру три курицы. И с опаской, вглядываясь в тайные знаки, Зуайда тихо
добавила, что вот сейчас ей конечно, не страшно, хоть и всякое может
случиться, но если даже козленок теперь умрет, она все-таки не отступится от
своих слов.
- Бросай, Мариам, в огонь!
- Ты сама брось! - улыбнулась Мариам.
- Нет... ты... - прошептала Зуайда.
- Ну, я разорву пополам, ты половину брось и я половину.
Зуайда все-таки медлила, глядела выжидательно. Тогда Ниссо первая
протянула руку:
- Дай брошу я, Мариам!
И, получив кусок бумаги, Ниссо ткнула его в самую середину огня.
Опасливые, настороженные взоры обратились к козленку. Услышав тяжкий вздох
Зуайды, Мариам рассмеялась, но никто не поддержал ее смеха: может быть,
козленок сдохнет не сразу?
Всю неделю после этого, боясь, что козленок заболеет, друзья приносили
Зуайде: кто пучок клевера, кто горсть муки, кто сушеные ягоды, - пусть есть
побольше козленок, нехорошо будет, если он сдохнет. Но козленок не заболел,
и Зуайда неизменно сообщала, что он даже толстеет.
Однажды утром Мариам предложила всем внять с себя амулеты и бросить в
огонь. Возник спор: не следует ли еще подождать? Мариам подняла спорщиков на
смех, они, наконец, решились. Условившись никому до времени не рассказывать
об их тайном сговоре, сняли с себя амулеты и швырнули их на трескучее
хворостье очага.
И если в то утро, выходя из школы, все скрыли друг от друга свои тайные
опасения, то через несколько дней, когда решительно ничто в их жизни не
изменилось, уже вместе потешались над пережитыми страхами и над теми
ущельцами, которые до самой смерти не хотят расстаться с глупыми, ничего не
значащими подвесушками.
- Что еще нужно сделать, - спросила Ниссо, - чтоб я, как ты, Мариам,
стала комсомолкой? По-моему мы все и так уже комсомол!
- Нет, Ниссо, не так это просто делается, - ответила Мариам. - Очень
многого ты не знаешь еще... Подождем весны. Из Волости приедут товарищи, они
скажут, достойны ли вы, сделали ли вы все, чтоб в Сиатанге был комсомол!
- Не понимаю тебя, Мариам! Ты говоришь: комсомол - это те, кто все
может! Кто делает все по-новому! Кто не боится дэвов! Кто добивается хорошей
жизни для всех! Кто даже перед глазами Бобо-Калона не побоится пойти против
Установленного! Кто не верит, что солнце погаснет, и знает, что бога нет.
Кто не лечится сажей с бараньим салом, а лечится твоими лекарствами,
Мариам... Так?
- Так.
- Скажи, Бахтиор, разве мы не такие? Скажи, Зуайда, разве ты не такая?
И ты, Худодод, и вы, сидящие здесь, друзья? Ведь мы ничего не боимся и будем
делать все, все, что надо! Разве мы не такие, как ты, Мариам? Почему ж ты
говоришь нам, что мы еще не комсомол?
Несколько смущенная, Мариам снова завела разговор о комсомольской
организации ее родного города.
И снова возник долгий спор. И все забыли о ветре, свистящем за стенами
бывшей лавки купца, и просидели до темноты, не ели и не пили весь день, и
продолжали спор даже тогда, когда кончился весь хворост и огонь в очаге
потух. Всем казалось, что в мире нет уже ничего неизвестного и недоступного,
- вот только одолеть еще букварь, чтоб каждый мог сам читать книги и писать
углем на бересте так же легко и просто, как могут это делать Мариам и
Шо-Пир.
Каждый день в школе возникали новые споры, и к двенадцати первым
ученикам скоро присоединилось еще несколько юношей и две девушки: подруги
Зуайды, четырнадцатилетние Туфа и Нафиз, уговорившие своих отцов отпустить
их в школу. Их отцы, бедные факиры, - из тех, кто осенью получил участки на
пустыре, - долго не сдавались, но, после того как Шо-Пир поговорил с ними по
душам да еще подарил им по пять тюбетеек рису, согласились. "Хорошо, ходите,
только не смейте снимать с себя амулеты!" - сказали они своим дочерям.
Несколько раз вместе с Бахтиором в школу приходил и Карашир. Вскоре
после исчезновения купца Карашир несколько раз, смущаясь, умолял Шо-Пира
достать для него где-нибудь хоть крупицу опиума. Он клялся, что без опиума,
наверное, умрет: живот болит у него, понос каждый день, не двинуть ни рукой,
ни ногой, очень плохо ему. Шо-Пир, не веря в страдания Карашира, смеялся над
ним, но тот действительно начал болеть. Мариам несколько дней подряд
заставляла его принимать какое-то неведомое ему русское лекарство... Карашир
почувствовал себя лучше, перестал просить опиум, лицо его посвежело. По
утрам он теперь умывался холодной водой. Приходил в гости к Шо-Пиру и
Бахтиору, шутил и смеялся и рассказывал всяческие небылицы, чего прежде как
будто вовсе не умел делать. Новый халат приучил его держаться с
величественной осанкой. Карашир любил объяснять всем, что он не факир, а
сеид, потому что только сеиды носят халаты с такими длинными рукавами, из
которых не выпростать руки.
Все знали: Рыбья Кость перестала бить мужа и только по-прежнему часто
кричит на него. В школу Карашир попросился сам, узнав от Ниссо, что там
ведутся разговоры о новой, хорошей жизни.
Когда первый раз он уселся, почесывая бородку, в кругу молодежи, все
готовы были посмеяться над ним. Но Мариам предупредила насмешки сердитым
взглядом, и Карашир, ничего не понимая из того, что говорилось, чинно и
строго просидел на ковре до вечера и, уходя, сказал, что теперь будет ходить
сюда каждый день.
Скоро его перестали замечать: обычно во время занятий он не произносил
ни слова, но он слушал, так внимательно и вдумчиво слушал, что однажды
поразил всех. Как-то раз, когда Мариам предложила присутствующим написать на
кусках бересты какую-нибудь короткую фразу, Карашир неожиданно взял из рук
Худодода кусочек бересты, на котором тот приготовился писать, и, не обращая
внимания на удивление окружающих, вывел корявым почерком: "Я Карашир -
комсомол", и с важностью протянул бересту Мариам.
Она прочитала вслух, и все расхохотались, указывая пальцами на бороду
Карашира. Крикнув: "Да замолчите вы!", Мариам дружески обняла Карашира:
- Молодец! Честное слово, ты молодец... Хочешь, буду заниматься с тобой
отдельно? Смотрите, как ловко он научился писать!
Польщенный Карашир, оглядев притихшую молодежь, сказал, не скрывая
радости:
- Конечно, хочу! Раньше их в Москву письма буду писать! Теперь хлеба у
меня много будет, в гости к себе позову всю Москву!
Слова Карашира снова вызвали хохот. Он не обиделся и, счастливый,
оглядел всех искрящимися глазами.
С этого дня Карашир в школе стал разговорчивым, и его шутки порой даже
мешали занятиям. С амулетом своим он, однако, не расставался, а когда Ниссо
заметила, что неплохо бы ему последовать примеру остальных, рассердился и,
плюнув себе под ноги, заявил:
- У каждого своя голова, и дэвы у меня свои, что хочу, то и делаю с
ними. И не тебе, Ниссо, глупой женщине, указывать мне мой путь!
Так дом купца стал отличен от всех домов Сиатанга. Казалось, только в
один этот дом свистящая снежными вихрями, насыщенная незримыми дэвами,
унылая, грозная зима никак не могла пробраться.
Будь Бахтиор более уверен в себе, он, конечно, давно дал бы волю своему
чувству. Но он не знал, что можно ему и чего нельзя: смелый и решительный в
обращении со всеми, он с робостью следил за каждым взглядом не понятной ему,
веселой и строгой Ниссо. Ни на что не решаясь, ничего не высказывая, он не
мог побороть в себе неотступного желания все время быть с ней. В сущности,
это получалось само собой: жизнь Ниссо проходила только дома и в школе, -
зимой больше некуда было деться. Короткий путь от дома до школы по
занесенной снегом тропе они всегда совершали вместе. Однако побыть с Ниссо
наедине Бахтиору почти не удавалось, потому что обычно их сопровождала
Мариам. Да и пронзительный морозный ветер постоянно дул с такой злобной
силой, что путникам было не до разговоров.
В школе Ниссо углублялась в занятия, Бахтиор же смотрел на нее, часто
не слушая объяснений Мариам и потому в познаниях значительно отставал от
Ниссо.
Возвращаясь домой, Ниссо всегда стремилась быть поближе к Шо-Пиру.
"Конечно, - думал Бахтиор, - ей интересно слушать все, что рассказывает
Шо-Пир, он знает так много; если б я знал столько, разве все кругом не
слушали бы одного меня?" Он обожал Шо-Пира, считая его выше всех людей на
земле, почитал его силу, знания, ум и авторитет и стал бы врагом каждому,
кто отнесся бы к Шо-Пиру иначе. Сначала, впрочем, он зорко и испытующе
наблюдал за Шо-Пиром: не кинет ли тот особенного взгляда на Ниссо, не
заговорит ли с ней отдельно от всех других, не коснется ли ее руки? Но
Шо-Пир - особенный человек, - казалось, он и не может думать о женщинах!
И когда Шо-Пир говорил о себе, что он только маленький человек, а что
за горами есть действительно знающие, умные, высокие люди, - Бахтиор таких
людей представить себе не мог. Иной раз, открывая свою душу, Бахтиор говорил
об этом Шо-Пиру, а тот добродушно посмеивался: "Ты, Бахтиор, станешь умным и
знающим, таким же большим, как те люди, за пределами гор... И тогда,
наверное, забудешь меня, а если вспомнишь - скажешь: "Вот жил я когда-то в
глухой щели, в Сиатанге, и был там у меня знакомый, так себе человек, но я
по глупости своей думал, что он очень умен!" И, наверное, здорово посмеешься
тогда!"
- Нехорошо шутишь! - горячился Бахтиор. - Хочешь, скажи только слово, я
выну сердце свое ножом, поглядишь тогда, чистое ли оно.
- Ну и дурнем будешь! Кому нужно твое сердце? Возьми-ка лучше букварь
да покажи мне, чему научила тебя Мариам... Посмотрим, так ли ты слушаешься
меня, как говоришь? Двадцать лет тебе, Бахтиор, а до сих пор читать не
научился!
Бахтиор обижался и уходил от Шо-Пира, но потом все-таки возвращался к
нему с букварем и читал по складам, запинаясь, краснея, стыдясь и стараясь
уверить Шо-Пира, что в следующий раз будет читать свободно и гладко.
Как же можно ревновать к Шо-Пиру Ниссо? Ведь она тоже хочет, чтоб
Шо-Пир похвалил ее за беглое чтение! Ведь она тоже хочет узнать у него, как
сделать людей счастливыми. Ведь она тоже думает о больших людях - там, за
пределами гор, - и хочет все о них расспросить. Пусть глядит на него, разве
может она думать о Шо-Пире иначе, чем сам Бахтиор?
Вот как все хорошо получилось: такая девушка живет рядом, в одном доме,
под одной крышей. И разговаривает просто, и никто другой из мужчин не
проводит с ней дни...Как хорошо, что теперь советское время: будь другое
время, разве не вернул бы ее себе Азиз-хон! Разве помечтал бы Бахтиор, что
такая девушка, может быть, станет его женой? Родителей у нее нет - не у кого
просить, и о богатствах можно не думать - никому не надо платить за жену,
хотя Бахтиор готов был бы отдать хоть тысячу овец и баранов, если б были
стада у него...
Но нельзя жениться, если Ниссо не захочет, если она не любит. Как
узнать об этом, не спрашивая ее? На все что угодно готов Бахтиор, только не
на такой вопрос. Разве повернется язык? Может быть, она и не догадывается,
что Бахтиор ее любит?
Вот они вместе спускаются по тропинке. Ветер свиреп. Ниссо говорит:
"Холодно, Бахтиор!" Он скидывает с себя халат, набрасывает на нее так, что
ни головы, ни плеч ее не видно, только смуглые икры над раструбами отогнутых
шерстяных узорных чулок. А он, скрестив руки на голой груди, в одной
рубашке, в белых шароварах, ежась, пробирается сквозь пургу. Ниссо,
наверное, не думает, что ему холодно! Нет, конечно, ему не холодно, ему
хорошо, - ведь не в чей-либо чужой, а в его халат она так доверчиво
кутается. Любит? Не любит?
Вот у него разорвался рукав, и они рядом сидят у огня, и она кладет на
рукав большую заплату; прежде нашивала ему заплаты Гюльриз, а теперь это
делает Ниссо, сама предлагает. Огонь шипит, и пальцы ее быстры, как тонкие
язычки огня, - такие же горячие, должно быть, у нее пальцы. Взять бы их в
свои руки, и сжать, и приложить к сердцу, чтоб почувствовала она, какая
стукотня у него в груди! Нельзя! Можно только молча смотреть на пальцы
Ниссо, на склоненное над шитьем, в прядях растрепанных кос, лицо, - взглянет
ли на него или будет так сидеть молча, задумавшись о чем-то, ему неведомом?
О чем? О чем? Никак не узнаешь этого, пусть думает она, о чем хочет, только
дольше бы пришивала заплату, только не отняла бы небрежно подогнутую ногу,
которой, сама того не заметив, чуть-чуть касается его руки. И если кончит
шить и прямо, чисто взглянет ему в глаза и очень дружески скажет: "Крепко
пришила, Бахтиор, не рви больше, просто надоело мне шить, даже Шо-Пир
говорит, что ты очень небережлив..." - то вот все и кончится, нужно будет
встать, отойти. А все-таки пришивает заплаты ему!.. Любит или не любит?
Вот поздно вечером он приходит в пристройку. Мариам и Ниссо еще не спят
и о чем-то болтают. Сколько могут болтать женщины, всегда у них есть о чем
говорить!
Он вынимает из-за пазухи обтрепанную книжку.
- Хочу я спросить у тебя, Мариам: пятнадцать и три четверти метров
сукна продавец разделил на три части - это по пять с половиной будет?
И знает, что Мариам рассердится, но пусть она думает, что он такой
глупый, - не может правильно сосчитать! Только бы побыть здесь еще хоть
немного, только б увидеть, что глаза Ниссо все такие же, не изменились
ничуть. Скажет ему доброе слово на ночь или, зевнув, промолчит?..
Нет, он сам не заговорит, пусть не подумает она, что он зашел сюда ради
нее! Скажет Ниссо ему слово - любит, не скажет - наверное, не любит!
Как после всего этого высказать Ниссо то, чем всю эту долгую
нескончаемую зиму полны его думы? Нет, никогда об этом он не заговорит с
нею! Странно даже, что у человека от дум голова может идти кругом и что думы
могут мешать ему спать. Никогда прежде не знал Бахтиор бессонных ночей.
Однажды вечером, когда Ниссо и Мариам ушли к Рыбьей Кости, измученный
сомнениями Бахтиор решил открыть свою душу Шо-Пиру и попросить помощи у
него. Вошел в комнату Шо-Пира и остановился в дверях. В табачном дыму,
охватив пальцами голову, Шо-Пир читал за столом ту самую книгу, которую
Мариам переводила своим ученикам в школе.
- Что, Бахтиор? - не оглянулся Шо-Пир.
- Ничего. Так пришел, - Бахтиор на цыпочках подошел к столу, сел на
скамейку рядом с Шо-Пиром и, чувствуя, что тот увлечен книгой, стал вырезать
на столе изображение козла.
- Не порти стол! - наконец оторвался от книги Шо-Пир. - Что делаешь?
- Я думаю...
- О чем?
- Ты большой человек, Шо-Пир... Сердце твое всегда ко мне светлой
стороной обращено, так?
Шо-Пир закрыл книгу: если Бахтиор заговорил столь торжественно, то,
надо полагать, неспроста.
- Та-ак... Вроде луны мое сердце, значит?
- Почему вроде луны? - не понял Бахтиор и, запинаясь от сложности
надуманной фразы, произнес: - Когда лед, как в горах, э-э... лежит на душе,
значит, в душе зима... солнце придет ли?
- По-русски говоря, кошки у тебя скребут на душе - это ты хочешь
сказать мне?
- Вот это! - обрадовался Бахтиор. - Барсы, наверное, не кошки.
- Пусть барсы! В чем дело, говори прямо.
- Плохо дело, Шо-Пир...
- Почему плохо?
- Сказать тебе или нет?
- Тьфу, черт, да ну говори же!
- Прямо сказать... - Бахтиор склонил голову над столом. - Я
сумасшедший, наверно... Скажи, Ниссо, чтобы она за меня замуж пошла!
Шо-Пир поперхнулся махорочным дымом. Он давно уже приготовился к
неминуемому разговору о женитьбе Бахтиора, хотя сам Бахтиор до сих пор
молчал о своих намерениях. Приготовился, потому что давно уже все решил, и,
решив, всю зиму не выдавал себя ни единым жестом, запрещая себе даже
взглянуть на Ниссо лишний раз. Дружба и доверие Бахтиора, надежды Гюльриз,
сама его мысль о создании первой советской семьи в Сиатанге - и все рухнуло
бы сразу, если б он решил не так, а иначе. И, конечно, если бы у Ниссо и
Бахтиора все определилось само собой, он выразил бы радость. Но сейчас...
неужели ему предстоит еще и такое испытание?
- Жениться решил? - выдохнув глубокую затяжку дыма, спросил Шо-Пир.
- Хорошо будет, думаю...
- Конечно, хорошо... Пора! Ниссо еще слишком молода, пожалуй, но это не
беда, подождет. Пусть пока объявится твоей невестой. Что ж, она, значит,
рада?
Бахтиор замялся:
- Я же прошу тебя, Шо-Пир, скажи ей ты... Не знаю я, рада она или нет.
- Но ты не купец и не хан, что покупаешь жену, не спрашивая. Она
сказала тебе, что согласна?
- Ничего ты не понимаешь сегодня, Шо-Пир! - рассердился Бахтиор. - Я не
спрашивал. Ты спроси. Если я спрошу, она скажет "нет"; если ты скажешь,
разве она откажет тебе?
- Дурень ты, Бахтиор! Разве такие дела другие решают? Ты ответь просто:
любишь ее?
- Наверное, люблю.
- А она тебя?
- Вот не знаю.
- Ну так пойди к ней и узнай.
- Как узнать? - печально протянул Бахтиор.
Шо-Пир нахмурился.
- Вот что, Бахтиор... Голова у тебя, вижу я, не на месте. Хочешь со
мной в дружбе быть? Так вот, как друг твой приказываю тебе: сегодня же иди к
ней и прямо спроси. Будь мужчиной! Спроси: "Ниссо, хочешь выйти за меня
замуж?" А потом придешь ко мне и скажешь, какой получил ответ. Не спросишь
сегодня, знать тебя не хочу. И конец разговору. Иди!
И Бахтиор ушел, озадаченный и проклинающий свою глупую голову, из-за
которой на него рассердился Шо-Пир. А Шо-Пир остался сидеть за столом и весь
долгий вечер курил трубку за трубкой так, что вся комната затянулась
сероватым дымом.
К ночи, отставив еду, сердито задул светильник и завалился спать.
Бахтиор не пришел.
Утром заплаканная Ниссо на цыпочках вошла в комнату и, увидев, что
Шо-Пир укрыт с головой, метнулась обратно к двери. Но Шо-Пир спросил из-под
одеяла:
- Ты, Бахтиор?
- Я, - с робостью откликнулась Ниссо, останавливаясь в дверях, спиной к
Шо-Пиру:
- Ты, Ниссо? - сразу скинул с лица одеяло Шо-Пир. - Что скажешь?
- Ответь, Шо-Пир, - не поворачиваясь, резко сказала Ниссо. - если я за
Бахтиора замуж пойду - хорошо это будет?
- Конечно, Ниссо, хорошо. Он человек достойный.
- Не о нем скажи. Обо мне: хорошо?
- Тебе, по-моему, неплохо будет.
- Шо-Пир, - голос девушки дрогнул, - так говоришь мне ты? - Всю тяжесть
ударения Ниссо бросила на это "ты".
Шо-Пир все понял.
Но отступать он не умел. Поборов затрудненное дыхание, он ответил:
- Я, конечно. Бахтиор тебя...
Но Ниссо резко перебила его:
- Ничего не говори больше! Теперь знаю!
И стремительно выбежала из комнаты.
Через несколько минут в комнату вошел сияющий Бахтиор и сообщил
Шо-Пиру, что Ниссо только что согласилась выйти за него замуж.
Шо-Пир сел на постели, крепко сжал руку Бахтиора своей сильной рукою:
- Ну, Бахтиор! Теперь ты настоящий мужчина! Поздравляю тебя!
И вот, наконец, подошла весна. Со спины собаки солнце перекочевало на
пальцы ног мужчины и трехдневными скачками поднялось до его колен. Селение
встречало весну по обычаям старины, - давно минул день прыганья через костры
и омовения в струях ручья; давно сгорели все лучины, воткнутые в косяки
дверей, чтоб в дома не вселился злой дэв; давно остатками муки были
выкрашены стены жилищ: руки искусных женщин разрисовали их. Разноцветные
круги и четырехугольники с пересекающимися в них крестами символизировали
полные вещей сундуки, жирные пестрые точки изображали стада баранов. Козлы,
деревья, птицы и солнце были нарисованы на стенах.
Ущельцы выходили на поля и, выковыривая из-под камней мокрую землю,
разбрасывали ее поверх снега, чтобы он растаял скорее. Очищали поля и
оросительные каналы от низвергнутых снежными обвалами камней. Носили в
корзинах навоз и ровным слоем рассыпали его по пашням. Одевались в
свежевыстиранное белье, в вычищенные снегом халаты и в положенный день -
совсем как в старину у русских на Пасху - красили яйца и бились ими,
загадывая желания; чинили плуги, сделанные из козьих рогов; выводили из
темных воловен отощалых быков, медленно проваживали их по двору и надевали
на них ярмо.
День за днем все готовились к большому Весеннему празднику, когда будет
запахана первая борозда. Даже те, кому в последние дни зимы почти нечего
было есть, припасли к этому празднику тутовые ягоды и муку, скопили масло и
сыр, потому что весь год будет счастливым у тех, кто встретит этот день
сыростью, чистотой и весельем.
Прежде, когда в Сиатанге были лошади, принадлежавшие самым богатым
сеидам, мирам и акобырам, в этот день на пустыре происходили скачки.
Конечно, только сиатангские лошади могли скакать по острым, загромождавшим
пустырь камням. И, конечно, не жалеть лошадей в этот день могли только
сеиды, миры и акобыры. Задолго до Весеннего праздника они начинали
готовиться к скачкам: укутав в одеяла коней, водили их непрерывно ночью и
днем, не давая им спать. Потерявшие резвость кони переставали ржать,
блестящие глаза их раскрывались широко, ноги едва поднимались. Только когда
конь уже не мог переступить брошенную плеть, а проволакивал ее по земле, он
считался совершенно "холодным", готовым к скачкам. Перед бесстрастными
судьями в последний момент его безжалостно избивали, подкалывали ножом, и,
взгоряченный последним отчаянием, чуя смерть, не жалея последних сил, конь
слепо кидался в бешеный бег по каменной россыпи пустыря. И чаще всего это
бывало последней его услугой тщеславному оголтелому всаднику...
Но с тех пор как сеиды, миры и акобыры ушли за Большую Реку и увели с
собой всех лошадей, ущельцы в Весенний праздник обходились без скачек.
Другие развлечения, однако, происходили по-прежнему: стрельба из луков в
яблоко, положенное на вершину столба, и бой в барабаны, и пляски, и взлеты
на гигантских качелях, и борьба связанных веревками людей. К этим играм, к
пляскам и к пиршеству, как бы пробудившись от зимней спячки, азартно
готовились все сиатангцы...
Задолго до праздника ущельцы настругивали веточки тала так, чтобы часть
стружек оставалась на лозе, каждый ущелец должен был войти к друзьям с таким
пучком прутьев и, взмахивая им, сказать хозяйке: "Поздравляю с весной!" - и
ждать, пока, ответив: "И я тебя поздравляю!", хозяйка посыплет ему правое
плечо мукой и отберет у него пучок прутьев. Гость посмотрит, как хозяйка
станет втыкать каждый прут в предназначенное для него место по стенам дома.
Хозяйка знает: каждый имеет свое значение - если он полностью очищен от
коры, значит друг желает дому урожай пшеницы; если кожура висит клочьями,
значит, хозяйке пожелали урожая на рожь; если совсем не очищен, хозяйка
может надеяться на урожай проса...
В этот день каждый, кто хочет что-либо попросить у соседа, подвязывает
к чалме кусок праздничной пшеничной лепешки и, заматывая чалму, опускает
лепешку через дымовое отверстие в руки тому, кому предназначается просьба.
Многие юноши, безрезультатно добивавшиеся руки чьей-либо дочери, еще раз
пытают таким образом счастье, и иногда суровый родитель ради такого дня
дает, наконец, согласие.
Бахтиор тоже с нетерпением ждет этого дня, чтобы перед всем народом
объявить Ниссо своей невестой. Так просила сына Гюльриз: обручение,
состоявшееся в день Весеннего праздника, должно быть признано всеми. До
советской свадьбы еще далеко, Шо-Пир сказал: "Ниссо должна еще подрасти", -
но после такого обручения прекратится всякое злословие по поводу пребывания
Ниссо в доме Бахтиора.
Солнце в эти чистые, яркие дни поднимается все выше. Скоро откроются
перевалы и заваленные зимними снегами тропы. Первой всегда открывается
ущельная сиатангская тропа. По ней от Большой Реки поднимется в Сиатанг
советский караван - часть того большого, что зазимовал в Волости. Шо-Пир и
Мариам все чаще рассказывают ущельцам о богатствах, какие привезет этот
караван. Следуя из Волости вдоль Большой Реки, постепенно уменьшаясь,
караван будет оставлять товары и продовольствие жителям пограничных селений.
Достигнув слияния реки Сиатанг с Большой Рекой, свернет в сиатангское ущелье
и, пройдя еще десятка два километров, придет сюда. Об этом последнем участке
пути, кроме сиатангцев, позаботиться некому, а потому Бахтиору уже пора
собрать людей и пройти с ними до Большой Реки, чтобы исправить разрушенные
зимними обвалами висячие карнизы на тропе, проверить и подготовить ее.
Большие разговоры ведутся о караване. Теперь уже никто не сомневается,
что он действительно скоро придет...
Блаженное время весна! Над селением снова проносятся птицы. Звенит
повсюду вода. Ветры затихли. И только вдали, над ослепительными снежными
пиками, толпятся и курчавятся огромные белые облака.
По размытой, заваленной камнями и снегом, местами почти непроходимой
ущельной тропе пробирался к селению Кендыри. Вместо двух дней он шел уже
четыре. Ему приходилось цепляться за нависшие над обрывом камни, ползком,
приникая к отвесным скалам, огибая зияющие провалы там, где зимою снега
начисто сняли висячий карниз, спускаться по зыбким осыпям в реку и, по грудь
погружаясь в ледяную воду, держась за выступы берегового откоса, обходить
скалистые мысы. Выбираясь снова не берег, Кендыри растирал онемевшие ноги,
развязывал кулек с одеждой и сыромятной обувью и, кутаясь в ветхий
длиннополый халат, шел дальше, иззябший, сосредоточенный, одинокий. На этот
раз на ремне под халатом у него висел новенький парабеллум. Сотня патронов,
укутанная в грязные тряпки, лежала в заплечном мешке.
Перед закатом, на четвертый день пути, обогнув последний мыс, Кендыри
остановился: ущелье перед ним расступилось. Вправо от реки, медленно
поднимаясь, похожая на дольку гигантского яблока, простиралась сиатангская
долина: пустырь, загроможденный камнями, за ним - селение, еще выше - черная
башня крепости... Берег, что тянулся сейчас по левую руку Кендыри, вставал
прямо от воды величественной осыпью, сходящейся конусом под верхними зубцами
горного хребта.
Кендыри присел на камень и принялся разглядывать раскрывшийся перед ним
ландшафт так сосредоточенно и внимательно, словно видел его впервые в жизни.
Смотрел налево - через реку, на осыпь, примеряясь глазом к каждой
выступающей из нее скале, что-то в этой крутизне определяя. Смотрел направо,
правей пустыря, на зигзаги тропинки, ведущей к перевалу Зархок. Скользил
взглядом по зубчатой кромке обступивших селение гор. Смотрел вперед, на мыс,
замыкающий сиатангское ущелье, позади крепости...
Казалось, ему нужно было запечатлеть в памяти каждый изгиб горных
склонов, каждую бороздку, по которой можно было бы подняться из Сиатанга к
вершинам хребтов или спуститься от них к селению.
Он что-то рассчитывал, молча и неторопливо, и закрывал глаза, словно
запоминая в уме план местности.
Наконец Кендыри встал и, превозмогая усталость, двинулся дальше. Над
лавкой купца колыхался в легком ветерке красный флаг. Прежде чем подойти к
дверям, Кендыри обошел дом купца. Убедившись, что никто за ним не наблюдает,
отодвинул деревянный засов, заглянул внутрь лавки. В помещении было пусто,
на полу лежал старый, отобранный у купца ковер. Закрыл дверь, помедлил в
раздумье и направился к дому Бахтиора. Долго поднимался по тропе, огибающей
гряду скал. Миновал пролом ограды, остановился, ища взглядом людей.
Из дома вышел с большим деревянным циркулем в руках Шо-Пир, такой, как
всегда: в защитной гимнастерке, в старых, заплатанных сапогах. Он затеял
новое дело - решил выстроить рядом с домом Бахтиора большой дом для школы.
Составил план и теперь шел вымерять выбранную им для расчистки от камней
площадку.
Придав лицу безразличное выражение, Кендыри направился прямо к
удивленному его появлением Шо-Пиру.
- Здоров будь, почтенный Шо-Пир! - касаясь ладонями груди и лба, низко
поклонился Кендыри. - Давно не видел меня!
- Думал, и не увижу, - равнодушно промолвил Шо-Пир. - Один?
- Конечно, один, кого еще надо?
- Да тебя и одного достаточно... Что же не остался там?
- Разве ты, Шо-Пир, забыл тот наш разговор? Нечего делать мне там!
- Зачем же тогда уходил?
- Ай, Шо-Пир, разве бедный человек может всегда делать, что хочет? Вот
смотри!
Кендыри сунул руку под халат, вынул и потряс на ладони маленький
кожаный мешочек.
- Что это?
- Богатство мое, Шо-Пир. Трудно бедняку заработать, но вот восемь монет
за большие труды. Когда купец уходил, я хотел здесь остаться. Очень противно
было мне смотреть на купца, злой он был, слюной брызгал от злобы. Но ты
помнишь. В тот день зима началась. Уходит купец, говорит: мало осталось у
меня, пешком ухожу, прах земли этой от ног своих отряхну, но одному идти
страшно и не унести все на своих плечах. Иди со мной носильщиком, хорошо
заплачу. Знаешь, Шо-Пир, денег много еще у него оказалась, из земли выкопал,
потом уж я это узнал, за Большой Рекой, в Яхбаре. Вот, сын собаки, мерзавец!
Я все-таки не хотел идти, он говорит: десять монет дам. Неслыханные деньги
для таких бедняков, как я! Подумал я: что плохого, если бедняк заработает
десять монет? Пошел с ним. Вернуться уже нельзя было: зима. Весны ждал, вот,
тропа еще не совсем открылась - я здесь. Никуда больше не хочу отсюда...
Бороды буду брить, возьму работу, какую скажешь.
- Н-да... - протянул Шо-Пир. - Ну что ж, твое дело. Жить где намерен? В
лавке купца теперь школа у нас.
- Хорошее дело - школа! Где скажешь, Шо-Пир, там жить буду. В ослятне
рядом с лавкой нет школы
- В ослятне нет, - нахмурился Шо-Пир. - Ну что ж, живи там, если грязь
не страшна тебе.
- Выбросить можно грязь. Спасибо, Шо-Пир, какое еще жилье бедному
брадобрею нужно? За Большой Рекой еще хуже жил, здесь проживу, дом себе из
камней сложу... Может быть, побрить тебя нужно?
- Нет уж, сам...
- Твоя воля... Пойду я. Спать очень хочу, четыре дня вместо двух шел,
такая сейчас тропа...
- Очень испорчена? - заинтересовался Шо-Пир. - Ну-ка, расскажи, где и
что там обрушилось?
Кендыри подробно перечислил все повреждения на тропе и в заключение
осведомился:
- Чинить будем, Шо-Пир?
- А как же! Каждый год чиним.
- Вот хорошо это! Мало ли путников захотят пройти, голову сломать
можно... Прости, почтенный Шо-Пир, помешал я твоей работе, пойду. Спасибо,
спасибо!
И, мелко кланяясь, прижимая ладонь к груди, Кендыри долго пятился,
прежде чем повернулся к Шо-Пиру спиною. Затем неторопливой, усталой походкой
направился вниз, в селение. Наступала вечерняя темнота.
"Черт его знает, не нравится мне этот тип! - озабоченно размышлял
Шо-Пир. - Нелегкая его принесла. Была б граница закрыта, не позволил бы я
никому шляться взад и вперед. Жаль, от меня это не зависит!"
Повернулся, подумал, что продолжать в темноте работу уже не стоит, и
пошел в дом сказать Бахтиору, что в селение снова явился Кендыри.
Ночь, темная и безлунная, застала Кендыри в старой башне у Бобо-Калона.
Мигающий огонек светильника играл густыми тенями на стенах убогого жилища
ханского внука. Квадратное помещение внутри башни походило на большой и
мрачный склеп. Живя в нем, Бобо-Калон не сделал решительно ничего, чтоб
скрасить суровую неприглядность толстых и глухих каменных стен. Старинная
кладка основания башни местами расселась, щели между камнями были оплетены
паутиной... В одной из этих щелей Кендыри, разговаривая с Бобо-Калоном,
заметил м аленькую головку змеи, - ее внимательные острые глазки, не мигая,
глядели на Кендыри, и он думал, что старик, вероятно, к этой змее привык,
может быть, приручил ее, иначе она не выглядывала бы из щели так спокойно и
равнодушно.
Придя ночью к Бобо-Калону, Кендыри не спрашивал его, как провел он
минувшую зиму: весь облик исхудавшего, похожего на мумию старика говорил о
его жизни. Старик принял Кендыри внимательно, почти милостиво, - Бобо-Калон
знал о Кендыри больше, чем знали другие сиатангцы, и потому заговорил с ним,
как с равным. Прежде всего старик рассказал, что его сокола зимой разорвали
волки. Однажды утром, открыв дверь башни, Бобо-Калон увидел в снежных
сугробах четырех матерых волков, потерявших от голода всякий страх. Может
быть, они ждали утра, что напасть на него самого? Прежде чем Бобо-Калон
успел закрыть дверь, сокол вылетел и, то ли вспомнив свои старые охотничьи
повадки, то ли защищая хозяина, кинулся на волков. Вцепился когтями в
загривок самого сильного и долбил его мозжечок до тех пор, пока не был
сожран, с клювом и перьями, собратом ошалевшего волка.
Бобо-Калон рассказал об этом негромко и спокойно.
Скрестив ноги на рваной кошме, Кендыри и Бобо-Калон сидели лицом к
лицу. Светильник, поставленный на выступ стены, освещал с одной стороны их
лица, и огромные тени их фигур переламывались на неровных камнях
противоположной стены, но были почти неподвижными, потому что собеседники
только изредка чуть-чуть наклоняли головы.
Кендыри высказал все, что ему было нужно, и теперь ждал ответа, но
Бобо-Калон, повергнутый его предложением в большое раздумье, все еще говорил
о другом, и Кендыри слушал, не перебивая, почтительно, как будто в самом
деле рассуждения старика представлялись ему мудрыми и важными.
- Что думали те, - говорил Бобо-Калон, - кто, одержимый заразою
беспокойства, приходил к нам, чтобы завоевать наши земли? Они приходили и
уходили: наши горы, ветры, снега и реки, наше острое солнце были сильнее их.
Они строили крепости, брали у нас рабов, грабили наши селения, которые были
близко от их крепостей, делали нам худое. Так поступали предки Азиз-хона и
эмирская власть, а еще раньше - те, поклонившиеся огню, а до них - уйгуры. У
них было оружие - у нас его не было. Мы говорили, что мы покоряемся им. Мы
отдавали им кое-что от нашей бедности, - дьявол с ними, пусть отдавали, как
маленькое наказание за наши грехи, их тоже присылал к нам бог. Но у себя, в
своих домах, в своих ущельях, у своих рек, до которых им не добраться, мы
жили, как прежде, - разве могли они хоть что-нибудь изменить в
Установленном? Зараза их беспокойства не трогала нас! Согласен ли ты со
мною?
- Говори, Бобо-Калон, я слушаю... - глядя на головку полузакрывшей
глаза змеи, произнес Кендыри.
- Ты сам знаешь, как это было: придет к нам человек от их власти, - дай
ему десять баранов, дай несколько коров, корми его, принимай, прикладывай к
сердцу обе ладони, говори ласковые слова, улыбайся заодно с ним, проводи с
поклонами до поворота тропы. А потом плюнь на землю, вымой руки в чистой
воде, проси пира помолиться за тебя, раздели убыток на всех по закону нашему
и забудь пришельца. Целый год пройдет, пока он явится снова, ломая себе ноги
на наших тропинках.
Хорошо! Но вот пришел к нам этот Шо-Пир - и не взял себе ничего. Я
подумал: дурак, наверное, и смеялся. Но смех начал сохнуть на моих губах,
когда он остался жить здесь, и я увидел другое - очень страшное, чего и до
сих пор не хотят видеть многие. Он остался жить здесь, и ему для себя ничего
не было нужно. Но началось то, чего не было за тысячи лет. В нашу страну,
сквозь горы, сквозь воду рек, сквозь ветры и облака, стало пробираться
беспокойство. Как болезнь, он начало трогать наших людей. Я поразился, когда
увидел у нас первого человека, охваченного им, ничтожного человека и
презренного - это был Бахтиор, кто запоминал тогда его имя? Мы смеялись над
ним, когда он стал повторять глупые речи Шо-Пира. Мы думали: он накурился
опиума, проспится! Но Шо-Пир не ушел, остался жить среди нас. А Бахтиор не
проспался. С того самого дня он стал сумасшедшим...
- Вам нужно было его убить, - равнодушно произнес Кендыри.
- Мы не убили его. Я сам не хотел. Я сказал: если надо, покровитель его
покарает. Я сказал: отвернем от него свои уши. Но он все говорил, кричал,
что хочет искать счастья, повторяя слова, которым его научил Шо-Пир. А мы не
обращали на это внимания. Думали, когда-нибудь выскочит тот дэв, что
вселился в него. Сначала Бахтиор говорил, что будет искать счастья для себя.
Потом дэв в душе его вырос, он стал говорить, что надо искать счастья для
всех. Мы хотели его прогнать, но этот Шо-Пир за него заступился. Что могли
мы сделать против ружья Шо-Пира? Помнишь - при тебе уже было, - он выстрелил
над головою сеида Сафар-Али-Иззет-бека, который хотел ударить его? Где
Сафар-Али-Иззет-бек сейчас? Ушел от нас, ушел к Азиз-хону, как многие ушли
он нас во владения его. Не стало им жизни здесь. А русский остался, а
Бахтиор остался. И наши факиры стали слушаться их, - сначала молодые, совсем
глупые, прожившие меньше, чем по два круга; потом женщина эта, старая
ведьма, родившая Бахтиора; потом даже нескольких стариков коснулась эта
болезнь. И мир нашего ущелья перевернулся. И вот рушится все, каждый день
рушится Установленное, как в прошлом году рухнула моя башня. А я должен жить
и видеть это! Но все предопределено, и я принимаю такую жизнь как испытание,
посланное мне покровителем. Так есть, и я мирюсь с этим, - свет истины да
сохранится в моей душе! Ты смотришь на эту змею, вот она сейчас закрыла
глаза, я тоже закрываю мои глаза на жизнь, окружающую меня. И то, чего ты
хочешь сейчас, мне не надо. Мой свет: созерцание истины.
- А разве ты не хочешь сохранить Установленное? - вкрадчиво спросил
Кендыри. - Все истина то, что ты говорил. Но ведь рушится Установленное,
неужели твоя рука не поддержит его?
- Установленное - в душах людей. Ты говоришь мне: согласись, стань
ханом. Можно меня сделать ханом, но души людей, изменивших Установленному,
нельзя сделать верными хану.
- Души людей можно вычистить, их можно вывернуть, как овчину.
- Чем?
- Страхом, наказанием, очищением кровью...
- Моему народу крови я не хочу! - сурово произнес Бобо-Калон. - Если
должно им быть наказание, то от бога, не от моих рук.
- Твои руки станут исполнителями воли бога.
- Нет. Воля бога в том, что есть. Человек ничего не должен менять
своими руками, это было бы беспокойством, беспокойство нарушает
Установленное. Пусть все будет, как есть.
Кендыри уже чувствовал, что сломить упорство Бобо-Калона ему не
удастся, и начал терять терпение. Тень от его руки теперь плясала на стене,
и Бобо-Калон смотрел на тень, но Кендыри не замечал этого.
- Хорошо, Бобо-Калон! Твою старость я уважаю. Но если бы ты закрыл
глаза и, пока они будут закрытыми, вдруг повернулось бы все, и когда ты
откроешь их и увидишь, что Установленное вновь торжествует в твоих глазах,
разве не сказал бы ты нам: все изменилось за время моего короткого сна, души
людей очищены, - свет истины в том, что есть.
- Кто это сделает? Азиз-хон?
Пусть Азиз-хон.
- Он яхбарец. Какое ему дело до Сиатанга? Он в Сиатанге или Шо-Пир,
разве не все равно? Черная ли собака, рыжая ли собака - все равно собака.
Мой народ под чужим мечом.
- Он придет и уйдет.
- А зачем он придет? Слышал я: Властительный Повелитель не хочет войны.
Почему один Азиз-хон ее хочет, если не нужен ему Сиатанг?
- Он женщину хочет, да простит его бог.
- Из-за женщины война?
- Не война. Пример всем. Придет и возьмет эту женщину снова уйдет. Но
после него здесь советской власти не будет, как и ты, он ненавидит новое, и
он уничтожит его, потому что владения Азиз-хона рядом. Бахтиора не будет,
Шо-Пира не будет, все нарушители узнают, что такое карающая рука
Установленного. И если ты станешь ханом, власть твоя будет тверда, факиры
будут знать: Азиз-хон близко, и он твой друг и всегда может снова прийти,
чтобы тебе помочь. Сами горы наши будут хранить торжество Установленного,
как хранили его всегда, ты сам сейчас говорил мне о величии и неприступности
наших гор. Подумай, Бобо-Калон!..
Кендыри исподлобья следил за старческими, морщинистыми веками
Бобо-Калона и подумал о том, что эти веки, в сущности, так же сухи, как кожа
змеи, дремлющей в щели между камнями стены. И подумал еще: какие слова надо
было б найти, чтоб рассказать об этом там... в уютной квартире, на тихой
городской улице, где женщина, распространяющая сладковатый запах духов,
поглядывая на свои полированные узкие ногти, будет недоверчиво слушать его.
Ей понадобится много усилий, чтобы вызвать в небогатом своем воображении
невиданные и почти невероятные горы, из которых ее собеседнику помогло
выбраться живым только чудо...
Эта мимолетная мысль исчезла, потому что Бобо-Калон уже медленно
приподнял свои тяжелые веки, и надо было слушать его.
- Нет! - сказал Бобо-Калон. - Хочу только покоя. Мудрость моя не велит
мне быть ханом.
- Может быть, ты еще подумаешь, Бобо-Калон?
Бобо-Калон нахмурился:
- Я думаю один раз. И говорю один раз. Я сказал тебе.
Больше просить Бобо-Калона не было смысла. Кендыри скрыл досаду.
- Да будет так. Но глаза свои ты закроешь?
- Глаза мои старые. Не видят уже ничего.
- Твое слово, Бобо-Калон, камень. Спасибо тебе. Прошу тебя еще об
одном: молчание ты обещаешь мне?
- Молчание - язык мудрых. С кем еще разговаривал ты?
- Только с судьей Науруз-беком.
- Что сказал он?
- Сказал: согласен. Он снова будет судить людей. Слово его - тоже
камень.
- Я знаю. Скажи, Мирзо-Хур вернется сюда?
- У Мирзо-Хура не кончены здесь расчеты. Что еще надо знать тебе,
Бобо-Калон?
- Ничего больше...
Распрощавшись с Бобо-Калоном, Кендыри поднялся и, пригнувшись под
сводом низенькой двери, вышел из башни в темную, непроглядную ночь. Он был
очень недоволен беседой, старик оказался упрямей, чем можно было ожидать.
Но, еще не выйдя за стены крепости, Кендыри придумал новый способ
воздействия на старика и, усмехнувшись, сказал себе: "Осла и того можно
сделать ханом, если накрутить ему хвост!"
Через несколько дней в селение Сиатанг явился оборванный странник.
Полуголый, в рваной и грязной чалме, исхудалый и босоногий, он показался бы
всем, кто мог встретить его на тропе, одним из тех отрешенных от мира
прорицателей, которые, посвятив свою жизнь созерцанию и мысленному
сосредоточению, презирают свое тело, подвергают его жестоким испытаниям,
помогающим избавляться от земных страстей и влечений. Такие одержимые
бродяги встречались прежде на всех тропинках Высоких Гор. Жители диких
ущелий почитали их как святых и верили в их способность отделять душу от
тела, заклинать птиц и животных, превращать камни в пищу и вызывать любого
из дэвов, обитающих в тайных пределах мира, невидимого и недоступного
непосвященным. С тех тор как в Высоких Горах возникла советская власть,
такие люди появлялись в селениях все реже. Уже несколько лет подряд ни один
из них не заглядывал в Сиатанг, но и сейчас, увидев странника, никто из
ущельцев не удивился б ему, подумав, что путь этого человека далек и надо
бросить ему подаяние, ибо не сделавший этого может навлечь на себя
несчастье.
Странник, однако, предпочел никому в селении не показываться и, вступив
по тропе в долину, ждал вечера, отдыхая среди тесно сдвинутых скал.
Истощенное лицо его было коричневым, маленьким, сморщенным. Хотя иссохший
этот человек не был еще стариком, жилы на руках его и на плоских икрах
выступали, как толстые лиловатые жгуты.
Каждый вечер Кендыри раскладывал около своего жилища костер и долго
варил в маленьком, принесенном с собою чугунке сухие ягоды тута, полученные
им от ущельцев, которым он брил бороды. В приспособленной им для жилья
ослятне не было очага, поэтому, естественно, маленький, сверкающий перед
лачугой в темноте костер ни у кого не вызывал удивления. Съев свою скудную
пищу, Кендыри удалялся в ослятню и засыпал на соломе, брошенной прямо на
землю.
Дождавшись темноты, странник долго всматривался в полыхающий на краю
селения огонек и, наконец, побрел к нему стороной от тропы, по камням,
пустыря, где к этому часу не осталось ни одного из ущельцев, весь день
расчищавших свои новые, полученные в минувшем году участки.
Издали узнав в склоненном перед костром человеке Кендыри, странник
присел на камень и, вслушиваясь в далекие голоса, доносившиеся из объятого
тенью селения, ждал, пока погаснет костер. Тогда, быстро и осторожно, он
вошел в ослятню и у самой двери присел на корточки.
- Кто здесь? - резко произнес Кендыри, уже расположившийся спать.
- Я, Бхара! - сказал странник. - Покровительство, убежище и спасение!
- Так, спасение, заслуга, дыханье крестца! - спокойно ответил Кендыри.
- Питателю трав и всех растений, привет солнцу, привет луне, привет
пречистому, привет всемирному! - скороговоркой произнес странник, касаясь
большим пальцем - соответственно произносимым словам - сердца, лба, волос и,
с последним словом охватив пальцами голову, а потом скрестив руки. - Меня и
тебя! - вслух добавил он, так как Кендыри в темноте не мог видеть его
жестов.
- Говори! - сказал Кендыри, и странник, не шелохнувшись, продолжая
сидеть на корточках, заговорил звенящим, высоким, почти птичьим голосом.
- Азиз-хон ждет ответа Бобо-Калона. Все готовы. Ружья, которые ты
обещал, пришли на семи лошадях, на восьмой приехал ференги, с ним два
человека пешком. Денег не понадобилось, ференги сказал: не надо. Ференги
остался у Азиз-хона, ждет твоих слов... Азиз-хон велел передать тебе: ждать
долго нельзя, воинам истины надо платить деньги за каждый день. Азиз-хон
истратил уже все свои, взял еще у купца Мирзо-Хура, купец плачет, говорит:
разоренье, все много едят; просит Азиз-хона: скорее, скорее; ференги кричал
на него. Мирзо-Хур говорит: если воины истины простоят на месте еще
пол-луны, это ему не окупится... Ференги мне отдельно сказал, велел передать
тебе: Азиз-хон боится, что обо всем узнает Властительный Повелитель, с
русскими войны он не хочет. Азиз-хон боится его немилости. Если долго не
начнем, Властительный Повелитель нашлет на Азиз-хона своих солдат, воины
истины тоже боятся этого. Ференги велел Азиз-хону закрыть проходы в горах,
чтоб Властительный Повелитель ни о чем не знал. еще сказано, узнать у тебя,
где будут костры...
- Это все?
- Все, Поднимающий руку времени, все...
- Сколько ружей привез ференги и какие они?
- Девятнадцать "мартини", на каждом надпись "Ма-Ша-Аллах". Тридцать три
новых, - говорят, их путь лежит через три моря и океан, - не видел раньше
таких ружей - одиннадцать зарядов.
- Патроны к ним есть?
- На каждое сто. Воины истины очень довольны. Ференги учит их, как
стрелять новыми...
- Хорошо, - сухо и повелительно заговорил Кендыри. - Иди сразу. Скажи:
Бобо-Калон обещал стать ханом, благословляет Азиз-хона за помощь. Судья
Науруз-бек будет, уже составляет список грехов. Когда Азиз-хон придет, все
верные помогут ему. Азиз-хону отдельно скажи: женщина здесь, не уйдет. Самое
главное, что скажешь ты Азиз-хону: ждать надо, терпеливо ждать, ждать, пока
от меня приказания не будет. Пусть риссалядар держит воинов на короткой
узде. Шо-Пир скоро за караваном уйдет. Начнем, когда придет караван. Бахтиор
для каравана будет чинить дорогу, когда починит - можно будет ехать верхом.
Ничего сейчас пусть не делают, ни одного человека пусть не выпустят никуда
из Яхбара, сами - ждут у Большой Реки. Два костра будут в горах над устьем,
три костра - над селением здесь. Свое дело, Бхара, ты знаешь. Купцу скажи:
пусть не плачет, большой караван придет, все окупится. Ференги скажи: пусть
следят за тропой. Когда Шо-Пир мимо устья пройдет, пусть ференги сразу идет
сюда. Теперь слушай внимательно. Скажешь ференги отдельно, точно скажешь
ему: "Волк, входящий в стадо до того, как проснулись пастухи, попусту съест
овец". Повтори!
- Волк, входящий в стадо до того, как проснулись пастухи, попусту съест
овец! - звенящим голосом повторил странник.
- Он поймет. Скажешь так. Помнишь все?
- Помню все, как дважды рожденный.
- Хорошо. Иди. Тебя не видел никто?
- Никто.
- Пусть не видят.
И, пробормотав во второй раз те же слова привета, странник Бхара
выскользнул в ночь и исчез.
Кендыри вытянулся на соломе и очень скоро спокойно заснул.
Утром он встал, как всегда, долго правил свою железную бритву и,
наблюдая, как ущельцы один за другим выходят на свои участки, стал зазывать
их голосом просительным и протяжным. Но и в этот день, как всегда, мало кто
из ущельцев соглашался бриться, - ведь до Весеннего праздника бороды
вырастут снова, и тратиться на бритье никому пока не хотелось.
Поля и сады селения окончательно освободились от зимнего покрова.
Только в затененных местах, среди скал, у подножья осыпей, сохранились еще
груды зернистого, посиневшего снега. Они медленно твердели и оседали.
Некоторые из них обычно удерживались в таких щелях между скалами до середины
лета, как упрямые свидетели отлетевшей зимы.
Сверкающие белизною вершины уже избавились от туманов. Погода
установилась ясная. Воздух был необычайно чист. На деревьях уже набухали
почки. Никто в селении больше не думал о дэвах, все радовались солнечному
теплу; мир и спокойствие природы не нарушались ничем; все чаще в селении
слышались девичьи песни, вечерами здесь и там разливался тихий рокот
двуструнок и пятиструнок. Вокруг вдохновенных музыкантов собирались соседи,
и всем было весело, и все говорили о пахоте и о севе, о новых товарах, какие
к Весеннему празднику привезет караван, о прошедшей зиме, деревьях и травах,
наливающихся соками новой жизни.
С наступлением темноты вдоль оград осторожно пробирались влюбленные
юноши, и не было таких преград и запретов, какие могли бы помешать им
перемолвиться словом с молодыми затворницами, ревниво оберегаемыми
родителями. Ибо разве можно уследить за девушкой, идущей к реке с кувшином
на голове или ищущей среди скал убежавшего из загона козленка? Разве можно
не спать всю ночь, чтобы поймать свою дочь, когда бесшумно и осторожно она
выскальзывает среди ночи на плоскую крышу дома, потому что ей тесно и душно
лежать под одной овчиной с матерью на жестких каменных нарах и потому что в
прохладе ночного воздуха только ей предназначен тихий настойчивый шепот
скрытого темнотой смельчака?
Только Ниссо не выбирается по ночам из своей пристройки, и Бахтиор
напрасно блуждает по своему саду. "Выйдет или не выйдет она?" Ну, конечно,
зачем ей выходить к Бахтиору, когда никто не запрещает им все дни проводить
вместе? Все решено, никуда не уйдет от него невеста, не изменит своему
обещанию, надо только ждать, ждать, быть спокойным, верить, что каждые сутки
приближают тот заветный, нестерпимо далекий срок. Лучше даже, пожалуй, не
жить здесь пока совсем уйти куда-нибудь из селения, пробродить как можно
дольше в одиночестве, чтоб незаметней сократился этот долгий срок!
Вот почему Бахтиор с радостью согласился на предложение Шо-Пира:
собрать бригаду факиров и отправиться с ними вниз по ущельной тропе, чтобы
проверить ее всю - от селения до Большой Реки, починить карнизы, расчистить
завалы, подготовить путь для долгожданного каравана, за которым скоро
отправится в Волость Шо-Пир.
Бахтиор взялся за дело. Вместе с Шо-Пиром поговорил он с ущельцами, год
назад строившими канал. Тех из них, которые согласились идти на тропу,
Шо-Пир обещал наградить товарами. Другие за такую же награду взялись
подготовить к пахоте и вспахать участки ушедших на работу товарищей. Больших
споров на этот раз не возникло, обещаниям Шо-Пира теперь верили безусловно.
Собрав кирки, лопаты, ломы, взяв с собой на полмесяца муки и риса из
запасов, сохраненных до весны Шо-Пиром, шесть ущельцев во главе с Бахтиором
однажды утром вышли из Сиатанга.
В числе ушедших был Карашир, и Рыбья Кость долго кричала ему вслед,
чтоб он получше подвязал к своей спине джутовый мешок, - зацепится за скалу,
растеряет рис и муку. Карашир даже не обернулся. Что, в самом деле, ведь не
накурившись же опиума идет он, чтоб не разбирать пути? Пора бы отучиться
приставать к нему с глупостями!
- Грустно тебе? - спрашивает Мариам молчаливую Ниссо, когда, проводив
Бахтиора и оставшись одни, девушки взялись за приборку дома.
- Не грустно, - в задумчивости говорит Ниссо.
- А о чем ты думаешь? Ведь он скоро вернется.
- Ничего ты не понимаешь, Мариам! - Ниссо устремляется к двери.
- Подожди, Ниссо, что с тобой? - останавливает ее Мариам. - Почему
сердишься? Чего я не понимаю?
- Ничего! Совсем ничего!
Ниссо редко бывает такой: в тоне ее раздражение, досада.
- Сядь, Ниссо. Куда ты хочешь идти? Скажи мне, что у тебя на душе?
Разве я тебя не пойму?
- Сколько времени живем вместе, - с обидою отвечает Ниссо, усаживаясь
на край постели, - а вот не понимаешь! Не хочу тебе говорить!
Мариам подсаживается к ней, обнимает ее:
- По сердцу скажи!
- Я думала, жизнь моя будет счастливой, а вот... Ты говорила всегда, -
волнуется Ниссо, - свободная я... Сама я тоже думала так, с тех пор как
осталась здесь. А теперь вижу: нет для меня свободы...
- Почему же, Ниссо? Что случилось?
- Ничего не случилось! Зачем замуж я выхожу?
- А кто же тебя неволит? Разве не хочешь ты? Ведь ты его любишь?
- Кого я люблю, кого?
- Что за разговор? Бахтиора!
- Вот видишь, Мариам, я знала, не надо нам говорить. Не люблю Бахтиора
я... Хороший он, очень хороший... Вот не люблю!
- Но ведь ты же сама согласилась выйти за него замуж?
- Согласилась, правда... Он любит меня...
- Ничего не понимаю... А ты?
- Видишь, не понимаешь! - Ниссо почти со злорадством взглянула на
Мариам, но сразу потупила взгляд. - А я... Я совсем не люблю его...
- Кого же ты любишь? - Мариам сама уже была взволнована разговором.
- Никого! - освобождаясь от руки Мариам, ответила Ниссо.
Но ей все-таки необходим был совет подруги.
- А если б любила, что делать мне?
- Выходить замуж.
- А если б он ничего не говорил мне?
- Кто он?
- Никто. Так, хочу знать, как бывает, когда мужчина женщине не говорит
ничего.
- Тогда женщина сама должна сказать ему все, узнать, что он ответит...
Ниссо насупилась, встала. Мариам увидела в ее глазах гнев.
- Нет, Мариам! Никого не люблю я. Слышишь? Никого! Никого!
И Ниссо выбежала за дверь. Мариам, наконец, показалось, что все ей
стало понятным. Она поднялась, в раздумье вышла из помещения. В солнечном,
но еще не зазеленевшем саду не было никого. Шо-Пир возился на площадке,
выбранной им для нового дома школы, заготовляя дверные косяки. Гюльриз
поодаль доила корову. Ниссо не было видно нигде.
Мариам направилась было к Гюльриз, но, не дойдя, повернула обратно,
почувствовав, что ни о чем сейчас не могла бы говорить со старухой...
Через несколько дней Шо-Пир собрался уходить в Волость. Позвав к себе
Худодода, он в присутствии Мариам и Ниссо сказал ему, что до возращения
Бахтиора все обязанности председателя сельсовета Худодод должен взять на
себя. Шо-Пир дал ему самые подробные указания и добавил, что при всяких
сомнениях он должен советоваться с Мариам и что вообще ему следует
рассказывать Мариам обо всем происходящем в селении. Худодод охотно обещал
Шо-Пиру делиться всем с Мариам, к которой и сам относился с большим
уважением, и просил Шо-Пира не беспокоиться ни о чем.
В самом деле, что могло бы беспокоить Шо-Пира? Жизнь в селении
протекала тихо и мирно, погода стояла прекрасная, все ущельцы думали только
о предстоящей пахоте, до пахоты никаких ссор и споров быть не могло, а
Шо-Пиру обязательно нужно пойти в Волость: кто лучше его знал все нужды и
потребности Сиатанга, кто мог бы отобрать из зимовавших в Волости товаров
самые необходимые для селения?
- Одно дело важное есть, не знаю, как справишься с ним, Худодод, -
сказал в заключение Шо-Пир. - Зерно надо разделить между факирами, пусть
чистят и сортируют его.
Услышав разговор о зерне, Гюльриз, молча вязавшая чулок, решила
вмешаться.
- Шо-Пир, стара я, может быть, не то думаю, но я скажу, а ты решай сам.
Не надо трогать зерно, пусть лежит, как лежало, в пристройке.
- Почему Гюльриз?
- Народ наш ссориться будет, дин скажет: "Мне больше", другой скажет:
"Мне"... Без тебя, Шо-Пир и без Бахтиора большой крик будет. Сеять не скоро
начнем, вернуться успеешь, сам тогда и начнешь делить.
- Это верно, пожалуй. Ты, Гюльриз, видишь далеко. Конечно, Худодод, так
будет лучше.
- Я сам тоже так думаю! - согласился Худодод. - Время есть, успеем.
- Ну, все тогда... Завтра утром пойду.
- А мне можно с тобой пойти? - неожиданно спросила Ниссо, и смущенные
ее глаза заблестели.
- Что ты, Ниссо, зачем?
- Волость хочу посмотреть, - опустив глаза, тихо сказала Ниссо. - Какая
там жизнь...
"Милая ты моя девочка!" - чуть было не сказал Шо-Пир, спохватился,
ответил:
- Нет, Ниссо, не надо тебе идти. Бахтиор беспокоиться будет. Другой раз
как-нибудь. Все вместе пойдем... Ну, осенью, что ли... Хорошо?
Ниссо хотела ответить громко, но голос ее дрогнул:
- Хорошо... Как хочешь...
Шо-Пир собирался недолго. Он вырезал из дерева круглые пуговицы и
пришил их к вороту заплатанной гимнастерки, подбил к ветхим сапогам подметки
из сыромятины, начистил глиной красноармейскую звезду на фуражке, стараясь
не стереть остатков красной эмали, сунул в заплечный мешок несколько
лепешек... Затем позвал Мариам в свою комнату и передал ей тщательно
смазанный, хранившийся у него всю зиму наган.
- Возьми его с собой, - предложила Мариам. - Дорога большая, мало ли
что бывает?
- Дорога спокойная, знаю ее, - ответил Шо-Пир, - озорства здесь не
бывает. Для охоты вот возьму с собой ружье... А это твое. Тебе выдано. У
себя и держи. Да и лучше: вы тут, женщины, одни остаетесь... Ничего,
конечно, не может быть, а только сам знаю: с этой штукой чувствуешь себя
как-то уверенней. Не носи только зря, не к чему...
Мариам согласилась оставить наган при себе. Шо-Пир надел ватник,
вскинул ремень ружья на плечо и сошел с террасы.
- Подождал бы до завтра, Шо-Пир, - сказала Гюльриз. - Закат уже, кто на
ночь выходит?
- Пойду. К ночи я полпути до Большой Реки сделаю, заночую под камнем, а
завтра с утра наших где-нибудь встречу, посмотрю, как Бахтиор там
работает... меня провожать не ходите! - добавил он, увидев, что Ниссо и
Мариам хотят выйти с ним. - Один, один, давайте руки свои!
И, наскоро пожав всем руки, Шо-Пир быстрым шагом направился к пролому в
ограде.
- Счастливо! - крикнул он, обернувшись уже за оградой. - Дней через
двадцать ждите... Не скучай тут, Ниссо!
И оттого, что последнее слово Шо-Пира было обращено к ней, Ниссо
улыбнулась. Отойдя в сторону от всех, обойдя дом так, чтобы ее никто не
видел, она долго смотрела, как уменьшающаяся фигурка Шо-Пира медленно
пересекала развернутую чашу сиатангской долины и как, наконец, исчезла за
мысом, вдвинувшим свои скалы в пенную реку.
Ниссо, конечно, не могла знать, что Шо-Пир унес с собой такую же грусть
расставания, но не хотел ничем выдать себя.
Едва стемнело, Ниссо и Мариам легли спать. Ниссо чутко прислушивалась к
дыханию Мариам. Убедившись, что Мариам спит, Ниссо с зажатым в руке платьем
осторожно выскользнула за дверь и уже здесь, под открытым небом, оделась.
Затем, настороженная, прокралась через двор к недостроенному дому новой
школы, ввзяла с подоконника еще засветло приготовленный кулек и, как была,
пренебрегая прохладой ночи, тяжело дыша от волнующего сознания
недопустимости своего поступка, торопливо вышла из сада.
Больше всего она опасалась, что Мариам проснется или что кто-нибудь
встретится ей, пока она не минует селения. Только пройдя пустырь и
приблизившись по береговой тропе к мысу, Ниссо перестала прислушиваться и
озираться. Она и сама не знала, что она делает, устремляясь вслед за
Шо-Пиром. Она не шла, а почти бежала, ширя во мраке глаза, слышала только
биение своего сердца, почти не обращая внимания на тропу, каждую минуту
рискуя сорваться в пропасть. Только природный инстинкт, только кошачья
ловкость горянки помогали ей обходить препятствия, почти не глядя на них,
ступая босыми ногами только на те камни, которые не обрушились бы вместе с
ней вниз, и в глубине души она была признательна Бахтиору, который исправил
эту тропу так, что нигде не надо было вступать в холодную воду.
Так, не останавливаясь, не замедляя шага, до крайности напрягая свое
молодое неутомимое сердце, Ниссо спускалась все ниже по этой ущельной тропе
вдоль шумной реки Сиатанг. Только бы не пройти мимо спящего где-нибудь
здесь, уже недалеко, Шо-Пира! Ниссо не думала ни о том, что она скажет
Шо-Пиру, ни о том, что он сделает, проснувшись и увидев ее, - ни о чем не
думала Ниссо, кроме того, что вот увидит его, увидит...
Там, где ущелье чуть расширялось и вдоль берега высились когда-то
упавшие скалы, Ниссо задерживалась и, проникая во все расщелины, ощупывала
их в темноте руками. Нет, он не здесь, значит дальше. И Ниссо устремлялась
дальше.
К середине ночи Ниссо ушла уже так далеко от селения, что усомнилась:
не прошла ли она все-таки мимо Шо-Пира? Остановилась, представила себе
каждый камень пройденного пути, и решив: "Нет, этого не могло случиться", -
снова поспешила вперед.
В одном месте Ниссо обратила внимание на особенно темное пятно среди
скал, чуть повыше тропы, и сразу поняла, что это, должно быть, пещера.
"Там!" - безошибочным чутьем определила она и, цепляясь за камни, полезла
вверх. Поравнявшись с нижним краем пещеры, замерла и прислушалась. Только ее
слух мог сквозь шум реки уловить мерное дыхание в глубине большой, некогда
выдолбленной водою пещеры. "Он, - подумала Ниссо и испугалась. - А вдруг
Бахтиор? Ведь Бахтиор со своими людьми ночует тоже где-нибудь на тропе!" И
как раньше это не пришло в голову? Напрягая слух, Ниссо определила, что в
пещере спит только один человек, - значит, он!..
Подтянувшись на руках, Ниссо очутилась в пещере. Мелкие камешки под ней
зашуршали.
- Кто здесь? - разом проснувшись, крикнул Шо-Пир, и Ниссо не увидела, а
почувствовала, что в руках у него ружье.
- Шо-Пир, это я... - прошептала она. И только тут поняла все безумие
совершенного ею поступка. Метнулась было назад, чтоб уйти, чтоб как можно
скорее исчезнуть, бросить Шо-Пиру только кулек с чаем и сахаром, чтобы
Шо-Пир ее не узнал, не заметил... Но уже было поздно.
- Ниссо!.. Почему ты здесь?.. Что случилось?
Ниссо молчала, но сердце ее, казалось, готово было разорваться от
волнения и стыда.
- Что ты? Что?.. Ну, что ж ты молчишь? - Шо-Пир придвинулся к ней, шаря
рукою в темноте. Нащупав локоть Ниссо, скользнул пальцем по ее руке,
добрался до прижатых к лицу ладоней.
- Что плачешь, Ниссо? Что с тобой? Ну, говори же, что?
- Я... я не плачу, Шо-Пир... - прошептала Ниссо. - Ничего не
случилось... Не знаю я, почему... Просто так... я пришла... Сахар тебе
принесла... чай... Большая дорога...
- Ты безумная! - пробормотал Шо-Пир. - Ты... - Но упрека не получилось.
Он привлек плечи Ниссо к себе, почувствовал ее голову на своей груди, стал
гладить растрепанные мягкие волосы. - Успокойся, Ниссо! - только и нашел он,
что сказать, и волнение девушки мгновенно передалось ему. Ниссо притихла на
его груди, и он ощутил быстрое биение ее сердца. Кровь бросилась ему в
голову, все решения его, вся рассудительность готовы были полететь к черту.
"Нет, нет... - наконец удалось ему поймать спасительную мысль. - Ей только
пятнадцать лет!" - И эта мысль сразу решила все. Резким движением Шо-Пир
отстранился от Ниссо, встал, решительно подошел к выходу из пещеры, раскинув
руки, уперся ладонями в шершавые стены.
Ниссо различила его фигуру, смутно выделяющуюся на фоне противобережных
скал. Долго стоял он так, ощущая на своем разгоряченном лице слабое дыхание
прохладного ветерка. Распахнул ватник, расстегнул ворот гимнастерки. Затем
резко повернулся, сделал два шага и снова сел рядом с Ниссо, взял ее
холодную руку.
- Вот что, Ниссо... Давай поговорим по душам... Разве ты Бахтиора не
любишь?
- Очень хочу любить его, Шо-Пир... Не люблю, - тихо и печально
вымолвила Ниссо.
- Зачем же ты согласилась выйти за него замуж?
Ниссо долго молчала и ответила еще тише:
- Ты помнишь, я спросила тебя... Я спросила: ты хочешь этого?
- Глупая! Да разве могу я этого хотеть или не хотеть: только сердце
решает твое...
- Мое сердце... - прошептала Ниссо и повторила громко, с досадой: - мое
сердце... Разве ты не понимаешь?..
- А если я понимаю, то что?.. Я хочу сказать тебе, Ниссо... Сколько лет
тебе, знаешь?
- Пусть знаю. А почему мне не рано выходить замуж за Бахтиора?
- Потому... Потому... - Шо-Пир тяжело вздохнул, взволновался. - Невеста
еще не жена... Есть советский закон... - И, усмехнувшись своим словам - вот
поди объясни ей все, - сознавая всю нелепость своего положения, сам на себя
рассердился: - Ну нельзя, Ниссо, и нет разговора. А Бахтиору можешь не
считаться невестой, если не хочешь. Все равно, не скоро дождался бы он
свадьбы, может, и сам передумал бы... А то, что мне ты хочешь сказать, -
проживешь три года еще, тоже, может быть, передумаешь...
- Не передумаю я никогда!
- Подожди!.. Ты не сердись на меня... Я о счастье твоем забочусь... Ну,
и довольно спорить. Знаешь что? Скоро рассвет. Тебе поспать надо!..
- Шо-Пир! - с обидой, гордо сказала Ниссо. - Я тебя люблю!
- Ну и любишь, и ладно!.. Хочешь знать, я и сам тоже... Ну, словом,
понимаешь... Нечего больше тут говорить... - Шо-Пир чувствовал себя
смущенным; и хотя был полон нежности, принял в растерянности этот
добродушно-снисходительный тон. - Будем жить, как живем. Коли любишь,
подождешь два-три года, а обо мне не беспокойся, никуда я не денусь! Вот
тогда и поговорим... Хорошо?
- Как хочешь, Шо-Пир, - покорилась Ниссо. - А ты другую... ну, не знаю
кого... не полюбишь?
- Нет, нет, никого, успокойся, пожалуйста... И хватит об этом, давай
спать, Ниссо, возьми ватник мой, посмотри, вся дрожишь, в платье одном
прибежала!
Шо-Пир скинул с плеч ватник и, когда Ниссо свернулась калачиком на
голом камне, накрыл ее, заботливо подоткнув полу ватника ей под бок. Провел
рукой по ее волосам, неловко поцеловал в лоб и, оставив одну, отошел к
выходу из пещеры. Сел на краю, закурил трубку и так, не шевелясь, скрестив
на груди руки, просидел до рассвета, не зная, спит или не спит Ниссо.
Звезды над ущельем слабели. Небо светлело. Когда стало возможным
различать тропу, Шо-Пир обернулся к Ниссо, увидел, что она спит, с давно не
испытанной нежностью долго глядел на нее. Наконец оторвав от нее взгляд,
протянул руку за ружьем и заплечным мешком, подумал, захватил также кулек с
сахаром. Вынул из мешка две лепешки, положил их на камень; затем соскользнул
на тропу и, вскинув ремень ружья на плечо, пошел по тропе быстрым,
решительным шагом.
Ниссо, накрытая ватником Шо-Пира, продолжала спокойно спать.
Ровно через сутки после ухода Шо-Пира к Кендыри явился новый бродяга.
Шел он не по ущельной тропе, а по вершинам первого ряда встающих над
Сиатангом гор. Он долго спускался по осыпи, управляя, как кормовым веслом,
длинною палкой, которая помогала ему сохранять равновесие в стремительном
беге по щебню, плывущему вместе с ним вниз. Все жители Сиатанга видели этого
человека и, обсуждая, кто он, удивлялись, почему он избрал столь опасный и
трудный путь. Не скрываясь ни от кого, пришелец спустился на каменную
россыпь пустыря. Работавшие на новых участках ущельцы, оставив кирки, с
любопытством разглядывали его рваный и короткий, не достигавший невероятно
грязных колен, халат, его обмотанную шерстяными веревками обувь, его рыжую,
из домотканой холстины чалму. Пришелец был молод и худощав, но не был похож
на голодного человека. Загорелое и обветренное, все в пятнах грузи лицо, нос
с горбинкой, темные, но не черные брови никак не определяли его
национальности. Он прошел мимо ущельцев, бросая на них быстрые равнодушные
взгляды, сказал по-сиатангски одному из них: "Здравствуй... Где у вас живет
человек по имени Кендыри?" И когда ущелец указал ему на сложенную из
неровных камней ослятню, торопливо направился к ней.
Кендыри встретил его у порога. Подойдя вплотную к брадобрею, пришелец
всмотрелся в его холодные глаза и, чуть-чуть уголками губ улыбнувшись,
заговорил по-сиатангски:
- Нет жизни честному человеку во владениях Азиз-хона! Был у меня дом,
пшеница была, корова была, восемь овец, жена, трое детей - все отнял у меня
проклятый хан... Жену избили камнями, дети умерли один за другим... Я
сказал: месть ему, смертный враг он мне, пойду на советскую землю, вот где
жизнь таким беднякам, как я... слышал я, живет в Сиатанге бедный брадобрей
Кендыри, тоже было плохо ему, ушел, теперь там хорошо живет... Приду к нему
и скажу ему: давай вместе жить! Дорогу сюда искал, ноги мои болят, чуть не
замерз в горах. Трудно было, страшно мне было, снежных барсов боялся, дэвов
боялся. Ветер большой там, снега. Не знаю сам, как пришел. Дашь ли мне ложе
рядом с твоим?.. Вот спасибо людям этим, показали, где ты живешь!
Пришелец поклонился двум любопытствующим ущельцам, которые вслед за ним
подошли к жилью Кендыри и стояли в почтительном отдалении, прислушиваясь к
его возбужденным словам.
- Благословен покровитель! Не хотел отрывать от работы вас! Да придет к
вам урожай пшеницы!
- Та-ак... - протянул Кендыри, - в ослятне живу, не погнушайся моим
жилищем, иди ко мне, ложись, отдыхай! Потом разговаривать будем.
Сложив на груди руки, пришелец, низко нагнувшись, переступил порог.
Ущельцы вернулись к работе и стали пересказывать всем только что слышанные
слова...
- Черт бы их подрал, отстали!.. Наконец-то я могу говорить на
человеческом языке! - воскликнул пришелец, убедившись, что ущельцы ушли. -
Трудно даже вам объяснить, как эта тарабарщина осточертела мне!.. Вы сразу
меня узнали?
- плох бы я был, если б не сразу узнавал "паломников"! - усмехнулся
Кендыри. - Какого дьявола такой трудный пусть вы избрали? Садитесь на... на
землю! Как вам нравится моя квартира?
- Надеюсь, когда-нибудь в одной из столиц вы примете меня в лучшей...
не хотел идти по тропе - там эти, ваши, работают...
- Видели их?
- Видел сверху - дней на десять им еще хватит работы. Успеем?
- Думаю, как раз... Об этом поговорим позже... Расскажите, какие
новости т а м. Давно вы из города?
- После вашего отъезда недель через шесть уехал. Месяц блуждал в
восточных провинциях, пока по вашему делу не вызвали. Ничего особенного.
Угощать меня вы намерены? Есть хочу просто необычайно... Чем вы питаетесь
тут?
- Прекрасно питаюсь, - усмехнулся Кендыри. - Могу сварить вам чудесную
похлебку из гнилых бобов с примесью нескольких граммов первосортной
сиатангской муки. Хотите?
- Я это предполагал. Мне этот самый Бхара, - как вам нравится стиль его
выражений? - приблизительно описал ваше положение. Я и решил о вас
позаботиться, - не следовало, конечно, нести с собой мелочи, не принятые в
обиходе здешних ущельцев, но вы, уверен, меня не осудите!
Пришелец развязал свой холщовый мешок, извлек из него консервированный
паштет, две банки сардин, бутылку виски, коробку сигар.
- Вы действительно хороший компаньон, дорогой мой ференги! - с
удовольствием сказал Кендыри. - Кстати, как вас теперь зовут? Но давайте мы
все-таки прикроем это мешком.
- Зовут меня Шир-Маматом. "Шир" - это тигр, и вполне по-здешнему... Но
неужели у вас нет ни рюмок, ни хлеба? - прикрывая продукты мешком, покачал
головою пришелец.
- А разве бедным брадобреям позволено иметь это?
- Придется из горлышка. Вы не больны, надеюсь?
- Так же, как и вы? - Кендыри пальцем вдавил пробку в бутылку и подал
ее гостю: - Пейте!.. До сих пор вы, кажется, предпочитали коньяк?
- А теперь я изредка получаю подарки от одной очень далекой, но
дружественной нам фирмы.
- И думаете, крепче? - прищурился Кендыри.
- Виски?
- Нет, фирма!
- Вы, как всегда, догадливы! - улыбнулся ференги. - Дальновидность -
качество весьма положительное. Выпьем за это качество и за здоровье...
этой... Ниссо. Вы прекрасно сумели использовать обстановку!
- Да, эта девчонка помогла нам очень... Но об этом потом, потом... -
Кендыри вскрыл консервы ножом, с наслаждением хлебнул из бутылки глоток,
аккуратно обрезал кончик сигары, повертел ее в руках. - Неужели "гавана"?
- Первосортная, мой друг. Специально таскал с собою для таких
отверженных "маячных смотрителей", как вы... Нравится?
Кендыри, затянувшись дымом, полузакрыл глаза. Помолчал. Захватил двумя
пальцами жирную сардину, сказал:
- Курить, кажется, полагается после еды, но я слишком хочу и того и
другого!
- Чего бы сейчас вы хотели еще? - с улыбкой промолвил ференги.
- Ванну, мой друг... Эмалированную белую ванну с горячей водой и
душем... Кстати, как удалось вам превратить в такой достопочтенный вид ваши
колени? Да и весь вы, будто бегемотовой шкурой обтянуты!
- Состав очень прост: глина, немножко золы. Полезно еще - несколько
капель растопленного бараньего сала с песком. Каждый день втирание в кожу.
Только сначала нужно создать общий фон. Еще проще: не жалеть сердца и
два-три месяца загорать на хорошем солнце... А вы как устраиваетесь!
- Ну, я ведь не европеец! - усмехнулся Кендыри. - Цвет моей кожи
естественный. Но тоже кое-что применяю. И вот мечтаю о ванне, о доброй,
хорошей ванне!
- Что ж! Сделаем дело, приезжайте к нам в отпуск, я приготовлю ванну и
подарю вам халат.
- Спасибо. Если уж мне придется быть в отпуске, я надену все что
угодно, кроме халата. Довольно мне халатов и здесь... Только вы счастливей
меня, вы, конечно, скоро назад, вам и отпуск дадут, а мне... Чувствую, что
года два еще придется мне жить среди этих варваров.
- Зато и ценят вас немножко иначе!
- В конце концов, мой друг, какой толк мне от доброй оценки? До этой
зимы я совсем не скучал. Даже, знаете, казалось, что другой мир мне виделся
только во сне... Знаете, я недоволен нашей системой. С юности приучают нас к
самой цивилизованной жизни; привыкаешь, забываешь, что ты не был европейцем
когда-то. А потом опять перевоплощайся в дикаря! Душой-то ведь уже не
перевоплотишься! Вот порою и начинаешь томиться. После того как провел две
недели в нормальных условиях... эти две недели в нашем городе, - лучше бы их
вовсе не было. Только начал очухиваться - и опять... Еще острей теперь это
чувство... Вот бы нашего общего друга, который, сам никуда не выезжая,
только начальствует в городе, на мое место! Как вы думаете, что запел бы он?
- А он, между прочим, высказывал огромное желание побывать здесь. Но
ему ведь нельзя!
- Почему?
- Глаза не позволяют.
- Разве он стал плохо видеть?
- Ну, зрение-то у него по-прежнему превосходное! Но разве забыли вы?
Глаза у него не такие, как у нас с вами, - слишком светлые.
- А! Это правда... Но и туземцы здешние тоже иной раз попадаются
сероглазые... Иногда даже за русского можно принять.
- Все-таки признан неподходящим. А вам, мой друг... трудно, конечно,
советовать... Но я бы на вашем месте спортом занялся или, скажем, охотой.
- Благодарю вас! - язвительно сказал Кендыри. - Не хотите ли вот эту
железную бритву метать в диких архаров? В прошлом году у меня кремневое
ружье было, я ходил с ним, чувствовал себя куперовским охотником, а
теперь... Забрал его у меня купец, не хотелось огорчать скрягу...
- Кстати, где ваш парабеллум?
- В земле, конечно... Пейте еще!
Так, болтая, они оборванные, грязные, похожие на бродяг с аллахабадской
улицы, провели часа полтора, прежде чем приступить к делу. Кендыри начал
первый:
- Этого Шо-Пира не видели?
- Как же! Прошел он солдатским шагом... Потому я к вам сюда и явился.
- Давайте обсудим план?
- Давайте. Только, как человек новый, я хочу сначала яснее представить
себе ситуацию... Мне кажется, я не совсем понимаю смысл вашей комбинации.
Азиз-хон нагрянет сюда. А потом?
- А потом сюда нагрянут русские красноармейцы.
- А зачем предупреждать русских?
- Пожалуйста, объясню. Гарнизон в Волости - двадцать один человек. С
караваном осенью пришло еще десять. Сколько могут они выделить по тревоге?
- Человек двадцать, я думаю.
- Правильно. Я на такое количество и рассчитываю. Меньше, чем десять
человек, в Волости они не оставят. Явившись сюда, эти двадцать человек будут
легко перебиты. Русские, конечно, на этом не остановятся, пошлют за
подкреплением в гарнизоны Восточной границы, там уже два порядочных поста у
них установлены. Сниму солдат оттуда. Пока они подойдут сюда, пройдет
примерно не меньше месяца. Тогда тут загорится грог, и на этот раз перебиты
будут доблестные воины Азиз-хона, - конечно, он раньше не уйдет отсюда...
- А почему не уйдет? Кстати, чисто психологический интерес: он
действительно любит эту девчонку?
- Девчонку-то он любит... И если бы не она... словом, первый
побудительный фактор - она... Первый, но далеко не главный. Тайные
соображения у него более, я бы сказал, прозаические. Их ни он и никто другой
не высказывает. Дело в том, видите ли... С тех пор как сиатангская знать
эмигрировала в Яхбар, лишилась своих земельных и прочих доходов и обеднела,
заезжим купцам ни здесь, ни в Яхбаре нечего делать. Карман Азиз-хона
опустел, ему не с кого брать подорожный налог. В глазах своего
Властительного Повелителя почтенный правитель Яхбара потерял какой-либо вес.
Вот он и хочет вернуть всех эмигрантов сюда, надеется, что все обернется
по-старому...
- Но неужели у него хватит глупости предполагать, что большевики
допустят на своей территории, - даже на таком невзрачном ее клочке, -
устранение советской власти? И неужели не понимает, что весь вопрос только в
том, какой срок понадобится им для переброски сюда вооруженной силы?
- В широком смысле он, конечно, дурак, потому что надеется на иное...
Но тут... Во-первых, я всячески постарался укрепить в нем эту надежду...
Во-вторых, он настолько ограничен, что ему представляется, будто весь мир
кончается пределами этих гор и что сами горы помешают проникновению сюда
какой бы то ни было вооруженной силы. Он думает, что его пятьдесят три
винтовки - мощь непобедимая. Воображаю, какая рожа была у него, когда он
получил эти винтовки! Ну и, конечно, придя сюда, он не станет особенно
торопиться назад. Достаточно будет уверить его, что скоро сюда придет еще
один караван... Он поставит здесь местного хана, объявит его своим вассалом
и будет тут пировать до тех пор, пока его храбрецы не сожрут всех имеющихся
в округе баранов. Да и я постараюсь убедить его подольше растянуть приятные
празднества здесь. Ну и никто виноват не будет, когда через месяц
подкрепления русских начисто перебьют его воинство.
- Перебьют, конечно... А дальше?
- А дальше? Миссия наша будет считаться блестяще выполненной. Весь этот
месяц в дипломатических кругах России будут негодовать: басмачи, Яхбар
напал! Весь мир узнает, что на границе тут происходит драка. Понимаете сами,
вряд ли в переговоры России с Властительным Повелителем, которые должны
происходить в течение ближайшего месяца, посольствам обеих сторон удастся
внести нотки подлинной дружественности. За это время наше правительство
вполне успеет использовать обстановку и получить от Властительного
Повелителя те плоды, каких столько времени и столь безуспешно пока
добивается...
- План ваш великолепен, делает честь вашей репутации. Но представьте
себе на минуту: эти двадцать человек не выйдут сюда из Волости?
- Вам, мой друг, стыдно не знать психологию русских большевиков. Они
обладают скверной для них привычкой: стоит им услышать, что где-нибудь туго
приходится кучке самых не нужных им туземцев, как они тотчас же кидаются им
на помощь... Выйдут, конечно, сядут на лошадей в ту самую минуту, когда вы
сообщите им, что к Сиамангу приближаются басмачи, и помчатся сюда карьером.
- Хорошо. А если здесь их перебить не удастся?
- Двадцать-то человек? - презрительно усмехнулся Кендыри. - Одних
привезенных вами винтовок, как сообщил мне Бхара, больше пятидесяти.
Прибавьте сюда кремневые ружья, да помножьте все это на внезапность удара из
хорошей засады, да на рельеф гор, да на помощь наших здешних сторонников...
- А на последнее вы рассчитываете?
- Безусловно, рассчитываю. Но и прочего недостаточно разве? Да я и сам
надеюсь дать Азиз-хону кое-какие тактические советы...
- Вы правы, конечно. Согласен... Теперь хочу услышать ваши
распоряжения...
- Пожалуйста... Прежде всего несколько точных цифр. Караван выходит из
Волости вниз по Большой Реке. До слияния Сиатанга с Большой Рекой караван
пройдет восемь дней, вверх по реке Сиатанг сюда - еще два. Нам важно, чтоб
Азиз-хон захватил караван именно здесь - это в интересах купца и в интересах
наемников. А затем незамедлительно должны явиться и красноармейцы. Дабы не
допустить случайного распространения каких-либо нежелательных нам вестей,
надо, чтобы события происходили в быстрой последовательности, с минимальными
промежутками. Таким образом, допустим, караван вышел из Волости первого
числа. Сюда он придет десятого. Значит, Азиз-хон должен занять Сиатанг
накануне - девятого, а красноармейцы явятся сюда одиннадцатого, максимум
двенадцатого. Если караван пройдет сюда десять дней, то красноармейцы на
галопе и на рысях, - я рассчитал переходы - сделают этот путь в шесть.
Шо-Пир ушел в Волость. Вы, мой друг, направляетесь туда сегодня же. Вы не
объявляетесь там никому и следите за выходом каравана. Через пять дней после
его выхода вы, запыхавшись и истекая п том, являетесь к начальнику
гарнизона, говорите ему, что только что прибежали от Азиз-хона и что тот
выступает на Сиатанг с бандой. Они садятся на коней, мчатся сюда и являются
как раз тогда, когда это нам нужно. Ну, может быть, на день позже - неважно,
но не раньше, ни в коем случае не раньше.
- А как Азиз-хон узнает о дне прихода сюда каравана, чтобы явиться сюда
на день раньше?
- Это просто. Едва караван станет на последнюю перед устьем Сиатанга
ночевку, Бхара, следящий за ним с вершины, разложит наверху костер. Дозорные
Азиз-хона увидят его, и в ту же ночь Азиз-хон начнет переправу через Большую
Реку, а к следующей ночи, за день до каравана, будет здесь... Обо всем этом
я условился с Азиз-хоном сам, и Бхара уже сидит где-нибудь над тропою... Вся
эта машина работает безошибочно при одном условии: вы являетесь к начальнику
советского гарнизона ровно в час истечения пятых суток после выхода каравана
из Волости.
- А что делать мне дальше?
- Ну-ну... Должен предупредить вас... Вам, вероятно, больше ничего не
придется делать, потому что, надо думать, вас арестуют до выяснения, но ведь
вы кто? Несчастный, бежавший от Азиз-хона бедняк. Самый ваш поступок
реабилитирует вас, просидите недельки две, месяц, и вас отпустят. Конечно,
вы рискуете, но в этом случае... Даже если б вам пришлось умереть, вы умерли
бы в роли бедняка, не так ли?.. Ведь я должен остаться чист...
- В этом вы, конечно, не сомневаетесь?
- Ни секунды. Я знаю вас.
- Спасибо. Это все?
- Все. Давайте допьем виски и выкурим по сигаре... Да. А если говорить
об этой девчонке... Если б не она, мне пришлось бы искать другие
способствующие нам обстоятельства, и, может быть, всю операцию пришлось бы
проводить где-либо в другом месте. Я просто использовал выгодный случай.
- Как вы думаете, что он сделает с нею?
- Не знаю. Это неважно.
- Это, конечно, неважно... А как вы подковали купца?
- О, здесь была долгая подготовка. Я сначала организовал его разорение,
помог его изгнанию. Дальнейшее понятно: желание возместить себе все
убытки... С прочими - с эмигрантами, скажем, - дело обстояло весьма обычно и
просто. Остальное сделали деньги и обещания. Я считал, что самое главное во
всей подготовке - добиться полной изоляции владений Азиз-хона. Если б об
этом деле хоть что-нибудь узнал Властительный Повелитель, то все
предприятие, конечно, сорвалось бы из-за его нежелания осложнять свои
отношения с Россией. Возможно, он даже прислал бы своих солдат и арестовал
бы Азиз-хона, чтоб предупредить его выступление. Такая изоляция, с вашей
помощью, нам удалась. Не так ли?
- Удалась, безусловно. Властительный Повелитель пребывает в святом
неведении. Выпьем, может быть, за его здоровье, "товарищ брадобрей" Кендыри?
- Последний глоток за него, согласен, мой добрый "господин ференги"!
- Теперь мне пора идти.
- Идите, идите. От души желаю удачи... Вы хорошо сделали, что
показались тут всем. Покажитесь еще раз.
- Обязательно. Это пригодится для будущего... Да, чуть не забыл, для
будущего допроса: селение во владениях Азиз-хона, из которого я бежал,
называется Чорку, знаете его? На южной границе. Там вы стригли мне волосы, и
там я вам жаловался, и вы мне расписали вашу блаженную жизнь в Сиатанге. А
теперь я пришел к вам и сказал о подготовляющемся налете банды, и вы
направили меня в Волость, и я, не зная дороги, немного плутал, задержался в
пути... Так?
- Так... Вы вполне предусмотрительны... И мне пришло в голову... Знаете
что? Хотите взглянуть на эту покорительницу ханского сердца?
- Отчего ж... Она действительно хороша собой?
- Вот увидите... Кстати, эта встреча тоже может вам пригодиться для
дела. Пойдемте вместе.
Кендыри и его гость вышли из ослятни и направились вверх по тропинке,
мимо скалистой гряды, к дому Бахтиора. Ущельцы смотрели на оборванного,
грязного спутника Кендыри и сочувственно говорили о нем. Всем казалось
естественным, что, когда у человека там отнимают жену, и дом, и весь скот,
великое счастье выбраться на советскую сторону...
Подойдя к дому Бахтиора и увидев на террасе Мариам и Ниссо, Кендыри
принял смиренный вид и провел спутника сквозь пролом в ограде.
- Здравствуй, Ниссо! Товарищ Даулетова, здравствуй, - сказал Кендыри с
тем выражением легкой надменности, какое могло показаться естественным при
разговоре с женщинами. - Шо-Пир дома? К нему пришли мы...
- Шо-Пира нет, - ответила Ниссо. - Разве не знаешь ты?
- Что могу знать я? Целый день жду у своих дверей, не придет ли
кто-нибудь побрить бороду. Никто не приходит. Хорошо, нет у меня жены, если
б была - чем стал бы кормить?.. Шо-Пир где?
- В Волость ушел Шо-Пир, - сказала Мариам, разглядывая спутника
Кендыри.
- Бахтиора нет тоже?
- Не пришел еще, на тропе работает. Что скажешь, кто это с тобой?
- Дело есть, - досадливо цокнув языком, произнес Кендыри. - С властью
поговорить хотим... Вот из Яхбара прибежал человек, плохая жизнь там была...
Расскажи о себе, Шир-Мамат!
Шир-Мамат, низко кланяясь, причитая, со слезой в голосе, повторил
историю своих бедствий.
- Поговорить ему надо с властью, дело важное есть.
- Внизу, в селении, живет Худодод, - ответила Мариам, - он секретарь
сельсовета.
Кендыри глядел на своего спутника в тупом и долгом раздумье.
- Нет, - сказал он наконец. - Шо-Пира надо.
- А зачем надо? - спросила Мариам. - Может быть, я дам тебе совет?
- Нет, не женское дело... Ничего, Бахтиор вернется, я сам скажу... А
ты, Шир-Мамат, иди. Придешь в Волость, Шо-Пира увидишь там... Прости, Ниссо,
нарушили мы твой покой, прости, Мариам.
Пробормотав благословение пророку, оборванец ушел, оставив Кендыри на
террасе.
- Напуганный человек! - сказал Кендыри, смотря ему вслед. - Застанет ли
там Шо-Пира, как думаешь, товарищ Даулетова?
- Наверно, застанет. А о чем все-таки беспокоишься ты?
- Ни о чем, ни о чем... Если застанет Шо-Пира там, - ни о чем. Хороший
человек, очень хороший, себя не жалеет... Дай мне немножко муки, Ниссо, есть
нечего мне совсем.
Ниссо молча прошла в пристройку, вернулась с полной тюбетейкой муки.
Кендыри подставил ей полу своего халата, сказав: "Благословенна будет твоя
доброта!", и ушел, бережно зажимая рукой приношение.
- Странный человек этот Кендыри! - задумчиво произнесла Мариам.
- По-моему хороший, - ответила Ниссо. - А Шо-Пир не любит его... Живет
тихо, ничего плохого не делает, очень бедный... Не знаю, почему не любит его
Шо-Пир!..
- Да, да, да... Сто раз - да.
И тысячу раз!
Свободны и будем свободны!
А если сегодня пришла к нам беда,
То - ярче огонь неопущенных глаз,
Свободы огонь благородный!
Непокоримые
Весенний праздник приближался. Уже несколько дней подряд приходила
Ниссо на пустырь помогать Худододу, который в отсутствие Бахтиора взялся
подготовить к пахоте его участок. Мариам, оставаясь дома, перевешивала
посевное зерно и по списку рассчитывала, сколько надо дать каждому, чтобы не
было обид. Кроме того, в заботе о приеме гостей, ожидаемых сюда с караваном
Шо-Пира, Мариам приспосабливала для них пристройку. За лето будет построена
новая школа, в ней следует выделить комнату для амбулатории. Пока же
толстяку фельдшеру придется принимать больных у себя... Лавка купца вполне
годится для кооператива. Гюльриз с утра до вечера толкла в деревянной ступе
ядрышки абрикосовых косточек, сбивала масло, варила из тутовых ягод халву,
готовя к празднику обильные угощения.
О своем ночном свидании с Шо-Пиром Ниссо умолчала, и Гюльриз
по-прежнему была уверена, что в день праздника состоится торжественное
обручение. Мариам кое о чем догадывалась, но не спрашивала Ниссо. А Ниссо,
мучаясь сомнениями, с нетерпением ожидала возвращения Шо-Пира, который
должен все решить мудро и правильно.
Участок Бахтиора был самым дальним и примыкал к подножью осыпи. Поэтому
камней на нем было больше, чем на всех остальных.
Худодод и Ниссо неустанно таскали на себе камни, складывая их по краям
участка в высокие башенки. Маленькое поле Бахтиора с каждым днем становилось
ровнее.
Зная, что после прихода каравана у Бахтиора будет мало времени для
работы на участке, Худодод и Ниссо решили заранее сплести большую
корзину-волокушу. Такими волокушами ущельцы заравнивали пахоту после
распашки плугом и посева. Однажды утром, нарезав в крепости кустарник, Ниссо
возвращалась, сгибаясь под тяжестью огромной вязки. Навстречу ей по тропе
поднимался Науруз-бек. Ниссо не могла посторониться, а он не пожелал
уступить ей дорогу. Нахмуренный, мрачный, злобно смотря на девушку, он
толкнул ее локтем так резко, что Ниссо, потеряв равновесие, упала.
- Ты сумасшедший! - гневно крикнула Ниссо, вставая. - Зачем ты меня
толкнул?
Науруз-бек в бешенстве поднял кулак:
- Молчи, пока цела, нечисть! Мозоли на глазах у тех, кто глядит на
тебя! Думаешь. Всегда будешь воровать ханский кустарник? Погоди, скоро
прогуляются эти прутья по твоей спине!
- Опиума накурился ты, что ли! - дерзко ответила Ниссо. - Что ты
пристал ко мне?
- Уйди прочь, змея! - закричал Науруз-бек. - Не хочу плевать в глаза
один, скоро все плевать в глаза тебе будут! Слышишь? Уйди с дороги!
Науруз-бек нагнулся, поднял камень. Испуганная Ниссо отскочила, не
понимая, что происходит со стариком, - до сих пор он всегда проходил мимо
нее молча. Науруз-бек пошел вверх к крепости, а Ниссо с ненавистью глядела
ему вслед, пока он не вошел в башню Бобо-Калона. Затем медленно, все еще
думая о нанесенном ей оскорблении, собрала рассыпанные прутья.
- Не знаю, что с ним такое! - задумчиво сказал Худодод, когда уже
внизу, на участке, Ниссо рассказала ему о Науруз-беке. - Вчера Исоф тоже
вдруг без причины стал кричать на меня - тихим был до сих пор, тут так
кричал и ругался, что я ушел от него, как от одержимого. А другие сказали
мне, что перед тем он долго бил Саух-Богор, лежит она дома. Давно уже этого
не было... Еще один старик вчера в Зуайду швырнул камнем, чуть не разбил ей
голову. Не понимаю, что с ними? Свирепыми стали, как в старое время...
Наверное, потому, что нет Шо-Пира, не боятся меня. Вот придет Шо-Пир,
поговорит с ними иначе!
В эту ночь жители Сиатанга, - многие из них с пали уже на крышах, -
увидели высоко на горе, примерно там, где в прошлом году была посеяна богара
Бахтиора, - загадочный, долго пылавший костер. "Кто бы это мог быть? -
рассуждали между собою ущельцы. - Кажется, никто из селения на охоту не
уходил, да и где взял бы охотник столько ветвей для костра?" Никакой тропы в
этом месте нет, случайный путник, даже заблудившись, вряд ли мог забрести
туда... Кое-кто из ущельцев, всматриваясь в таинственный, мерцавший в высоте
огонь, даже подумал о дэвах...
Ниссо, Мариам и Гюльриз спали в доме и ничего о костре не знали. Но в
середине ночи они проснулись от далекого грохота барабанов.
- Что такое? - первая вскочила с постели Ниссо. - Мариам, проснись,
слышишь?
Мариам вскочила, прислушалась.
- Может быть, караван идет? - сказала Ниссо.
- Нет, какой караван! У каравана - колокольчики, а это барабаны.
- В разных местах они, это наверху где-то! - с недоумением проговорила
Ниссо. - Выйдем, посмотрим!
Обе девушки выбежали за дверь. Грохот барабанов в ночной тишине
раздавался все громче - монотонный, угрожающий. Ниссо и Мариам сразу увидели
мелькающие высоко в горах огоньки, - уже три костра поблескивали в разных
местах недоступных склонов.
- Мне страшно! - прошептала Ниссо. - Что это, Мариам?
- Сама не знаю, Ниссо, - таким же шепотом ответила Мариам, обняв за
плечи подругу. - Смотри, просыпаются люди!
Внизу, в селении, здесь и там замелькали огоньки. Тревога охватывала
Сиатанг, а барабаны продолжали рокотать, мерно и глухо дробя тишину звездной
ночи. Эхо этого рокота уже перекатывалось по склонам.
- И-и-и! - прорезал ночь далекий пронзительный крик.
- Ниссо, Мариам, где вы? - выбежав на террасу, тревожно прокричала
Гюльриз. - Идите сюда, что-то плохое будет!
- Мы здесь! Сейчас, - ответила Мариам.
Ничего еще не понимая, с занывшим от тревоги и страха сердцем, Мариам
забежала в пристройку, крикнула:
- Одевайся, Ниссо!
Быстро одевшись, сама извлекла из-под подушки наган, дрожащими пальцами
стала вставлять патроны... Выбежав из пристройки, девушки присоединились к
Гюльриз. Внизу, в селении, заполыхал большой костер, и отсюда видно было,
как мимо него пробегали маленькие черные фигурки людей.
В темноте под террасой послышался треск камней. Девушки шарахнулись от
человека, взбежавшего на террасу.
- Это я, Кендыри, не бойтесь меня!
- Стой, Кендыри! - крикнула Мариам. - Что происходит?
- Басмачи пришли! - сказал возбужденно Кендыри. - Басмачи... Азиз-хон
пришел, я прибежал сказать вам... Бежать тебе надо, Ниссо!
- Куда бежать? Что ты говоришь? Откуда знаешь? - испуганно проговорила
Гюльриз.
- Спокойными будьте! - произнес Кендыри. - Они еще далеко, время есть.
Там они, где их барабаны. Сверху идут. Я Худододу сказал, он собирает людей.
Теперь вам говорю. Шо-Пир скоро придет сюда. Они убьют его; и тебя, Ниссо,
убьют, если ты останешься здесь. Я бежать не могу, ногу ушиб. Надо навстречу
Шо-Пиру пойти. Бахтиор тоже где-нибудь там. Ниссо, а тебе надо спрятаться!
Все сказал! Вниз теперь пойду!
Одним духом высказав все это, Кендыри, хромая, сбежал с террасы.
- Постой, Кендыри, постой! - крикнула Мариам, но он уже исчез в
темноте.
Ошеломляющее известие так взволновало Ниссо, что в первую минуту она не
могла говорить.
- Что будем делать, Мариам? Что нам делать? - воскликнула Гюльриз. -
Бежать надо в горы, прятаться!
- Нет! - крикнула Ниссо. - Вы оставайтесь здесь, вам ничего не будет. Я
побегу, я одна побегу туда, Шо-Пиру надо сказать, убьют Шо-Пира!
- О, мой сын, мой сын! - заломила руки Гюльриз. - Что с ним будет!
- Не кричи, нана, - с неожиданным спокойствием произнесла Ниссо.
- Я тоже с тобой, - сказал Мариам.
- Нет, ты оставайся. По тропе нельзя бежать, схватить могут, надо по
скалам. Ты не можешь по скалам. И ты не можешь, Гюльриз. Оставайтесь здесь!
И, вырвавшись из рук Мариам, Ниссо спрыгнула с террасы и помчалась
бегом к гряде скал. Где-то в вышине раздался отрывистый резкий звук
ружейного выстрела. Громкое эхо перекатилось по склонам.
Едва Ниссо достигла гряды, из-за темной скалы на нее набросились три
человека. Прежде чем она успела крикнуть, один из них накинул ей на голову
мешок. Ниссо забилась, но ее повалили на камни. Еще два человека подбежали
сзади. Мгновенно скрученная веревками, Ниссо осталась лежать, как куль.
- Тихо! - прошептал на ухо одному из бандитов Кендыри. - Спрячьте ее, а
потом принесете в башню. Я пойду вниз.
Барабаны, неслыханные в Сиатанге со времен ханских войн, гремели с
назойливой, удручающей монотонностью, не приближаясь и не удаляясь. Над
долиной медленно всходила луна, освещая мечущихся по селению ущельцев.
Десятка три факиров с женами и детьми собрались во двор Худодода. Волнуясь,
крича, размахивая руками, они обсуждали, что делать. Их жены суетились,
успокаивая плачущих детей. Худодод бегал по домам, собирал оружие, но, кроме
четырех старинных фитильных ружей да десятка дедовских боевых луков, у
факиров не нашлось ничего. Они тащили во двор Худодода кирки, ломы и просто
палки. Все знали, что у стариков, приверженных к Установленному, можно было
бы собрать еще с полдюжины ружей, у Науруз-бека было даже ружье,
заряжающееся с казенной части, но когда Худодод с несколькими ущельцами
сунулся к старикам, - дома их оказались запертыми изнутри.
Худодод, полный отчаяния, прибежал к своему дому, но не нашел и
половины людей, только что наполнявших его двор.
Факиры, гонимые страхом, давя и обгоняя друг друга, уже бежали по
тропе, ведущей мимо крепости к Верхнему Пастбищу. Матери с детьми на руках
задыхались от бега.
Едва они миновали крепость, откуда-то сверху раздались частые выстрелы
из скорострельных винтовок. Пули защелкали по тропе. Факиры в смятении
ринулись обратно к селению. Только три молодых ущельца, вооруженных
фитильными ружьями, залегли на краю тропы. Они заметили в лунной мгле, на
скалах, мелькающие белые пятна и, раздвинув подпорки своих первобытных
ружей, послали вверх несколько пуль. Худодод присоединился к ним, но чуть не
был раздавлен трескучим каскадом посыпавшихся сверху камней. Обвал перекрыл
тропу, отрезал отступление. Поняв, что ничего уже предотвратить нельзя,
Худодод решил пробраться к Верхнему Пастбищу.
И пока факиры, схватив на руки детей, крича на своих голосящих в ужасе
женщин, бежали в селение, четверка отъединенных от них молодых ущельцев
ползла между скалами, пробираясь от тени к тени, стараясь укрыться от
цокающих по камням пуль. Когда, наконец, все четверо добрались до головы
канала, яростная стрельба прекратилась. Прижимаясь к отвесным скалам,
избегая освещенных луною мест, они прокрались до следующего мыса, за
которым, сжатая тесниной, река неслась навстречу, гремя сталкивающимися на
дне валунами. Лунный свет сюда не проникал. Тропа лезла вверх по отвесному
склону. Здесь не было никого.
И, поднимаясь по этой тропе, Худодод трезво обдумал план действий:
дождаться на Верхнем Пастбище наступления дня, затем подняться на
водораздельный хребет; найти среди льдов и снега спуск в соседнее,
параллельное сиатангскому ущелье Зархок; выйти этим ущельем к Большой Реке
и, встретив там идущий из Волости караван, предупредить об опасности.
Опрокинутые ружейным огнем и кинувшиеся назад факиры, вбежав в селение,
рассыпались по садам, прыгая через ограды, чтобы как можно скорее достичь
пустыря, пересечь его и устремиться вниз по ущельной тропе. Всем казалось
теперь, что басмачи явились не снизу, а от Верхнего Пастбища и с боковых гор
и что путь к Большой Реке чист.
В самом селении раздавались выстрелы. Одна из женщин упала, пробитая
пулей. Ее предсмертные крики неслись над долиной. Толпа уже разбегалась по
каменной россыпи пустыря, по залитым лунным светом новым участкам. Кто-то,
добежавший до первого мыса, перекрывая вопли отчаяния, детский плач и
проклятия, кричал: "Сюда, сюда, сюда, сюда!" И все кинулись на этот призыв.
Но едва рассеянная по пустырю толпа сомкнулась у мыса и узкой струйкой
потекла по ущельной тропе, как впереди послышались угрожающий свист и топот
несущихся навстречу коней.
Новый вопль отчаяния, умножаемый отзвуком скал, прозвучал над толпой,
повернувшей вспять. Давя друг друга, стремясь вырваться из проклятой
западни, люди уже ничего не соображали. Какой-то маленький мальчик сорвался
с тропы и с визгом полетел прямо в бурлящую реку. Вода сразу накрыла его.
Обезумевшая мать кричала: "Марод! О, Марод! Мой Марод!", - но толпа влекла
ее за собой, и ее вопли терялись в общей разноголосице.
Топот коней и угрожающий рев басмачей приближались. Едва факиры
выбрались с тропы на пустырь, мимо них, сверкая в лунном свете клинками
сабель, стреляя во все стороны на полном скаку, промчалась цепочка передовых
всадников. Полы их халатов развевались над крупами храпящих, взмыленных
лошадей. Устрашающий крик: "Уррур, уррур!" - и пронзительный свист сменили
вопль припавших за камни факиров, а в глубине ущелья, за мысом, раздались
медные переливы трубы.
Через несколько минут десятки рассвирепевших всадников носились по всем
переулкам селения, ударами плетей загоняя в дома всех, кто попадался на
дороге. Другие всадники выгоняли из-за камней замеченных ими факиров. Дети,
мужчины и женщины, подхлестываемые плетьми, закрывая руками головы, падали,
поднимались, бежали и снова падали, уже не крича, не прося пощады, а только
стремясь как можно скорее добраться до ближайшего дома... Несколько человек,
обессилев, остались лежать на камнях - избитые, окровавленные, раздавленные
копытами.
Немногим ущельцам все же удалось ускользнуть от басмачей незамеченными.
Они теперь ползли вверх, по осыпи, стараясь не выдать себя ни стуком камней,
ни словом, ни шорохом. Осыпь над ними вздымалась все круче, но они вразброд,
в одиночку, ползли все выше, сами не зная куда.
Вскоре грохот барабанов затих. Костры на вершинах погасли. Сиатанг был
всецело в руках басмачей. Оставив в селении только десятка полтора
всадников, которые теперь разъезжали по переулочкам спокойным и неторопливым
шагом, банда заняла крепость и расположилась в ней. Во дворе крепости
запылал огромный костер. Несколько басмачей суетились здесь, свежуя и
потроша приведенных из ближайших домов баранов, - уверенные в своей
безопасности, басмачи собрались перед ночлегом заняться едой.
Первым из жителей селения в крепость вошел Науруз-бек. Приветствуя
басмачей поднятыми руками и почтительно кланяясь, рыская глазами по
сумрачным лицам сидящих вокруг костра, он искал среди них Азиз-хона. Ни
самого Азиз-хона, ни его приближенных среди ворвавшихся в селение басмачей
пока еще не было, и на Науруз-бека никто не обращал внимания. Перестав
кланяться, беспокойно поглядывая по сторонам, Науруз-бек прошел к башне
Бобо-Калона, но, увидев перед дверью в башню двух стариков, положивших
винтовки поперек колен, не решился подойти к ним. Он отошел в сторону,
скрестив на животе руки, уселся на камень и, чувствуя на себе
подозрительные, недоброжелательные взгляды, замер, полузакрыв глаза и
стараясь всем своим видом показать, что он готов терпеливо и сколько угодно
ждать, пока кто-нибудь из басмачей сам заговорит с ним...
Утром, едва взошло солнце, крепость преобразилась. Басмачи готовились к
торжественному въезду в Сиатанг Азиз-хона и его приближенных. Двор крепости
был застлан коврами, кошмами и паласами, собранными со всего селения. Между
мельницей и новым каналом выросла большая, европейского типа палатка -
подарок ференги Азиз-хону, привезенный в Яхбар вместе с оружием. Над
палаткой развевалось зеленое знамя ислама, а скаты ее были завешаны узкими
персидскими ковриками. По углам высились четыре шеста, украшенные
метелочками из ячьих хвостов и шелковыми разноцветными тряпками. От палатки
до пролома в крепостной стене, где прежде были ворота, басмачи, расчистив
камни, выложили коврами дорожку.
Всем распоряжался тучный бородач в полосатом сине-красном халате,
затянутом широким поясом с серебряными украшениями. Шерстяную его шапочку,
подобную чулку с туго завернутыми краями, окручивала пышная черная чалма.
Это был риссалядар - начальник конного воинства. Широко расставив колени, он
сидел у входа в палатку и, гнусавя, отдавал короткие приказания.
Внутри палатки полулежал на подушках молчаливый и сосредоточенный
Бобо-Калон. Погруженный в раздумье, он, казалось, не интересовался ничем.
Еще ночью Кендыри очень спокойно предложил ему признать себя ханом и
встретить правителя Яхбара подобающим образом, ибо отказ нанесет гостю
тяжелое оскорбление. Оно вынудило бы Азиз-хона изгнать из селения всех
сиатангцев, увезти за Большую Реку и там раздать басмачам их дочерей и жен.
Бобо-Калон до рассвета раздумывал, а при первых лучах солнца сказал Кендыри:
"Да будет так: я хан!" Кендыри, ответив, что всегда верил в высокую мудрость
Бобо-Калона, перестал обращать на него внимание. Теперь, до приезда
Азиз-хона, старик мог думать, о чем ему было угодно.
Сам Кендыри, соорудив справа от палатки небольшой навес и наскоро
оборудовав свою незатейливую цирюльню, оборванный и, как всегда, грязный,
сидел теперь под навесом на камне и неторопливо подбривал бороды подходивших
по очереди басмачей. Казалось, ничто в мире, кроме работы по своей
специальности, его не интересовало; да и сами басмачи не догадывались,
почему риссалядар разрешил презренному сиатангскому брадобрею поставить
цирюльню вплотную к роскошной ханской палатке.
Десятка два басмачей с самого рассвета занялись подготовкой населения к
торжественной встрече. Во главе с Науруз-беком, которому был дан высокий
вороной конь, басмачи разъезжали по домам приверженцев Установленного и,
встречаемые низкими поклонами и благословениями, объясняли церемониал
встречи. Затем всадники устремились к домам факиров, угрозами и плетьми
выгоняли их из домов и сгоняли к бывшей лавке купца, - женщины должны были
взять с собой бубны, мужчины - двуструнки и деревянные дудочки... Толпа
факиров, окруженных всадниками, расположилась возле лавки в ожидании
дальнейших приказаний. На лицах некоторых факиров темнели багровые полосы.
Дети жались к ногам матерей, толпа молчала, и только изредка пробегал тихий
шепот, тотчас же привлекавший внимание настороженных всадников.
Снова появившись перед толпой, Науруз-бек велел всем при появлении хана
петь "радостными, тихими голосами", бить в бубны, играть на двуструнках,
свистеть в деревянные дудочки и возглашать хвалы благодетелю, явившемуся
спасти жителей Сиатанга от неверия и попрания Установленного. Все знали, что
после торжеств и отдыха Азиз-хона будет происходить суд над теми, кто "вел
народ по тропе разрушения Установленного", а потому никто не решился хоть
словом возразить Науруз-беку.
Когда с ущельной тропы вылетели карьером несколько новых всадников и,
промчавшись мимо толпы, устремились к крепости, там сразу же вновь забили
барабаны. Приверженцы Установленного вышли к пустырю и расположились рядами
вдоль тропы. Их жены и матери появились на крышах домов в чистых одеждах.
Басмачи, горяча коней, растянулись цепочкой от крепости до пустыря.
За мысом послышался протяжный и резкий звук медной трубы - Азиз-хон
приближался.
Едва группа торжествующих всадников гуськом выехала из-за мыса, над
крепостью раздались частые залпы ружейных выстрелов, барабанный бой
участился, над долиной поплыл густой, дробный, неумолкающий рокот бубнов, -
женщины на крышах поднимали их над головами. Науруз-бек и его сподручные
врезались на конях в толпу факиров, крича: "На колени, презренные! Пойте и
радуйтесь!" Толпа, подстегиваемая плетьми, повалилась на камни, нестройно и
тихо запела. Приверженцы Установленного, не глядя на толпу, прошли мимо нее
и, встав по обочинам тропы, пересекающей пустырь, воздели руки в молчаливом
приветствии.
Азиз-хон, окруженный своими людьми, медленно приближался. Он сидел на
белом тонконогом и легком коне, покрытом блестящим чепраком с серебряной
вышивкой. Хан был одет в зеленый просторный халат, расшитый золотыми
узорами. Под парадным халатом виднелся второй, исподний халат бухарского
шелка. Широкие бархатные шаровары были заправлены в мягкие красные сапоги с
необыкновенно высокими каблуками и угловатой подошвой. Голова Азиз-хона была
обмотана маленькой расшитой золотом зеленой чалмой. Весь этот пышный наряд,
надеваемый только в исключительных случаях, годами хранился в сундуке, но
кто посмел бы напомнить сейчас об этих годах неблагополучия хана? Он был так
же великолепен сейчас, как в былые времена своего могущества.
Одно только странное обстоятельство мешало сейчас торжественному
великолепию Азиз-хона: белая, запятнанная кровью повязка, проходя наискось
от левого уха, пересекала его лицо, закрывала щеку, половину припухшего рта
и весь подбородок. Правый, болезненно прищуренный глаз непрестанно
подергивался. Сохраняя надменный вид, Азиз-хон, наверно, терпел сильную
боль.
Смотря на него, сиатангцы стремились угадать, что именно могло так
повредить лицо хана? Проступающие сквозь повязку пятна крови были свежи,
значит, это случилось с ним недавно, пожалуй, уже после ночи...
Азиз-хон ехал спокойно, не глядя по сторонам, упиваясь собственным
величием и уготованной ему торжественной встречей. По левую руку своего
господина на большом сером коне восседал Зогар. Порочное и бледное лицо его
было полно высокомерия и жестокости. Зогар был в голубой безрукавке, надетой
поверх белой муслиновой рубашки, в красных штанах и в рыжих сапогах такого
же покроя, как у самого хана.
Следом ехали в белых сиатангских халатах два старика. Один из них,
красивый, дородный, поглядывал по сторонам маленькими хитрыми глазками, -
это был халифа, доверенное лицо бежавшего из Сиатанга пира. Другой, дико
осматривавшийся, худой и прямой как жердь, с важностью нес свою крашеную
бороду, седые волосы которой на вершок от корня были рыже-красного цвета.
Сиатангцы сразу узнали сеида Сафара-Али-Иззет-бека, двоюродного брата
Бобо-Калона, покинувшего Сиатанг два года назад.
За этими двумя стариками, охраняемые чернобородыми воинами, следовали
прочие дряхлые представители прежней сиатангской знати. В шепоте лежавших
вдоль тропы факиров слышались имена: сеид Мурсаль-и-Хосроу, мир
Масан-Шахзаде, мир Хаким-Шукрулло-Назар, сеид Фахр-Али...
Вереница всадников замыкалась караваном тяжело навьюченных ослов,
сопровождаемых десятком молодых, бедно одетых, вооруженных кремневыми
ружьями басмачей.
Толпа коленопреклоненных факиров выражала свою радость, видимо, слишком
сдержанно и нестройно, потому что вскоре послышались свист плетей и удары
палок. Женщины сильнее ударили в бубны, двуструнки запели громче, перекрывая
чьи-то сдерживаемые всхлипывания и плач. Никто из знати не глядел на
факиров.
Едва Азиз-хон проехал мимо лавки купца, самые старые приверженцы
Установленного низко склонились перед ним. Несколько стариков выступили
вперед, подбежали к коню Азиз-хона, один за другим, пригибаясь к стремени,
целовали его. Азиз-хон милостиво опустил правую руку, и старики,
приноравливая свой шаг к ходу коня, лобызали эту протянутую им руку.
Пропустив всю процессию, приверженцы Установленного двинулись за ней к
крепости. Барабаны и бубны неистовствовали. Воины, появившись на кромке
стены, приветствовали едущих поклонами и нечленораздельными возгласами.
В полуразрушенных воротах, там, где начиналась устланная коврами
дорожка, Азиз-хон задержал своего коня и внушительно поглядел на палатку.
Риссалядар, обеспокоенный повязкой, пересекавшей лицо Азиз-хона, поднял
полог палатки, и из нее вышел Бобо-Калон. Вышел, остановился, выпрямился,
глядя на пожаловавшего к нему высокого гостя. Строгий и молчаливый, в
сравнении с Азиз-хоном слишком бедно и просто одетый, Бобо-Калон не сделал
ни шага вперед. Всем на миг показалось: дружеская встреча не состоится. Но
Азиз-хон медленно спешился, отбросил повод и, стараясь изобразить
приветливую улыбку углом припухших губ, пошел по ковровой дорожке,
молитвенно сложив на груди руки. Бобо-Калон сложил руки так же и, опустив
глаза, пошел навстречу ему. Сойдясь на полпути, оба остановились. Азиз-хон,
преодолевая боль, пробормотал:
- Благословение верному! Счастливы глаза мои, видящие тебя, друг мой
Бобо!
- Милостив покровитель к нам, добрый Азиз!..
Протянув правые руки, они, по старинному обычаю, поцеловали один
другому пальцы. Затем оба откинулись и как бы залюбовались друг другом.
Повязка Азиз-хона мешала ему поцеловаться, но они все-таки обнялись и
прикоснулись щекой к щеке.
Сердечность их встречи была отмечена всеми. Сопровождавшие Азиз-хона,
спешившись и бросив поводья прислужникам, один за другим подходили к
Бобо-Калону, почтительно здоровались с ним.
Увидев Кендыри, скромно стоявшего под навесом цирюльни, Азиз-хон указал
пальцем на бритву и коротким жестом приказал Кендыри последовать за ним в
палатку.
- Что с тобой, мой дорогой хан? - тихо спросил Кендыри, когда полог
палатки опустился за ним. - Ты упал с коня?
- Нет... Так, маленькое дело одно! - опускаясь на подушку и избегая
объяснения, поморщился Азиз-хон. - Надо сбрить волосы, кровь у меня...
Кендыри быстро размотал окровавленную повязку, внимательно осмотрел
рваную рану и синюю опухоль, обезобразившие лицо хана.
- Зубы повреждены?
- Да. Три зуба выбиты.
- Нехорошо это! - Кендыри выглянул за полог палатки, негромко сказал: -
Чистой воды светлому хану и шелковую чалму!
Зогар внес воду, снял со своей головы чалму и удалился.
Кендыри промыл рану, сбрил волосы вокруг нее и, разорвав по длине
чалму, стал перевязывать лицо хана.
- Она здесь? - тихо спросил Азиз-хон.
- Здесь, в башне. Здорова, - коротко ответил Кендыри.
- Спасибо. Другое все хорошо?
- Все прекрасно. Можешь, мой дорогой хан, отдыхать. Тебе дня три не
следует разговаривать и воздержись от жесткой еды.
Азиз-хон встал, вышел из палатки. Кендыри, почтительно согнувшись,
юркнул в свою цирюльню. - Угощения сюда! - повелительно сказал риссалядар, и
под звон и уханье дикой музыки повара внесли в круг расположившихся на ковре
гостей огромное, в полтора метра длиной, деревянное блюдо с дымящимся
пловом. Другие принесли на плечах большие бурдюки с прохладительным питьем
из кислого молока, смешанного с водой и сбитого в бурдюке вместе с маслом.
Зогар вернулся с перекинутым через руку белым, расшитым золотыми
цветами халатом и молча передал его Азиз-хону. Коснувшись плеча Бобо-Калона,
Азиз-хон встал и, морщась от боли, обратился к нему:
- Другу моему, брату моему по истинной вере, сиатангскому хану
Бобо-Измаил-Каландар-Калону да не покажется слишком бедным мой скромный
подарок! Почет от всех нас тебе, мудрый и достойный Бобо-Калон!
Бобо-Калон встал и еще раз обнял Азиз-хона, накинувшего на его плечи
халат. Затем глубоким поклоном ответил на поклоны всех вставших при этой
церемонии гостей. Он не произнес в ответ ни одного слова, только приложил ко
рту сдвинутые лодочкою ладони, будто шепча в них что-то, предназначенное
одному Азиз-хону.
Все снова расселись на ковре. Пиршество началось.
После того как Ниссо выбежала из дому и была схвачена басмачами,
Мариам, ничего не знавшая об ее судьбе, бросилась в комнату Шо-Пира, вынула
из его стола немногочисленные бумаги сельсовета, побежала с ними в сад,
торопливо спрятала их под камнями и вернулась к Гюльриз. Обе они сначала
хотели бежать в селение, чтоб присоединиться к Худододу и быть со всеми, но,
услышав где-то около крепости частую стрельбу и крики бегущих факиров,
Мариам поняла, что факиры уже покинули селение и, вероятно, пробились на
тропу, ведущую к Верхнему Пастбищу. Гюльриз советовала Мариам бежать.
- Я старая, кто меня тронет? Если придут сюда, Ниссо здесь нет и никого
нет. Они придут и уйдут. Что им здесь делать? А ты беги, спрячься среди
камней - от камня к камню, тихонько, иди отсюда подальше...
Будь Мариам опытней, она, конечно, приняла бы этот разумный совет. Но
она заявила, что в доме - зерно, она будет его охранять и что нельзя
оставить Гюльриз одну. И сурово сказала еще, что будет стрелять, если
басмачи придут сюда. Ведь они не знают, кто здесь стреляет: женщина, или
мужчина, или, может быть, несколько человек, - вот, у нее больше сотни
патронов: всходит луна, скоро можно будет увидеть каждого, кто попытается
приблизиться к дому. До утра продержится, а утром басмачи уйдут...
Мариам помнила дерзкие и всегда короткие ночные налеты басмачей в тех
краях, откуда приехала сюда, - налеты, происходившие несколько лет назад...
Но Мариам забыла, что там басмачи всегда боялись быстрого приближения
красноармейцев, а здесь опасаться было некого...
Оставив Гюльриз в доме, Мариам вбежала в пристройку, принялась ворочать
мешки с зерном, наваливала их к двери и к единственному окну. Но она не
успела кончить эту работу: в саду внезапно появилась орава всадников. Мариам
притаилась за мешками, надеясь, что всадники проскачут дальше. Но они,
вооруженные саблями и винтовками, подскочив к террасе, остановились,
ругаясь.
- Э, презренные! - закричал один. - Выходите все, кто здесь есть!
Другие спрыгнули с коней, держа винтовки наперевес, кинулась в дом.
Мариам услышала голос Гюльриз: "Никого, никого здесь нет, одна я, старуха!",
затем какую-то возню, ругань, короткий пронзительный крик Гюльриз, треск
ломаемой двери... Тогда, не вытерпев и уже не думая о себе, Мариам
прицелилась из нагана и выстрелила в одного из сидевших на лошади басмачей.
Вскрикнув, он схватился за левый бок, отчаянно выругался, склонился, сполз с
лошади. Оставив его, вся орава мгновенно рассыпалась в разные стороны и
исчезла. Мариам подумала, что басмачи не вернутся, но услышала крадущиеся по
крыше дома шаги и тихие голоса, - там обсуждали: откуда мог произойти
выстрел? Раненный в бок басмач, лежа перед террасой, стонал. Стараясь
освободиться от повода, запутавшегося на его руке, лошадь мотала головой.
Пока басмачи обшаривали дом, Мариам лежала не двигаясь среди туго
набитых зерном мешков. Ей было жарко, она утирала ладонью потный лоб.
Тоскливое ощущение отчаяния и страха томило ее. Ей хотелось куда-нибудь
уползти, стать невидимой. Но скрыться было некуда: если б она выбежала во
двор, то, конечно, сразу была бы поймана. Преодолевая страх, закусив до боли
губы, она решила защищаться до конца.
Обогнув пристройку, несколько басмачей подползли к дверям и к окну.
Направив винтовку в щели между мешками и притолокой, басмачи дали несколько
выстрелов. На Мариам с потолка посыпалась глина. Сунув руку с наганом в
щель, Мариам ждала. На мешок легла чья-то рука. Мариам сразу же нажала
спусковой крючок. С пробитой насквозь рукой, разразившись проклятиями,
басмач откатился в сторону. Град ответных выстрелов оглушил Мариам.
Выпущенные в упор басмаческие пули, взрезая мешки, застревали в зерне,
другие с коротким свистом прошли под потолком, но ни одна из них не задела
Мариам.
Уже не помня себя, она выпускала пулю за пулей туда, где, по ее
предположению, стояли приникшие к стене басмачи, и вдруг почувствовала, что
наган дал осечку. Покрутив барабан, убедилась, что все гильзы пусты.
Дрожащими пальцами Мариам разорвала картонную коробочку с запасными
патронами. Попробовала ногтями извлечь из барабана пустые гильзы, но они не
поддавались. Стала выталкивать их маленьким шомполом...
Не слыша стрельбы, басмачи тоже перестали стрелять. В нетерпеливом
волнении Мариам выталкивала из барабана гильзу за гильзой, ни на что больше
не обращая внимания. Если бы она взглянула наверх, она увидела бы голову
басмача, который по крыше подполз к дымовому отверстию; он соскользнул на
мешки, легким прыжком кинулся на Мариам. Схваченная сзади за шею, Мариам
беспомощно забилась, стараясь освободиться, изо всей силы сжимая теперь уже
бесполезный наган. Но басмач так сдавил ее горло, что она захрипела, руки ее
бессильно упали, и, выронив наган, она потеряла сознание.
- Э! Не стреляй сюда! Я схватил ее! Больше никого нет! - прокричал
басмач, отваливая мешки.
...Если бы эти басмачи не приняли Мариам за Ниссо, которая могла быть в
этом доме, они, конечно, тут же убили бы ее. Но радуясь, что нашли и забрали
беглую жену Азиз-хона, рассчитывая на хорошую награду, они ограничились
проклятиями да несколькими ударами плетей по телу лежащей перед ними
женщины.
Убедившись, что в доме никого больше нет, оставив лежать на террасе
сшибленную ударом кулака в грудь Гюльриз, басмачи положили Мариам поперек
седла, привязали ее, подошли к лежащему под террасой, давно умолкшему
басмачу, перевернули его, ощупали. Он был мертв. Коротко переговариваясь,
взяли труп на другое седло, вскочили на лошадей и шагом тронулись вниз, в
селение. Раненый басмач, обмотав руку сорванной с головы чалмой, ехал
позади, издавая короткие стоны и вполголоса бормоча проклятия.
Мариам очнулась в башне Бобо-Калона, не понимая, ни где она, ни что с
ней. Руки и ноги ее были связаны, тело жгла нестерпимая боль. Мариам
застонала. В затуманенное сознание проник повторяющий ее имя голос Ниссо.
Все громче, все настойчивей Ниссо твердила:
- Мариам... Мариам...
- Я тут, Ниссо, - через силу произнесла Мариам. - Где мы?
- В башне, Мариам... В крепости... Ты уже давно здесь. Без памяти была?
- Наверно.
- А кости у тебя целы?
- Кажется, да. Я стреляла. Убила одного или двух.
- Ты тоже связана?
- Да... Тебя избили?
- Нет, мешок на голову, - сразу как выбежала... Держали в камнях, потом
сюда... А нана жива?
- Не знаю. Закричала, упала... Ты можешь ко мне подползти?
- Попробую.
Ниссо сделала усилие, перекатилась, легла рядом с Мариам.
- Давай я веревки твои перегрызу. Хорошо?
- Хорошо.
Ниссо, изворачиваясь, коснулась лицом руки Мариам.
- Повернись на бок, можешь?
Мариам тяжело повернулась, застонала.
- Больно тебе?
- Очень...
- Ты мокрая... Ты в крови?
- Может быть... Так удобно тебе? Грызи!
Ниссо нашла зубами веревку, связывающую руки Мариам. Отплевываясь,
тяжело дыша, отдыхая, она, наконец, перегрызла узел, и Мариам со стоном
развела занемевшие руки.
- Тут змеи, - сказала Ниссо. - Когда ты лежала, как мертвая, одна по
лицу моему проползла. Но не укусила меня. Теперь попробуй ты развязать мои
руки. Вот они, на!.. Тебе больно опять?
- Ничего... повернись так, чтоб я достала. Вот так!
Мариам довольно легко развязала узел шерстяной веревки. Освободив руки,
Ниссо нащупала пальцами тело и лицо Мариам.
- Длинные ссадины. Вздулись. Плетьми тебя, да?
- Наверно. Не помню я... Слышишь? Барабаны тут рядом теперь... Что мы
сделаем, если сюда войдут?
- Не знаю. Как ты думаешь, они нас убьют? Наверно, убьют.
- Меня убьют, я стреляла... Тебя Азиз-хон, наверно, к себе возьмет. Ты
его видела?
- Не видела... Я не дамся. Пусть меня тоже убьют!
- А если они нас будут сначала мучить?..
Развязывая узлы на ногах Мариам, Ниссо долго молчала. Веревки с ног
Мариам спали. Ниссо занялась развязыванием своих. Мариам попробовала сесть,
но, застонав, откинулась на спину.
- Я не хочу, чтоб они меня трогали, - сказала Ниссо.
- А что сделаем мы?
- Знаешь, что?.. Лучше мы сами друг друга убьем... Они войдут, а мы уже
мертвые... Вот! Не будут нас мучить... Мне умереть не страшно.
- Мне тоже не страшно.
- А может быть, сначала попробуем убежать?
Мариам промолчала. Она знала, что не может двигаться. Потом сказала: -
Пощупай стены!
Ниссо поползла к стене, встала, шаря в темноте по неровным камням сухой
кладки. Обошла кругом всю стену, приблизилась к двери. За дверью слышались
мужские голоса. Ниссо прислушалась. Касаясь стены, тихо вернулась к Мариам:
- Нет, Мариам. Убежать нельзя... Знаешь... Мне очень хочется жить!
- И мне тоже... Вот не думала никогда, что так будем!
- Я тоже не думала... А как мы можем друг друга убить? Если я возьму
камень - может быть, из стены выворочу его - и ударю тебя... Нет, Мариам, я
не могу тебя убивать... Может быть, ты меня можешь?
Мариам ничего не ответила. Обе долго молчали.
- Знаешь что, Мариам?.. Я хочу тебе сказать. Теперь можно сказать... Я
люблю Шо-Пира... Как ты думаешь, что будет с ним? Убьют его тоже?
- Не знаю, Ниссо... Может быть, он спасется.
- Он сильный. Если на него нападут, он многих сначала убьет... Я его
люблю...
- Я знаю, Ниссо. Я догадывалась... А он тебя?
- Он меня?.. Он... теперь скажу тебе, - он тоже! Он сам сказал мне.
Ночью, тогда, когда он ушел, я к нему прибежала... Там, на тропе...
- Там, на тропе, Бахтиор, Карашир и другие, - задумчиво произнесла
Мариам. - Неужели их всех убили?
Снова наступило молчание.
- Я думала, я буду счастливой, - сидя рядом с подругой, промолвила
Ниссо. - Я уже, знаешь, почти счастливой была...
- А что бы ты делала, если б не это?
- О! Я много бы делала! - горячо воскликнула Ниссо. - я бы замуж пошла
за Шо-Пира. Я бы сказала ему: поедем в Волость, потом дальше, еще дальше...
В Москву... Все увидела бы, узнала, как большие люди живут. Я училась бы
там... как добиться, чтоб в мире не было больше черных душ. Я... я не знаю,
что я бы сделала, только очень много хорошего!
- А тебе Бахтиора не жалко?
- Если б не это?
- Да, если бы не это...
- Ничего, он другую невесту нашел бы... Он хороший... А теперь...
Мариам мне страшно!
- Да, Ниссо. Это, наверно, конец... Если я умру, а ты будешь жива...
Мало ли что бывает, вдруг ты будешь жива...
- Нет, я не буду жива.
- Я говорю: если... Если ты будешь жива, ты никогда обо мне не
забудешь?
- Никогда, Мариам...
- Тогда ты поезжай в Уро-Тепа, пойди в райком комсомола. Там есть один
человек. Мухамеджанов Ирмат. Черные глаза у него, волосы черные... Скажи
ему, как я умерла... И еще скажи, - голос Мариам зазвучал совсем тихо, -
скажи: я любила его... Скажешь?
- Почему ты так говоришь, Мариам? Меня тоже убьют...
- Может быть, Ниссо, может быть... А если нет - скажешь?
- Если нет, скажу... Мариам, что нам делать сейчас? Ты не можешь
встать? Тебе все еще больно?
- Больно.
- Где?
- Везде, Ниссо... Голова, грудь, живот...
- Проклятые псы, что они с тобой сделали! Если б я только могла убить
Азиз-хона... А если мы сразу откроем дверь и вдруг выбежим? Пусть драка,
пусть нас сразу убьют, так лучше...
- Конечно, лучше... Поцелуй меня, и я попробую встать!
Ниссо осторожно обняла подругу, прижалась к ее губам, отодвинулась и,
ощутив на своих пальцах ее липкую кровь, обтерла руки о платье.
- Вставай, я помогу тебе...
Мариам, сдерживая стон, встала на колени, затем, с помощью Ниссо, на
ноги.
- Я сразу кинусь на дверь, а когда дверь откроется, ты выбегай, хорошо?
- Хорошо... Давай поцелуемся еще раз.
Подруги обнялись.
- Я... я... Знаешь, Мариам? Солнце хотела я еще раз увидеть! Ну, пусть
так, ничего. Стоишь?
- Стою!
Ниссо отошла в глубину помещения, разбежалась, ударилась в дверь. Дверь
сразу распахнулась. Ниссо выскочила из башни. Мариам сделала шаг, упала...
С криком: "Э-э! Держи!" - два сидевших за дверьми басмача кинулись к
Ниссо. Она опрометью помчалась дальше. Впереди пылал огромный костер,
окруженный сидящими басмачами. Басмачи сразу вскочили, схваченная ими Ниссо
забилась, царапаясь, кусаясь, стараясь вырвать у кого-нибудь из них нож...
Держа Ниссо за руки, за плечи, за горло, ворча в ярости и ругаясь
вполголоса басмачи мгновенно скрутили ее и, обмотав всю веревками, поволокли
к башне. Другие втащили в башню накрепко связанную Мариам.
Дверь захлопнулась. В башне стало темно. Лежа ничком на каменном полу,
Ниссо плакала. Мариам опять была без сознания и чуть-чуть стонала.
Полдня продолжалось пиршество. Несколько раз Азиз-хон посылал гонцов к
выходам из долины, - туда, где стояли дозорные. Гонцы возвращались и
сообщали, что ничего нового нет. По ущельной тропе вниз и вверх разъезжали
патрульные.
От одного к другому передавалась весть о местонахождении каравана.
Караван уже подходил к устью реки Сиатанг, во второй половине дня должен был
вступить в ущелье и остановиться на ночь на той единственной площадке, где в
реку впадал маленький приток.
Прийти в селение караван мог поздним утром следующего дня. Гонцы
сообщили Азиз-хону: караван состоит из тридцати вьючных лошадей и тридцати
девяти ослов, с Шо-Пиром идут еще двое русских - один маленький, тощий,
другой толстый и большой, все время подсаживающийся то на лошадь, то на
осла; у каждого из русских есть ружья, и еще одно ружье есть у главного
караванщика. Девять других караванщиков безоружны. В караване никто ни о чем
не подозревает.
Получив эти сведения, Азиз-хон приказал риссалядару с наступлением ночи
поставить в ущелье засаду.
Пиршество кончилось. Басмачи насытились жирной пищей. Азиз-хон объявил,
что всем надо поспать, ибо большие дела нельзя решать, не отдохнув
хорошенько с дороги. Самые почетные люди расположились в палатке на
принесенных из селения подушках и одеялах. Остальные басмачи, кроме
дозорных, разлеглись спасть на кошмах и на коврах, а то и просто на камнях
под стенами. День был тихий и солнечный, небо безоблачно, беспокоиться было
не о чем, и скоро в крепости послышался мирный храп десятков басмачей.
Левый глаз Азиз-хона совсем заплыл. Азиз-хон надвинул на него край
повязки хотел было тоже лечь спать, но решил сначала взглянуть на Ниссо.
Вышел из палатки, медленно пересек двор, не обращая внимания на басмачей,
торопливо вскочивших на ноги, чтоб дать дорогу своему хану: они почтительно
склонились, один услужливо распахнул дверь, - солнечный свет ворвался в
помещение башни. Азиз-хон остановился на пороге, увидел Мариам и Ниссо,
лежащих рядом и обмотанных веревками от шеи до ног. Обе девушки зажмурились
от яркого света.
Азиз-хон молча смотрел на Ниссо одним прищуренным, немигающим глазом.
Не поднимая головы, сжав губы, Ниссо встретила взгляд Азиз-хона, и он,
разглядывая девушку, лежащую перед ним, не мог понять, есть ли в ее глазах
страх, - они горели лихорадочным блеском. На груди, на боку, у бедра платье
Ниссо было разорвано. Заметив синие рубцы под веревками, Азиз-хон пожевал
губами, обернулся к часовому и негромко сказал:
- Развяжешь ее, принесешь воду и плов!
Часовой услужливо поклонился и побежал и риссалядару. Не взглянув на
Мариам, Азиз-хон повернулся, вышел из башни, и второй часовой сразу же
закрыл дверь. Медленной поступью направляясь к палатке, Азиз-хон
сосредоточенно думал. Он все еще не решил, как поступить с Ниссо. Он думал о
том, что всего правильнее было бы ее убить, и не просто убить, а долго и
мучительно истязать, но что это успеется, а сначала он все-таки ею
потешится, пока ему не надоест. И если она перед всем народом покается и
станет молить о милости, - может быть, он и увезет ее к себе. Но там он
прикажет вырыть для нее яму, чтоб только один солнечный луч проникал сквозь
щель крышки, на которую навалят камней; девчонка будет жить в этой яме и
думать только о нем, и плакать, и молить о пощаде или о смерти, и пусть это
длится годами, пока он не умрет. Конечно, женой его ей уже не быть, она
опозорила его, и этого простить нельзя, но пусть все Высокие Горы знают, как
он наказал ее, даровав ей жизнь, пусть все почитают его и устрашаются.
Но сначала ее надо судить, судить перед всеми и добиться ее покаяния -
угрозами, страхом, чем угодно добиться, чтоб видели все, что он милостив,
даруя ей жизнь.
Войдя в палатку, в круг спящих стариков, Азиз-хон лег на приготовленное
для него ватное одеяло, но, единственный из всех, так и не мог заснуть.
Пролежав в раздумье часа два и раздражаясь от боли, причиняемой раной,
Азиз-хон толкнул ногой спящего рядом Зогара и, когда тот поднял голову и
лениво протер глаза, произнес:
- Скажи риссалядару, пусть зовет сюда весь народ. Решать дела будем!
Настал час, когда сиатангцы и Азиз-хон со всем его воинством
встретились лицом к лицу. Величественный, в пышных одеждах, скрестив ноги и
сложив на животе руки, Азиз-хон восседал на груде подушек перед своей
палаткой. По левую его руку небрежно развалился, поджав бескровные губы,
Зогар - единственный юноша среди стариков. Справа от Азиз-хона в глубокой
задумчивости сидел прямой и строгий Бобо-Калон. Он был в дарственном ханском
халате, расшитом по вороту золотом и серебром. Вся остальная знать вместе с
вернувшимися мирами и сеидами расположилась на коврах тесным полукругом. За
ними и по концам полукруга сидели и стояли с винтовками воины риссалядара.
Напротив, вдоль крепостной стены, молчаливо теснились жители Сиатанга;
впереди, на паласах и на коврах, - приверженцы Установленного, за ними, на
камнях, нарушители древних законов - факиры с женами и матерями. Басмачи
согнали их всех поголовно, в селении остались только дети да те избитые
накануне ущельцы, которые не могли ходить.
Десять воинов расхаживали по крепостной стене, держа наготове винтовки
и следя за ущельцами.
Середина крепостного двора оставалась пустой, и только в самом центре
его, на большом квадратном ковре, разложив перед собою свитки рыжеватой
бумаги, сидели халифа, Мирзо-Хур, Науруз-бек и риссалядар.
Под правым скатом палатки, в своей цирюльне, отдельно от всех пребывал
в невозмутимом спокойствии Кендыри, и никто не обращал на него внимания. С
холодным интересом постороннего наблюдателя оценивая происходящее, Кендыри
подумал, что важностью приготовлений к предстоящим церемониям Азиз-хон хочет
поразить воображение сиатангцев.
Среди факиров были Зуайда, Рыбья Кость и Гюльриз. Голова Гюльриз была
обмотана белой тряпкой, под ввалившимися глазами набухли тяжелые синяки. Она
до сих пор ничего не знала о Бахтиоре и, хотя верила, что он жив, не могла
избавиться от мучительной тревоги.
В глубине двора, вдоль канала, на длинной коновязи стояли расседланные
лошади басмачей. Несколько коноводов, расхаживая вдоль натянутого аркана,
подсыпали лошадям прямо на камни зерно, - то заветное, хранимое ущельцами
всю долгую зиму посевное зерно, которое на рассвете было перевезено
басмачами из разграбленного дома Бахтиора. Еще не тронутые мешки его
навалены высокой кучей над стеной мельницы, превращенной басмачами в ханскую
кухню. Перед мельницей валялись требуха, копыта и окровавленные шкуры
зарезанных ханскими поварами овец и баранов...
Ущельцы угрюмо смотрят на остатки своего скота, на рассыпанное зерно,
из-за которого целый год было столько споров и разговоров. Уцелевший скот
ущельцев согнан в старый загон выше крепости, но ущельцы понимают: ни одной
кровы, овцы и козы им уже не вернуть. Каждый из факиров думает теперь о том,
что напрасно было так скупиться в еде, так выхаживать самого маленького
козленка, беречь малую горсть зерна. Лучше было бы не голодать всю эту
тяжелую зиму, лучше было бы самим съесть все это, чем видеть, как их
богатство в один день уничтожается ненасытной оравой насильников... Каждый
из факиров вспоминает сейчас свой тяжелый многолетний труд, свои разговоры с
Шо-Пиром и Бахтиором, и ссоры в семье, и рухнувшие надежды на большой
урожай, на спокойную - наконец-то сытную - жизнь... В один день, подобный
внезапному урагану, все пошло прахом. Больше надеяться не на что. Прежняя
жестокая жизнь вернулась. Вот сидят перед факирами бежавшие от них сеиды и
миры, которые ничего не простят им, ничего не забудут, мстительности которых
не будет конца...
Перешептываться больше не о чем. Факиры думают одну думу, поглядывают
на винтовки воинов и молчат. И даже многие приверженцы Установленного
спрашивают себя: станут ли они жить лучше? Зерно и скот, вся утварь, все
имущество уже взяты из их домов воинами и, нет сомнения, возвращены не
будут!
Последователи Бобо-Калона всегда считали его справедливым и мудрым,
знали, что он не любит чужих людей, но почему он сидит сейчас по правую руку
Азиз-хона в подаренном ему дорогом халате? Почему молчит и спокойно смотрит
на все нанесенные ущельцам обиды, на расхищение, на все это беззаконие,
творящееся вокруг? Неужели же этот старец, нищавший на их глазах,
единственный из всех знатных людей не захотевший покинуть Сиатанг, таил в
себе жажду мести? И вот теперь, когда час мести пробил, он торжествует так
же, как все сеиды и миры, как сам, презирающий сиатангцев, по-прежнему
могущественный Азиз-хон? О чем пойдет разговор сейчас? Зачем плетьми и
угрозами согнаны сюда все ущельцы? Каких повелений им надобно ждать? К какой
расплате готовиться?..
Тишина. Только среди шепчущихся воинов слышен сдержанный смех. Чего еще
ждет Азиз-хон?
По стене к покосившейся древней башне пробираются два басмача с кругами
тонкой и крепкой шерстяной веревки. По выступам камней, помогая друг другу,
они карабкаются на башню. Взоры всех ущельцев обращаются к ним, - зачем они
лезут на башню? Что будут делать там? Все выше, с камня на камень, - вот они
уже на верхней площадке, разматывают веревку, возятся там... Кое-кто из
факиров уже начинает догадываться, но еще никто себе верить не хочет...
Вдруг две длинные веревки, развившись, падают с башни, с той стороны, в
какую башня наклонена. Немного не достигнув земли, концы веревок повисли в
воздухе. Третий басмач подходит к основанию башни, хватается за концы
веревок, неторопливо скручивает их в петли. Те двое, наверху, подтягивают их
повыше, - теперь от петель до земли примерно полтора человеческих роста. И
все сразу понятно ущельцам, и шепот волной бежит по испуганной толпе, и у
каждого мысль: "Кого?.." И снова напряженная тишина.
Петли покачиваются. Два басмача наверху разлеглись на тесной площадке,
лениво наблюдают за всем, что происходит внизу, посмеиваясь,
переговариваются.
Неожиданно начинает говорить сидящий в центре двора халифа. Все сразу
поворачиваются к нему. Откинув назад бородатую голову, халифа слегка
закатывает глаза, - вот, мол, я, посланец неба, и само небо ниспосылает
произносимые мною слова.
- Благословен покровитель! Пять раз благословен покровитель! - медленно
тянет он. - Да будет неприкосновенной святость божества, разлитого в душах
творений! От земли и до неба, от праха до солнца, от безглазого стебля до
тайны великого разума прославим, верные, непостижимую волю его!.. И да
обрушится гнев его на неверных, отступников от вечных законов его!.. Ветер
неразумия промчался по нашей земле, неся с собой греховное облако. Но снова
видны звезды и светит луна: я вижу ваши просиявшие души. Возблагодарим же
могущественного владетеля и поборника истинной веры, прославленного в
Высоких Горах Азиз-хона и всех воинов истины за то, что прогнали они
вставшее над вашими душами облако! Ночью случилось это, и все вы видите -
новым светом сияет благословенный день! Счастье вновь касается вас... Вновь
тверды и незыблемы великие достоинства Установленного, еще вчера
попиравшиеся неверными, да опустится на них карающая рука покровителя! По
закону истины, вы, простые, немудрые люди, освобождены от молитв, ибо только
посвященный удостаивается общения с непостижимыми силами. По закону истины,
за всех вас молится только обладающий словами святости, пир, а вы лишь
несете ему десятую долю ваших урожаев и ваших доходов. Каждый год, в прежние
времена, получал я от вас эту священную подать и нес ее пиру. Четыре года
суждено было мне не ступать на тропу, ведущую в Сиатанг, и за четыре года
множество грехов накопилось здесь... Но пир молится за вас, отдавая носителю
живой души бога вместо вашей подати часть своего имущества. Да будет
прославлена доброта пира! Но сегодня настал час, когда все, что отдано
пиром, вы добровольно отдадите ему, ибо кто захочет навлечь на себя гнев
покровителя, когда пир перестанет возносить ему молитвы за вас? За четыре
прошедших года и за один год вперед вы все отдадите сразу - половину
имущества каждый. Бог милостив, оставшаяся у вас половина да разрастется во
много раз, вы станете богатыми и счастливыми! У кого нет зерна - отдаст
скот. У кого нет скота - отдаст халаты и шкуры. Разве вы сами не знаете, что
вам достойней всего отдать? Так ли, верные, спрашиваю я вас? Благословит
покровитель вас, отвечайте!
Сощурив устремленные на толпу ущельцев глаза, халифа благоговейно
коснулся своей бороды и умолк...
Даже приверженцы Установленного, опустив головы, хранили молчание.
- Отвечайте! - блеснув маленькими глазками, повторил халифа.
Никто, однако, не решался нарушить молчание. Исоф исподлобья взглянул
на рассыпанное перед лошадиными мордами зерно, на ковры, украшающие палатку,
на требуху возле мельницы и шумно, протяжно вздохнул...
- Ты хочешь что-то сказать? - быстро обратился к нему халифа. - Как
твое имя, мужчина?
- Зачем тебе мое имя? Ничего не хочу сказать!
- Разве тебе сказать нечего? - вызывающе произнес халифа. - Разве ты не
считаешь великим для себя счастьем отдать половину твоих богатств носителю
живой души бога?
- Нет у меня богатств, - проговорил Исоф, - воины истины уже взяли моих
овец.
- Разве ты не сам отдал их на угощение хана?
- Взяли! - упрямо ответил Исоф. - Ковер тоже взяли, вот - висит на
палатке. Посуду взяли. Больше нет ничего...
- Скажи, - вкрадчиво произнес халифа, - у тебя жена есть?
Исоф понял, к чему клонится вопрос, и промолчал. Халифа наклонился к
купцу, Мирзо-Хур что-то прошептал, и халифа, кивнув головой, продолжал:
- Ты молчишь? Вижу я - след греховного облака еще на твоей душе!
Ничего, я скажу сам. Разве твоя жена Саух-Богор - не богатство твое? Скажи,
Исоф, где твоя жена?
- Не знаю, достойный! - помрачнел Исоф. - Я верен Установленному, и
жена моя тоже верна. Но сегодня ночью она убежала в горы. Когда воины истины
пришли и было темно, не знала она, кто пришел, испугалась, убежала...
Халифа очень тихо спросил риссалядара:
- Разве кто-нибудь убежал?
- Врут они, достойный! - скрыв злобу зевком, так же тихо ответил
риссалядар; ему не хотелось признаться, что "воины истины" отказались
взбираться за беглецами по склону осыпи.
- Хорошо! - объявил халифа. - С тобой, Исоф, мы еще поговорим после...
Я вижу - другие молчат, я знаю, когда радость приходит, комок в горле бывает
от радости, сразу трудно найти слова... Сегодня вечером вы, верные, начнете
носить свои приношения сюда... Да благословит вас покровитель! С вами хочет
поговорить почтенный купец Мирзо-Хур.
Все было понятно и так. И ущельцы продолжали молчать, когда, водя по
бумаге пальцем, Мирзо-Хур занялся перечислением всех накопленных сиатангцами
долгов: называя ущельцев по именам, он долго читал длинный список, в котором
были отмечены каждая горсть тутовых ягод, щепотки сухих растительных красок,
иголка, каждая мелочь... И чем дальше читал он, тем безразличней становились
лица ущельцев: чтоб отдать халифа и купцу все, что они требовали, факиру не
хватило бы труда целой жизни...
Но когда после купца, встав во весь рост, заговорил судья Науруз-бек и
объявил, что, по закону верных, должники и растратчики своего имущества
должны продать дочерей и жен, - глухой ропот поднялся в толпе ущельцев "Нет
такого закона!" - закричали они. - Давно уже нет!"
Женский вопль: "Воры! Грабители!" - прозвучал пронзительно и дерзко.
Выбежав на середину двора, Рыбья Кость подскочила к купцу и, разрывая на
своей груди рубаху, в ярости прокричала:
- Продавай меня! Бей меня! Убивай меня! Где мой Карашир? Где Ниссо? Где
Мариам? Смерть вам и проклятье на вас, черные псы!
И Рыбья Кость вцепилась в черную бороду купца. Риссалядар поднял руку,
и несколько басмачей кинулись к Рыбьей Кости. Она увертывалась, но не
отпускала бороды Мирзо-Хура. Басмачи оторвали Рыбью Кость от купца, но она,
отбиваясь, плевала им в лица. Ее наотмашь хлестнули по плечам плетью. Она
упала. Выворачивая ей руки, орава басмачей потащила ее через двор. Толпа
ущельцев ринулась вслед, но, увидев стволы поднятых винтовок, смешалась,
отхлынула, медленно отступив, застыла у крепостной стены.
- Отойдите! - в наступившей тишине произнес Азиз-хон, и басмачи,
неохотно опустив винтовки, отошли на прежнее место.
- Вот падаль! - сдавленным голосом сказал Науруз-бек, указывая на
брошенную к подножью башни и уже связанную Рыбью Кость. - Вот зараза
мерзости! Кто не знает ее, кто не знает преступного мужа ее, Карашира?
Таких, как она, мы будем судить, да не осквернится ваш взор, достойные, -
Науруз-бек поклонился свите Азиз-хона, - созерцанием неверной! Время
начинать суд!
Азиз-хон сделал короткий жест. Науруз-бек поспешил к нему и,
склонившись, выслушал тихие приказания. Азиз-хон кивнул риссалядару, и тот
вывел два десятка "воинов истины". Они окружили толпу сиатангцев, взяли
ружья на изготовку.
Науруз-бек вернулся на середину двора. Сел рядом с халифа. Мирзо-Хур,
потирая сильно потрепанную бороду, прошел по двору, со вздохом опустился за
спиною Бобо-Калона.
Дверь башни раскрылась, басмачи вывели Мариам и Ниссо. Руки их были
связаны за спиной. Два басмача держали Ниссо за локти, третий шел сзади,
касаясь ее спины лезвием кривой сабли. Так же вели и Мариам. Бледные, в
изорванных платьях, девушки жмурились от яркого света. Мариам с трудом
передвигала ноги. Ниссо шла, вскинув голову, ступая по земле с такой
удивительной легкостью, будто не затекшие ноги, а одна лишь воля несла ее
вперед. Маленький значок с портретом Ленина блестел на ее груди.
Тишина в крепостной площади стала полной. Басмачи провели девушек к
ковру, лежавшему посередине двора, и повернули их лицом к Азиз-хону. Тот
кивнул головой, и Науруз-бек велел развязать Ниссо руки. Колени Мариам
подгибались, но один из басмачей, приставив к ее горлу конец сабли, вынудил
Мариам выпрямиться.
- Благословен покровитель! - молитвенно прижав ладони к груди, затянул
Науруз-бек. - Благословен покровитель! Благословенна милость его, карающая
неверных для спасения верных! Вот перед вами две женщины, начнем об одной из
них разговор. Вот она, смотрите на нее все: человеческое имя у нее - Мариам,
дочь Даулета, мы не знаем его, но будет проклят час, когда презренная тварь
зачала от него это отродье дьявола! Зачем она пришла к нам? Кто она? Не
хватит дня, чтобы перечислить ее преступления и грехи. Бесстыдная, она
пришла к нам в мужских штанах! Все видели это! В день после прихода сюда,
вместе с ненавистными Шо-Пиром и Бахтиором, она грабила здесь! Научившись
сама писать на языке неверных, она смущала жен и дочерей факиров, учила их
богопротивной грамоте! Она кричала всем, что она комсомол. Мы не знали
прежде такого слова, теперь знаем его! Не хочу перечислять всех мерзостей,
которые делала стоящая перед вами! Скажу одно: ночью она совершила
неслыханное в Высоких Горах преступление! Убила одного из достойных воинов
истины, да будет священна память его! Выстрелом из маленького ружья убила
защитника веры, нашего воина Лютфулло! Он лежит там, за крепостью, мертвый,
на похоронных носилках. Завтра воины истины в горести и печали понесут его в
Яхбар, чтоб похоронить на родной земле, как святого! Душа Лютфулло - в раю!
Смотрит на нас, ждет справедливости и отмщения. Это отродье дьявола хотело
убить и другого воина истины. Покровитель отвел нечистую пулю от его сердца.
Только руку пробила пуля ему. Иди сюда, Якуб! Покажи свою рану!
Науруз-бек умолк и торжественно простер руку к сидящим перед башней
басмачам. Один из них встал. Все увидели его обмотанную окровавленной
тряпкой руку. Мариам чуть покачивалась, напрягая силы, чтобы не опустить
подбородок, подпертый острием басмаческой сабли. Если б она попыталась
сказать хоть одно слово, острие впилось бы ей в горло.
Ниссо видела перед собой только вздувшиеся синеватые рубцы на шее
Мариам. Бледное лицо Ниссо казалось спокойным.
- Сюда, Якуб! Подойди сюда! - крикнул Науруз-бек.
Нагнув голову, плотный и коренастый басмач медленно подошел к Мариам,
остановился, тупо смотря на нее.
- Возьми, Якуб, нож! - ласково произнес Науруз-бек. - Смерть придет к
ней не от твоей руки, но по праву твой удар будет первым! Смотрите, верные!
- продолжал Науруз-бек. - Пусть видит каждый великую справедливость
милостивого покровителя, смертью карающего нарушителей Установленного...
Этой женщине - смерть, смерть, смерть! Славьте волю покровителя, верные,
радуйтесь! Нет чище святыни, чем гнев его, уничтожающий ядовитые зерна
неверия! Вынь глаза ей, Якуб!
Толпа сиатангцев ахнула. Басмачи подхватили отшатнувшуюся Мариам. Ее
пронзительный, душераздирающий крик замолк под ладонью басмача, сдавившего
ей рот. Другие басмачи сжали руки и плечи метнувшейся к Мариам Ниссо.
Якуб спокойно и деловито проткнул ножом оба глаза Мариам. Кровь,
заливая ее лицо и пальцы зажавшего ей рот басмача, брызнула и полилась на
землю. Два резких выстрела остановили рванувшихся было вперед ущельцев.
Истерические вопли женщин пронеслись над толпой, над крепостью, над всей
сиатангской долиной. А басмачи, забрызганные кровью, уже волокли девушку к
башне. Подтащив свою жертву к болтавшейся веревке, накинула на шею Мариам
петлю...
Науруз-бек, оставшийся посреди двора, махнул рукой. Два басмача
засуетились на верхней площадке башни, потянули веревку.
Мариам взвилась над землей, медленно кружась и раскачиваясь. И когда
безжизненное тело Мариам, вытянувшись, затихло, а веревка перестала
раскачиваться, вновь наступила беспредельная тишина. По окаменевшим лицам
ущельцев струился пот, ни один из них не мог перевести дыхания. Ниссо,
лежавшая теперь ничком на ковре, дрожала мелкой дрожью...
Азиз-хон спокойно сидел на подушках. Бобо-Калон смотрел в землю.
Гильриз, впившись зубами в руку, почти беззвучно стонала. Кендыри,
бесстрастно разглядывал повешенную, брезгливо думал о том, что его работа
сопряжена с необходимостью сталкиваться с непонятными зрелищами, но что в
конце концов до всего этого ему нет никакого дела.
- Так! - словно напоминая о своем существовании, громко произнес
Науруз-бек. - Воля покровителя совершилась... Да возрадуются сердца ваши,
верные!.. Теперь поговорим о другой. Поднимите, воины истины, нечестивую
жену, посягнувшую на честь славного в Высоких Горах Азиз-хона! Встань,
Ниссо! Встань и смотри!.. Перечислять грехи твои мы не будем. Видишь вторую
петлю? Для тебя она приготовлена. Что скажешь ты нам?
Ниссо, поставленная на ноги, дико озиралась.
- Оставьте ее! Оставьте! - вдруг неистово прокричала Гюльриз и, прежде
чем кто-либо успел ее задержать, стремительно перебежала двор, упала плашмя
перед Азиз-хоном. - Оставь ее, хан, убей меня, не трогай ее, зачем тебе ее
жизнь? Я взяла ее себе в дочери. Нет дочери у меня, довольно крови тебе,
возьми мою старую кровь, дай собакам ее, разве ничего в тебе не осталось от
человека? Пощади Ниссо ради красоты ее, посмотри сам - как цветок она.
- Перестань, нана! - раздался окрик Ниссо. - У кого в ногах ты
валяешься? Кого просишь? Встань, пожалей меня в последний мой час! Встань,
не хочу твоего унижения! Пусть смерть, не боюсь ее. Встань, нана, встань,
встань, слышишь, встань!..
Все смотрели теперь на гневное лицо выпрямившейся Ниссо. В ее
презрительной гордости чувствовалась такая сила, что даже державшие Ниссо
басмачи отпустили вдруг ее руки. Топнув ногой, Ниссо резко крикнула еще раз:
- Встань, нана, или я прокляну тебя!
И Гюльриз медленно встала и, никем не задерживаемая, протянув вперед
руки, как завороженная, подошла к Ниссо. Нежно, как может это сделать лишь
мать, Гюльриз обняла Ниссо, поцеловала в лоб, прошептала: "Благословенной ты
будешь вовеки!" - и так же медленно отошла от нее. Лицо Гюльриз сморщилось,
она закрыла его руками и пошла, не видя перед собою пути, сгорбившись,
шатаясь из стороны в сторону... Ущельцы молча расступились. Зуайда, вся в
слезах, обняла рукой плечи старухи, легким усилием заставила ее сесть на
снятый одним из факиров рваный халат. Гюльриз опустилась, бессильно уронив
голову, и Зуайда склонила эту седую голову к себе на грудь.
Все басмачи и даже сам Азиз-хон безмолвно наблюдали за нею. А Ниссо
стояла теперь, повернувшись к толпе ущельцев, прямая, печальная и невыразимо
спокойная. Все позабыв, Кендыри любовался ею. Только Науруз-бек, теребя
бороду, сердито пожевывал сухими губами. Два басмача снова взялись за локти
Ниссо: она не противилась.
- Что велишь сказать, Азиз-хон? - нарушив тишину, неуверенно произнес
Науруз-бек.
- Пусть она подойдет сюда! - сказал Азиз-хон.
Басмачи толкнула Ниссо. Она повернулась, спокойно подошла к Азиз-хону.
Остановилась перед ним, смотря в его не закрытый повязкой глаз.
Азиз-хон сдвинул повязку с припухших губ.
- Понимаешь ли ты, что достойна только смерти?
- Пусть! - решительно произнесла Ниссо.
- Тебя повесят, как ту.
- Пусть! - с вызовом повторила Ниссо.
- Разве ты жить не хочешь?
Ниссо нахмурилась.
- Тебя ненавижу!
Азиз-хон поморщился, но сдержался.
- Женская ненависть подобна женской любви... Изменчива и быстро
проходит... Посмотри вокруг себя, на достойных и праведных. Посмотри в их
глаза: все решили одно. Ты совершила преступление, за него тебе - смерть.
Нет другого закона перед лицом покровителя. Но ты была одержима безумием, в
твою душу вселились дэвы, и в законе есть истина: дэвов можно изгнать
покаянием и раскаянием. Раскайся и поклянись, что хочешь быть верной, - я
дам тебе жизнь! Сам попрошу святого пира, чтоб он вознес за тебя молитвы
нашему покровителю, может быть, покровитель захочет совершить чудо, вернуть
тебе разум... Пади предо мной и проси!
Ниссо молчала, губы ее дрожали: милость Азиз-хона была для нее страшнее
смерти, она поняла, что случится с нею, если она останется жить.
- Пади! - с тихой угрозой повторил Азиз-хон. - Велика моя милость!
Теперь в Ниссо закипела злоба: вот Азиз-хон перед всем народом почти
просит ее! Пусть скажет еще раз, пусть скажет, - она посмеется над ним!
- Пади! - в третий раз сказал Азиз-хон.
Ниссо продолжала молчать. Глаз Азиз-хона, наливаясь бешенством,
округлился, морщины на лбу сошлись. Он чувствовал на себе взгляды сотен
людей, он и так позволил себе слишком много, - люди станут смеяться над ним.
Тут Зогар, уже давно с ненавистью следивший за каждым жестом Ниссо,
сорвался с места, подскочил к Ниссо и с такой яростью рванул ее за руку, что
она упала прямо на ноги Азиз-хона.
- Повинуйся, проклятая, с тобой говорит сам Азиз-хон!
- Так! Так! - схватив Ниссо за руки и не давая ей встать с колен,
проговорил Азиз-хон. - Когда-нибудь ты научишься послушанию. Отойди, Зогар!
Я вижу, она надумала каяться... А это что, что это у тебя на груди?
Отпустив руку Ниссо, Азиз-хон потянулся к маленькому значку с портретом
Ленина. Ниссо схватилась рукой за грудь.
- Не трогай, достойный! - сзади прокричал Науруз-бек. - Это знак
комсомола. Не прикасайся к нему!
- Покажи, покажи! - отнимая от груди руку Ниссо, медленно произнес
Азиз-хон. - Я вижу лицо человека... На сердце носишь его? Зогар, подойди
сюда, возьми его осторожно, растопчи ногами... Значит, ты, презренная,
комсомол?
Напряжение Ниссо прорвалось. С дикой яростью она вырвала руку из руки
Азиз-хона, схватила значок и, прежде чем Азиз-хон успел отстраниться, с
силой вонзила припаянную к значку булавку в лицо Азиз-хона; если б он не
успел ударить ее по руке, булавка проткнула бы ему глаз.
- Да, я комсомол! А ты... ты...
Но Ниссо уже схватили сразу несколько человек и отшвырнули от
Азиз-хона. Она упала. Зажимая щеку рукой, в бешенстве, с пеной у рта,
Азиз-хон даже не мог кричать; он только взмахнул рукой и, весь трясясь,
указал на виселицу. Науруз-бек, сдержав самодовольную усмешку, кивнул
басмачам. С винтовками наперевес они подбежали к Ниссо и волоком, по камням,
потащили туда, где свисала с башни веревка.
Осыпая Ниссо ругательствами, подняли ее на ноги, набросили на шею
петлю. Шум прошел по толпе ущельцев. Дико закричала Гюльриз.
Вдруг, стремительно перебежав двор, ударами кулаков растолкав басмачей,
Кендыри оказался рядом с Ниссо и ухватился за еще не затянутую петлю.
Рассеченная бритвой петля слетела с шеи Ниссо...
- Подожди! Подожди! - крикнул Кендыри опомнившемуся, взмахнувшему
саблей басмачу. - Слушай, скажет тебе Азиз-хон!
Басмач в нерешительности опустил саблю. Повелительно подняв руку,
Кендыри закричал:
- Мудрый, прославленный Азиз-хон, не предавайся минуте гнева! Эту
женщину надо казнить, но не сейчас и не так... Слишком велики ее
преступления! Ее надо водить по всем селениям твоим, чтобы весь твой народ
плевал ей в глаза. Положи ее в башню сегодня, подумай... Да не покажутся
тебе непочтительными слова бедного брадобрея! Да прольется милость твоя на
меня!
Не привык Азиз-хон, чтобы ему приказывали. Он еще трясся от бешенства и
сейчас хотел только немедленной казни Ниссо. Никому другому не позволил бы
он в эту минуту вмешиваться в его дела, никому... кроме Кендыри... Лишь пять
человек здесь - Бобо-Калон, Мирзо-Хур, халифа, риссалядар и Науруз-бек -
знали о Кендыри то, что было скрыто от прочих. Для остальных слова Кендыри
были дерзкой просьбой нищего брадобрея.
Азиз-хон слишком хорошо понимал свою зависимость от этого человека и
противиться ему не посмел.
- Хорошо! - смиряя себя, сказал Азиз-хон к безмерному удивлению всех. -
Истину слышу в словах презренного бедняка; нет хана, который не прислушался
бы к голосу истины, даже исходящего от червя! Пусть не я один, пусть весь
мой народ плюнет ей в глаза... Отведите в башню ее!
Едва Ниссо была водворена в башню, Азиз-хон поднялся с подушек, резко
откинул полу палатки, вошел в нее, оставив воинство и ущельцев.
Науруз-бек в растерянности и даже смущении не знал, что ему делать
дальше. Ущельцы тихо, вразброд выходили из крепости, их никто не удерживал.
Толпа редела.
Среди разделившихся на кучки басмачей возникли приглушенные разговоры.
Шептались и приближенные Азиз-хона.
Риссалядар порывисто встал, вышел на середину двора, приказал часовым
никого из крепости не выпускать.
Все теперь ждали появления Азиз-хона.
Он, однако, из палатки не выходил. Заглянуть к нему не решались.
Тело повешенной Мариам раскачивалось на легком ветру. В камнях за
башней бежала избитая Рыбья Кость. На нее не обращали внимания.
Вдруг на полном скаку в крепость ворвался всадник: он соскочил со
взмыленного коня, закружился, ища Азиз-хона, растолкав всех, нырнул в
палатку.
Азиз-хон выглянул из палатки, жестом подозвал риссалядара, коротко
сказал ему:
- Караван не остановился на ночь. Убери всех. Поезжай туда!
И сразу начался переполох. Басмачи заметилаись по двору, переругиваясь,
размахивая оружием, торопливо седлая коней. Риссалядар вскочил в седло и, на
ходу заряжая винтовку, рысью выехал из крепости. За ним устремились десятка
два всадников. Другие окружили толпу сиатангцев и, яростно крича, погнали
всех к селению.
Пообещав смерть каждому, кто выйдет из дому, басмачи помчались дальше
по пустым переулочкам, вдогонку за риссалядаром.
В одиночку и группами всадники выносились из крепости, нахлестывая
коней, не обращая внимания на камни и рытвины, - всем хотелось как можно
скорее промчаться за первый мыс ущельной тропы, чтобы не опоздать к захвату
верной и богатой добычи. Халифа, Науруз-бек, купец Мирзо-Хур, видимо хорошо
зная повадки басмачей, тоже уселись в седла и во главе с Азиз-хоном выехали
сдержанным шагом. Явно недовольные полученными приказаниями, в крепости
остались лишь несколько басмачей, охраняющих башню и награбленное имущество.
Двор крепости опустел. Мрачный и одинокий, за весь день не проронивший
ни слова, Бобо-Калон остался сидеть среди накиданных перед палаткой подушек.
Кендыри, выйдя из-под навеса своей цирюльни, расхаживал по двору, заложив
руки за спину и поглядывая то на следы пиршества, то на потемневший,
обезображенный труп качающейся в петле Мариам, то на сидящих возле башни
басмачей.
Кендыри размышлял о Ниссо и о том, что заставило его отвести от нее
петлю. Больше всего он был занят сейчас продумыванием дальнейших ходов
искусной, точно рассчитанной и пока безошибочной дипломатической игры.
Обученный целиться далеко, он рассчитывал на живую Ниссо как на весьма
убедительную запасную рекомендацию... Судьба каравана его мало интересовала.
Неожиданно Кендыри заметил за башней, среди камней, нависших над
берегом, взлохмаченную женскую голову. Она тотчас же скрылась, но Кендыри
стал искоса наблюдать, якобы разглядывая вершину горы. Охранники сидели с
другой стороны башни и видеть ничего не могли.
Женская голова в камнях на мгновение показалась опять, - Кендыри узнал
Зуайду, но, заинтересованный причиной ее появления, решил не показывать, что
видит ее. Припадая за камнями, Зуайда осторожно пробиралась все ближе.
Кендыри отошел к палатке, сел на камень и, упершись локтями в колени, будто
бы в крайней усталости, закрыв ладонями лицо, продолжал сквозь пальцы
наблюдать. Он понял: Зуайда пробирается к лежащей у подножья башни Рыбьей
Кости. Конечно, Зуайда подвергала себя опасности: если б кто-нибудь из
оставшихся басмачей заметил ее, разговор был бы очень коротким. Чтоб
добраться до Рыбьей Кости, Зуайде предстояло выползти из-за камней и
пересечь открытое, метров в десять шириной, пространство двора. Выглянув
из-за последнего камня, Зуайда долго и настороженно осматривалась - больше
всего ее, очевидно, беспокоил Кендыри... Но он не вставал с места, не
двигался и, казалось, совсем забылся.
Зуайда решилась. Пригнувшись, неслышно касаясь земли, она подбежала к
Рыбьей Кости. Напрягая все силы, подняла ее на руки, потащила обратно к
камням...
Кендыри, сообразив, что и этот случай может ему пригодиться, порывисто
встал, закашлялся. Зуайда на бегу оглянулась, Кендыри заметил ее испуганный
взгляд. Она споткнулась, вместе со своей ношей упала и замерла, глядя на
приближающегося Кендыри затравленными глазами.
Кендыри изобразил на своем неподвижном лице улыбку, приложил палец к
губам, отвернулся, неторопливым шагом прошел сторонкой. Ему важно было
только, чтоб Зуайда знала: он видел.
Когда Кендыри, обойдя башню, снова вернулся к тому месту, ни Зуайды, ни
Рыбьей Кости среди камней уже не было. Кендыри самодовольно подумал, что в
искусной игре у него появился новый, небольшой, но вовсе не лишний козырь.
217
Перед лицом твоих врагов
Ты в этот час - один.
Ну, что ж! Кто шел на тех врагов,
Все были, как один.
Прибавь к ста тысячам шагов, -
Достойный шаг один.
И осветится весь твой путь
Бессмертием, как Млечный Путь!
Смерть героя
Слуга Азиз-хона, Мир Али, - тот самый Мир Али, который когда-то увел из
селения Дуоб мать Ниссо, Розиа-Мо, - вторые сутки дежурил с пятнадцатью
басмачами в скалах, там, где река Сиатанг впадает в Большую Реку. Азиз-хон
велел ему, не обнаруживая себя, пропустить караван на ущельную тропу и затем
незаметно идти за караваном по пятам, чтобы отрезать путь к отступлению.
Мир Али в точности выполнил приказание Азиз-хона: караван спокойно
повернул от Большой Реки на сиатангскую тропу и углубился в ущелье; следом,
крадучись, двинулись басмачи.
К концу дня растянувшийся караван находился примерно на середине пути
от устья реки Сиатанг до селения. Впереди ехал верхом Шо-Пир. Он был доволен
своим путешествием в Волость. Хотя ему и не удалось повидать секретаря
партбюро Гветадзе, который уже с месяц странствовал, знакомясь с ущельями
верхних притоков Большой Реки, караван назначенных для Сиатанга товаров был
составлен отменно: в нем было все необходимое ущельцам. Помог Швецов,
принявший Шо-Пира как старого, закадычного друга. И хотя впервые за
несколько лет Шо-Пир снова стал в Волости Александром, да не Александром, а
Сашей Медведевым, он ясно осознал, что не тот он теперь, - и опытней, и
самостоятельнее, и умнее стал он с тех пор, как пришел в Сиатанг.
То и дело поворачиваясь в седле бочком, Шо-Пир поглядывал на идущих за
ним завьюченных лошадей.
Местами тропа была так узка, что высоко подтянутые вьюки проходили с
трудом. Левая их половина нависала над клокочущей внизу рекой, правая -
цеплялась за отвесные скалы. Лошади, пугливо кося глазом, шли по самому краю
обрыва, камешки из-под копыт сыпались в реку. Шо-Пир останавливал караван,
спешивался, вместе с караванщиками осторожно проводил лошадей через опасное
место поодиночке. Дважды за минувший день на неверных и узких карнизах
пришлось снимать вьюки и, балансируя над пропастью, переносить их на плечах.
Следом за Шо-Пиром на крупном осле ехал зимовавший в Волости дородный
фельдшер Ануфриев. Он не привык к горам, страдал головокружением, охал,
бледнел всякий раз, когда тропа вилась над пропастью. Пешком идти ему было
тяжело, ехать на лошади над такими отвесами он боялся, и потому Шо-Пир еще
три дня назад, отдав его лошадь под вьюк, предложил ему одного из самых
сильных и спокойных вьючных ослов, из тех, что шли в хвосте каравана.
Ануфриев почувствовал себя лучше, меньше жаловался на судьбу и даже вступал
в непринужденные беседы с Шо-Пиром, когда тот шел рядом, закрепив повод
своего коня на луке седла и предоставив коню идти без всадника.
Позади каравана, замыкая его, ехал верхом комсомолец Дейкин, посланный
в Сиатанг, чтоб организовать там первый советский кооператив. К трудностям
пути Дейкин относился с полным безразличием, настроение его было прекрасным,
грозная красота ущелья нравилась ему. Мурлыча себе под нос песенку, он с
удовольствием разглядывал острые зубья гранитных вершин, косматые перепады
реки, камни, на которые осторожно ставил подковы его маленький конь,
растянувшихся перед ним длинной цепочкой ослов, лошадей вдали, то и дело
исчезавших за ближайшим, огибаемым тропой мысом.
Чем больше приближался караван к селению, тем чаще фельдшер Ануфриев
задавал Шо-Пиру бессмысленные вопросы: какую квартиру получит он в Сиатанге;
не будет ли протекать крыша во время дождей; можно ли там достать ковры,
чтобы завесить стены обещанной ему комнаты; одолевают ли там самого Шо-Пира
блохи и комары?.. Фельдшер давно надоел Шо-Пиру, но, думая о том, что,
сбавив жирок, Ануфриев постепенно привыкнет ко всему, чего сейчас опасается,
и не желая ссориться с ним, Шо-Пир отвечал на все вопросы с неиссякаемым
благодушием.
- Так ты говоришь, - спрашивал фельдшер, - Даулетова сама амбулаторию
мне приготовила? А скажи, как с одою там будет: канавку мне подведешь или
ведрами придется таскать? Для больных, знаешь, воды много нужно, ведрами,
пожалуй, не натаскаешься!
- Можно и канавку, - думая о другом, отвечал Шо-Пир, положив руку на
круп шагающего осла. - Напрасно, товарищ Ануфриев, беспокоишься!
- А что, скажи-ка на милость, Даулетова жизнью своей довольна? Не
верится мне, чтоб так уж удобно устроилась.
- А что ей надобно особенного? Довольна, устроилась... Живем душа в
душу.
- Ну, да что ей! - ворчливо соглашался фельдшер. - Девка молодая, не
то, что я... Если б не заработок, разве б я поехал сюда? А она так, от прыти
одной стремилась. Насилу уберегся от нее осенью. Тащит меня к вам - и
никаких!.. Девушка напористая, даже бояться я стал ее! Как еще полажу с ней
в Сива... Сио... Тьфу, черт, никак не запомнить этих названий! Словом, в
Сиютюнге твоем, а?..
Но тропа становилась узкой. Шо-Пир вынужден был выйти вперед, взять
своего коня за повод, внимательно рассчитывать, можно ли здесь пропустить
вьюки без задержки? Снова бледнея, Ануфриев отставал от него, и Шо-Пир
радовался, что болтовня фельдшера оборвалась.
Приглядываясь к местности, Шо-Пир определил: скоро, вот, кажется, за
следующим мысом, будет пещера, где девятнадцать дней назад он расстался с
Ниссо... Все эти дни он думал о Ниссо беспрестанно.
Шо-Пир постарался отвлечься от неотступных мыслей, представил себе
Весенний праздник, который наступит послезавтра. Хорошо, что караван
подоспеет в Сиатанг как раз к этому событию. Конечно, сегодняшний переход уж
очень велик, следовало бы где-нибудь переночевать и прийти в селение завтра,
но единственная годная для ночевки площадка осталась позади. Нет, лучше
двигаться без задержки: вечерняя тьма придется на широкий участок пути, а
потом выйдет луна, лошади чуют тропу, не сорвутся, к полуночи, пожалуй, до
селения дотянутся...
Далеко опередив караван, Шо-Пир смотрит вперед, вдруг останавливается:
ему чудится далекий крик. Действительно, кто-то кричит непонятно где -
впереди, что ли? Или, может быть, Дейкин кричит в хвосте каравана?
Шо-Пир озирается, прислушивается. Сверху на тропу падает маленький
камень, конь Шо-Пира испуганно пятится. Что за чушь?.. Шо-Пир, закинув
голову, смотрит наверх, долго вглядывается в высокие скалы, замечает на
одной из них фигурку человека в халате, - человек размахивает руками, должно
быть, хочет обратить на себя внимание...
"Кого это нелегкая туда занесла?" - соображает Шо-Пир, стараясь
представить себе, как мог забраться человек на эту высь. Зрение у Шо-Пира
прекрасное, ему кажется... Нет, в самом деле... Ну конечно же, это
Карашир... Что ему делать там?
Шо-Пир машет ему рукой.
Карашир кричит во весь голос, но ветер относит его слова. Он снова
кричит, надрываясь, показывает рукой в сторону селения Сиатанг.
- А... а... и!.. А... а... и... А... и... ооо! - слышится Шо-Пиру.
Карашир повторяет и повторяет свой крик, Шо-Пир видит, как Карашир
пересекает себе горло ладонью и жестами старается изобразить, будто бы
держит в руках ружье. Шо-Пир напрягает слух, размышляет и, наконец, скорее
догадывается, чем слышит:
- Басмачи!.. Басмачи!.. Азиз-хон!..
И тогда сам выкрикивает те же слова, и Карашир подтверждает их кивками
головы и взмахами рук. Шо-Пир оглядывается; из-за мыса выезжает на осле
фельдшер Ануфриев, за ним тянется весь караван. Шо-Пир машет рукой, веля
Караширу спуститься, но сразу же понимает: здесь спуститься нельзя.
В грозную весть не хочется верить! Но само появление Карашира на этих
скалах подтверждает ее. Лицо Шо-Пира краснеет, он снимает с плеча винтовку,
полученную им в Волости, заряжает ее. Карашир, убедившись, что его
предупреждение понято, исчезает. Шо-Пир ищет его взглядом, но скалы наверху
пустынны, как прежде.
Шо-Пир сразу становится прежним - быстрым в расчетах, готовым встретить
опасность, уверенным в себе красноармейцем. Он мгновенно оценивает
обстановку: тропа узка, даже повернуть караван в этом месте нельзя; слева -
обрыв к реке, справа - отвесные скалы. Любая засада здесь грозит каравану
гибелью, всякая паника приведет к неминуемой катастрофе, - испуганные лошади
начнут сталкивать одна другую с тропы. Обстрел сверху, камни, сброшенные
оттуда, были бы неотвратимы, но наверху - Карашир, значит, басмачей там нет,
и, очевидно, им туда не пробраться, засада где-то впереди. Значит,
продвигаться вперед нельзя, но если удастся благополучно дойти до пещеры,
люди в ней могут укрыться. Басмачи вряд ли захотят уничтожить вьючных
лошадей, - они предпочтут захватить караван. Укрепиться самим в пещере,
перегородить камнями тропу впереди и позади каравана, - и можно
отстреливаться... Три винтовки - у Шо-Пира, у Дейкина, у Ануфриева;
охотничье ружье, переданное Шо-Пиром старшему караванщику. Патронов
маловато, - по двадцать на винтовку, всего шестьдесят.
Тронув повод, Шо-Пир едет дальше торопливой юргой, снова оставляя
караван позади. Лицо Шо-Пира сосредоточенно, он едет, зорко осматриваясь, ко
всему готовый, решительный. Огибает мыс, - тропа все так же узка. Вот над
тропою в скале зияет пещера, - всего в караване тринадцать человек, пожалуй,
уместятся!
Доехав до пещеры, Шо-Пир соскакивает с коня, перегораживает перед ней
тропу большим камнем, сворачивает другие, строит баррикаду. Караван тем
временем постепенно подтягивается. Шо-Пир видит недоумевающие, озадаченные
лица.
Через несколько минут все в караване узнают новость. Фельдшер Ануфриев
бледен, его пухлые губы дрожат, от испуга он заикается. Бормочет, что надо
бросить караван, самим бежать назад по тропе. Дейкин тоже бледен, но
сохраняет спокойствие; караванщики мрачны и насуплены... Все, однако,
безоговорочно повинуются приказаниям Шо-Пира. Самое главное: хвала Караширу,
нападение уже не будет внезапным! Люди поспешно снимают вьюки, оставляют их
на тропе между лошадьми, - так давки не будет, а если какая-нибудь лошадь и
погибнет, то груз сохранится. Вход в пещеру наполовину заваливают камнями -
прикрытие для стрельбы готово. Оставив людей в пещере и наказав им в случае
нападения отстреливаться, Шо-Пир отправляется на разведку. Бредет вперед по
тропе, ищет малейшей возможности взобраться на скалы - туда, откуда кричал
Карашир; может быть, засада еще где-нибудь далеко, может быть, тропа
свободна даже до самого селения, - сверху ее будет видно, солнце еще не
село.
Но, отойдя совсем недалеко, Шо-Пир слышит позади себя, - там, где-то за
караваном, выстрел, за ним другой, третий... Неужели басмачи оказались
сзади? Шо-Пир поворачивается, бежит назад. Где-то близко, кажется, над самым
ухом, раздается выстрел, проносится пуля, Шо-Пир слышит ее свист... Значит,
они и здесь, впереди!
И пока Шо-Пир бежит к пещере, пули щелкают по камням перед ним и позади
него.
- Скорей, скорей, - кричит Дейкин.
Шо-Пир хватается за протянутые к нему руки, его втягивают в пещеру. В
глубине, забившись в угол, стуча зубами, скорчился фельдшер.
- Бери винтовку! - кричит Шо-Пир, видя, что винтовка фельдшера лежит у
него под ногами.
Ануфриев берется за винтовку, беспомощно вертит ее в руках.
- Эх ты, курица! - кричит Шо-Пир. - Отдай ее Мамаджану, если сам не
умеешь!
Ануфриев охотно протягивает винтовку рослому караванщику. Тот, оскалив
в улыбке зубы, спокойно задвигает затвор, приваливается к камням,
закрывающим вход в пещеру. Из-за мыса впереди вырывается всадник; Шо-Пир
тщательно целится. Взмахнув руками, но не выпуская винтовки, всадник падает
с лошади. Ударившись о выступ скалы, летит дальше и исчезает в реке.
Выстрелы сыплются из-за мыса вдоль тропы: подсеченный конь Шо-Пира встает на
дыбы, пытается повернуться на двух ногах и навзничь валится под обрыв. Снизу
доносится глухой и короткий плеск.
- Не стреляй зря! - тихо говорит Шо-Пир Дейкину. - Береги патроны!
Видишь, не подобраться сюда им...
Тропа впереди пуста. Позади - до самого мыса - стоят лошади каравана,
разделенные снятыми вьюками. Вьючных ослов за мысом не видно.
Следующая пуля сбрасывает в реку стоящего под пещерой осла, на котором
ехал Ануфриев. Басмачи прекращают стрельбу, должно быть, поняв, что
укрывшихся в пещере людей пулями не достать. В тишине слышны только
сдавленные всхлипывания Ануфриева. Забившись в угол пещеры, он лежит, закрыв
лицо руками.
Осторожно выглянув из пещеры, Шо-Пир видит: от лошади к лошади, от
вьюка к вьюку, пробираются ползком несколько басмачей. Да, это они ловко
придумали, - но пусть подберутся поближе. Шо-Пир толкает в плечо Дейкина.
Мамаджан тоже заметил их.
Подкравшись к последнему вьюку, три басмача стреляют почти в упор. Но
Шо-Пир хорошо укрыт. Он просовывает винтовку между камнями, щурится, ловит
мгновение. На мушке возникает бритая голова басмача. Шо-Пир плавно дожимает
спусковой крючок, - голова исчезает, пронзительный крик...
- Ага! Один есть!
Пули двух других щелкают по каменному своду пещеры.
- Вот я им... - Дейкин в горячности привскакивает, но возглас его
обрывается стоном, винтовка валится из рук, он падает.
Кровь заливает бледное, зеленеющее лицо Дейкина.
- Ануфриев, слышишь, чертов сын, погляди, что с ним!
Отвернувшись от Дейкина, Шо-Пир направляет винтовку на подскочившего к
пещере басмача. Стреляет в его блестящий коричневый лоб. Басмач приседает,
вьюном вертится на тропе, срывается, исчезает.
Третий уползает, пробираясь от вьюка к вьюку.
Снова тишина. Ануфриев дрожащими пальцами расправляет окровавленные
волосы Дейкина. Дейкин мертв. Ануфриев бессмысленно глядит на него, вызывая
негодование Шо-Пира.
За мысом, впереди, возникает большая белая тряпка. Кто-то, укрытый за
скалой, долго машет ею, наконец выходит, продолжая крутить тряпкой над
головой, - тучный белобородый старик в чалме, в шелковом сине-красном
халате, опоясанном ремнем с серебряной бляхой.
Это риссалядар. Никто в пещере не знает его. Он идет спокойно,
неторопливо. Оружия при нем нет.
Шо-Пир подпускает его шагов на двадцать:
- Стой!.. Что надо тебе?
Старик останавливается, поднимает руку:
- Я знаю, кто ты... Не стреляй... Говорить с тобой буду... Слушай ты, и
люди твои пусть слушают!
Шо-Пир хочет нажать спусковой крючок, но Мамаджан кладет руку на ствол
его винтовки:
- Зачем стрелять? Стрелять можно потом... Давай слушать!
Караванщики глядят на старика, наваливаются один другому на плечи.
Оглянувшись, Шо-Пир видит, что Ануфриев торопливо навязывает на свой рукав
повязку с красным крестом.
- Ты что это делаешь, фельдшер?
- Докторов они не убивают, я знаю! - побелевшими губами бормочет
Ануфриев.
- Эх ты! - Шо-Пир поворачивается к риссалядару: - Говори, послушаем!
- С тобой, Шо-Пир, - высокомерно, скрестив руки на груди, произносит
риссалядар, - двенадцать человек. Уже, наверное, есть мертвые... Сам
Азиз-хон, да будет с ним мир, велел мне сказать тебе: нас много, двести
человек, двести винтовок. У тебя и твоих людей - три. Наша власть - в
Яхбаре, наша власть - в Сиатанге. Все люди Сиатанга славят волю нашего
Азиз-хона - бог помог ему зажечь свет истины в Высоких Горах. Кто поможет
тебе в Высоких Горах? Безумен ты и люди твои, противясь воле нашего хана.
Пусть день просидите вы здесь, - все равно, конец ваш придет. Мы не будем
стрелять, не будем посылать воинов истины под ваши пули. Мы зажжем большой
костер, вы задохнетесь, как мыши в норе. Что помешает этому? Но милостив
Азиз-хон, и вот вам слова его: зачем убивать покорного человека? Пусть
живет, мы не тронем его. Говорю тебе, Шо-Пир, говорю твоим людям: отдайте
нам ваши ружья, ни один волос с ваших голов не падет. Вот смотри: священное
"Лицо веры", - риссалядар вынул из-под халата какую-то ветхую книгу в
изорванном кожаном переплете, - высокую клятву на этой книге дает наш хан, и
я даю с ним. Глядите, моими губами касаюсь ее, да будут святы произносимые
над нею слова! Отдайте ружья, идите с миром, куда захочется вам. Да
благословит покровитель милость нашего великого хана! Как верблюды, у
которых через ноздри не продета веревка, свободны вы!
- На книге клятва, - прошептал над ухом Шо-Пира Мамаджан, - не стреляй,
начальник. Кто в бога верит, не нарушит клятву над книгой... Скажи ему:
пусть отойдет, мы подумаем.
- Нечего думать тут! - гневно крикнул Шо-Пир. - Ты с ума сошел,
Мамаджан!
Мамаджан оглянулся на караванщиков, и все они разом заговорили:
- Пусть отойдет, подумаем мы! Правду он говорит!
- Конечно! - нетерпеливо закричал, поднимаясь от трупа Дейкина,
фельдшер. - Нечего горячиться тут, дорогой товарищ. Скажи ему: пусть идет,
посовещаться надо!
И, почувствовав, что убеждения сейчас бесполезны, с горечью воскликнув:
"Эх, дураки вы все!", Шо-Пир махнул рукой риссалядару:
- Иди! Подождешь ответа!
Риссалядар повернулся и важно зашагал к мысу, за которым ждали его
басмачи.
В пещере начался ожесточенный спор. Напрасно негодовал Шо-Пир; напрасно
доказывал, что басмачи все равно перережут пленных; напрасно убеждал, что
продержаться в пещере можно несколько дней и что помощь рано или поздно
придет, - вещь если Карашир сумел предупредить о нападении, то, несомненно,
и сейчас он не сидит наверху сложа руки... Жители гор, караванщики, поверили
клятве на книге, Ануфриев трусил бесстыдно и откровенно. И когда Шо-Пир
заговорил о том, что погибнуть в бою почетной смертью лучше, чем
подвергнуться истязаниям и пыткам в плену, - никто не захотел его слушать.
- Сиди здесь, если тебе угодно! - злобно заявил фельдшер. - А мы пойдем
и свои две винтовки сдадим. Надо быть дураком, чтобы лезть на рожон.
Останемся здесь - наверняка крышка, сдадимся - вернее, что будем живыми... И
нечего тут разговаривать, - разве не люди они? На кой черт им резать нас?
Караван нужен им, а не мы! А коли нам каравана не отстоять, то чего без
толку из себя корчить героев? Я - фельдшер, вот красный крест, ты думаешь,
это им непонятно? И кончим разговор, вот белая тряпка, показывай им!
Вынув из аптечной сумки, висевшей у него сбоку рулон бинта, Ануфриев
рывком руки распустил его и сунулся было к выходу из пещеры.
- Постой! - схватил его за руку Шо-Пир. - коли так, ваше дело, каждый
за себя решать будет. Кто хочет - идите. Я здесь остаюсь и винтовки своей не
отдам. Один защищаться буду, а патроны свои мне передайте...
- Если мы не сдадим патроны... - начал было Ануфриев, но Мамаджан
перебил его:
- Хорошо, начальник! Патроны - тебе... Твое дело - смерть, видим мы...
Ничего, ты храбрый человек, в раю будешь... Жены, наверное, у тебя нет,
детей нет. У нас жены есть, дети есть, жить хотим... Придем в Волость,
командиру расскажем... Давай руку, начальник.
И Мамаджан схватил, крепко пожал руку Шо-Пира, потом в неожиданном
порыве склонился и поцеловал ее.
- Не сердись на нас. Молиться за тебя будем! Когда жизнь и смерть на
скале встречаются, храбрым высокий путь!
Один за другим караванщики пожали руки Шо-Пира. Последний из них
промолвил: "Милостив к тебе будет Аллах!"
Ануфриев тоже было протянул руку, но Шо-Пир презрительно произнес:
- Они фанатики, а ты, сукин сын, трус! Иди лизать пятки хану!
И, не препятствуя молча снесшему оскорбление фельдшеру выкинуть из
пещеры белую ленту бинта, Шо-Пир сунул в карманы все предоставленные ему
патроны, сел за камнями, прикрывающими вход в пещеру, положил на колени
заряженную винтовку. Насупясь, молча смотрел он, как, выйдя из пещеры, один
за другим караванщики, замыкаемые фельдшером, шли гуськом к мысу. Несколько
басмачей во главе с риссалядаром вышли навстречу им, взяли у Мамаджана обе
винтовки, проводили пленных за мыс.
Охотничье ружье Шо-Пира с десятком набитых дробью патронов осталось в
пещере. Шо-Пир положил его рядом с собой, навел на тропу винтовку и, тяжело
вздохнув, приготовился к защите.
Вскоре басмачи вновь перешли в наступление. Они подбирались по тропе и
слева и справа; несколько человек, переплыв реку, заползли на
противобережные скалы, прямо против пещеры, и стреляли оттуда. Надежно
укрытый камнями, Шо-Пир посылал пули только наверняка, считая каждый
израсходованный патрон.
Сумерки быстро сгущались, сливая в темные пятна очертания скал.
Поглощенный стрельбой, Шо-Пир думал только о том, как бы не дать кому-либо
незаметно подобраться к пещере.
Стрельба басмачей то затихала, то становилась яростной и ожесточенной.
Несколько раз они пытались подбросить к пещере охапки сухого кустарника, но
Шо-Пир сбивал каждого, кто приближался. Вырванные с корнем кусты повалились
откуда-то сверху, ложились на тропу под пещерой, груда их все вырастала, и
помешать этому Шо-Пир не мог. "Но, - подумал он, - зажечь костер им все-таки
не удастся".
Когда куча кустарника поднялась до уровня пещеры, Шо-Пир, схватив за
ствол охотничье ружье, высунулся из-за прикрытия, надеясь сбить эту кучу
прикладом. Басмачи только того и ждали - Шо-Пир сразу же был осыпан пулями.
Что-то кольнуло его в левое плечо, он не подумал, что это пуля, но левая
рука сразу повисла. Он подался назад, увидел на гимнастерке кровь. Понял,
что ранен, выругался и быстро разорвал на себе гимнастерку. Сумка фельдшера
валялась посреди пещеры; но басмачи снова стали стрелять.
Боясь потерять силы, Шо-Пир положил ствол винтовки на камень. Теперь
стрелять было неудобно, и, увидев на противоположном берегу басмача, Шо-Пир
в первый раз промахнулся.
Тоскливое чувство овладевало им. Было уже совсем темно, - Шо-Пир
понимал, что скоро мушки не будет видно. Угрожающие крики басмачей надоели
ему, но он продолжал отстреливаться, зная, что патроны уже на исходе.
Сверху на груду ветвей кустарника неожиданно полилась какая-то
жидкость. Несколько капель брызнуло на Шо-Пира, - это был керосин. Шо-Пир
сообразил, что басмачи захватили тот керосин, что был навьючен в железных
бидонах на ослов, оставшихся позади каравана... Он понял еще, что теперь
конец близок. Перед его лицом огненной полосой промелькнули зажженные клочья
ватного халата, куча кустарника вспыхнула, затрещала, едкий дым повалил в
пещеру. Шо-Пир сразу же стал задыхаться, слабость одолевала его, глаза
заслезились, стрелять он больше не мог...
Сознавая, что погибает, Шо-Пир, широко размахнувшись, выбросил из
пещеры винтовку. Кружась в темном воздухе, она полетела в реку. Шо-Пир
здоровой рукой стянул с себя сапоги, выскочил из пещеры, ступил босыми
ногами прямо в пылающий костер, оттолкнулся, сделал сильный прыжок и головой
вниз полетел в черную, бурлящую внизу реку. А ущелье огласилось ревом
торжествующих басмачей.
Когда взошла луна, вновь завьюченные лошади каравана, сопровождаемые
воинством риссалядара, потянулись дальше, вверх по ущельной тропе. Вьюки,
оставшиеся от убитых лошадей, были распотрошены басмачами. Подгоняемые
плетьми, полураздетые и разутые, со связанными руками, фельдшер и
караванщики брели между всадниками. На шее каждого пленника лежала петля,
веревки тянулись к седлам погонщиков.
Дикие, ледяные вершины гор, среди которых до сих пор нечего было делать
человеку, оказались единственным убежищем для беглецов, спасающих свою жизнь
от воинства Азиз-хона. Фирны и ледники, объятые морозом, заиндевелые
зубчатые скалы не знали весны, - они были так же неподвластны теплу, как и
человеку. И те, кто до сих пор боялся горных дэвов и воющих страшных
метелей, пробирались теперь по двое, по трое и поодиночке к каменным кручам
водоразделов. На счастье беглецов, в последние дни метельные тучи курились
только над самыми высокими пиками. Погода стояла ясная, ветры по горным
склонам притихли. Все путники стремились к долине Большой Реки, надеясь
найти приют в приграничных селениях, расположенных на пути к Волости.
В середине дня Саух-Богор и две ее подруги увидели на соседнем
скалистом гребне ученицу Мариам - Туфу и ее мать. Перекрикиваясь через узкую
котловину, они решили соединиться и, потратив несколько часов на преодоление
преград, которые их разделяли, сошлись на другом склоне хребта, вознесенного
над рекой Сиатанг.
Карашир, скитавшийся по скалам уже второй день, дав знать Шо-Пиру о
басмачах, шел вдоль того же склона к селению. Он решил выбрать такое место,
откуда можно было бы, устроив обвал, задавить басмачей камнями. Над собою,
на фирновом скате, Карашир заметил людей: они пробирались гуськом,
освещенные заходящим солнцем. Приняв их сначала за басмачей, Карашир
спрятался, долго следил за ними. Они приблизились; он увидел, что это
женщины, узнал Саух-Богор. Вышел из-за скалы, закричал, замахал руками.
Когда изнемогающие от усталости женщины, наконец, добрались до
Карашира, он торопливо рассказал им о караване и объяснил, как хочет помочь
Шо-Пиру.
Уже начинало темнеть. Послышалось эхо идущей внизу перестрелки.
Женщины и Карашир направились к реке Сиатанг, пока еще невидимой,
скрытой внизу под ступенями огромных обрывов. Когда, наконец, путники
увидели реку, перестрелка уже прекратилась.
Тьма сгущалась, и было непонятно, что происходит внизу. Где-то в черной
бездне заиграли отсветы красного пламени. Женщины гадали: "Кто разложил на
тропе костер?"
Уже отсюда можно было столкнуть камни, они увлекли бы другие, обвалом
обрушились бы на тропу, скрытую от глаз темнотой и откосами скал. Но огонь
внизу мог быть костром каравана.
Решили дождаться луны.
Тут Карашир рассказал, что случилось с ним накануне утром, когда он
вместе с Бахтиором и ущельцами, починив последний карниз, собрался
возвращаться в селение.
Бахтиор послал Карашира вперед, чтобы он разыскал под одним из карнизов
оброненный лом и, найдя его, дожидался бы всех на тропе. Карашир ушел;
хотелось напиться чаю со всеми и вовсе не хотелось лезть под карниз по
отвесным скалам. Но Бахтиор велел, - он пошел. Долго занимался тщетными
поисками. Досадуя на Бахтиора, собрался уже вылезть на тропу, но увидел на
ней вооруженных всадников, притаился посмотреть: кто они? Всадники проехали
мимо. Карашир вылез на тропу, пошел навстречу Бахтиору. Неожиданно снова
услышал цокот копыт, опять притаился. По тропе ехали басмачи, очень много
басмачей. С ними - известные Караширу, бежавшие из Сиатанга сеиды и миры и
важный чернобородый всадник в богатой одежде, с окровавленной повязкой на
лице - наверное, сам Азиз-хон. Карашир услышал: сеиды ругали Бахтиора...
Когда проехали, Карашир долго сидел за камнем. Проскакал одинокий басмач, и
никто больше не появлялся. Карашир вышел и в том месте, где оставил
товарищей, не нашел никого. Тропа была забрызгана кровью. Карашир очень
испугался, решил спрятаться среди скал, нашел лазейку - взобраться наверх.
Вот здесь, под ним, сейчас этот найденный им трудный путь! Выбрался
сюда, просидел весь вчерашний день и сегодня, наблюдая за тропой: басмачи не
раз ездили по ней в обе стороны... А потом показался караван, и тогда
Карашир закричал Шо-Пиру...
Взошла луна. Отсветов костра уже не было. Карашир и женщины осторожно
двинулись вниз. Река заблестела внизу, и в лунном свете удалось различить
извитую нитку тропы. Все было тихо там - ни каравана, ни басмачей, Таясь,
соскальзывая с камня на камень, рискуя сорваться, путники спустились к
тропе, вышли на нее невдалеке от пещеры. Прижимаясь к скалам, чутко
прислушиваясь, подобрались к пещере, заглянули в нее, нашли холодный,
оцепеневший труп Дейкина, извлекли его на лунный свет, убедились, что этого
человека не знают, но он, наверное, русский, может быть, друг Шо-Пира.
Карашир сказал, что надо искать остальных наверху и внизу: наверное,
прячутся в скалах.
Луна поднималась все выше, заливала ярким светом ущелье. Карашир
осмотрел все вокруг, заглянул с тропы вниз. Скала уходила отвесом в реку,
тут спуститься было немыслимо. Но левее, там, где кончался карниз,
отброшенная мысом река окаймлялась полосой берега, загроможденной камнями.
Над ними на крутом, но доступном склоне темнели кусты облепихи.
Карашир направился к мысу, найдя вертикальную трещину, сполз по ней,
как по узкой трубе, достиг борозды, переходящей в крутую осыпь; скатился по
ней к реке.
- Шо-Пир!.. Шо-Пир!.. - осмелев, кричали наверху женщины, и голоса их
тонули в шуме реки, и никто им не отзывался.
Карашир побрел по береговой кромке. Входя в воду там, где кромка
исчезла, придерживался за зубья острых скал. Нашел на камнях окровавленный,
превращенный в мешок костей труп басмача, стянул с него сломанную пополам
саблю. Дальше, запутавшись в ветвях одинокого куста облепихи, висела
одиннадцатизарядная басмаческая винтовка. Карашир снял ее, убедился, что она
цела, и, хотя в магазине не осталось патронов, обрадовался, почувствовав
себя сильным.
Выбрался на освещенное луной открытое место, позвал женщин, показывая
им винтовку и саблю.
Они медленно спускались от тропы, а Карашир, обогнув мыс, направился
вдоль реки. Он шел дальше и дальше, уже теряя всякую надежду... Пройдя,
наверное, больше километра, испуганно остановился: на маленькой песчаной
отмели ничком лежал человек. Его босые ноги, освещенные луной, резко
выделялись среди мелких камней. Человек лежал неподвижно.
Подумав: "Мертвый", Карашир осторожно подошел, нагнулся и узнал
Шо-Пира. Бережно перевернул его, вгляделся в бледное, безжизненное лицо,
стер с него кровь и песок, тронул неестественно согнутую левую руку Шо-Пира:
она оказалась сломанной. Волнуясь, Карашир приложил ухо к груди Шо-Пира,
долго вслушивался и вскочил, закричав:
- Бьется!.. Великий покровитель, еще бьется!
И сразу, пронзительно, во всю силу своего голоса стал звать:
- Сюда, идите сюда! Шо-Пир еще живой, здесь!..
Никто не откликнулся. Карашир опрометью побежал назад, ошалело прыгая
через камни, скатываясь в быструю воду, одолевая ее течение, снова выбирался
на камни, продолжая кричать:
- Э! Э! Сюда!..
Наконец женщины услышали его.
На песчаной отмели они окружили лежащего без сознания Шо-Пира,
обрызгивали его лицо, вливали в рот воду по каплям.
Когда, наконец, Шо-Пир в первый раз глубоко вздохнул и с трудом
приоткрыл глаза, Карашир умиленно сощурился и чуть было не заплакал.
Сознание медленно возвращалось к Шо-Пиру, он застонал, закрыл глаза и,
превозмогая слабость, снова открыл их. Узнав Карашира и склоненную над ним
Саух-Богор, попытался приподнять голову, но, застонав, опять впал в забытье.
Получив известие о том, что яхбарский хан собрал банду басмачей для
перехода границы в районе реки Сиатанг, начальник волостного гарнизона
приказал своему помощнику Швецову немедленно, с двадцатью саблями, выступить
в операцию.
Ровно через час Швецов, взяв с собою гарнизонного врача Максимова,
выехал вниз по Большой Реке. Два ручных пулемета системы "шош" и старенький,
но надежный "максим", две сотни патронов на каждого бойца, галеты на
полмесяца, неприкосновенный запас фуража в передних седельных кобурах да
старая, девяностых годов, десятиверстная карта этого района, составленная,
как значилось по ней, "по расспросным сведениям", - вот все, чем располагал
маленький отряд для дальней и рискованной операции.
Красноармейские отряды в Сиатанг еще никогда не заходили. Этот
малоисследованный район считался спокойным.
Пятые сутки отряд с предельной для коней быстротой продвигался по
долине Большой Реки. Важно было либо предупредить налет, закрыв устье реки
Сиатанг, либо - если басмачи уже перешли границу - полностью их уничтожить.
Яхбарец, сообщивший о банде, не мог дать точных сведений о ее численности,
сказал только, что банда небольшая, но имеет европейские винтовки неведомого
ему образца.
Швецов хотел взять перебежчика с собой, но тот сказался больным, его
одолевала рвота, ехать он явно не мог.
После четвертой ночевки, выехав еще до рассвета, Швецов ранним утром
переправился через устье реки Зархок. Здесь к нему подбежал какой-то старик
в рваном халате и жестами объяснил, что в его саду спят два человека,
прибежавшие из Сиатанга.
Это были Худодод и его товарищ - Абдураим. Достигнув Верхнего Пастбища,
они с невероятными трудностями перевалили закрытый снегами водораздел и по
ущелью реки Зархок спустились сюда, надеясь пересечь путь каравану Шо-Пира,
предупредить его о налете банды. Они явились еще затемно, совершенно
измученные, и, узнав, что караван прошел мимо трое суток назад, в полном
унынии повалились спать. Два других спутника Худодода отморозили ноги и
остались лежать в селении Зархок.
Подложив под себя старинные фитильные ружья, Худодод и Абдураим спали,
накрытые одним одеялом. Швецов разбудил их. После долгой и трудной беседы, в
которой Худодод, поясняя свои, не понятные для русских, слова, старался
изобразить местность острым камешком на земле, Швецов понял, что отсюда,
кроме пути вдоль Большой Реки к устью реки Сиатанг, есть в селение Сиатанг и
другой путь, более короткий, хотя в это время года почти недоступный. Он
ведет вверх по ущелью Зархок, до середины его. Там, над маленьким
одноименным селением, где остались спутники Худодода, существует перевал, не
обозначенный на десятиверстной карте и даже в летнее время доступный только
для пешеходов. Могут ли сейчас там пройти лошади?
Худодод, выражая сомнение, качал головой, долго думал, припоминая
каждую преграду на этом опасном подъеме. Наконец объяснил, что "если люди
смелые, и лошади смелые, и сердца у них крепкие, и снег поверх головы им не
страшен", то отряд, пожалуй, пройдет.
Поверив Худододу, прельщенный перспективой замкнуть басмачей в
сиатангском ущелье, Швецов составил план действий. Младшего командира Тарана
с пятью бойцами и тяжелым "максимом" он решил направить вдоль Большой Реки к
устью реки Сиатанг. Таран должен был, закрыв ущелье снизу, отрезать банде
путь отступления. С остальными бойцами и врачом Максимовым Швецов решил
взять перевал, конечно басмачами не охраняемый, выйти к селению сбоку и
внезапной атакой нанести банде решающий удар. Швецов предупредил Тарана,
что, если перевал Зархок одолеть не удастся, весь отряд вернется сюда и
двинется на соединение с Тараном.
Худодод, невзирая на усталость, взялся провести Швецова через перевал.
Абдураим присоединился к Тарану.
Разделенный на две неравные части, отряд разъехался в разные стороны.
Худодод получил лошадь, на которой были привьючены пулеметные диски, - бойцы
разобрали их по рукам. Он ехал вслед за Швецовым, жуя на ходу галеты и на
поворотах разглядывая сухой, строгий профиль русского начальника. Худодод
размышлял о том, что этот человек, пожалуй, не испугается перевала, но
русских красных солдат слишком уж мало, и как бы басмачи не перебили их
всех...
К двенадцати часам дня, оказав в маленьком селении Зархок помощь
обмороженным товарищам Худодода, отряд Швецова выступил к подножью перевала.
Снеговая вершина над перевалом, тонувшая в облаках и тумане, казалась
бесконечно высокой. Кроме двух-трех других облачных островков над соседними
вершинами, в голубом небе не было ни единого пятнышка.
Покручивая желтоватые усы, насупившись, Швецов приказал начать подъем.
Красноармейцы спешились, повели коней в поводу. Неразработанная, заваленная
мелкой щебенкой тропинка поднималась по осыпи крутыми зигзагами. Местами ее
пересекали широкие полосы рыхлого снега. Чем выше, тем глубже становился
этот угрожающий лавинами снег, скоро он скрыл под собой тропу. Люди и лошади
вязли, проваливались, спотыкаясь о скрытые снегом камни. Тропинка
поднималась все круче. То справа, то слева под ней открывались обрывы.
Все чаще приходилось останавливаться для передышки. Красноармейцы,
тяжело дыша, хватали воздух напряженно открытыми ртами. Увязая в снегу, кони
резкими скачками старались выбиться, но проваливались еще глубже - по брюхо.
Красноармейцы вытаскивали их, проваливались сами, падали и поднимались.
Острые камни в кровь резали коням ноги, на снегу оставались ярко-красные
пятна.
В опасных местах, там, где снег перекрывал не только тропинку, но и
глубокие расщелины между скалами, Худодод и Швецов выходили вперед,
разрывали снег руками, стараясь нащупать твердую почву. Бойцы, повалившись
как попало, тем временем отдыхали. Селение Зархок, окутанное легкой
голубоватой дымкой, было уже далеко внизу, но расстояние до вершины,
казалось, ничуть не уменьшалось. На невероятной крутизне тропинка терялась
совсем. Справа и слева выделялись заиндевелые острозубые скалы.
Бойцы держались за хвосты лошадей, но лошади, спотыкаясь, уже не
оставались на месте, а, соскальзывая, скатывались вниз. Каждую минуту любая
из них вместе с уцепившимся за ее хвост красноармейцем могла сорваться в
пропасть, но пока, прокатившись несколько метров, они все же удерживались,
вставали, вновь и вновь лезли вверх.
За четыре первых часа подъема никто не разговаривал. В морозном,
прозрачном, как будто стеклянном воздухе слышались только отрывистые
понукания да произносимые вполголоса, с хрипотцой, ругательства и ободряющие
слова. Пот струился по бледным от усталости лицам, вороты гимнастерок были
расстегнуты...
В пять часов дня, когда отряд одолел первый подъем и достиг небольшой,
заваленной громадными камнями площадки, Швецов приказал сделать привал, но
запретил курить. Бойцы повалились на снег. Лошади в непреоборимой усталости
тоже ложились рядом с людьми; другие стояли по колено в снегу, привалившись
на бок. Видно было, как туловища их подавались взад и вперед от частого и
напряженного дыхания.
Худодод, сидя на круглом камне и запрокинув голову, с беспокойством
вглядывался в темное облако, сползавшее навстречу отряду. Оно спускалось,
как опрокинутая круглая чаша, наполненная грязной растрепанной ватой. Швецов
подошел к Худододу, положил ладонь на его плечо, подмигнув глазом, указал на
облако, тихо спросил:
- Ну как, парень, думаешь?
Смысл вопроса Худодод понял и, цокнув языком, покачал головой. По его
мнению, дело оборачивалось неладно.
Через полчаса, одевшись в шинели, красноармейцы снова поползли вверх. С
гор потянул холодный ветер; налетая порывами, он дул все сильнее. Мелкая
ледяная пыль, бросаемая ветром, со злобной силой била по лицам, рассекала их
в кровь. Изможденные бойцы садились на снег, закрывая глаза руками,
набрасывая на головы полы шинелей; переждав порыв ветра, вставали, ползли
снова, подталкивая обессиленных лошадей. От ветра и снежной пыли глаза
слезились, слезы, смешанные с кровью, выступавшей из рассеченных льдинками
лиц, тут же заерзали, причиняя острую боль...
Швецов понимал, что, если ветер хоть немного усилится, катастрофа
неизбежна. И раздумывал: не лучше ли, пока не поздно, пока люди еще не
окончательно обессилели, повернуть назад? Но мгновениями в разрывах
мятущегося темного облака уже виднелась седловина перевала. До него
оставалось не более трехсот метров. Швецов взглянул на часы, - было восемь с
половиной часов вечера, солнце уже давно скрылось за гребнем горы, с
неприятной быстротой надвигались сумерки.
Швецов опасался, что, даже достигнув перевала, но попав в свирепую
снежную бурю, отряд окажется в ледяной ловушке и, потеряв в темноте и
снежном буране направление, замерзнет. Он снова подошел к Худододу и молча,
глазами, спроси его: продолжать ли путь? Худодод, сам вконец измученный, не
отрываясь смотрел на подступившее вплотную облако, прислушивался к ветру,
напряженно думая, что-то рассчитывал. Потом оглянулся на растянувшихся по
склону красноармейцев, облизнул свои окровавленные губы и решительно махнул
рукой, показывая: надо идти. Швецову нравился этот молодой и решительный
парень: чувствовалось, что ему, безусловно, можно довериться.
И, повернувшись к бойцам, Швецов закричал:
- Еще немного, ребята! Облако расходится, скоро ветром его унесет!
Бойцы ничего не ответили, но сидевшие на снегу приподнялись и снова
медленно поползли вверх.
И в самом деле, чем ближе подбирался отряд к гребню, тем слабей
становился ветер. Облако поредело, кое-где сквозь него показались звезды, и
Швецов в душе благодарил Худодода за верное предсказание и силу духа.
Через час отряд выбрался на перевал. Швецов закричал "ура", но тут же
провалился по грудь в снег.
На ровной площадке перевала, сбившись в кучу, красноармейцы лежали до
тех пор, пока дыхание не наладилось. Холод заставил их встать.
Предусмотрительный Максимов вытянул из кобуры седла большую флягу со
спиртом, дал отпить каждому бойцу. Один только Худодод отказался, хотя и
промерз не меньше других.
Отряд снова пошел вперед, чтоб выбраться из полосы снегов и где-нибудь
пониже найти среди скал площадку для ночного привала.
Меньше всего желая рисковать собою, Азиз-хон не пожелал углубиться в
ущелье, проехал два первых мыса и, найдя на тропе достаточно широкое место,
расположился здесь со своим штабом в ожидании известий о взятии каравана.
Скула Азиз-хона нестерпимо болела; полулежа на кошме, он, сняв повязку,
примачивал рану холодной водой. Никто не решался с ним разговаривать, все
сидели в безмолвии, взирая на шумящую внизу реку и с возрастающим
нетерпением ожидая гонцов, посланных Азиз-хоном к риссалядару.
Тот первый гонец, который привез известие о близкой победе, о пленных,
о русском докторе - "толстом, большом, плачущем, как женщина", - уехал с
приказанием Азиз-хона привезти доктора.
Мирзо-Хур, подсев к халифа, шептал ему на ухо, что теперь, пожалуй,
можно поверить: все расходы скоро будут возмещены. Халифа, возлагавший на
караван свои, пока никому не высказанные надежды, слушал молчаливо. Искоса
наблюдая за ними, Науруз-бек припоминал свои заслуги и, предвидя, что эти
двое, конечно, захотят его обделить, обдумывал, как оградить себя от обмана.
Время шло к вечеру. Косые солнечные лучи отступали вверх по
противоположному склону. Поглядывая вдоль тропы, все ждали: вот-вот взятый
караван появится из-за мыса... Несколько басмачей, оставленных Азиз-хоном
при себе, все чаще взбирались на крутую осыпь, стараясь сверху высмотреть
приближающийся караван. Последние лучи солнца соскользнули с зубцов
встающего над ущельем хребта, тени над рекою сгущались. Долгое ожидание
раздражало Азиз-хона. Он беспрестанно менял примочку и перебирал агатовые
четки.
- Едет! - увязая в мелком щебне, скатился с осыпи забравшийся выше
других басмач.
Все всполошились. Но на тропе показался только один торопливый всадник,
вооруженный винтовкой и кривой саблей. Обогнув мыс, он подскакал к
Азиз-хону, спрыгнул с седла.
- Где караван? - резко спросил Азиз-хон. - Пленные где?
- Наши воины, достойный, столпились на дороге... Пленным никак не
пройти.
- А почему нет каравана? Что делает риссалядар?
- Тот один, что остался в пещере, - гонец отступил на шаг, - стреляет!
- Что ты хочешь сказать? Не взяли еще каравана?
- Не взяли еще, почтенный... Тот, один...
- Один, один! - закричал Азиз-хон. - Сто воинов, шестьдесят винтовок
одного взять не могут? Что ты лжешь мне, собака? Отправляйся назад!
Риссалядару скажи: взять живьем русского, привести сюда. Пленных тоже сюда!
Гонец, вспрыгнув в седло, поскакал назад, рискуя сорваться с тропы.
Наступила тьма. Все молчали. Азиз-хон, страдая от боли, лег, положив
руки под голову. Над ущельем заблистали звезды. Зубчатые вершины сдвигались
так близко, что небо казалось извилистой звездной рекой.
Наконец подскакал второй всадник. Размахивая саблей, он закричал:
"Слава покровителю! Взят караван! Идет сюда, скоро здесь будет!"
Азиз-хон не обрадовался.
- Пленные где? Тот русский где? Почему с коня не слезаешь?
Обескураженный гонец скатился с лошади:
- Идут тоже, милостивый... А тот русский... В реку бросился, утонул...
- Взять не могли? Собачьи хвосты! - выругался Азиз-хон. - Сиди здесь...
Гонец отошел к басмачам, охраняющим лошадей, зашептался с ними.
Тьма сгустилась совсем. Каравана все не было. Забинтовав с помощью
Зогара в щеку, Азиз-хон в тревоге велел конюшим подтянуть подпруги.
Послышался цокот копыт - третий всадник, осыпав щебень с тропы,
подъехал к Азиз-хону.
- Ну? Где караван?
- Смири гнев, благословенный! Я только маленький человек... Дошли до
широкого места. Хотят повернуть караван, уходить в Яхбар. Караван стоит.
Наши воины спорят: "Зачем нам в Сиатанг? Что еще там получим? Товар можно
дома делить!"
- Как дома делить товар? - вскочил с ковра Мирзо-Хур. - Почтенный хан,
что это такое?
- Молчи! - огрызнулся Азиз-хон, свистнув в воздухе плетью. - Не с тобой
разговор!.. А ты, бородавка риссалядара, рассказывай дальше!
- Несколько воинов сбросили вьюки, кричат: стрелять будем! Идти сюда
другим не дают. Риссалядар ругается с ними.
- Вот что! - подавился бешенством Азиз-хон. - Скачи назад, коня не
жалей! Мое слово риссалядару: тех, кто повернуть хочет, казнить, в реку
бросить! Не сделает - сам приеду! В уши тебе это вошло?
Слышал. Скажу, достойный!
- Пленный где?
Азиз-хон всматривался в лицо молчавшего басмача, но не мог разглядеть
его в темноте.
- Не гневайся! - тихо ответил гонец. - Я только вестник. Вины на мне
нет... кончили пленных: под ногами путались, мешали всем.
- А доктора? - Азиз-хон положил руку на подвешенный к поясу маузер без
кобуры.
- И доктора... Хныкал очень, всем надоел. Саблей разрубили плечо, потом
руки сломали, потом грудь резали - мягкий очень был, как жирный кабан,
визжал... Потом в реку бросили!
- Так! - голос Азиз-хона охрип. - Скажешь риссалядару - тех, кто резал,
связать, сюда привести! Мне он нужен был, доктор! - Хлестнув плетью по ноге
всадника, Азиз-хон вдруг пронзительно, тонким голосом закричал: - Мне!
Понимаешь, собака? Рану мою лечить! Поезжай!
Довольный, что дешево отделался, басмач стегнул коня, растворился во
тьме. Мирзо-Хур хотел было изложить свои жалобы, но побоялся ярости
Азиз-хона. Хан, удаляясь по тропе, сел на камень, наблюдая, как вдоль ущелья
медленно пробирается свет луны, выступающей из-за гребня горы. Пенные
глубокие воды реки мерцали внизу зеленым золотом.
Когда лунный свет коснулся тропы и обнаружил сидящих в молчании людей,
из-за мыса выехал еще один всадник. Шагом приблизился он к Азиз-хону, узнал
его, осадил коня, спешился, в поклоне коснулся ладонью чалмы, выпрямился.
Азиз-хон, уже овладевший собой, всматривался в его освещенное луной
безбородое лицо:
- Что там?
- Не гневайся, благословенный! Риссалядар казнил троих. Караван идет.
Сейчас будет здесь.
- А те, что доктора резали?
- Вот это и были они, что кричали "домой!": Хайдар-бек, Рахим-джан.
Казнил их риссалядар, и еще одного, который не резал!
Азиз-хон плюнул в лицо приехавшему, круто повернулся, пошел к ковру.
Гонец утерся рукавом халата, сел на коня, плашмя ударил его саблей между
ушами. Ошеломленный конь припал на колени, вскинулся на дыбы, понесся очертя
голову...
Наконец за мысом послышался дробный перестук многих копыт. В лунном
свете показалась длинная цепочка всадников. Между ними, раздельно, шли
вьючные лошади каравана.
Не дожидаясь риссалядара, Азиз-хон тяжело сел на подведенного к нему
коня и, ни разу не оглянувшись, шагом поехал к селению. За ханом вытянулся
весь его штаб. Риссалядар не старался догнать его и продолжал ехать во главе
своего притихшего воинства.
Позади каравана шли лошади с привьюченными к ним с двух сторон,
завернутыми в кошмы мертвецами. Это были басмачи застреленные Шо-Пиром. За
ними, пешком, замыкая процессию, шли несколько стариков с фитильными
ружьями.
Риссалядар хотел отправить трупы в Яхбар, но не нашлось басмача,
который взялся бы сопровождать их: каждый рассчитывал поживиться товарами
каравана.
Молчаливое спокойствие возвращающейся в селение банды было вынужденным
и напряженным: банда текла по узкой тропе, как сдавленная в трубке вода.
Едва басмачи достигли последнего мыса, за которым раскрывался пустырь, как
сразу же с гиком и свистом разлетелись по каменистой россыпи, гоня перед
собой вьючных лошадей каравана. Вьюки полетели на землю. Веревки, спадая,
путали ноги лошадей. Спотыкаясь о камни, лошади прыгали, бились: басмачи
гнали их дальше, радуясь, когда распотрошенных вьюк распадался. Перегнувшись
на стременах, они выхватывали из груды товаров то, что попадалось под руку
и, нахлестывая ошалелых коней, мчались кто к уда: к подножью осыпи, к хаосу
скалистой гряды, к реке... Прятали свою добычу и возвращались, чтобы
налететь на следующий вьюк.
Напрасно разъяренный риссалядар носился по пустырю, стремясь прекратить
грабеж, напрасно охрипшим голосом грозил немедленной казнью всякому, кто
прячет под камни товар. Басмачи не повиновались ему, а когда он направил на
одного из них револьвер, окружили его, крича, размахивая саблями и
винтовками.
Азиз-хон, уже было достигший крепости, услышав за собой буйные крики,
повернул со всем штабом и примчался на помощь к риссалядару.
- Проклятье и смерть всем! - в бешенстве заорал он. - Остановитесь!
Разве ваша добыча от вас уходит? Разве я сказал, что вы недостойны платы?
- Не надо нам твоей платы, - послышался дерзкий голос. - Сами возьмем!
Дело мы сделали, что надо еще? Домой хотим! Что делает риссалядар? Трех
доблестных воинов он убил! За что убил? Собака он!
- Кто кричит? - негромко сказал Азиз-хон. - Пусть подъедет сюда, если
не трус. Нет его? Смотрите все - нет его? Разве верный не может повторить
свои слова перед лицом хана? Риссалядар казнил трех изменников - пытать мы
хотели пленных, узнать у них, что нам надо! Кто помешал этому - тот
изменник. Прав риссалядар! Оставьте караван, поезжайте в крепость. Я сам
буду наделять каждого по заслугам его. О покровителе забыли вы? Разве пиру
ничего посылать не надо? Разве достойный купец даром кормил вас в Яхбаре и
не заслужил своей доли в добыче? Или моим обещаниям не верите? В крепость,
верные, в крепость, кто хочет милости моей, а не гнева! Риссалядар, возьми
десять честных, все собери, привези в крепость - делить по закону будем!
И, круто повернув коня, Азиз-хон поехал вперед. За ним потянулся штаб.
Басмачи остались на месте, совещаясь вполголоса. Наконец решили подчиниться
приказанию и все вместе, гурьбой, двинулись к крепости. Риссалядар с десятью
надежными стариками остался собирать разбросанные вьюки и снова кое-как
грузить их на лошадей.
Вскоре в крепости запылали четыре огромных костра. Риссалядар и
Науруз-бек, выгоняя ущельцев из домов, заставляли их носить хворост. Весь
запас топлива, оставшийся в селении после зимы, был взят из домов факиров и
навален кучей посреди крепостного двора. Одна за другой сюда подходили
лошади. Вьюки сваливались в огромную груду. Мешки, ящики с продовольствием,
тюки мануфактуры, битая посуда, хозяйственная утварь - ведра, чайники,
кирки, лопаты, - консервы, медикаменты, множество самых разнообразных
предметов - все без разбора нагромождалось горой, освещенной шумно
полыхающими кострами. Басмачи сидели теперь внутри четырехугольника,
образованного кострами, с жадностью рассматривая богатую добычу. Азиз-хон,
купец, Науруз-бек, Зогар, все сеиды и миры, вся знать расположилась на
коврах перед награбленным.
Бобо-Калон, выйдя из палатки и заняв место рядом с Азиз-хоном, был
молчалив и сосредоточен. Кендыри сидел на камнях, в стороне от всех,
наблюдая издали за происходящим.
Позади Азиз-хона разожгли маленький, пятый костер: всем хотелось видеть
получше каждую вещь, предназначенную для дележа.
Ущельцы, принесшие хворост, жались к крепостным стенам, рассматривая те
богатства, какие достались бы им, если бы в селение не пришли басмачи.
Чувствуя на себе осуждающие, враждебные взгляды, Науруз-бек заорал на
часовых, велел выгнать ущельцев из крепости.
Старики, допущенные Азиз-хоном к добыче, перешвыривали вьюки, щупали
мешки, разламывали уцелевшие ящики; Мирзо-Хур с Науруз-беком торопливо
оттягивали в сторону наиболее ценное.
Работа проходила при общем молчании и продолжалась так долго, что
Азиз-хон задремал. Но как ни хотели спать басмачи, никто не сводил
воспаленных глаз с товаров, мелькавших в зыбком свете костров.
Вскоре костры пожрали весь запас хвороста, принесенный ущельцами. Луна
приблизилась к гребню горы. Азиз-хон очнулся и, опасаясь, что в темноте
воинство вновь сделает попытку расхватить товары, приказал риссалядару
добыть еще топлива. Риссалядар с десятком басмачей отправился на конях в
селение, но вскоре вернулся ни с чем, заявив, что надо рубить в садах
тутовые деревья.
- Вот дерево! - сказал Науруз-бек, указывая на желоба, проходящие мимо
ханского канала. - Зачем далеко искать! Давай их сюда!
Риссалядар взглянул на линию нависших вдоль скалистой стены желобов;
сорвать их - пустое дело, а везти из селения срубленные деревья - тяжелый
труд для разленившихся басмачей. Конечно, можно принудить к этой работе
самих ущельцев, но риссалядар уже еле держался на ногах, ему не хотелось
снова грозить, распоряжаться. Что скажет, однако, хан?
- Ломай! - коротко приказал Азиз-хон.
Несколько басмачей вразвалку направились к скалистой стене.
Но тут насупленный Бобо-Калон встал, проговорил медленно и
недружелюбно:
- Мой дед строил этот канал... Не позволю ломать его!
Азиз-хон отвернулся. У него ныла скула. Всякий разговор причинял ему
боль. Он повторил риссалядару:
- Ломай!
Бобо-Калон прикусил губу, вышел из круга, медленно пошел к башне, хотел
обойти ее, но отшатнулся, чуть не наткнувшись на висящий перед ним в темноте
вытянувшийся и страшный труп Мариам. Бобо-Калон отвернулся от трупа, обошел
башню с другой стороны. Треск ломаемых желобов отзывался в его напряженном
мозгу.
Первый желоб рухнул на землю, раскололся по всей длине, и басмачи
поволокли его к затухающим кострам. Сердце Бобо-Калона забилось глухо и
медленно. В негодовании, в жестокой обиде он почувствовал, что вся его жизнь
рушится вместе с каналом, - ведь это был канал его дедов, висевший на
скалистой стене с далеких прошлых времен! Разрушая его, Азиз-хон бьет по
лицу самого Бобо-Калона и предков его, некогда вот так же порабощенных
яхбарцами. Дороже людей и дороже их крови Бобо-Калону этот канал,
построенный его дедами!
В бессильной ненависти старик опустился на камень, замкнул слух
ладонями и только смотрел не мигая туда, где в ярком, вновь высоко
полыхавшем огне корчились длинные, черные, как обугленные живые тела, стволы
желобов. На фоне горящих костров метались фигуры басмачей; началась дележка
награбленного.
Бобо-Калону казалось, что он видит непонятный и страшный сон. В этом
сне вставали, извиваясь, языки красного пламени. Туча черного дыма шаталась
над шабашем дэвов. Толкаясь, крича, суетясь, возникая в отсветах пламени,
они подбегали к груде накопленных за все времена богатств... Бобо-Калон не
видел теперь ни Азиз-хона, ни Науруз-бека, ни Мирзо-Хура, - он видел только
мелькание поднятых, протянутых, машущих рук. Он слышал только назойливый
гул, в котором нельзя было различить отдельных требующих, приказывающих,
негодующих, злобных и радостных голосов. Какие-то темные, скрюченные под
тяжестью ноши фигуры мелькали вдоль крепостной стены, разбегались, пропадали
за пределами крепости. Резкие, визгливые выкрики доносились издалека - может
быть, от реки, может быть, от потонувшего в лунной дали селения.
Все вдруг затихло, умолкло, остановилось, и в свете костров Бобо-Калон
увидел халифа и купца Мирзо-Хура, стоящих лицом к лицу, о чем-то яростно
спорящих. "Богу!" - кричал халифа. "Мне!" - орал Мирзо-Хур, и ругань обоих
смешивалась, и нельзя было разобрать слов, потому что оба говорили слишком
быстро. Кто-то смеялся над ними, и кто-то пытался их помирить.
Может быть, Бобо-Калон просто слишком устал от двух бессонных ночей, от
шума и суматохи. Ведь он привык быть один, привык к покою! Мгновениями ему
казалось, что он умер и все это происходит над миром, из которого он ушел.
Ум старого Бобо-Калона мутился. Далекий от всех, залитый светом луны,
он смотрел в разъятую пламенем костров тьму, ничего не сознавая, ни в чем не
участвуя, не в силах преодолеть странного своего состояния.
Но вот издалека доносятся новые дикие звуки, - это не похоже на все,
что слышалось ему до сих пор. Они врываются в уже надоевший однообразный
гул. Они входят в сознание Бобо-Калона. Старик напрягается, внимательно
слушает... Это пронзительные женские вопли; они доносятся из селения, в них
- отчаяние... Что происходит там?
Бобо-Калон встает, медленно подходит к крепостной стене, поднимается по
кладке руины, как по ступеням. Всходит на стену и видит вдали несколько
пылающих стогов клевера на черных плоских крышах домов. Женские вопли
несутся с разных сторон, в лунной дали не видно людей. Но Бобо-Калону
понятно все: воины Азиз-хона, наверное те, кто уже получил свою долю,
гоняются за сиатангскими женщинами... Во тьме, на тропе, ведущей от селения
к крепости, появляется всадник, он гонит коня по камням, проскакивает в тот
пролом, где были когда-то крепостные ворота, и Бобо-Калон видит всадника под
собой, - это старый басмач из помощников риссалядара. Размахивая плетью, он
прокладывает себе дорогу в толпе, окружающей Азиз-хона. Не добравшись до
него, останавливается, кричит:
- Слушай меня, достойный! Шесть воинов, взяв в селении жен, уехали в
Яхбар! Ничего не хотели слушать!
Толпа басмачей умолкает. Азиз-хон, полуобернувшись к всаднику, глядит
на него, молчит...
- Я говорю, достойный, тебе! - кричит всадник. - Я говорю тебе... Шесть
воинов...
- Ты говоришь! Ты говоришь! - вдруг распаляется Азиз-хон и, вскочив,
обращается к риссалядару: - Ты сидишь здесь, почему не смотришь, где люди
твои? Хочешь, чтоб я здесь один остался? Садись на коня, поезжай туда, стань
на дороге перед ущельем, стреляй во всех, кто не повинуется нам! Разве не
изменник тот, кто покидает своего хана? Скорей!
И риссалядар - безответный, мрачный - подзывает надежных людей,
выкликает их имена. Они неохотно отвязывают коней, тяжело садятся в седла.
Один из них подводит коня риссалядару. Вскинув на плечи ремни винтовок,
обнажив сабли, ватага всадников выезжает из крепости, скачет по тропе в
селение. Дележка возобновляется, а из селения доносятся, слабея, замирая и
возникая снова, вопли женщин. И горит на плоских крышах домов сухой,
запасенный с прошлого года клевер.
Прижав ладонь к левой половине груди, словно сдерживая трудное
сердцебиение, Бобо-Калон спускается со стены: он увидел на тропе двух
задыхающихся от бега сиатангцев. Он не хочет, чтобы его видели, но те уже в
крепости и подбегают к нему и падают перед ним на колени. Он узнает
приверженцев Установленного - Исофа и Али-Мамата. Трясущийся, со
всклокоченной бородою, Али-Мамат, задыхаясь, снимает со своей головы тюрбан
и - величайший знак унижения - бросает его под ноги Бобо-Калону.
- Проклятье на нас, достойный! - негодует Али-Мамат. - Это не воины
истины, это волки... Грабят нас, жгут наши дома, разве неверный я? Дочь мою,
Нафиз, схватили два волка... Проклятье на мне! Жену мою Ширин-Мо увели, я на
это смотрел, пусть лучше птицы выклюют мне глаза! Не можем мы на это
смотреть, ты, Бобо-Калон, теперь хан! Скажи, пусть прекратится это, пусть
верные догонят тех двух волков! Неужели нет верных?
- Пойдем! - коротко бросает Бобо-Калон Али-Мамату, коснувшись его
плеча. - Встань, пойдем! - И, выпрямившись, направляется к Азиз-хону. Исоф и
Али-Мамат, робко озираясь на пропускающих их басмачей, идут следом.
- Говори ему! - произносит Бобо-Калон, подведя Али-Мамата к Азиз-хону.
Али-Мамат и Исоф простираются перед Азиз-хоном, причитая, униженно
молят его...
Но Азиз-хон не желает слушать.
- Убирайтесь! Какое мне дело! Свой хан у вас есть!
- Это верные, Азиз-хон! - произносит Бобо-Калон. - Али-Мамат не факир,
племянник мира Тэмора.
- Уберите пыль с моих глаз! - в ярости Азиз-хон делает знак басмачам.
Слышен хохот. Басмачи хватают за ноги Али-Мамата, оттаскивают его,
пинками поднимают с земли Исофа, гонят прочь.
- Я хан! Что делаешь ты, безумный?! - кидается Бобо-Калон к Азиз-хону,
подняв кулаки.
- Для факиров ты хан! - не отстраняясь, насмешливо говорит Азиз-хон. -
Не для нас... Не увезут в Яхбар твоих женщин, я приказал риссалядару. А если
воины истины позабавятся с ними сегодня ночью, какая беда? Разве хуже станут
они работать потом? Разве от яхбарцев плохие у них родятся дети? Или ты
думаешь, что эти валявшиеся у моих ног почтенны? Нет почтенных здесь, кроме
тех, кто пришел со мной! Презренны все, кто оставался жить на оскверненной
неверием земле!
Бобо-Калон, окаменев, видит насмешливое лицо Азиз-хона, улыбки
сомкнувшихся вокруг, поблескивающих оружием басмачей. Оскорбление жжет его,
словно он напился разъедающей кислоты. Сеиды и миры, сидящие отдельно от
всех, понуры и мрачны и не глядят на него. Он медленно обводит взором
костры, в которых догорают изломанные желоба его канала; башню, которая из
жилища его превращена в виселицу и в тюрьму; груды раскиданного по двору
изломанного, изорванного хлама; стену крепости и пролом в ней, за которым
далеко внизу в лунной мгле мерцают догорающие пожары... Он молитвенно
складывает ладони на груди под белой своей бородой.
- Вы, пришедшие сюда люди! - отчетливо говорит он. - Ты, дружбу
суливший нам, Азиз-хон... Вы, сеиды и миры, вернувшиеся на свои земли, чтобы
восславить попранный неверием закон Установленного... Слушайте меня, я
говорю вам... Я не звал тебя, Азиз-хон. Ты пришел сам. Ты сказал: "Стань
ханом, - приду и уничтожу неверных и прославлю свет истины, и уйду!" Я
поверил тебе, Азиз-хон, хотя предки мои не верили твоим предкам, приходившим
завоевывать нашу страну. Я думал: теперь времена иные, прежние ссоры между
верными покровителю забываются! Я согласился, и я молчал, когда ты,
Азиз-хон, совершал правосудие! Я думал: просияет вновь Установленное. Но ты
пришел, и стон стоит в Сиатанге, будто сами скалы обрушились на наши сердца.
Всех смешал в одну кучу ты: неверных и верных, как волк, не разбирающий
белых и черных овец! Тебе нужно было только это добро, привезенное сюда для
неверных. Тебе нужна была женщина. Презирая Установленное ради страсти
твоей, ты не казнил эту женщину, - до сих пор, живая еще, лежит она в этой
башне! Знаю, мрачен и злобен сейчас твой взгляд, но не смотрю на твое лицо.
Смотрю выше, на эти горы. Во все пять кругов моей жизни смотрел я на них, а
теперь вижу их в самый последний раз. Я не могу тебе сказать: уходи! У тебя
- оружие, и ты не уйдешь. Но мой час пришел, я не хан! Если меня убьешь -
хорошо, значит, так хотел покровитель. Если ты меня не убьешь, я уйду. В эти
горы уйду, - ни один шаг мой не будет вниз, каждый шаг будет вверх: как по
ступеням, буду я подниматься к небу! Если барс выйдет ко мне из снегов, я
благословлю его, как посланника покровителя... Ухожу и останусь там!
Проклятье тебе, Азиз-хон!
Бобо-Калон умолк.
- Одержимый он! - тихо, но внятно произнес кто-то в толпе басмачей. -
На надо трогать его... Пусть уходит!
- Да... Пусть уходит! Пусть сдохнет во льдах! - Азиз-хон резко отложил
в сторону маузер, которым перед тем играли его дрожащие руки. - Мы презираем
его и не слушаем его слов...
Бобо-Калон медленно стянул с плеч подаренный ему Азиз-хоном халат,
надетый поверх своего белого ветхого сиатангского халата. Смял подарок в
руках, швырнул его в костер. Блеснув серебром и золотом, халат развернулся в
воздухе, рукава его взметнулись, как крылья. Накрыв пламя, обвитый искрами,
он вспыхнул и распался в огне.
Снова прижав руки к груди, прямой, как всегда, Бобо-Калон вышел из
круга расступившихся перед ним басмачей. Ненавидимый сиатангцами,
презираемый басмачами, не оглядываясь, он дошел до тропы, уводящей к
Верхнему Пастбищу, и, удаляясь, белым пятном растворился в тени, перекрывшей
лунную мглу ущелья.
Азиз-хон плюнул на землю и, обратившись к руководившему дележкой
товаров, всеми в эту минуту забытому Науруз-беку, сказал:
- Продолжай!
Всю ночь не спал Кендыри, наблюдая происходящее. Сидел под навесом
своей цирюльни, бродил по крепостному двору, смотрел, слушал. Его одолевала
скука. Он был недоволен поведением Азиз-хона, но сознавал, что изменить
ничего нельзя. Азиз-хон, конечно, зарвался. Лучше, чем когда бы то ни было,
Кендыри понял его в эти последние сутки. Дружбы с сиатангцами, на которую
так рассчитывал Кендыри, у Азиз-хона не получилось. Не разбираясь толком в
политике Кендыри, изменяя свое могущество только количеством устрашающих
сиатангцев преступлений, Азиз-хон с самого начала изменил условиям заговора,
тщательно продуманным Кендыри и разработанным еще зимою в Яхбаре.
Разве так должны были развернуться события? Поддержанная дружбою
яхбарского хана сиатангская знать, возглавленная Бобо-Калоном, должна была
привести в повиновение жителей Сиатанга. Объединив их с яхбарцами
религиозным фанатизмом, настроить все селение против советской власти,
призвать его к действию в тот момент, когда русские красноармейцы появятся в
устье реки Сиатанг. Конечно, если б случилось так, Азиз-хон мог бы долго
оставаться здесь со своей бандой. Русским понадобилось бы много времени и
сил, чтоб сломить сопротивление Сиатанга и восстановить в нем советскую
власть. Миссия Кендыри была бы выполнена превосходно. Получилось иначе: вряд
ли теперь даже сами сиатангские сеиды и миры хотят, чтоб Азиз-хон задержался
здесь. Случай с Бобо-Калоном наполовину расстраивал планы Кендыри. На
поддержку населения Азиз-хону рассчитывать, безусловно, не придется.
Конечно, тот первый красноармейский отряд, который явится сюда дня через
два, будет уничтожен воинством Азиз-хона, но разве не ясно, что это воинство
стремится только как можно скорее вернуться восвояси с награбленной добычей?
Азиз-хон поспешит убраться отсюда, а это никак не входит в расчеты Кендыри.
Лишь бы не вздумал уйти немедленно! Все совершенное до сих пор оказалось бы
ненужной бессмыслицей, если б красноармейский отряд, явившись сюда, нашел бы
здесь только следы банды. В этом случае все происшествие никак не могло бы
послужить поводом для срыва дружественных переговоров между двумя
державами... "Слишком мало шума, - сказал себе Кендыри, досадуя на
Азиз-хона, - во что бы то ни стало надо удержать его здесь хотя бы на эти
два или три дня!.."
Так размышляя, Кендыри расхаживал по крепостному двору. Вся суматоха
вокруг, крики, споры, все эти чуждые ему страсти, разыгравшиеся при дележке
товаров, ему надоели. Он давно уже хотел спать, но превозмог себя, чтобы все
время быть в курсе событий. Прислушиваясь ко вновь и вновь возникающим
пререканиям Мирзо-Хура и халифа, он предвидел, что едва мелкие подачки
воинам будут розданы и настанет момент раздела основного груза между халифа
и купцом, пререкания эти перейдут в крупную ссору.
Кендыри не сомневался, что Азиз-хон скоро вспомнит о заключенной в
башню Ниссо. Но когда, наконец, расчеты с воинами были окончены, а Мирзо-Хур
и халифа, зевающие, бледные от усталости, решили поспать, прежде чем
заняться разделом товаров между собой, Азиз-хон с трудом встал и, держась за
свою забинтованную щеку, направился к палатке.
На рассвете в крепости наступило полное успокоение. Костры погасли.
Весь крепостной двор был усеян спящими где и как попало ханскими воинами.
Сеиды и миры лежали на коврах, укрытые ватными одеялами. Из селения уже не
доносилось никаких криков, - все было тихо и там.
Лошади дремали вдоль коновязи, понурив головы. Овцы и коровы в загоне
за мельницей лежали, приткнувшись одна к другой. Огромный коричнево-черный
гриф сидел на вершине башни, поглядывая на труп Мариам и терпеливо дожидаясь
своего часа.
Только на крыше мельницы, под которой лежали привезенные из дома
Бахтиора мешки с зерном, да вокруг груды не разделенных пока товаров, да еще
возле двери в башню, за которой томилась Ниссо, бодрствовало несколько
вооруженных винтовками стариков. Они казались такими же нахохленными и
терпеливыми, как гриф, застывший на верхней площадке башни.
Подойдя к крепостным воротам, Кендыри убедился, что за пустырем, перед
входом в ущелье, все еще дежурят всадники риссалядара. Подумал, что теперь,
пожалуй, можно лечь спать - до середины дня ничего нового не предвидится.
Подобрал брошенное посреди двора одеяло, прошел под навес своей цирюльни и
лег, подложив под голову локоть.
Мысли, однако, не отступали... Красноармейский отряд может явиться сюда
не раньше, чем через два дня. Бхара не меньше чем за сутки предупредит о
приближении отряда огнем или дымом костра вон на той далекой вершине. На
всякий случай надо не позже чем в следующую ночь сообщить о красноармейцах,
как о внезапной новости, Азиз-хону... Организовать в сиатангском ущелье
засаду...
И, уже засыпая, Кендыри стал гадать, как отнесется к этой новости
Азиз-хон? Не струсит ли, чего доброго? Что-то уж слишком охотно предоставлял
он до сих пор всю инициативу риссалядару...
Кендыри спал меньше часа. Он видел себя в большом кабинете, за круглым
столом. Стекла массивных книжных шкафов поблескивают вдоль стен кабинета.
Хрустальная люстра множит и переливает яркий свет, бьющий из-под потолка.
Семь профессоров сидят за круглым столом, и Кендыри, скрывая смущение,
медленно обводит взглядом их гладко выбритые, выжидающие, строгие лица. Если
Кендыри выкажет смущение, - шесть лет обучения пропадут даром! Шесть лет
назад он еще имел право смущаться, непроизвольно улыбаться, выражать своими
глазами любое чувство, охватывавшее его, и не думать об управлении каждым
мускулом своего лица... Теперь неподвижное лицо его стало маской, и это
считается одним из первых его положительных качеств. Но он смущен сейчас: он
уж слишком долго обдумывает ответ на последний вопрос. Неужели сорвется? Ему
неловко, что он волнуется, - таким, как он, ни при каких обстоятельствах
волноваться нельзя! Он чувствует, что две-три ближайшие минуты решат его
судьбу. Он напрягает волю, вспоминает все, чему учили его, - неужели он не
ответит на этот проклятый вопрос?
"Я дал бы им всем слабительное, - наконец решительно отвечает он, - и
проверил бы содержимое их желудков!.."
"Да, да!" - Легким утвердительным кивком сидящий прямо против него
профессор подтверждает, что судьба его решена благополучно. Шесть лет труда
не пропали! Все удалось! Но над ним обезьяна, - уцепившись мохнатой рукой за
люстру, над ним висит обезьяна. Ему непонятно: зачем им понадобилось
испытывать его еще этой неожиданной обезьяной? Она кладет руку ему на плечо
и трясет его...
Кендыри открывает глаза: в лицо ему бьет яркий солнечный свет.
Склонившись над ним, сжимая рукой плечо, осторожно трясет...
- Это ты, Бхара! - не обнаруживая удивления, спокойно говорит Кендыри.
- Почему пришел?
- Питателю трав и всех растений, привет солнцу, привет луне, привет
пречистому, привет всемирному! - скороговоркой говорит Бхара, и его беззубый
рот похож на дыру. По бесчисленным морщинам его лица текут мелкие капельки
пота. - Я не успел зажечь огонь. Я бежал, лошади не бегают так... Красные
русские солдаты идут к устью реки!..
Сна как не бывало. Кендыри сразу садится, глядит на согнувшегося перед
ним на корточках Бхару:
- Уже? Ты видел их?
- Вчера утром сидел на горе на полдороге к устью Зархока. Смотрю: едут.
Сосчитал: пять. Ждать других - пропустил бы этих. Как обогнать бы их?
Увидели бы меня! Побежал к реке, надул козью шкуру, плыл по Большой Реке,
потом побежал сюда... Сейчас они, наверно, подошли к устью, вечером могут
прийти сюда. На тропе воинов нет...
- Что еще?
- Все, высокий! Где быть мне?
- В камнях. Ты видишь - тебя не видят. Иди!
Бхара исчез. "Если б не догадался плыть по Большой Реке, пожалуй, не
опередил бы их, - подумал Кендыри, охватив руками колени. - Машина работает
быстрее, чем я предполагал. На целые сутки раньше!.. Да, просчитался бы я,
если бы вместо Бхары направил наблюдателем кого-нибудь из этих ханских
кретинов! Однако надо немедленно действовать!.."
Разбуженный Азиз-хон был совершенно ошеломлен новостью. Он расхаживал с
Кендыри вдоль крепостной стены, дрожащей рукой поглаживая свою черную
бороду. Он струсил так, что успокоительные слова Кендыри долго не доходили
до него. Кендыри видел: Азиз-хон на своих воинов не надеется, и даже
заверение, что красноармейцев не может быть больше двадцати - двадцати пяти
человек, не вызвало у растерянного и удрученного хана воинственного пыла.
- Откуда взялись? Как узнали они? Что теперь делать? - растерянно
задавал Азиз-хон вопросы и то порывался сейчас же будить всех своих воинов,
то просил Кендыри хранить новость в строжайшей тайне.
- Вот что, мой друг, - наконец брезгливо объявил Кендыри. - Надо
немедленно ставить засаду в ущелье, назначить всех вооруженных винтовками.
Впереди этой засады поставить другую, которая пропустила бы красноармейцев и
завалила бы за ними тропу камнями так, чтоб они не могли отступить. Все
очень просто. Красноармейцы будут уничтожены до последнего человека.
- Хорошо, - наконец ответил Азиз-хон. - Я пошлю риссалядара ставить
засады, ты тоже поезжай с ним, покажи, где и как, дай хороший совет.
- А ты?
Азиз-хон ответил лишь после продолжительного раздумья. Следя за
выражением его лица, Кендыри поймал быстрый, украдкой брошенный взгляд в
сторону тропинки к перевалу Зархок.
- Я здесь останусь вместе с Зогаром, - ответил Азиз-хон. - Пусть все
видят: спокоен я.
Кендыри понял значение пойманного им взгляда: конечно, от Азиз-хона
можно этого ожидать! Он хочет быть в стороне от событий и в случае неудачи,
бросив всех, спастись сам. Он возьмет с собой Ниссо и Зогара, кинется к
перевалу Зархок и постарается кружным путем пробраться в Яхбар.
- Нет, Азиз! Так не будет. Ты и Зогар тоже должны быть в засаде. Твое
присутствие воодушевит твоих воинов.
- Я здесь буду. Я сказал! - мрачно заявил Азиз-хон, не глядя на
Кендыри, не постеснявшегося лишить его даже этого "хон"...
- Вот что, Азиз! Я вижу, ты сомневаешься, что мы победим. Это глупости,
конечно: у тебя шестьдесят винтовок, почти сотня воинов. Тех - не больше
двадцати - двадцати пяти человек. Ты прекрасно знаешь: один храбрый человек
в наших местах, сидя в хорошей засаде, может уничтожить сотню врагов. Но
даже если... Чего бояться тебе? Ты должен помнить одно: что бы ни случилось,
ты молчишь обо мне. Я знаю тебя: молчать ты умеешь. Даже если бы ты попал в
плен, тебе не грозит опасность. Мои люди сделает все: ты будешь обменен на
крупного человека, ты нам нужен еще, и ты будешь жив, вернешься в Яхбар.
Беспокоиться тебе не о чем. Но если б ты предал меня, тебе спасения нет: ни
здесь, ни в Яхбаре. В плену будешь - русские тебя уничтожат. В Яхбар
свободным вернешься - мои люди найдут тебя и убьют.
- Твой разговор хорош! - то ли с язвительностью, то ли с покорством
пробормотал Азиз-хон. - Зачем говорить о моем молчании? Я знаю тебя и твоих
людей. Но если другие?
- Кто другие? Риссалядар? Халифа? Им тоже скажи.
- Купец... Науруз-бек...
- Об этих не беспокойся. Мое дело. Больше никто обо мне не знает. А
теперь победи свой страх, подними людей, поезжай готовить засаду. Я хочу
здесь остаться один. Позже приеду к тебе, посмотрю... Ручаюсь: сегодня
вечером ни один красноармеец живым не будет. Ты понял меня, Азиз?
Азиз-хон больше не спорил. Он понял главное: Кендыри помешает ему
бросить всех и бежать. Он постарался придать своему лицу выражение
уверенности и величественного спокойствия и уже хотел сразу будить свое
воинство.
- Подожди, Азиз-хон! - быстро сказал ему Кендыри, успевший обдумать
новый шахматный ход: под любым предлогом немедленно удалить Азиз-хона из
крепости. - Ты сейчас молчи. Садись на коня, поезжай один к риссалядару.
- Зачем?
- Пусть приедет сюда. Нам сначала нужно посовещаться втроем.
- Разве хан не может послать гонца? - возмутился Азиз-хон.
- Не обижайся. Ты должен поехать сам. Все спят, пусть спят, никто не
должен проснуться до времени. Разве хан не может проверить, как несут
дежурство его подчиненные? Садись, поезжай.
- Не понимаю тебя.
- Ты поймешь... Это важно... Стой здесь, я подведу тебе коня сам.
Кендыри отошел. Азиз-хон остался на месте, стараясь подавить свое
оскорбленное самолюбие, обиду, негодование, страх... Он слишком хорошо
понимал, что все его могущество и власть - пустой звук для этого
повелевающего им иноземца.
Когда Кендыри подвел коня, Азиз-хон сел в седло и молча уехал. Кендыри
знал, что настроение Азиз-хона может измениться в любую минуту, и не
доверялся ни обещаниям его, ни покорности. Кендыри обернулся, внимательно
поглядел на двух сидящих у дверей башни стражей; склонясь на свои винтовки,
они храпели. Кендыри оглядел весь двор, - ни одного бодрствующего человека
во дворе не было. После трех бессонных ночей, после всех волнений спали
крепко.
Кендыри быстро прошел к камням, нагроможденным за башней. Над обрывом к
реке помахал рукой: Бхара должен был его видеть. И Бхара мгновенно возник
перед ним, подбежав неслышно и осторожно.
- Стой здесь. Смотри, слушай! Если кто-нибудь из этих двоих проснется -
перережь горло. Тихо сделаешь! - Кендыри протянул Бхаре свою большую
железную бритву.
- Так, высокий! - послушно пролепетал Бхара.
Кендыри, миновав стражей, на цыпочках подошел к двери башни. Скинул
веревку, заменяющую засов, резко распахнул дверь, проскользнув в башню.
Связанная по рукам и ногам, Ниссо в полубеспамятстве лежала на каменном
полу. Дневной свет заставил ее приоткрыть глаза. Не поворачивая головы, она
застонала. Кендыри подскочил к ней, закрыл ей рот ладонью:
- Это я, Кендыри! Тише, Ниссо! Все спят сейчас, я хочу спрятать тебя,
спасти от Азиз-хона тебя, понимаешь?
Ниссо смотрела на Кендыри расширенными, испуганными глазами. Она не
понимала, что он говорит. Сколько времени провела она здесь в мраке и
одиночестве? И, не зная, что происходит за стенами башни, видя перед собой
только страшное с выколотыми глазами лицо Мариам, до сих пор ощущая на своем
горле петлю, не спала ни минуты, непрестанно ожидая, что вот дверь
откроется, к ней войдут, чтоб ее пытать и убить. Страх то сковывал ее
ледяным холодом, то жег так, что она покрывалась испариной. Вначале она
билась, пытаясь освободиться от режущих веревок, затем, обессилев, лежала в
полузабытьи, желая только, чтоб все это скорее кончилось... И ужас вновь
охватывал ее, и она опять начинала биться и кататься по каменному холодному
полу. И когда по ней снова проползла змея, она в исступлении закричала и
кричала долго, пока не охрипла, не потеряла голос. После этого она замерла,
закрыв глаза...
И вот свет, яркий, режущий - глазам больно! За нею пришли...
- Я Кендыри! - наконец дошел до ее сознания тихий голос. - Я спрячу
тебя, чтоб никто не тронул тебя, только тихо, тихо!
Кендыри подхватил ее на руки, вынес на яркий солнечный свет, еще раз
шепнул: "Тихо!" Какой-то другой, дикого облика человек подхватил ее ноги.
Оба бегом кинулись к камням, вместе с Ниссо припали к земле. Кендыри
выглянул из-за камня, прошептал:
- Хорошо. Все спят... Там, за овечьим загоном, большие зерновые ямы.
Отведи ее туда, Бхара, спрячь в яму, сверху закрой камнями... Ты, Ниссо, не
бойся его!
Отполз, встал, спокойно вернулся к башне, закрыл дверь, взглянул на
двух спящих, свесивших головы басмачей, неторопливым шагом вернулся на то
место у крепостной стены, где оставил его Азиз-хон, сел на обрывок мешка.
Азиз-хон вместе с риссалядаром въехал в крепость. Кендыри встретил их,
помог Азиз-хону сойти с коня.
- Ты знаешь то, что я просил Азиз-хона тебе передать? - спросил Кендыри
риссалядара.
- Знаю! - Лицо риссалядара было серым от бессонницы и усталости.
- Что скажешь?
- Скажу: тебя надо убить или сделать тебя святым! - мрачно и откровенно
произнес риссалядар.
- Можно и то и другое вместе! - усмехнулся Кендыри. - Только ни ты, ни
Азиз-хон не сделаете этого. Не так ли?
Оба промолчали. Кендыри сказал:
- Поблагодари меня, риссалядар! Азиз-хон хотел взять Ниссо и Зогара,
бросить тебя, всех воинов и бежать в горы. Я просил его не делать этого. Не
так ли, мой дорогой хан?
- Тот, кто, живя, смеется, умирая, плачет! - сдерживая ярость, кинул
Азиз-хон. - О чем совещаться будем?
- Не сердись, достойный, - произнес Кендыри. - Я совещаться раздумал.
Все ясно. Иди будить воинов!
Круто повернувшись, Азиз-хон бросил повод коня в руки риссалядару и
пошел к палатке.
Когда все басмачи после долгого переполоха, беганья по двору, криков,
приказаний и угроз риссалядара были уже на конях, Азиз-хон велел Зогару
войти с двумя воинами в башню и привести к нему Ниссо: он решил взять ее с
собой в засаду. Зогар, обнаружив исчезновение Ниссо, вернулся к палатке
бегом. И тут Кендыри впервые увидел, в какое бешенство может впасть
Азиз-хон. Разъяренный, с пеной у рта, он сам избил плетью старика,
охранявшего башню, - бил его по лицу и плевал на него, и, охрипнув от
ругательств, топтал его ногами, когда тот повалился на землю. Второй страж
тем временем успел ускользнуть. Воины риссалядара, сидя на конях, угрюмо и
безмолвно смотрели на это зрелище.
- Искать! - наконец хрипло заорал Азиз-хон. - Всем искать! Горы
перевернуть! Мы никуда не уедем, пока я сам не казню эту тварь!
Риссалядар, приподнявшись на стременах, взмахнул саблей:
- Пока будем искать, красные солдаты придут сюда! Давай едем!
Конь риссалядара галопом вылетел из ворот крепости. Басмачи, совсем не
желая испытывать на себе бешенство Азиз-хона, со свистом и гиканьем
понеслись за риссалядаром. Последним выехал халифа. Двор крепости опустел.
Азиз-хон в полной растерянности заметался по двору. Равнодушный, с
бесстрастным лицом, Кендыри подвел к Азиз-хону его коня.
Белый от ярости, Азиз-хон двумя руками схватил Кендыри за плечи и,
впиваясь в него своим налившимся кровью глазом, прошептал:
- Ты?
Кендыри, бросив повод, спокойно взялся за кисти рук Азиз-хона, сжал их
особым приемом, отвел от своих плеч, отступил на шаг, небрежным движением
распахнул халат: Азиз-хон увидел на поясе Кендыри новенький парабеллум.
Кендыри положил на него пальцы.
- Напрасно волнуешься, Азиз-хон. Когда ты перебьешь русских - всех, до
одного человека, - ты получишь свою Ниссо. Я спрятал ее потому, что она
мешает тебе воевать. Сделаешь с ней, что захочешь! И не беспокойся, - я даю
тебе клятву: она будет цела! Не горячись. Не ищи. Не найдешь!
- Ты дьявол! - прошептал Азиз-хон.
- Не будем ссориться, хан! - дружелюбно усмехнулся Кендыри, и его
всегда холодные глаза сейчас были веселы. - Я друг тебе и другом твоим
останусь... Садись на коня, поезжай!..
Закусив губу, но тут же застонав от боли, какую причинила раненая
челюсть, Азиз-хон сел на коня, вытянул его плетью так, что он взвился на
дыбы, и карьером помчался вдогонку банде.
Кендыри стоял, смотря ему вслед и беззвучно смеясь.
Во дворе крепости на коврах перед палаткою шептались сеиды и миры.
Купец Мирзо-Хур ходил вокруг груды товаров, ревниво на них посматривая.
Науруз-бек, следя за Кендыри, жевал сухими губами. Перед башней лежал
окровавленный, забитый насмерть басмач.
Буро-черный гриф, распялив когти на плечах Мариам, раскачивал ее тело.
С высокой горы за всем, происходящим в селении, в восьмикратный бинокль
наблюдал Швецов. Время от времени он передавал бинокль лежавшему рядом с ним
Худододу.
Одежда у нас из чудесного льна, -
Он нашей свободой креплен,
В нем плавятся пули, война не страшна
Для тех, кто одет в этот лен.
Все пули расплющив, из груды свинца
Отлили мы Славы Тетрадь, -
Чтоб вечной была, чтобы сын про отца
В нее мог всю правду вписать!
Письмена на скалах
В короткие минуты, когда сознание возвращалось к Шо-Пиру, его начинало
мучительно знобить. Утреннее солнце, пробиваясь в щель, где лежал Шо-Пир,
согревало его. Израненное тело чувствовало каждую неровность каменного ложа.
Женщины, с рассвета попрятавшись поодаль, в камнях, следили за тропой.
Они видели, как басмачи один за другим проскакали к Большой Реке, а за ними,
стреляя, на галопе промчались солдаты, одетые, как Шо-Пир, - наверно,
русские.
Долго слышалась стрельба по ущелью, затем несколько солдат проскакали
обратно, за ними шагом проехали еще несколько, гоня перед собой к Сматингу
спешенных басмачей, с закруженными за спиной руками.
Саух-Богор пробралась к Шо-Пиру, заглянула ему в лицо, - ждала его
взгляда. А когда он полуоткрыл глаза, радостно зашептала ему в ухо,
рассказывая все, что видела на тропе.
Шо-Пир понял только, что в сиатангском ущелье появились красноармейцы.
Но как и откуда они пришли? Он знал, что Карашир давно ушел в Сиатанг, и
теперь надеялся на спасение.
Затем на несколько часов он снова спал в беспамятство. Когда, отправив
бойца с конем обратно, гарнизонный врач Максимов, предводительствуемый
Караширом, пробрался вдоль берега к убежищу Шо-Пира, где его встретили
женщины, Шо-Пир был еще без чувств.
Маленький, быстрый в движениях Максимов, ни слова не говоря, скинул
шинель, склонился над раненым, пощупал пульс, прислушался к сердцу, осмотрел
рану в плече и сломанную руку Шо-Пира. Раскрыл медицинскую сумку, вынул и
аккуратно разложил на сухом камне марлю, бинт, йод, нашатырный спирт - все,
что могло понадобиться.
Скрестив пальцы на обломке басмаческой сабли, Карашир сидел поблизости,
сосредоточенно наблюдая за движениями Максимова. Женщины стояли тут же,
полукругом. Им розданы галеты, но, забыв о голоде, они наперебой шепотом
расспрашивали Карашира о новостях. Карашир ответил, что в селении не был,
знает, что Исоф жив, Рыбья Кость жива, но кто еще жив, а кто мертв - не
знает, и велел женщинам молчать, "не мешать русскому доктору".
Расслышав сквозь шум реки короткий крик наверху, Карашир подхватил свою
одиннадцатизарядную винтовку, с которой не расставался вторые сутки, и
отбежал взглянуть на тропу.
Три красноармейца ехали шагом в сторону селения. Перед ними гуськом шли
пленные басмачи, связанные одной длинной веревкой. Карашир вернулся к
Максимову и в ответ на его вопросительный взгляд с важностью поднял руку: не
беспокойся, мол, продолжай свое дело...
Шо-Пир застонал, едва Максимов нащупал его сломанную кость. Не обращая
внимания на стоны раненого, Максимов довел процедуру до конца.
- Ну как, браток, дышишь?.. Вот и все! - сказал Максимов. - Теперь твое
дело верное. Такому богатырю жить да жить!..
Шо-Пир пошевелил губами, силясь что-то сказать, но язык не повиновался
ему.
- Воды! Дайте ему воды! - сказал Максимов, протягивая женщинам пустую
флягу. Саух-Богор поняла, схватила флягу, помчалась к реке.
Жадно отпив несколько глотков, Шо-Пир облизнул пересохшие губы,
остановил взгляд на синих петлицах врача:
- Отку... откуда... вы... взялись?
- Не надо разговаривать... Слушайте, а сами молчите... Из Волости,
отряд Швецова... Пришли через перевал Зархок, вашего парня встретили в устье
реки Зархок, показал нам дорогу...
- Зак... Закры... Закрыт... - с трудом произнес Шо-Пир.
- Закрыт перевал? - понял Максимов. - Молчите, вам говорю... Верно,
закрыт, снега немало. А только где коза пройдет, там и наш брат пройдет, по
теории: ползком, где низко, тишком, где склизко. Басмачи нас не ждали
оттуда. Как только они в ущелье забрались, так мы сверху, проскочив селение,
ущелье закрыли. А снизу, с Большой Реки, у нас пять хороших ребят это же
ущелье закупорили! Вот и оказалась банда вся, как в трубе... Тут им каюк!..
Кое-кто, правда, прямиком на скалы полез; а кто в реку стал прыгать - но,
думаю, немногие выплыли. Других и сейчас еще ловим, - выстрелы слышали?
Ну-ну, не надо отвечать, тихо лежите... Сейчас на тропу вас потащим.
Придется немножко помучиться, да вы, я думаю, терпеливый. А там носилки
соорудим и - пожалуйте на отдых в селение...
- Аз... зиз... хон?..
- Азиз-хон? Главарь их? - Максимов кивнул на Карашира, насторожившегося
при упоминании имени хана. - Вот спасибо ему! Живьем взяли...
- Ниссо... Бахтиор... Мариам... Гюльриз, - собравшись с силами,
отчетливо проговорил Шо-Пир.
Максимов рассердился:
- Велел я вам не разговаривать? Извольте молчать... Живы, все живы.
Нечего о других спрашивать, сам еще чуть живой...
Шо-Пир закрыл глаза. Он опять потерял сознание. Максимов долго возился
с ним, стараясь привести его в чувство, потом махнул рукой и с помощью
женщин и Карашира подложил под Шо-Пира свою шинель.
Поднятый на шинели, Шо-Пир застонал, голова его запрокинулась. Врач
беспомощно оглянулся: чем бы заменить подушку? Карашир посмотрел на женщин,
потом на свой халат, не задумываясь, обломком сабли отхватил от него длинную
полу, скрутил ее в комок, подложил под голову Шо-Пира, поддерживаемую
врачом.
Осторожно ступая шаг за шагом, Шо-Пира понесли по кромке береговых
скал.
Через полчаса на носилках, сделанных из шинели и двух палок, Шо-Пир был
в пути к селению Сиатанг.
В том месте, где накануне располагался штаб басмачей, ожидавший взятия
каравана, Карашир указал женщинам на узкую, уходящую вверх осыпь, из которой
выступали острые зубья скал:
- Здесь его взял я.
- Кого? - спросила Саух-Богор.
Карашир гордо ткнул себя в грудь кулаком:
- Азиз-хона... Сам взял, понимаешь? Я, Карашир, взял хана... Трое было
их: хан, халифа и мальчишка. Увидели они - дела плохи: сзади - красные
солдаты, спереди бой идет, тоже, значит, солдаты. Бросил всех хан, сюда
убежать хотел. А наверху я сидел. Понимаешь, вон там - смотри наверх - за
той скалой я сидел. Почему сидел? В Сиатанг шел. На тропе - басмачи, думаю:
выше пройду. Поверху шел, где козел лазать не может. Бой начался - сижу,
ждать надо. Сверху видно: три яхбарца на лошадях, за ними, по тропе, уже
близко солдаты. Не видят этих людей... Правду скажу, Саух-Богор: не думал я,
что это сам Азиз-хон. Бросил он лошадь, два других тоже бросили. Выстрелили
в лошадей. Лошади в реку упали. Сами лезут сюда. Ой-ой, страшно, думаю:
короткие ружья, сабли в руках... Прямо на меня лезут... Убежать, думаю. А
потом думаю: хорошее ружье есть у меня. Зарядов нет, только я себе сказать
не хочу, зарядов нет. Уйдут, думаю, эти люди от красных солдат. И еще думаю:
не знают они, что в ружье у меня нет зарядов. Сижу. Страха нет больше.
Красные солдаты внизу показались, вот здесь, где идем сейчас. Теперь, думаю,
ничего: помощь у меня есть. Кричу: "ай-ио!.. ай-ио!.." Вот красные солдаты
Азиз-хона увидели. И я вижу: сам Азиз-хон. Думаю: я Карашир, моя жизнь
ничего не стоит, может быть, овца волка съест. Вот стреляют они: Азиз-хон,
халифа, Зогар - вниз; красные солдаты - вверх, мимо меня пули. Ничего,
думаю, пуля умная. Азиз-хон лезет, жарко ему, раздевается. Понимаешь, халат
один сбросил, халат другой сбросил, чалму сбросил, если б не увидал моего
ружья, совсем голый, наверно, остался бы. Я высунул ружье - прямо в рот ему
смотрит. Откуда он знает, что зарядов нет? Кричу: бросай маленькое ружье.
Саблю бросай! - кричу. Вот бросил он. Халифа тоже бросил. Мальчишка не хотел
бросать, Азиз-хон кулаком ударил его, - тоже бросил. Стоят... Ай,
Саух-Богор, понимаешь, стоят, как пустые деревья зимой. Вот красные солдаты
снизу подошли, взяли их. Меня тоже сначала взяли: думали, я басмач... Потом
Худодод прискакал, смеются тогда, начальник их целует меня. Вот так целует
меня: смотри, ай, спасибо ружью!
Карашир, продолжая шагать по тропе, скинул с плеч винтовку, поднял ее
на ладонях, бережно поцеловал затвор. Саух-Богор рассмеялась:
- Ты, наверно, врешь, Карашир?
- Проклята будешь ты, и я буду проклят, - рассердился Карашир, - если
четверть слова неправда! Вот русский доктор все знает. Вот все уже это
знают. Овца я? А вот не волка, целого Аштар-и-Калона съел я...
- А где Азиз-хон сейчас?
- В селении он. Не знаю где. У красных солдат... Ай, собака! Ай,
скорпион, как мне он попался!.. Вот спасибо мне! Вот я теперь большой
человек! Иди... Разговаривать с тобой надоело!
Подтолкнув женщину, усомнившуюся в правдивости его слов, Карашир важно
зашагал дальше и, видимо позабыв обо всем окружающем, позабыв даже о
Шо-Пире, который покачивался впереди на носилках, запел песню, впервые в
жизни запел песню, - слова ее придумались тут же. Сначала тихо запел,
повторяя: "Волка съела овца, клыки съела его, когти съела его!", потом
вдруг, во весь голос, на все ущелье вывел такую ноту, что Максимов,
удивленный, приостановился, шагнул к нему:
- Ты что? Рехнулся?
Но, важный, с обрезанной полой халата, с винтовкой под локтем, Карашир
был так забавен, что доктор не мог удержать улыбки.
Дом Бахтиора басмачи не успели разрушить. В пристройке Швецов поместил
свой штаб, а комнаты были превращены в лазарет. В горячке, в бреду,
извлеченная из зерновой ямы, Ниссо лежала у окна.
Комната Шо-Пира была застлана вдоль стен соломой и одеялами; несколько
ущельцев и два красноармейца лежали на них. У самой двери вытянулась Рыбья
Кость.
Отряд Швецова еще действовал на всем протяжении ущелья - от селения до
Большой Реки. Худодод с несколькими факирами, вооруженными отнятыми у
басмачей винтовками, наводил порядок в сиатангской долине. Он разыскивал
отдельных попрятавшихся среди скал басмачей, сволакивал трупы других к
берегу реки, собирал разграбленное имущество и товары каравана, ловил
разбежавшихся лошадей.
Худодод принес из крепости несколько отрезов ситца и передал их
Гюльриз, что вместе с Зуайдой она сделала соломенные тюфяки для раненых и
больных.
Гюльриз и Зуайда шили мешки для тюфяков, сидя на полу лазарета, возле
Ниссо. Гюльриз беспрестанно вскакивала, подходила к окну: не покажется ли ее
Бахтиор? Никто не знал о нем ничего, в селении он не появлялся,
красноармейцы, возвращающиеся вместе с факирами из ущелья, не могли дать о
нем никаких сведений. Гюльриз была уверена, что он жив, и несколько раз
порывалась уйти на поиски, но Швецов не позволил никому, кроме вооруженных,
возглавляемых Худододом факиров, выходит из селения до полной ликвидации
банды; на подъеме к перевалу Зархок и у первого мыса ущельной тропы Швецов
поставил пикеты.
Была середина дня. От ущелья и с гор издалека доносились выстрелы. Из
окна школы видно было, как через пустырь к крепости время от времени
проезжали небольшие группы красноармейцев, сопровождавшие пленных. Ущельцы
встречали басмачей криками ярости, грозили им камнями, палками, готовы были
разорвать их.
- Дай руку, нана, - бормотала Ниссо, - помоги, вынь клюв из моей груди,
он рвет меня, душу рвет... Жарко мне. Больно мне...
- Успокойся, Ниссо! - Гюльриз дотрагивалась ладонью до горячего лба
девушки. - Лежи тихо, не вскакивай... Покровитель, что делать мне с ней?..
Успокойся, никто тебя больше не тронет...
- Шо-Пир, сбрось змею... И-о, Али, она на шее его, она душит его.
Шо-Пир, твоя шея черная... Оставьте его, не убивайте Шо-Пира... - Ниссо со
стоном откидывалась на подушку, кричала: - Убили его! Они убили его...
Обними меня, Мариам, мне страшно...
Слушая бред Ниссо, Гюльриз в отчаянии закрывала лицо руками.
- Воды! Дай ей воды, бабушка! - вмешивался рябоватый красноармеец с
простреленной ногой. - Тряпку намочи, на лоб положи.
Гюльриз не понимала, что говорит ей этот красный солдат, а он тянулся
рукой к пиале, стоявшей на полу у изголовья.
Гюльриз вставала, приносила воды, но Ниссо отказывалась пить. Рыбья
Кость стонала в углу, - все лицо, все тело ее было в кровоподтеках. Оказав
первую помощь, врач Максимов уехал в ущелье и вот уже несколько часов не
возвращался.
- Где Шо-Пир? - вдруг приподнималась Ниссо, глядя в глаза Гюльриз.
Гюльриз радовалась, что бред Ниссо кончился.
- Здоров Шо-Пир. Вернется сейчас.
- А ты знаешь, нана? Они повесили Мариам, - сообщала Ниссо, и старуха
снова впадала в отчаяние.
- Знаю, Ниссо... Их поймали.
- Азиз-хона поймали?
- Поймали. В башне он, под замком... Красные солдаты стерегут его.
- В башне?.. Вот хорошо...
Ниссо опять откидывалась на подушку, лежала тихо, а потом снова
начинала бредить.
- Позови Бахтиора, нана. Скажи ему - пусть ищет Шо-Пира... - вдруг
резко требовала Ниссо, и Гюльриз, сдерживая рыдания, отвечала:
- Он пошел уже. Он пошел.
Внезапно послышался стук копыт, оборвался под окном. Гюльриз кинулась к
окну. "Нет... Не он!" - прошептала она и снова взялась за шитье. В комнату
вошел Худодод, обвешанный оружием.
- Как вы тут, нана?
- Бахтиора не видел?
- Не видел, нана. Не волнуйся, Карашир сказал: в горах он скрывается.
Многие уже пришли с гор. Радость у нас: Шо-Пир жив.
Ниссо приподнялась:
- И-о, Али... Говори, где он?..
- Он ранен. Карашир нашел его. Доктор поехал с Караширом за ним.
Ниссо расплакалась.
- Значит, и сын мой жив! - убежденно сказала Гюльриз.
- Как ты отыскал Ниссо, Худодод? - спросила Зуайда, убирая с колен
сшитый ею мешок.
- Разве ты, Ниссо, сама не рассказала им?
- Не помню я, Худодод... - тихо ответила Ниссо. - Темно было мне.
Худодод сел на пол, положил винтовку рядом, снял с плеча ремень кривой
басмаческой сабли.
- Вот, с перевала спустились мы. Командир с красными солдатами -
налево, через пустырь, к ущелью. А я и со мной два красных солдата - по
селению, направо к крепости. Тут наши люди - Нигмат, Исоф, много людей, даже
Али-Мамат, - из домов выбежали, обрадовались, кричат!
- Подожди, Худодод! - перебила Ниссо. - О Шо-Пире расскажи, куда ранен
он?
- Не знаю, Ниссо. Карашир сказал, жив будет... Рука сломана, сказал. В
реку прыгал он...
- Больно ему, скажи?
- Конечно, больно, Ниссо... Ничего. Доктор поехал за ним, сам командир
послал... Палки хватают наши люди, кирки хватают, еще вилы, лопаты... Сразу
- к крепости мы... Вот крепость. Видим: большой пожар начинается, наше зерно
горит. Сеиды бегают. Купец другие мешки поджигает... Кендыри подбежал к
купцу, убил его из маленького ружья. Повернул ружье, выстрели прямо в лицо
Науруз-беку. Науруз-бек тоже упал, оба мертвые. Кендыри бросил маленькое
ружье, смеется, целует меня. "Вот, - кричит, - две собаки. Я их убил. Наше
зерно подожгли. Вот смотри, - кричит, - убил я волков. Тушите огонь, -
кричит, - Ниссо тоже спас я, жива она, в зерновой яме сидит, тушите огонь
сначала..." Мы огонь тушим, Кендыри помогает нам. Когда потушили, Кендыри
повел нас, показал, - камни над зерновой ямой, и ты, Ниссо, там живая...
- Хороший человек Кендыри, - сказала Ниссо. - Я ничего не помню. Где он
сейчас?
- Дома у себя. Спать пошел. Устал, говорит. Как можно спать сейчас, не
понимаю.
- Худодод, скажи, - умоляющим тоном произнесла Ниссо. - Мариам где?
Худодод с недоумением посмотрел на Ниссо, переглянулся с Зуайдой и
Гюльриз. Те сокрушенно опустили головы.
- Разве ты не знаешь, Ниссо? - осторожно спросил Худодод.
- Ай! Знаю, знаю! - голос Ниссо превратился в вопли. - Тело черное ее,
глаз нет, душа превратилась в птицу, в маленькую птицу, большая птица
просунула голову в грудь ей, заклевала душу ее...
- Оставь ее, Худодод, - тихо произнесла Гюльриз, - не говори с ней.
- Я пойду, - печально сказал Худодод, поднял с пола винтовку и саблю,
встал, в дверях оглянулся на Ниссо, вздохнул, вышел.
В комнате не нарушалось молчание. Рыбья Кость не стонала больше.
Рябоватый красноармеец с простреленной ногой скручивал над своей грудью
цигарку. Крупицы махорки сыпались ему на грудь, он тщательно собирал их одну
за другой. Зуайда встала, поднесла ему зажженную спичку. Ниссо лежала,
закрыв глаза.
Клубы махорочного дыма медленно расходились по комнате. Цокот копыт
затих вдали. Выстрелов давно уже не было слышно. Время тянулось томительно.
На коленях Гюльриз и Зуайды шуршал перебираемый ими ситец, из которого шили
они тюфяки. Красный свет заката лег косыми лучами в окно, тронул веснушчатое
широкоглазое лицо Зуайды.
Снаружи послышался шум. Гюльриз подскочила к окну, увидела медленную
процессию, вошедшую в сад, - трех красноармейцев, Карашира, русского
доктора. Красноармейцы несли через сад носилки. За ними, обнявшись, шли Исоф
и Саух-Богор. Винтовка Исофа висела на его плече вниз стволом.
- Шо-Пира несут! - дико вскрикнула Гюльриз, заметалась по комнате,
кинулась в дверь.
Ниссо, словно подкинутая чьей-то сильной рукой, бросилась за старухой.
Выбежав в сад и увидев на носилках мертвенно-бледное лицо Шо-Пира,
пронзительно закричала:
- Убили его... Моего Шо-Пира убили!..
- Тише ты! - подхватил ее под руку Карашир. - Не кричи, он живой...
Слышишь? Живой.
Шо-Пира внесли в комнату, осторожно положили на соломенный тюфяк,
покрытый двумя одеялами. Ниссо опустилась на колени, лбом осторожно
коснулась ног Шо-Пира, замерла.
Пленный басмач Курбан-бек, который был конюшим халифа, а потому при
налете ехал непосредственно за Азиз-хоном, на предварительном допросе,
учиненном Худододом в присутствии Швецова и младшего командира Тарана,
заявил следующее:
- Я не басмач. Видит покровитель, я просто слуга халифа. Куда он ездил,
туда я ездил. Чистил лошадь его, кормил лошадь, поил лошадь. У него лошадь
легкая, белая. Его лошадь...
Худодод велел басмачу не распространяться о лошадях, а рассказать о
том, о чем его спрашивают.
- Хорошо, - сказал Курбан-бек. - Против реки Сиатанг через Большую Реку
переправлялись, так?
- Так, - сказал Худодод. - Еще короче.
- Еще короче? Едем, Азиз-хон впереди, халифа впереди, купец и Зогар
впереди, я сзади. Так было. Их спросите, - так было. Едем. Ружье у меня
есть, но стрелять не умею, - нехорошее дело стрелять. Ничего, думаю, когда
все станут в людей стрелять, я не стану, басмачом быть не хочу.
- Копыто осла тебе! - рассердился Худодод. - Будешь рассказывать или
нет?
- Рассказываю, достойный, рассказываю! - заторопился басмач. - Едем по
ущелью, совсем недалеко от Большой Реки отъехали. Тропа узкая, слева скалы
вниз, справа скалы вверх, кругом скалы. Смотрим: на тропе пять человек. Ломы
у них, кетмени, лопаты в руках. Идут. Остановились. К стене прижались, -
тропа узкая. Какие люди - не знаю. Азиз-хон посмотрел на них, сказал:
"Кланяйтесь, верные..." Они смотрят волками... нет, правду скажу, - не
хотели кланяться... Азиз-хон остановил лошадь, опять говорит: "Кланяйтесь!
Благословите покровителя, я хан, землю вашу от неверных освобождать едем".
Так сказал, спроси его, так сказал. Они стоят - три молодых, два старых.
Один молодой говорит: "Азиз-хон?" Тут, правда, я крикнул: "Не видишь разве?
Один хан, богоданный, в Яхбаре, поклонись ему". Тот, молодой, - очень злой,
наверно, был человек, лицо его темным стало, - закричал: "Собака ты, а не
хан, за женщиной едешь, не увидишь ее, смерть тебе!" Большой железный лом
был у него в руках, взмахнул ломом, прыгнул, ударил по лицу Азиз-хона...
Лошадь Азиз-хона испугалась, на дыбы поднялась, вот если б не поднялась,
разве остался бы жив Азиз-хон? Лом только немножко его ударил, по лицу
ударил, упал Азиз-хон, не совсем упал, - халифа держит его... Тут мы все...
кроме меня... Мы, - сказал я, - басмачи, которые близко были...
- А ты разве далеко был?
- Я тоже близко был... Только я не басмач, я испугался: кровь вижу,
Азиз-хон падает, вижу, тот, молодой, руками за горло хватает его... Как
барс, один на людей кидается. Смелый, правда. Злой очень. Не видел я таких
людей, испугался, тьма у меня в глазах... Когда тьма прошла, вижу: тот,
молодой, убитый лежит, пуля в голове, другие - веревками связаны. Азиз-хон
тоже на тропе сидит, перевязку халифа ему делает... Вот все... Когда
сделали, поехали дальше...
- Нет, не все... Куда убитого дели, куда связанных?...
- Связанных в Яхбар повели, недалеко было, с ними три человека поехали.
- Били их?
- Совсем немножко били... Плетьми немножко били... Я не бил,
покровитель видит, я не бил.
- Где убитый?..
- "Вот, - сказал сеид Мурсаль, сиатангский сеид Мурсаль, - это
неверный, собака это, знаю его. В реку бросай его..."
- Кому сказал?
Басмач помедлил, подумал:
- Ну хорошо. Мне сказал. Еще сказал: "Кровь с тропы убери, скоро
караван пойдет, чтоб ничего не видели, ничего не подумали, чистой должна
быть тропа".
- Ты в реку бросил его?
Глаза басмача вновь забегали, он мял в руках тюбетейку, бритая его
голова склонялась.
- Нет. Опять правду скажу. Одну правду говорю. Все уехали, я остался.
Справа - скалы вверх. Слева - скалы вниз. Если бросить вниз, - на скалах
будет лежать, с тропы видно, караван увидит его. Если тащить - далеко по
скалам тащить, самому упасть в реку можно. Смотрю, в одном месте тропа
нависает, камни на ветки положены. Под тропой - тихое место, можно положить
человека. Ни сверху, ни снизу никто не увидит его. Туда положил убитого.
Страшно мне одному на тропе, скорей ехать хотел. Туда положил, птица не
увидит его. Там и сейчас, наверно, лежит... Еще правду скажу: кровь чистил,
немножко оставил, совсем немножко, - караван, наверно, не видел ее...
- Теперь все, - сказал Худодод, и молодое его лицо было мрачным, тонкие
губы дрожали. Он пристально посмотрел в лицо басмачу, ожидая, когда тот
поднимет потупленный взгляд. На мгновение взгляды их встретились, волна
ненависти и негодования качнула Худодода. Он перехватил плеть из левой руки
в правую и наотмашь хлестнул басмача по голове. Тот схватился за голову, но
удержался от крика. Швецов молча протянул руку, отобрал у Худодода плеть.
После допроса Худодод прошел в лазарет.
- Что узнал? - пытливо, с мучительной надеждой, спросила Гюльриз.
- Поедем с нами, нана, - опустил глаза Худодод.
- Ты что-нибудь знаешь? Правду скажи.
- Может быть, он в Яхбаре. Может быть, нет, - не решаясь высказать свою
уверенность, проговорил Худодод. - Поедем. Будем искать...
- А ты молчи! - резко приказал Худодод басмачу, когда все усаживались в
седла. - Слово скажешь - убью. Молчи, пока не приедем туда.
- Молчу, достойный, молчу, - ответил басмач, сложив на груди руки и
подобострастно кланяясь.
Через полчаса Гюльриз, Зуайда, Худодод и три красноармейца во главе с
Тараном выехали верхами к Большой Реке. Басмач Курбан-бек ехал среди них со
связанными за спиной руками. Худодод вел на поводу запасную лошадь, он один
знал, зачем эта лошадь понадобится; в хурджин положил связку шерстяной
веревки и отрез полотна.
Было раннее утро. Всем казалось странным, что в ущелье снова так
обыденно - мирно и тихо. Будто ничего из ряда вон выходящего не случилось за
эти три дня. О пронесшемся урагане напоминали только обрывки кошм, тряпок,
пустые гильзы да побуревшие пятна крови, видневшиеся кое-где на тропе. После
первого дождя тропа станет снова девственно свежей, безлюдной и дикой.
Двадцать километров до Большой Реки проехали быстро. Гюльриз не
замечала пути.
Не доезжая двух километров до Большой Реки, все по знаку басмача
Курбан-бека остановились. Худодод развязал ему руки, вместе с ним полез
вниз, под тропу.
- Смотри за Гюльриз, - шепнул он Зуайде. - Здесь убитый, я думаю -
Бахтиор.
Зуайда тихо ахнула. Поспешила к Гюльриз, помогла ей спешиться,
предложила сесть, но старуха, чуя недоброе, осталась стоять, следя за
Худододом. Она уже обо всем догадывалась, но не смела, не хотела верить,
Этого быть не могло, все на свете могло быть, только не это...
Труп Бахтиора лежал на снегу, не стаявшем в щели, под тропой. И хотя
Бахтиор давно окоченел, - лицо его почти не изменилось, только было
зеленовато-серым. Две темные раны на виске и на лбу, обведенные запекшейся
кровью, подтверждали слова басмача о том, как Бахтиор был убит.
Бахтиора вынесли на тропу и положили на развернутый Худододом кусок
полотна. Гюльриз медленно опустилась на колени, обняла Бахтиора, припала к
нему; не веря, все-таки не веря, сама будто окоченев, смотрела на него
остановившимися глазами. Долго смотрела, и все отошли в сторону, не было сил
глядеть на нее.
Гюльриз зашептала тихо, - так тихо, что никто не мог расслышать ее. Она
обращалась к сыну, о чем-то спрашивала его. Приблизила свои губы к его
губам, шептала все быстрее, все горячее.
Таран приказал красноармейцам отвести лошадей подальше, отошел с ними
сам.
- До Большой Реки съездим, ребята, пока... Посмотреть надо...
Красноармейцы связали басмача Курбан-бека по рукам и ногам, оставили
его на тропе. Таран пальцем показал на него Худододу: гляди, мол, за ним.
Сели на коней, отъехали шагом, но потом перевели коней на легкую рысь.
А шепот Гюльриз постепенно наполнялся звучанием, слова вырывались одно
за другим, голос срывался, менялся, то походил на тихое воркование, то
становился пронзительным, громким, переходил в негодующий крик:
- Ты, мой маленький Бахтиор... Спи, спи, отдохни, мой птенчик... Тебе
холодно, Бахтиор? Вот, чувствуешь? Я прижимаю тебя к груди, согрейся... Ты
помнишь, ты качался на моих руках, ты кормился моим молоком, у тебя были
маленькие крепкие губы. Как у овечки, нежные, дерзкие губы... Теперь ты
большой, Бахтиор, мне тебя не поднять... Вот только плечи твои могу поднять,
вот так, вот так, положи их ко мне на колени, устала твоя голова? Дай, я
поддержу руками ее... Так удобно тебе? Хорошо тебе? Тепло тебе?.. Ты большой
теперь, ты очень большой... Разве я думала, что ты станешь таким большим?
Отдохни, кровь моя, плоть моя и душа моя! Сон тебе, сон о травах, о зеленых
травах, быстро они растут!.. Ты барс, Бахтиор, ты власть, Бахтиор! Слышишь,
шумит река? Это твоя река... Твои горы кругом. Над рекою ты власть, над
горами ты власть, над всем Сиатангом ты власть... Проснись теперь,
посмотри... Видишь, твое это все кругом, ты большая власть! Сколько людей в
Сиатанге, - над всеми ты власть, а я твоя мать, все ущельцы - мои сыновья, а
ты старший сын; ты скажешь - все тебя слушают... Проснись, Бахтиор! Разве не
довольно ты спал?.. Проснись, взгляни на меня, - черные твои глаза, живые
твои глаза, ласковые твои глаза... Отчего не просыпаешься ты?.. Не пугай
меня, Бахтиор, взгляни на меня!.. Ты молчишь? Ты не смотришь?.. Ты не
дышишь, Бахтиор?.. Почему ты не дышишь?.. Ай-ай, страшно мне, он не дышит...
Гюльриз внезапно отстранилась от Бахтиора и обезумевшими глазами,
как-то издали, впилась в него. Схватилась за волосы, цепкими пальцами
вырвала две белые пряди, потрясла их перед собой.
- Покровитель! Что же это такое?.. Нет покровителя, проклятье ему,
трижды проклятье ему!.. Вот тебе мои волосы, Бахтиор, не нужны мне волосы,
вот, смотри, видишь - белые! Ай, сердце мое, сердце, вырву сердце мое, вложу
тебе в грудь, мой сын, дыши, дыши... Проснись, Бахтиор, пожалей меня, вижу
душу твою, вот она в барсе гостит, ты барс, Бахтиор, большой барс, смелый
барс, по горам ходишь ты, только на стада не нападаешь, на черных людей
нападаешь ты, на плохих людей... Ты ударяешь лапой, и падает злой человек!
Мсти, мой сын, будь жестоким, ты был добрым, и вот что они с тобой сделали,
вижу кровь твою... Как прекрасен ты, Бахтиор! Ты по скалам идешь, любуются
скалы... Любуется небо!.. Все можешь ты, Бахтиор, - сила в тебе, власть в
тебе, свет, как ночью огонь, - свет у тебя в глазах... Вот тебе еще волосы,
вот эти, белые, и вот эти белые, я вырываю их, мне не больно, мой сын: для
тебя, для тебя, для тебя... Чтобы проснулся ты... Проснись, пойдем домой,
Бахтиор!.. Там невеста твоя ждет тебя, Ниссо ждет тебя, любит тебя...
Ай-ай-ай-ай... Я, нана твоя, я пришла разбудить тебя... Проклятье,
проклятье, не дышит он, убили его, пулями убили его! Глаза вырву им, сердце
вырежу, растопчу, плевать буду им в глаза, в проклятые их глаза, чумные
глаза... Проснись, ждет Ниссо, ты, может быть, не знаешь еще? Красные
солдаты пришли и спасли ее. Она жива... Ты любишь ее... Нет, нет, нет, и ты
жив, только ранен ты, встань, пойдем, встань, мой сын!..
Припадая и отстраняясь, лаская пальцами мертвое лицо Бахтиора, затихая
и вновь негодуя, Гюльриз говорила и говорила, и склоненная на камне Зуайда
не могла это слушать, слезы текли из ее глаз, а Худодод кусал губы свои,
припав лбом к потной шее понурой лошади. И когда Зуайда заголосила -
пронзительно, неудержимо, отчаянно, -Гюльриз вдруг выпрямилась, прислушалась
к ее воплям, бережно опустила Бахтиора на полотно, встала, заломила руки,
просто, громко, отчетливо произнесла:
- Не кричи, Зуайда. Он мертв. Сын мой мертв. Сына моего нет! Сына...
Зуайда вскочила, кинулась к старухе, и рыдания двух обнявшихся женщин
слились в одно. Худодод не вытерпел, махнул рукой и заплакал сам.
Вдалеке послышался топот: возвращались красноармейцы. Худодод
опомнился, растерянно оглянулся и, увидев сидящего на краю тропы
Курбан-бека, вдруг обезумел от гнева. В три шага подбежал к басмачу,
выхватил кривую саблю из ножен и размахнулся... Отсеченная одним ударом
голова басмача откатилась по тропе, приостановилась у ее края, повернулась
еще раз и упала в пропасть.
Женщины сразу притихли. Из-за мыса, по трое, размашистой рысью выехал
Таран.
И прежде чем успел он подъехать, Гюльриз с распростертыми руками
подошла к Худододу, обвила его шею. Ожесточенные глаза ее горели темным
огнем.
- Буду сыном твоим, нана... - воскликнул Худодод, - как Бахтиор, я
буду!..
И Гюльриз, бессильная в руках Худодода, прижала морщинистую щеку к его
горячей, влажной щеке.
Окончательно придя в сознание, Шо-Пир, вместе со Швецовым, постарался
понять все, что произошло в Сиатанге за последние дни, уяснить размеры
бедствия и решить, что делать дальше.
Банда была разгромлена. Пятьдесят шесть басмачей взяты в плен и
находились в крепости под надежной охраной красноармейцев; Азиз-хон, Зогар,
халифа, несколько сеидов и миров, заключенные в старую башню, могли в
будущем дать подробные сведения о причинах налета на Сиатанг. Без Шо-Пира
допрашивать их было бессмысленно - только он один знал их язык, почти не
отличающийся от сиатангского. Но пока состояние Шо-Пира было еще слишком
тяжелым, врач Максимов запретил ему вести какие бы то ни было серьезные
разговоры и присутствовал даже при беседах его со Швецовым и Худододом.
Сломанная рука Шо-Пира не тревожила Максимова, но ранение оказалось опасным:
пройдя под ключицей навылет, пуля, по-видимому, пробила плевру, и это могло
привести к осложнениям. Шо-Пир потерял много крови, был очень слаб и часто
лишался сознания. Максимов велел перетащить из дома в здание школы кровать и
изолировать Шо-Пира во второй, маленькой комнате.
Максимов, однако, не мог запретить Шо-Пиру рассуждать и интересоваться
всем окружающим. Шо-Пир волновался и нервничал, когда что-либо решалось без
него. И, вопреки желанию врача, получалось так, что лежащий в постели Шо-Пир
оставался средоточием жизни селения. Он хотел знать все, от него ничего не
скрывали.
Убитых сиатангцев, не считая Мариам и Бахтиора, оказалось шестнадцать
человек. В их числе, кроме утонувшего в реке ребенка, было трое детей:
одного мальчика задавили лошадью; другого придушил басмач; третья - девочка,
племянница Исофа, была подобрана с разбитой о камень головой и со следами
насилия. Шесть увезенных в Яхбар женщин пропали без вести. Их судьбу
разделила и Нафиз, учившаяся в школе вместе с Ниссо, дочь Али-Мамата.
По ущелью и в самом селении было найдено тридцать девять убитых в бою
басмачей, - среди них был и риссалядар. Но сколько еще их погибло в реке, -
кто мог бы узнать? Швецов и Шо-Пир полагали, что из всей банды спаслись
бегством не больше пятнадцати - двадцати человек. Брошенных басмаческих
винтовок набралось сорок три. Сколько их было в банде всего, Шо-Пир и Швецов
могли определить только после допроса.
Красноармейцев погибло двое, и двое были ранены, один из них - тяжело.
Почти все посевное зерно было уничтожено басмачами или сожжено купцом
за полчаса до того, как его убил Кендыри. Большая часть товаров,
доставленных караваном, уцелела - правда, многое оказалось переломанным,
разбитым, испорченным.
Карашир возглавил добровольный отряд факирской милиции, разыскивал эти
товары в долине и по всему ущелью и складывал найденное в пристройку.
Каменные жилища селения пострадали мало, но почти весь запасенный с
осени клевер и вся солома были сожжены. Старый канал разрушен. Половина
скота уничтожена... Сеять было нечего. Селению грозил голод.
На второй же день после ликвидации банды Швецов отправил в Волость
Тарана и четырех красноармейцев с просьбой к партийной организации
немедленно наладить доставку в Сиатанг посевного зерна, продовольствия,
фуража.
В своем донесении начальнику гарнизона Швецов указывал на необходимость
создать в Сиатанге постоянный красноармейский пост и просил вызвать с
Восточных постов десятка полтора красноармейцев для сопровождения пленных
басмачей туда, куда начальник гарнизона найдет нужным отправить их. Кроме
того, Швецов написал записку секретарю волостного партбюро с просьбой
выехать в Сиатанг.
Таран уехал.
Дни и ночи в Сиатанге слышался плач. Вопли, стоны, проклятья басмачам,
горькие жалобы на обиду раздавались с утра до вечера в каждом доме, и
прежние приверженцы Установленного твердили теперь только о мести
заключенным в крепость басмачам. Ущельцы, не слушая никаких увещеваний,
варили для красноармейцев пловы и жирные супы, несли им свои маленькие
подарки - кто пестрые чулки, кто тюбетейку, кто просто полевой цветок или
веточку зацветающего абрикоса... Но Швецов решительно запретил кому бы то ни
было резать скот и велел ущельцам готовить для пахоты сельскохозяйственный
инвентарь. Свободные от дежурств красноармейцы ходили по домам, помогая
ущельцам ремонтировать плуги. Каждого красноармейца неизменно сопровождала
ватага детей, и какой-нибудь быстроглазый мальчуган обязательно оказывался
на плечах здоровенного русского парня.
Всем в селении деятельно руководил Худодод, по нескольку раз в день
советовавшийся с Шо-Пиром.
На третий день после разгрома банды в селении состоялись похороны
Бахтиора, Мариам, Дейкина, двух красноармейцев и всех убитых ущельцев.
Швецов, со свободными от нарядов красноармейцами, все население
Сиатанга, Гюльриз, Ниссо участвовали в этих торжественных похоронах. Над
вырытой посередине пустыря большой братской могилой был воздвигнут высокий
курган. Красноармейцы увенчали его выкрашенной красной деревянной пирамидой.
На одной ее плоскости надпись по-русски сделал Швецов, на другой такую же
надпись по тексту, составленному Шо-Пиром, вывел Худодод... Ночью Гюльриз
втихомолку пробралась к могиле и заложила под пирамиду кулек с сахаром, -
чтобы душе Бахтиора, если она не успела еще воплотиться в барса, было сладко
жить.
Старое, но крепкое сердце Гюльриз выдержало страшное испытание. Женщины
селения с утра до вечера стояли у порога ее дома. Зуайда переселилась к ней
в дом и вместе с Ниссо ночевала на той же наре, на которой старуха стлала
свою постель.
Гюльриз почти не спала по ночам, часто стонала, Ниссо припадала к ней,
с нежностью гладила ее руки и плечи и не сводила с нее внимательных, широко
раскрытых глаз. Слов участия Ниссо произносить не умела, но старуха
неизменно чувствовала ласку девушки.
Русское ситцевое платье, простое, но хорошо сшитое, нравилось Ниссо. От
парусиновых туфель она наотрез отказалась и предпочитала ходить босиком.
"Если бы не природная худощавость, - поглядывая на Ниссо, размышлял
Максимов, - эта девушка... эта девушка..." - и не ходил нужных слов...
Впрочем, Максимов меньше всего наблюдал за внешностью Ниссо: он был
озабочен ее душевным состоянием. Девушка была так подавлена пережитым, что в
первые дни ко всему окружающему относилась с безразличием. Часами сидела она
в лазарете или на террасе дома не двигаясь, смотря в одну точку, никого и
ничего не слыша и не видя, ни в чем не участвуя. В эти часы, казалось, она
вообще не жила, безвольно созерцая какой-то ей одной зримый призрак. Если б
Максимов понимал сиатангский язык, он тревожился бы о Ниссо еще больше.
Когда туман, обволакивающий ее сознание, на короткое время рассеивался,
когда она как будто возвращалась к нормальному состоянию и разговаривала с
Гюльриз, с Зуайдой или еще с кем-либо, - в речь ее врывались слова, никак не
связанные с мыслью, которую она хотела высказать. Страшный образ
подвергнутой истязаниям и повешенной Мариам преследовал ее днем и ночью.
Закрывала ли она глаза, смотрела ли на солнечную, уже зазеленевшую листву
сада, - ей виделось все то же, ей было страшно. Усилием воли она отрывалась
от размышлений о Мариам, но перед ней тотчас же вставал Бахтиор, убитый и
живой одновременно. Каждый жест его, каждое выражение всегда ждущих чего-то
от Ниссо глаз, слова, сказанные им в темные вечера, вспоминались Ниссо, и
горькая, острая жалость пронизывала душу девушки. Ей было стыдно, что она не
любила его, ей казалось: в чем-то она перед ним виновата. Ниссо думала, что,
если бы Бахтиор не любил ее, он не кинулся бы с ломом на Азиз-хона и, может
быть, остался бы жив... Тут в мыслях Ниссо возникала такая сумятица, что,
охватив голову, девушка с тихим стоном покачивалась из стороны в сторону,
пока кто-нибудь не окликал ее... Старая Гюльриз подсаживалась к ней, и,
обнявшись, недвижные, молчаливые, они продолжали сидеть вместе.
Максимов бессилен был изменить душевное состояние Ниссо и решил, что
только время излечит ее. Но все же он старался вовлечь девушку в любую
работу, давал ей различные поручения. Ниссо не отказывалась: ухаживала за
больными и ранеными, таскала из ручья воду, стирала белье, мыла посуду,
готовила пищу, доила корову, ходила в селение за молоком.
Только в присутствии Шо-Пира Ниссо оживлялась и разговаривала легко и
свободно. Шо-Пир расспрашивал Ниссо обо всех сиатангских делах, и ей
поневоле пришлось заинтересоваться ими. Сидя на табуретке у кровати Шо-Пира,
Ниссо подробно рассказывала обо всем, что ей удавалось узнать. Однажды она
вернулась из селения вместе с Кендыри, вошла к Шо-Пиру, сказала:
- Он добрый человек. Он хочет посмотреть на тебя.
Всегдашнее недоброжелательство к Кендыри укреплялось в Шо-Пире
смутными, почти безотчетными подозрениями. Шо-Пиру странным казалось, что
басмачи перед нападением так хорошо были осведомлены о расположении селения,
о том, где жила Ниссо, и о дне появления каравана, - не случайно же
нападение произошло именно на тропе? Как мог Азиз-хон точно знать обо всем?
Конечно, многое здесь следовало приписать купцу Мирзо-Хуру, но и купец не
мог знать всего. Последним, кто пришел в Сиатанг из Яхбара, был Кендыри...
Странным казалось Шо-Пиру и тесное общение Кендыри с бандой, когда басмачи
находились в крепости...
- Хорошо, Ниссо. Только сама уйди. Без тебя говорить хочу.
Ниссо ушла. Кендыри, вступив в комнату, низко поклонился Шо-Пиру,
подумал: "Достаточно бодр. Жаль. Пожалуй, выживет!" Выпрямился, сказал:
- Благословение покровителю! Вижу: тебе лучше, Шо-Пир... В темной буре
даже свет молнии освещает путь смелым. Ты храбро защищался, Шо-Пир, - один
девятнадцать волков предал аду! Слышал я. Счастье великое нам: ты жив.
- Да, еще поживу теперь! - не в силах оторвать голову от подушки,
произнес Шо-Пир.
- Как бледен ты. Крови много ушло, наверное?
- Скажи, Кендыри... Сядь сюда вот на табуретку... Так... Скажи...
Почему Азиз-хон не боялся, что ты зарежешь его?
Холодные глаза Кендыри чуть прищурились. "Допрашивать хочет? Пусть!"
- Я сказал Азиз-хону: прокляты неверные, счастье принес ты, хан;
кончилась, слава покровителю, советская власть... Хитрый я... Если собаке
положить в рот кусок мяса, - она не укусит дающего...
- Хорошо... А если бы басмачи остались, ты и дальше кормил бы их таким
"мясом"?
- Я, Шо-Пир, - твердо сказал Кендыри, - знал: ты придешь, красные
солдаты придут. Человека послал к тебе. Разве могло быть иначе? ("Вот тебе
ход конем!")
- А если бы человек не добежал до Волости?.. ("Да, Ниссо говорила, что
именно он послал перебежчика. Это факт...")
- Когда на краю Яхбара, в селении Чорку, Шир-Мамат мне встретился, я
разговаривал с ним... Я, Шо-Пир, много видел людей, в глаза смотрю - сердце
вижу. Шир-Мамат человек надежный... ("Арестован ли он?") Проводником сюда
отряду мог быть. Ведь правда?
- Возможно...
- Если б думал иначе я, сам побежал бы в Волость!
Оба умолкли. Кендыри вынул из-под тюбетейки подснежный цветок, бережно
расправил его, вставил стебелек в трещинку в спинке кровати над подушкой
Шо-Пира.
- Как мог ты при басмачах взять Ниссо из башни, перенести в зерновую
яму? И кто был второй человек?
Не уклоняясь от взора Шо-Пира, Кендыри ответил прямо и твердо:
- Спали басмачи... Я сказал себе: красные солдаты придут, скоро,
наверное, придут. Шо-Пир придет... ("О! В этом я действительно не
сомневался... Но... только Талейран мог бы предвидеть, что всех вас не
перережут".) Должна жить Ниссо, думаю. Шо-Пир любит ее: невеста Бахтиора
она... Такой час был - все спали. Я подумал: если не я, кто спасет ее? А
второго человека не знаю. Басмач. Восемь монет у меня было. Бритва была у
меня. Подумал: пусть выберет монеты или легкую смерть. Он выбрал монеты.
- Куда делся он?
Кендыри подавил зевок. ("Сидит еще в горах Бхара или уже побежал
сообщить о моем провале?")
- Не знаю, Шо-Пир. Убили его, наверное...
- А если бы в тот час кто-нибудь проснулся?
- А, достойный!.. ("Да, тут я действительно рисковал. Но вот
оправдалось".) Что спрашиваешь?.. С Бахтиором рядом сейчас лежал бы я. Сто
лет все говорили бы: вот тоже ничего был человек, не трусом был. Душа моя в
орле, быть может, летала бы... Много опасного было. Вот, Шо-Пир, если бы не
подобрал я это маленькое ружье, разве не убил бы меня купец? ("Да, да, надо
предупредить вопрос".)
"Лучше бы ты их не убивал, - подумал Шо-Пир. - Пригодились бы".
- Вижу, зерно горит, - продолжал Кендыри. - Сердце из ущельцев вынимает
купец, Науруз-бека послушался. Кровь в голову мне. Хорошо я сделал, убил
собак... ("Знал бы ты, кто научил их поджечь зерно!")
"Если они и впрямь враги ему, а он человек горячий... Ну, тут и я
бы..." - Шо-Пир смягчился:
- А скажи, Кендыри... В ту минуту, когда...
Дверь распахнулась. На пороге появился Максимов:
- Что еще здесь за разговор? Безобразие это... А вы, почтенный
посетитель, извольте-ка отсюда убираться...
- Не понимает по-русски он, - сказал Шо-Пир.
Кендыри поймал себя на желании выругаться по-русски. "Показал бы я
тебе, эскулап, как выгонять меня", и, словно в ответ на его мысль, Максимов
сделал решительный жест:
- Поймет! Поймет! - и, подтолкнув Кендыри, выпроводил его из комнаты. -
А вы... Кого я вам разрешил принимать? Швецова, старуху, Ниссо да этого...
как его... Худояра.
- Худодода, - слабо улыбнулся утомленный разговором Шо-Пир.
- Все равно. Никого больше! У человека начинаются гнойный плеврит,
осложнения, всякая гадость, а он... Извольте быть дисциплинированным, а не
то... на замок, одиночество, и никаких разговоров... - и, изменив тон,
Максимов склонился над Шо-Пиром. - Ну, как самочувствие?.. Слабость, а?
- Черт бы ее побрал... - закрывая глаза, пробормотал Шо-Пир.
- Ну вот. А туда же рыпается! Примите-ка это вот... - и Максимов поднес
к бескровным губам Шо-Пира какие-то капли.
Ниссо попыталась войти, но врач ее не пустил. Она направилась во
вторую, большую комнату, подсела к постели Рыбьей Кости.
Перевязанная, вся в примочках и пластырях, Рыбья Кость была еще очень
слаба. Избили ее так нещадно, что Максимов назначил ей не меньше десяти дней
постели. В широкой мужской сорочке, взятой Максимовым из товаров,
доставленных караваном, с волосами, туго обвязанными белой косынкой, худая,
изможденная, Рыбья Кость казалась давно и тяжело больной.
- Скажи Шо-Пиру, Ниссо, пусть русский доктор отпустит меня. Я не могу
лежать.
- Почему, Рыбья Кость, не можешь?
- Дети мои... Где мои дети?
- Твои дети дома, ты знаешь... Разве Карашир плохой отец?
- Ай, Ниссо... Что ты понимаешь? Карашир теперь, как хан, важный, -
ружье есть, власть есть... Разве помнит о детях?
Ниссо подумала, что Рыбья Кость права. Ничего не сказала, поднялась,
вышла в сад, прошла через лагерь красноармейцев, спустилась в селение, вошла
в дом Карашира. Дети оказались одни, Ниссо увидела в доме полное запустение.
Обняла по очереди всех восьмерых ребят. Осмотрела жалкое хозяйство и двор,
подумала, что дом без женщины, правда, не дом, и с неожиданной энергией
взялась за дело.
К вечеру Карашир, вернувшись с гор, куда ходил с группой вооруженных
ущельцев, не узнал своего жилища: все в доме было прибрано, вымытая посуда,
среди которой оказались неведомые Караширу чайник и новые пиалы, была
аккуратно составлена в каменной нише. Два оцинкованных, неизвестно как
попавших сюда ведра с водой прикрыты плоскими обломками сланца. Еще не
затухшие в очаге угли распространяли тепло. А маленький чугунный котел,
стоявший на очаге, был наполнен разваренным рисом. Дети спали на большой
наре в углу, покрытые новым ватным одеялом. Приподняв за уголок одеяло,
Карашир увидел, что лица детей непривычно чисты.
Дивясь и не понимая, как могло произойти дома такое чудесное
превращение, Карашир вышел во двор, увидел, что двор тоже прибран и
подметен. Карашир растерянно улыбнулся:
- Всегда говорил я - у меня тоже есть добрый дэв... Только это не дэв.
Это женщина. Вот взять бы такую в жены. И, наверное, не кричит она, как моя
Рыбья Кость.
И задумался: всю жизнь он мечтал когда-нибудь стать таким богатым,
чтобы в доме его было чисто.
Вернулся к спящим детям, скинул с плеча винтовку, снял пояс с
патронами, стягивающий все тот же, с обрезанной полой халат, распустил
чалму, какой прежде не носил никогда, подсел к котлу с вареным рисом и,
захватив целую пригоршню, с наслаждением запустил ее в рот.
А Ниссо в эту ночь, лежа на нарах рядом с бессонной Гюльриз, впервые
после пережитых событий не видела перед собою никаких страшных образов. И
когда сон пришел к ней без каких бы то ни было видений, она протянула руки к
Гюльриз, обвила ее шею и не почувствовала теплых слез, соскользнувших на ее
руки с морщинистой щеки Гюльриз.
И на следующее утро Гюльриз заметила, что глаза Ниссо, ставшие за эти
несколько дней глазами взрослого человека, снова ясны, чисты и только очень
печальны.
Через двенадцать дней после разгрома банды в Сиатанг приехали волостные
работники. Они сообщили, что весть о бедствиях, случившихся в Сиатанге,
разнеслась по всем ущельям Высоких Гор и что жители самых маленьких и
далеких от Сиатанга селений организуют помощь продовольствием, посевным
зерном, фуражом. Все, что они доставят в Волость, будет немедленно
отправлено в Сиатанг. У заброшенных в дикое ущелье факиров сразу оказалось
много неведомых им друзей.
- Ты организовал? - спросил Шо-Пир секретаря волостного партбюро Гиго
Гветадзе, единственного из приехавших, кого Максимов допустил к раненому.
Состояние Шо-Пира за последние дни ухудшилось, - начиналось то
осложнение, которого так опасался Максимов.
Высокий, узколицый грузин в длинной кавалерийской шинели сидел на
табуретке у постели Шо-Пира так прямо, словно вообще не умел сгибаться. Но
голос его был плавным и мягким; по-русски он говорил с сильным акцентом. В
Волости он поселился в прошлом году, проехав один тогда еще не знакомые ему
Высокие Горы. Когда Шо-Пир ходил в Волость за караваном, Гиго Гветадзе
разъезжал по селениям верховий Большой Реки. Теперь Шо-Пир впервые
знакомился с ним.
- Стоило только сказать, - ответил Гветадзе.
- Спасибо...
- Какое может быть спасибо? А если б у нас в Волости случилось
несчастье, разве твои сиатангцы не помогли бы нам?
- Какая уж от нас помощь! - с горечью произнес Шо-Пир. - Впрочем,
теперь... Кто помешал бы? От бед только бы оправиться! - И, представив себе
все свои замыслы, со злостью добавил: - Вот, понимаешь, незадача. Самое
горячее время, все восстанавливать нужно, а я тут валяюсь... Э-эх!
- Ничего, товарищ Медведев, или, как зовут тебя здесь, Шо-Пир. Теперь
без тебя управимся. Свое дело ты сделал... Отдыхай, поправляйся. Починим
тебя. Сейчас бы отправили, - врач говорит: шевелить нельзя... Лежи пока тут.
Поправишься, в санаторий поедешь, куда хочешь, - в Крым или, пожалуйста, к
нам, на Кавказ... Знаешь, скажу тебе, у меня брат в Теберде санаторием
заведует. Красивое место. Дорогим гостем у него будешь...
- О чем говоришь, товарищ Гветадзе? - улыбнулся Шо-Пир. - При чем тут
Кавказ, санаторий? Дела хватит и здесь, а отдохнуть... Вот отдыхаю я...
- Хорошо, хорошо, дорогой товарищ. Зачем споришь?.. Мы тебя в порядке
партийного поручения на курорт пошлем.
- Я беспартийный.
- Хочешь сказать: партбилета нет? Партбилет будет.
- Почему ты говоришь так? - взволновался Шо-Пир, приподняв голову.
- Лежи тихо, пожалуйста. Не то уйду... Правая рука действует у тебя?
- Действует, - не понял Шо-Пир, подняв над одеялом исхудалую руку.
- Значит, завтра заявление напишешь. В Волость вернусь, оформим...
- А откуда... откуда ты знаешь, что я за человек?
- Знаю, товарищ. Все партбюро знает. Письма ты мои получал?
- Письма-то получал... Спасибо. Почерк твой, как родича, мне дорогой!
Письма твои да советы, что через людей посылал, помогали мне и работать, и
жить, и жизнь понимать. У тебя как-то получалось, что все внимание мое на
принцип ты направлял. А с принципом - все равно, что с фарами, - никакая
тьма не страшна! Руководствовался я твоими письмами... А только вы же в
Волости не видели, что я тут делал?
- Не видели, - знали. Потому никого и не назначали сюда. Работников у
нас мало, в другие места направляли их. Спокойны были за Сиатанг.
- А вот оно тут и стряслось... Я допустил, выходит...
- Ничего не выходит. При чем ты? Твои дела здесь - образец
большевистской работы. Считали, нужна тебе прежде всего культурная помощь,
потому командировали учительницу. Разбогатели - караван послали,
кооператора, фельдшера... Беда вышла? Исправим беду... Ты думаешь, ты один
такой? В других местах такие же есть. В Равильсанге, в верховьях Большой
Реки, плотник Головань есть, украинец, такой же парень, вроде тебя. В
Шашдаре - Касимов, татарин, тоже из красноармейцев, только позже, чем ты,
пришел. Как и тебя, мы их беспартийными не считаем...
- Значит... Значит, я...
- Волнуешься? Нельзя волноваться тебе... Доктора позову, сам уйду, В
общем, товарищ Медведев, лежи спокойно. Твое дело такое... А Сиатанг твой...
все внимание парторганизации к нему теперь обращено. Трудно было нам раньше
вплотную заняться им, теперь сама жизнь потребовала. Хочешь знать?
Красноармейский пост у вас стоять будет. Комсомол мы организуем здесь,
красную чайхану откроем, кооператив, амбулаторию постоянную, в школу учитель
новый приедет... С передовыми селениями подравняем твой Сиатанг. Без тебя
все сделаем. А ты, пока лежишь... пожалуйста, вроде консультанта нам будешь.
Договорились?
Взволнованный Шо-Пир смотрел в потолок так, словно видел все, о чем ему
говорил Гветадзе.
- Давно хотели мы сделать многое, - продолжал Гветадзе, - нельзя было:
горы. Осенью новые работники приедут... Планы большие у нас... Рассказывать
тебе или нет? Устал?
Шо-Пир сквозь раздумья свои слышал только ласковый плавный голос
Гветадзе. Интонации, самый его акцент звучали, как непривычный Шо-Пиру
музыкальный напев. Шо-Пиру казалось, что где-то над ним звучит ручей, и
качаются ветви деревьев, и легкий ветер шелестит густою листвой. И,
всматриваясь в листву, Шо-Пир видит клочок голубого неба и там,
далеко-далеко, на краю горизонта, - черную грозовую тучу; она уходит все
дальше, молнии, уже далекие, полыхают в этой быстро уносящейся туче. А
здесь, где ручей, где листва, атмосфера очищена и все легче дышать: вольный
воздух пьянит Шо-Пира, ему хорошо, он знает, что это счастье, неведомое,
легкое счастье, в нем музыка, музыка...
Гветадзе, внезапно умолкнув, глядит на Шо-Пира. Глаза Шо-Пира закрыты.
Встревоженный Гветадзе осторожно притрагивается к руке раненого,
находит пульс.
- Много я с ним говорил! - сердится на себя Гветадзе. - Пульс
хороший... Нет, он просто спит...
И, тихо отставив табуретку, на цыпочках выходит из комнаты.
"К допросам его привлекать нельзя, - решает Гветадзе, стараясь не
скрипнуть дверью. - Слаб очень. Обойдемся как-нибудь... Поберечь его надо -
золотой человек!.."
Борьба за жизнь Шо-Пира продолжалась почти три месяца. Тяжелое
осложнение приняло острую форму. И все три месяца Максимов не отходил от
постели больного, сам осунулся, исхудал.
Гветадзе послал нарочного с письмом за пределы Высоких Гор. На
переменных лошадях гонец скакал день и ночь, преодолевая мертвые
пространства Восточных Долин. В письме заключалось требование выслать
врача-специалиста с необходимыми медикаментами. Больше ничего придумать было
нельзя. Если бы в Сиатанге или в Волости мог сесть самолет, - Гветадзе
вытребовал бы его. Но строительство аэродрома в Волости намечалось только на
будущий год. Не было еще и радиостанции. Столбы строящегося телеграфа
прошагали лишь первую сотню километров в сторону Высоких Гор. Больше всего
приходилось надеяться на природную выносливость самого Шо-Пира, но наблюдать
за страшной борьбой человеческого организма со смертью было мучительно.
В эти три месяца с особенной остротой проявилась та любовь сиатангцев к
Шо-Пиру, о какой он и сам никогда не догадывался. Не было дня, чтоб ущельцы
не собирались у дома Гюльриз, расспрашивая Максимова о ходе болезни Шо-Пира.
Однажды к Максимову явились Карашир и Исоф и заявили, что готовы нести
Шо-Пира на носилках через Высокие Горы хоть месяц, хоть два, только бы
доставить его в настоящую больницу, "в большой город"... Сказали, что
понесут Шо-Пира так осторожно, что "ветер не тронет его, сон не нарушится,
капля воды не прольется из полной пиалы, если поставить ту пиалу Шо-Пиру на
грудь". Но состояние Шо-Пира требовало неподвижности и покоя.
Ниссо вместе с Максимовым проводила у постели больного все дни и ночи в
вечной мучительной тревоге за него, в неудержимой радости при каждом, самом
незначительном признаке улучшения его состояния, в полном отчаянии, когда
ему становилось хуже. Она жила, как будто горя в медленном огне. Она
превратилась в настоящую сиделку и в тревожные дни заменяла Максимова,
когда, вконец утомленный, он засыпал тут же, на соседней кровати. Если
раньше непонятный, могущественный в представлении Ниссо Шо-Пир был для нее
неким великим и таинственным существом, то теперь, когда его окружали такие
же, как он, русские люди, когда никакая тайна уже не облекала его, он -
слабый, беспомощный - стал для нее просто человеком, беспредельно,
томительно любимым, ее собственностью, ее надеждой. Всей силой первого
большого чувства любя его, она верила, что отнимет его у смерти и что,
выздоровев, он никуда от нее не уйдет... В ней открылись родники такой
энергии, что Максимов поражался ее выносливости и внутренней силе. Все три
месяца она у постели больного усваивала русский язык. Максимов одновременно
изучал сиатангский - сравнительно бедный, легкий, - но успехи его в изучении
языка не могли сравниться с успехами Ниссо. Она уже начинала читать русские
книги и в разговорах красноармейцев с населением стала признанной
переводчицей. Летом комсомольская ячейка поста приняла в комсомол Худодода,
и Ниссо крайне огорчилась, что не ей пришлось быть первой.
Многое произошло в Сиатанге за эти три месяца. Население постепенно
забыло о происшедшей весной катастрофе. Пленные басмачи мелкими партиями
были отправлены в Волость, Азиз-хон и его подручные, после предварительных
допросов, тоже были увезены. Швецов, Гветадзе и начальник волостного
гарнизона решили отправить их в городской центр, за пределы Высоких Гор.
Показания главаря банды, данные им в Сиатанге, были очень неопределенны и
сбивчивы. Азиз-хон молчал. Чувствовалось, что нити басмаческой организации
ведут куда-то очень далеко, что какая-то сильная рука направляла яхбарского
хана. Короткие объяснения Азиз-хона о "любовных мотивах" затеянного им
предприятия воспринимались только как попытка предохранить себя от более
глубоких разоблачений. Подозрения Шо-Пира о том, что банде содействовал
Кендыри, не были подтверждены ни допросами басмачей, ни свидетельскими
показаниями. Кендыри был оставлен на свободе. Некоторое время он жил в
Сиатанге, но затем, заявив, что брить бороды сиатангцам - дело слишком
невыгодное, ушел в Волость, цирюльничал там. Последующее наблюдение за ним
не дало никаких результатов, - он держался особняком и, видимо, кроме бород
своих посетителей и мелких заработков, решительно ничем не интересовался.
Красноармейцы все лето принимали ближайшее участие в жизни ущельцев:
восстановили канал, помогли сиатангцам вспахать, засеять и оросить поля.
Рядом со своим общежитием, построенным на краю пустыря, у входа в ущелье,
возделали огороды, и сиатангцы ходили смотреть на еще не виданные ими
картофель, огурцы, капусту и свеклу.
Гюльриз, избранная председателем сельсовета, трудилась, забывая себя.
Не было дня, когда она не входила бы в дома сиатангцев: входила как хозяйка,
как старшая в семье, распоряжалась всем укладом жизни ущельцев, давала им
советы, интересуясь самыми мелкими нуждами.
Карашир, всеми теперь называемый начальником факирской милиции,
расхаживал по селению в русских сапогах, в красноармейских рейтузах и
гимнастерке, в шлеме с красной звездой и обижался, что у него нет таких же,
как у красноармейцев, синих петлиц. Во дворе его дома стояла породистая
лошадь убитого в бою риссалядара. В доме появилась русская мебель: стол,
шкаф, три табуретки, - Карашир получил их в подарок от красноармейцев,
занимавшихся в свободное время плотничьим, столярным, кузнечным и другими
ремеслами. Постоянным гостем Карашира бывал теперь презревший все обычаи
Установленного Исоф. Он приходил вместе с женой, он больше не ссорился с
Саух-Богор и твердо помнил, что бить жен нельзя.
Привезенных из Волости продуктов и товаров было так много, что
сиатангцы уже не стеснялись в еде и потому охотно звали друг друга в гости.
Вечерами сиатангская молодежь вместе с красноармейцами собиралась в
крепости. Непривычный сначала разлив гармони отлично сладился с местными
бубнами, двуструнками и свирелями. Дирижировал всегда Худодод, а первые
песни заводила его сестра Зуайда. На эти вечерние веселые сборища трудно
было выманить только Ниссо. Всякий час, проведенный ею вне дома, вызывал в
ней тревогу, она предпочитала, сидя у постели Шо-Пира, до темноты читать
книжки, взятые у красноармейцев.
Все ждали приезда новых людей, все были готовы принять любое
нововведение, потому что крепка, понятна всем и любима была теперь в
Сиатанге советская власть.
Глубокой осенью в Сиатанг пришла часть второго большого советского
каравана, на этот раз своевременно прибывшего в Волость. Приехали новые
работники. С ними приехал и новый врач. Но к этому времени здоровье Шо-Пира
было уже вне опасности: могучий организм выдержал. Шо-Пир начал ходить.
Ездивший в Волость Швецов однажды принес Шо-Пиру листок бумаги.
- Погляди, полюбуйся! Нас касается!
Шо-Пир прочел:
"Наш корреспондент сообщил нам о возмутительном случае, произошедшем в
Яхбаре и ярко иллюстрирующем положение на русской границе. Жена правителя
этого ханства, почтенного Азиз-хона, была с политической целью украдена
русскими большевиками и увезена ими в советский Сиатанг. Несчастный муж со
своими родственниками приходил в Сиатанг, умолял вернуть ему любимую жену.
Местные жители единодушно поддержали его и, возмущенные дерзким отказом
большевистских чиновников, восстали. Но большевики усмирили восставших
кровавыми способами, заключив в тюрьму ни в чем не повинного Азиз-хона,
расстреляв всех его родственников и множество безоружных жителей. Жена
Азиз-хона до сих пор находится в Сиатанге, чувствуя себя глубоко несчастной.
Большевистский комиссар, по фамилии Медведев, держит ее у себя в доме, надев
на нее русское платье, угрозами и насилием вынуждает ее вступить в
комсомольскую партию. Следует только удивляться долготерпению и
неосмотрительности Властительного Повелителя, заключившего дружественное
соглашение с Красной Россией в тот самый момент, когда большевики казнили
беззащитных яхбарцев - его злосчастных подданных..."
- Это... Что это? - поднял глаза от листка бумаги Шо-Пир.
- Это? - презрительно усмехнулся Швецов. - Ничего особенного.
Заграничные штучки. Из их газет, с той стороны к нам попала. Мы перевели на
русский язык.
- Знаешь?.. Это даже смешно.
- Само по себе смешно. Но когда такое "художественное произведение"
попадет в какую-нибудь европейскую столицу и фигурирует там как документ,
объясняющий так называемые "пограничные инциденты", и почтенные дипломаты с
двумя подбородками опираются на него, чтобы напакостить нам в нашей внешней
политике, то это уже не смешно.
- Единственное слово правды тут, что Ниссо живет в одном доме со мной и
носит русское платье. Но кто мог сообщить об этом? До нападения банды она
одевалась иначе. Да и комсомола здесь у нас не было.
- А вот об этом, брат, нам не мешает подумать. Бывает, на одном слове
срываются. Этим сейчас занимается в Волости наш Особый отдел. Думаю,
как-нибудь разберется, не у нас ли где-либо живут такие "челобитчики к
мировой справедливости и гуманности". А? Что скажешь?
- Скажу тебе, Швецов, - серьезно ответил Шо-Пир. - Если сразу не
поймать такого, он, пожалуй, нырнет, ускользнет и еще много лет будет
вертеться среди нас нераспознанным. В наши города проберется, вылезет на
какой-нибудь ответственный пост. В конце концов попадется, конечно, но
сколько за это время навредит?.. многому еще нам поучиться надо: машинка
тут, видно, действует тонкая, разобрать такую - зорче часового мастера надо
быть... А границу нашу крепко запереть нужно!
- Что касается границы... Впрочем, пока даже тебе не имею права
говорить... Проживешь здесь до будущего года - увидишь сам...
Твой дом - земли шестая часть,
Твои в нем воля, свет, и власть,
И все чудесные цветенья.
И на тебя - в пяти шестых -
Тьмы глаз, бедою налитых,
Глядят, как на свое спасенье:
Им всем ты, юная, в ночи -
Как солнца первые лучи!
Правда мира
- Остановимся? - сказал Шо-Пир. - Перевал.
- Теперь остановимся, - ответила Ниссо и положила на луку седла повод.
Усталые лошади встали рядом, жадно дыша, кося глаза на преодоленный
подъем. Ниссо сдвинула на затылок шапку-ушанку, заправила в нее волосы.
Мертвый, первозданный мир простирался внизу: продолговатая чаша долины,
выпаханной ледниками, исчезнувшими тысячелетья назад: горы - ряд за рядом
гладкие внизу, острые в гребнях. Их освещало солнце, но в прозрачной дали
они лиловели.
- Застегни полушубок, - сказал Шо-Пир. - Ветер.
- Шо-Пир, я люблю такой ветер! Посмотри вниз, они на мышей похожи.
- Кто?
- Горы, вон те, внизу. Как будто все рядом встали, носы вперед и из
этой долины едят. Маленькие... А вот снежные над ними - как бороды больших
стариков. Блестят!.. Правда, совсем как люди?
- Выдумщица ты, Ниссо, - сказал Шо-Пир и перевел натрудившую плечо
винтовку на другую сторону. Затем тяжело перегнулся в седле, навалился на
одно стремя, сунул пальцы под взмокшее брюхо лошади, пробуя слабину
подпруги. Выпрямился. - На двести километров кругом теперь нет людей!
- Сколько нам ехать еще, Шо-Пир?
- Недели две ехать, - задумчиво ответил Шо-Пир. - Уже три едем.
Надоело?
- Никогда не надоест! - ответила Ниссо. - Посмотри! Посмотри! Как
красное зеркало там, все разбилось и все-таки горит...
- Это скалы отражают закат. Моренами называют их!
- А когда ты обратно в автомобиле поедешь, сколько дней понадобится
тебе?
- Если дорога уже будет готова - в три дня прокачу тебя. Представляешь
себе, как поедем?
Ниссо промолчала. Она не хотела представлять себе, как поедет обратно.
В глубине души она давно сказала себе, что ей незачем ехать обратно. Нет,
она уехала из Сиатанга совсем не для того, чтобы вернуться туда. Даже в
автомобиле! Конечно, Шо-Пир думает обо всем иначе. Он говорит, что ей
непременно захочется вернуться, захочется работать в Сиатанге. А сам он
уехал из Сиатанга только потому, что прослышал о новой строящейся дороге, -
конечно, он первый хочет проехать по ней в автомобиле... Ведь он шофер. Всю
зиму он жил в нетерпенье. Всю зиму он ждал открытия перевалов. Ниссо тоже
ждала и вот едет теперь, - какое счастье, что она едет, наконец, в большой
мир! Вот только две недели еще, - проехать вот эти горы и те... и вон те...
и еще вот те, чуть виднеющиеся вдали, совсем как призраки они - легкие! А
там откроется все, о чем она так долго мечтала: города, большие города,
большие люди, Москва!..
"А может быть, я и сама стану когда-нибудь большим человеком? Ведь я же
не в Яхбаре живу! Вот Шо-Пир сказал, когда к перевалу мы выбирались:
"Погляди назад, вон зубцы - это страны, такие же, как Яхбар, в котором ты не
могла бы стать человеком. Сколько таких Яхбаров еще существует там, где нет
нашей советской власти?! А теперь глянь вперед, все доступно тебе!.." В
самом деле, ведь я еду учиться, буду знать все. Почему бы мне не стать
большим человеком? Я так хочу? Какая я счастливая, - что может помешать
мне?.."
- О чем замечталась Ниссо?
Ниссо быстро обернулась к Шо-Пиру. Их колени соприкасались - так близко
стояли одна к другой лошади. Лошадь Шо-Пира положила свою голову на гриву
маленькой лохматой лошадки Ниссо, терлась губой о гриву.
- Дай руку твою, Шо-Пир... - Ниссо схватила большую ладонь Шо-Пира,
чуть нагнувшись в седле, порывисто сжала ее, ласково отпустила. - Ни о чем!
Поедем теперь.
И оба двинулись вниз с перевала.
Безмерные пространства Восточных Долин совсем не походили на скалистые
глубокие ущелья Сиатанга, оставшегося далеко-далеко позади. Каждый вечер -
вот уже три недели - Шо-Пир и Ниссо выбирали под склоном какой-нибудь горы
травянистую лужайку у первого попавшегося ручья; стреножив лошадей, пускали
их на подножный; собирали кизяк или терескен, разводили костер, не
раздеваясь, в белых овчинных полушубках, спали на кошме под ватным одеялом.
Просыпались с рассветом, седлали лошадей, ехали дальше... За все три недели
только однажды встретился им стан кочевников. Ту ночь Шо-Пир и Ниссо провели
в юрте, пили густое ячье молоко и кумыс, до утра вели разговоры с
набившимися в юрту кочевниками; те интересовались большими делами, что
вершатся за пределами Высоких Гор, спрашивали о том, что такое колхозы, о
которых донесли им весть другие кочевники, о новой дороге, которая уже
тянется сюда от больших городов, и о летающей машине, промчавшейся недавно
над их становищем...
Шо-Пир и Ниссо сами не знали решительно ничего: ведь они ехали с другой
стороны - к новостям, а не от новостей...
Бесконечным кажется путь. Людей нет. Только сурки верещат, вставая на
задние лапки у своих норок, - жирные, непуганые сурки.
Шо-Пир и Ниссо спускаются с перевала. Закат все краснее, лучи его легли
вдоль склона, как воздушные столбы, - это черные зубцы перевала нарезали его
на отдельные полосы. Вот ручей и маленькая лужайка, - трава зелена, здесь,
пожалуй, можно остановиться.
И вдруг из-за скалы - всадник. За ним другой, третий.
Шо-Пир останавливаются, смотрят из-под ладоней на неожиданно возникших
перед ними людей. Те трое тоже останавливаются, смотрят, срываются, скачут
навстречу, держа винтовки поперек седел.
- Красноармейцы это, Шо-Пир! - восклицает Ниссо. - Откуда они?
- Здорово! Привет путешественникам! Откуда держите путь? - осадив
коней, спрашивают бойцы.
Шо-Пир смотрит на их здоровые, загорелые лица, - вороты полушубков
расстегнуты, виднеются зеленые полоски петлиц.
- Никак пограничники? - обрадованный встречей Шо-Пир тянет каждому из
них руку. - Из Волости мы. А вы издалека? Эге! Да вас, оказывается, много!..
Из-за скалы выезжает длинная цепочка всадников.
- Нас? Нас, товарищ, пожалуй, хватит... Постойте. Там будет не
разминуться. Ну всего! Мы - дозор...
- Всего... - растерянно отвечает Шо-Пир вслед уже зарысившим дальше
всадникам. Он надеялся поговорить с ними. Но он видит, что из-за скалы
движется целый отряд. Вместе с Ниссо Шо-Пир съезжает с тропы на лужайку.
Ниссо взволнована не меньше, чем он. Мимо, приветствуя встречных путников,
проезжает головное охранение.
И едва Ниссо тронула повод, чтоб ехать дальше, новая вереница всадников
выезжает из-за скалы. Это командиры, их много, и Шо-Пиру понятно: это штаб
отряда, - каким большим должен быть весь отряд, если впереди него столько
командиров!
Шо-Пир прикладывает руку к шлему, командиры отвечают ему. Один из них
отделяется от колонны.
- Здравствуйте! - говорит ему Шо-Пир.
- Здравствуйте! Добрый путь... Из Волости?
У командира приветливое лицо. На зеленых петлицах - ромб, и Шо-Пир
поражен этим высоким знаком различия, - что делать в Высоких Горах отряду с
таким крупным начальником? На короткие расспросы Шо-Пир отвечает четко, - он
снова чувствует себя красноармейцем.
- А мы, - заговорившись с Шо-Пиром и пропустив свой штаб далеко вперед,
объясняет начальник отряда, - границу идем закрывать. Пора ваши горы
обезопасить. Заставы везем... Да и время уже вашим селениям приобщиться к
культуре. Кинопередвижки у нас, рации, движки для электростанций,
типографские машины, шрифты для газет, библиотека, да мало ли что еще?! А
это ваша жена? - и обращается к Ниссо: - Разрешите пожать вам руку!
Ниссо смущена и неожиданной встречей, и улыбкой командира, и этим
словом "жена". Откуда он взял, что она стала женой Шо-Пира? Она крепко жмет
протянутую руку.
Начальник отряда догоняет свой штаб, а мимо уже едут бойцы, - вот
свернутое знамя в синем чехле, вот привьюченные на спинах коней пулеметы,
вот белые кисейные платки под фуражками пограничников, прикрывающие их
обветренные лица от высокогорного солнца; вот привьюченный к двум идущим
одна за другой лошадям лазаретный паланкин на длинных носилках - красный
крест на синем брезенте, он проплывает мимо. И снова бойцы, едущие гуськом,
нескончаемой вереницей...
Шо-Пир и Ниссо спешиваются, стоят, держа своих лошадей в поводу, молча,
восхищенно смотрят. Красные блики заката уже потухли, тени вечера быстро
сгущаются, а бойцы все едут и едут, кажется, нет им числа.
Наконец цепочка бойцов обрывается, тропа свободна - видимо, прошли все.
Но из-за скалы выплывают новые всадники... Нет, это всадницы: женщины,
одетые, как и бойцы, в полушубки... Это жены командиров, конечно, - значит,
надолго едут сюда. За всадницами целый поезд привьюченных к лошадям
паланкинов, в них тоже женщины - эти, вероятно, не умеют ездить верхом.
- Смотри, Шо-Пир, смотри! - восклицает Ниссо. - Дети!
В самом деле: идут лошади с большими вьючными люльками. За занавесками
- детские лица. Они прижимаются к деревянным прутьям люлек. Дети
пограничников, юные путешественники, - им весело ехать так!
Снова интервал, и медленно шагают верблюды. Впереди на маленьком осле -
караванщик. К хвосту первого верблюда привязан второй, веревка продета
сквозь его ноздри; ко второму привязан третий... Шо-Пир невольно считает:
пятьдесят верблюдов. И снова ослик с сидящим на нем караванщиком, и снова
верблюды, верблюды с огромными вьюками да изредка обгоняющий их
всадник-боец. Под шеей у каждого верблюда медная звонница, все кругом
наполняется мерным, спокойным звоном, звон плывет над тропой, над лужайкой,
над горами, кажется, сами горы наливаются этим звоном... Уже темно, уже
всходит луна, зеленый, призрачный свет ее сливается с мерным звоном.
Верблюды идут, идут, покачиваясь, кивая, мягко вышагивая по каменистой
тропе...
Шо-Пир стоит, обняв плечи Ниссо. Оба смотрят, забыв обо всем на свете.
В лунном сиянии верблюды кажутся таинственными плывущими над землей
существами... Ни Шо-Пир, ни Ниссо никогда не видали такого зрелища. Им
кажется, что вместе с горами, луной, облаками они сами плывут вперед мимо
взмахивающих ногами, качающихся верблюдов.
- Да сколько вас! - наконец восклицает Шо-Пир. И кажется, совсем не
человеческий голос из лунного света отвечает ему:
- Пять тысяч верблюдов, пять тысяч...
Движется время, движется ночь. Плывут и плывут таинственные тени
верблюдов. Шо-Пир и Ниссо уже давно лежат на кошме. Их стреноженные кони
мирно пасутся в густой траве. Ночной холод неощутим, - лежат, укрывшись
своим одеялом, подперев подбородки руками. Лежат, молчат, смотрят, не в
силах оторвать глаз от загораживающего шествия верблюдов, опьяненные
нескончаемым звоном, Колыбельною песнью мира, рождающей фантастические
неопределенные образы... Лежат и не спят, и ощущают медленное биение своих
сердец, и Шо-Пир курит, курит, беспрерывно курит свою старую трубку...
Луна ложится на гребень горы, зеленые блики уходят вверх по горному
склону, а верблюды идут, идут...
1939 - 1941 и 1946 годы
Ленинград
В с т у п л е н и е
.............................................................3
Глава первая
..................................................................4
Глава вторая
..................................................................24
Глава третья
..................................................................47
Глава четвертая
...............................................................67
Глава пятая
.....................................................................87
Глава шестая
..................................................................111
Глава седьмая
.................................................................137
Глава восьмая
.................................................................169
Глава девятая
..................................................................198
Глава десятая
..................................................................220
Глава одиннадцатая
..........................................................244
Э п и л о г
.......................................................................263
Популярность: 14, Last-modified: Sat, 04 Sep 2004 12:43:28 GmT