---------------------------------------------------------------
Собрание сочинений. т.6
OCR: Алексей Аксуецкий http://justlife.narod.ru
Origin: Генрих Гейне на сайте "Просто жизнь"
---------------------------------------------------------------
Как мужу я жена...
Граф Август фон Платен-Галлер-мюнде.
Угодно графу в пляс пуститься -- Пусть граф распорядится, И я начну!
Фигаро
Карлу Иммерману, поэту, посвящает эти страницы в знак восторженного
почитания автор
Когда я вошел в комнату к Матильде, она застегнула последнюю пуговицу
на зеленой амазонке и как раз собиралась надеть шляпу с белыми перьями. Она
быстро отбросила ее в сторону, как только увидела меня, и кинулась мне
навстречу с развевающимися золотыми кудрями. "Доктор неба и земли!" --
воскликнула она и по старой привычке схватила меня за уши и с забавнейшей
сердечностью поцеловала.
-- Как поживаете, безумнейший из смертных? Как я счастлива, что вижу
вас опять! Ведь на всем свете не найти мне человека более сумасшедшего, чем
вы.' Дураков и болванов достаточно, и нередко их удостаивают чести принимать
за сумасшедших; но истинное безумие так же редко, как истинная мудрость;
быть может даже, оно -- не что иное, как сама мудрость, вознегодовавшая на
то, что знает все, знает все гнусности этого мира, и потому принявшая мудрое
решение сойти с ума. Жители Востока -- толковый народ, они чтут помешанного
как пророка, а мы всякого пророка считаем за помешанного.
-- Но, миледи, почему вы не писали мне?
234
-- Я, доктор, написала вам, конечно, длинное письмо и пометила на
конверте: вручить в Нью-Бедламе. Но вас, против всякого ожидания, там не
оказалось, и письмо отправили в Сент-Люк, а так как вас и там не оказалось,
то оно пошло дальше, в другое такое же учреждение, и совершило, таким
образом, турне по всем домам умалишенных Англии, Шотландии и Ирландии, пока
мне не вернули его с пометою, что джентльмен, которому оно адресовано, пока
еще не засажен. И в самом деле, как это вы все еще на свободе?
-- Я хитро устроился, миледи. Повсюду, где я бывал, я умел обходить
дома умалишенных, и, думаю,, это удастся мне и в Италии.
-- Друг мой, здесь вы в полной безопасности: во-первых, вблизи нет дома
для умалишенных, а во-вторых, здесь мы хозяева.
-- Мы? Миледи! Вы, значит, причисляете себя к нам? Позвольте
запечатлеть братский поцелуй на вашем челе.
-- Ах, я говорю, мы -- приехавшие на воды, причем я еще, право, самая
разумная... А поэтому вы легко можете себе представить, какова же самая
сумасшедшая, именно Юлия Максфилд, постоянно утверждающая, что зеленые глаза
означают весну души; кроме того, здесь две молодые красавицы...
-- Конечно, английские красавицы, миледи?
-- Доктор, что значит этот насмешливый тон? По-видимому,
изжелта-жирные, макаронные лица так пришлись вам по вкусу в Италии, что вы
совершенно равнодушны к британским...
-- Плумпудингам с глазами-изюминками, грудям-ростбифам, отделанным
белыми полосами хрена, гордым паштетам...
-- Было время, доктор, когда вы приходили в восторг всякий раз, как
видели красивую англичанку...
-- Да, это было когда-то! Я и сейчас не склонен отказывать в признании
вашим соотечественницам. Они прекрасны, как солнце, но -- как солнце из
льда, белы, как мрамор, но и холодны, как мрамор, близ холодного их сердца
замерзают бедные...
-- О! Я знаю кое-кого, кто не замерз и вернулся из-за моря свежим и
здоровым, и это был великий, немецкий, дерзкий...
-- По крайней мере, он простудился так сильно близ
235
ледяных британских сердец, что до сих пор у него, насморк.
Миледи, казалось, была задета этими словами; она схватила хлыст,
лежавший между страницами романа в виде закладки, провела им между ушей
своей белой, тихо заворчавшей охотничьей собаки, быстро подняла шляпу с
пола, кокетливо надела ее на кудрявую головку, раза два самодовольно
взглянула в зеркало и гордо произнесла : "Я еще красива!" Но вдруг, как бы
охваченная трепетом темного, болезненного ощущения, остановилась в
задумчивости, медленно стянула с руки белую перчатку, подала мне руку и,
стремительно угадав мои мысли, сказала: "Не правда ли, эта рука не так уже
красива, как в Рамсгейте? Матильда за это время много выстрадала!"
Любезный читатель! Редко можно разглядеть трещину в колоколе, и
узнается она лишь по звуку. Если бы ты слышал звук голоса, которым
произнесены были эти слова, ты бы сразу понял, что сердце миледи -- колокол
из лучшего металла, но скрытая трещина удивительным образом глушит самые
светлые его тона и как бы окутывает их тайной грустью. Но я все-таки люблю
такие колокола: они находят родственный отзвук в моей собственной груди; и я
поцеловал руку миледи, пожалуй, сердечнее, чем когда-либо, хотя она и не так
уж была свежа, и несколько жилок, слишком резко выделявшихся своим голубым
цветом, также, казалось, говорили мне: "Матильда за это время много
выстрадала!"
Взгляд, который она бросила на меня, подобен был грустной одинокой
звезде в осеннем небе, и она сказала нежно и сердечно: "Вы, кажется, уже
мало меня любите, доктор! Только сострадание выразилось в слезе, упавшей мне
на руку, словно милостыня".
-- Кто же заставляет вас придавать такой скудный смысл безмолвной речи
моих слез? Держу пари, белая охотничья собака, льнущая сейчас к вам,
понимает меня лучше: она смотрит то на меня, то на вас и, кажется, удивлена
тем, что люди, гордые властители мироздания, так глубоко несчастны в душе.
Ах, миледи! Только родственная скорбь исторгает слезы, и каждый, в сущности,
плачет о себе самом.
-- Довольно, довольно, доктор! Хорошо, по крайней мере, что мы
современники и что мы с нашими глупыми
236
слезами находимся в одном и том же уголке земли. Какое было бы
несчастье, если бы вы жили случайно на двести лет раньше, как это произошло
с моим другом Мигелем Сервантесом де Сааведра, или, тем более, если бы вы
появились сто лет спустя, подобно еще одному близкому другу, которого имени
я даже не знаю именно потому, что он получит свое имя лишь при рождении в
1900 году! Но расскажите, как вы жили с тех пор, как мы расстались.
-- Я занимался своим обычным делом, миледи: я все время катил большой
камень. Когда я вкатывал его до половины горы, он внезапно срывался вниз и я
вновь должен был катить его в гору, и это катанье в гору и с горы будет
длиться до тех пор, пока сам я не улягусь под большим камнем и каменных дел
мастер не напишет на нем большими буквами: "Здесь покоится..."
-- Ни за что, доктор, я не оставлю вас в покое,-- только не впадайте в
меланхолию! Засмейтесь, или я...
-- Нет, не щекочите, лучше я сам засмеюсь...
-- Ну, хорошо. Вы мне нравитесь все так же, как в Рамсгейте, где мы
впервые сошлись близко...
-- И в конце концов сошлись еще ближе близкого. Да, я буду весел.
Хорошо, что мы снова встретились, и великий немецкий... вновь доставит себе
удовольствие рисковать своей жизнью близ вас.
Глаза миледи засветились, как солнце после легкого дождя, и хорошее
расположение духа уже опять вернулось к ней, когда вошел Джон и с чопорным
лакейским пафосом доложил о приходе его превосходительства, маркиза
Кристофоро ди Гумпелино.
-- Добро пожаловать! А вы, доктор, познакомитесь с одним из пэров
нашего сумасшедшего царства. Не смущайтесь его наружностью, в особенности
его носом. Человек этот обладает выдающимися свойствами, например множеством
денег, здравым рассудком и страстью перенимать все дурачества нашего
времени; к тому же он влюблен в мою зеленоокую подругу, Юлию Максфилд,
называет ее своею Юлиею, а себя -- ее Ромео, декламирует и вздыхает, а лорд
Максфилд, деверь, которому свою верную Юлию доверил муж, это Аргус...
Я хотел уже заметить, что Аргус сторожил корову, но тут двери широко
распахнулись и, к величайшему моему изумлению, ввалился мой старый друг,
банкир Христиан
237
Гумпель, со своей сытой улыбкой и благословенным животом. После того
как его лоснящиеся толстые губы вдоволь потерлись о руку миледи и высыпали
обычные вопросы о здоровье, он узнал и меня -- и друзья бросились друг другу
в объятия.
Предупреждение Матильды, чтобы я не смущался носом этого человека,
оказалось достаточно обоснованным, и немного не хватало, чтобы он выколол
мне глаз. Я не хочу сказать ничего дурного об этом носе; наоборот, он
отличался благородством формы, и именно благодаря ему мой друг счел себя
вправе присвоить себе по меньшей мере титул маркиза. По этому носу можно
было узнать, что он принадлежит к настоящей аристократии, что он происходит
из древней всемирно известной семьи, с которой породнился когда-то, не
опасаясь мезальянса, сам господь бог. С тех пор этот род, правда, несколько
опустился, так что со времен Карла Великого должен был добывать средства к
существованию по большей части торговлей старыми штанами и билетами
гамбургской лотереи, не поступаясь, однако, ни в малейшей мере своей
фамильной гордостью и не теряя надежды получить назад свои старинные
поместья или, по крайней мере, эмигрантское вознаграждение в достаточном
размере, когда его старый легитимный монарх выполнит обет реставрации, --
обет, при помощи которого он вот уже две тысячи лет водит его за нос. Может
быть, носы этой фамилии и стали так длинны оттого, что ее так долго водили
за нос? Или эти длинные носы -- род мундира, по которому бог-царь Иегова
узнает своих лейб-гвардейцев даже в том случае, когда они дезертировали?
Маркиз Гумпелино был именно таким дезертиром, но он все продолжал носить
свой мундир, и мундир его был блестящ, усеян рубиновыми крестиками и
звездочками, миниатюрным орденом Красного орла и прочими знаками отличия.
-- Посмотрите, -- сказала миледи, -- это мой любимый нос, я не знаю
лучшего цветка на земле.
-- Этот цветок, -- ухмыльнулся Гумпелино, -- я не могу положить на вашу
прекрасную грудь, иначе пришлось
238
бы присоединить и мое цветущее лицо, а это приложение, может быть,
несколько стеснило бы вас при сегодняшней жаре. Но я принес вам не менее
драгоценный цветок, здесь весьма редкий...
С этими словами маркиз развернул бумажный сверток, который принес с
собой, и, не торопясь, заботливо вынул из него великолепнейший тюльпан.
Едва миледи увидела цветок, она во весь голос закричала: "Убить! Убить!
Вы хотите меня убить? Прочь, прочь этот ужас!" При этом она так стала
бесноваться, будто ее в самом деле хотят погубить; она прикрывала руками
глаза, бессмысленно бегала взад и вперед по комнате, проклиная нос Гумпелино
и его тюльпан, звонила в звоночек, топала об пол, ударила хлыстом собаку
так, что та громко залаяла, и когда вошел Джон, воскликнула, как Кин в роли
короля Ричарда:
Коня! коня! Все царство за коня!--
И вихрем вылетела из комнаты.
-- Курьезная женщина! -- сказал Гумпелино, застыв от изумления и все
еще держа в руке тюльпан. В этой позе он походил на одного из тех божков,
которых можно видеть с лотосом в руках на древнеиндийских надгробных
памятниках. Но я куда лучше знал эту женщину и ее идиосинкразию: меня свыше
всякой меры развеселило это зрелище, и, приоткрыв окно, я крикнул: "Миледи,
что мне думать о вас? Где же ваш разум, ваша благовоспитанность, в
особенности ваша любовь?"
В ответ она крикнула с диким смехом:
Когда я на коне, то поклянусь: Люблю тебя безмерно!
-- Курьезная женщина, -- повторил Гумпелино, когда мы с ним отправились
в путь -- навестить двух его приятельниц, синьору Летицию и синьору
Франческу, с которыми он собирался меня познакомить. Квартира этих дам
находилась довольно высоко на горе, и я тем признательнее был моему
упитанному другу за то, что, находя подъем в гору несколько трудным для
себя, он
239
останавливался на каждом холме, переводя дух и охая: "О, Иисусе!"
Дело в том, что дома на Луккских водах расположены или внизу, в
деревне, окруженной высокими горами, или же на самих горах, невдалеке от
главного источника, где живописная группа строений смотрит вниз на
очаровательную долину. Но некоторые дома разбросаны и поодиночке на горных
склонах, и к ним приходится карабкаться между виноградниками, миртовыми
кустами, каприфолиями, лаврами, олеандрами, геранью и прочими изысканными
цветами и растениями; это какой-то сплошной дикий рай. Мне никогда не
приходилось видеть долины очаровательнее, в особенности если смотреть вниз,
на деревню, с террасы верхнего источника, где высятся сумрачно-зеленые
кипарисы. Видишь мост, переброшенный через речку, которая называется Лимою,
и, разделяя деревню на две половины, в обоих концах ее образует небольшие
пороги, так как сбегает по скалам, и поднимает шум, словно пытается
рассказать самые приятные на свете вещи, но не в состоянии сделать этого
из-за эха, со всех сторон заглушающего ее.
Но главное очарование долины заключается, конечно, в том, что она не
слишком велика и не слишком мала, что душа зрителя не ширится помимо воли,
а, напротив, ощущает гармоническую соразмерность с чудесным зрелищем, что
самые вершины гор, как и всюду в Апеннинах, не нагромождаются в причудливом
готическом беспорядке, подобно карикатурам на горы, которые мы наблюдаем
наряду с карикатурами на людей в германских землях; их благородно
округленные, одетые в яркую зелень контуры говорят о почти художественной
культуре и чрезвычайно мелодически гармонируют с бледно-голубым небом.
-- Иисусе! -- простонал Гумпелино, когда мы, уже сильно согревшись от
утомительного подъема в гору и от лучей утреннего солнца, достигли кипарисов
на упомянутой мною возвышенности и, заглянув вниз, в деревню, увидели, как
наша английская приятельница промчалась на коне через мост, мелькнув, словно
романтический образ из сказки, и столь же быстро исчезла, будто
сновидение.-- Иисусе, что за курьезная женщина!--несколько раз повторил
маркиз.--В моей скромной жизни я не встречал подобных женщин. Они попа-
240
даются только в комедиях, и я думаю, что Гольцбехер, например, очень
хорошо сыграла бы ее роль. В ней есть что-то русалочье. Как вы полагаете?
-- Я полагаю, что вы правы, Гумпелино. Когда я ехал с ней из Лондона в
Роттердам, капитан корабля сказал, что она похожа на посыпанную перцем розу.
В благодарность за это пикантное сравнение она высыпала ему на голову целую
перечницу, застав его однажды дремлющим в каюте, и к нему нельзя было
подойти, чтобы не чихнуть.
-- Курьезная женщина, -- повторил Гумпелино.-- Нежная, как белый шелк,
и такая же крепкая, а на лошади сидит так же хорошо, как я. Только бы она не
загубила свое здоровье этой верховой ездой. Вы не заметили сейчас длинного,
тощего англичанина, мчавшегося за ней на своем тощем коне, точь-в-точь
галопирующая чахотка? Народ этот проявляет излишнюю страстность в верховой
езде, все свои деньги тратит на лошадей. Белый конь леди Максфилд стоит
триста золотых, живехоньких луидоров -- ах, а луидоры стоят так высоко и с
каждым днем все поднимаются!
-- Да, луидоры поднимутся еще так высоко, что бедному ученому, вроде
нашего брата, и не достать до них.
-- Вы понятия не имеете, доктор, сколько мне приходится тратить денег,
а между тем я обхожусь при помощи одного только слуги и, лишь когда бываю в
Риме, содержу капеллана при своей домовой часовне. А вот идет мой Гиацинт.
Маленькая фигурка, показавшаяся в этот момент из-за поворота холма,
заслуживала скорее названия красной лилии. В глаза бросался широкий
болтающийся сюртук ярко-красного цвета, изукрашенный золотыми позументами,
которые сверкали на солнце, и среди всего этого красного великолепия торчала
головка, обливавшаяся потом, и она кивала мне, как доброму знакомому. И в
самом деле, рассмотрев поближе бледное озабоченное личико и деловито
мигающие глазки, я узнал человека, которого, казалось, легче было встретить
на горе Синае, чем на Апеннинах; это был не кто иной, как господин Гирш,
гамбургский обыватель, не только бывший всегда очень честным лотерейным
маклером, но и знавший толк в мозолях и драгоценностях так основательно, что
он не только умел отличать первые от последних, но
241
и вырезал очень искусно мозоли и оценивал очень точно драгоценности.
-- Я надеюсь, -- сказал он, подойдя ко мне ближе, -- что вы еще помните
меня, хотя я и не называюсь больше Гирш. Я зовусь теперь Гиацинтом и состою
камердинером у господина Гумпеля.
-- Гиацинт! -- вскричал этот последний, изумленный и пораженный
нескромностью своего слуги.
-- Будьте покойны, господин Гумпель, или господин Гумпелино, или
господин маркиз, или ваше превосходительство, нам нечего стесняться перед
этим господином; он знает меня, не раз покупал у меня лотерейные билеты, и я
даже мог бы поклясться, что со времени последнего розыгрыша он остался мне
должен семь марок девять шиллингов. Право, я очень рад, господин доктор, что
вижу вас здесь. Вы тут тоже для своего удовольствия? Иначе -- для чего же
тут и быть в такую жару, когда еще притом надо лазить с горы на гору? К
вечеру я устаю здесь так, как будто двадцать раз пробежал от Альтонских до
Каменных ворот и не заработал при этом ни гроша.
-- Иисусе! -- воскликнул маркиз.-- Замолчи, замолчи! Я заведу себе
другого слугу!
-- Зачем молчать! -- возразил Гирш-Гиацинт. -- Ведь так приятно, когда
можно поговорить опять на добром немецком языке с лицом, которое видел уже
когда-то в Гамбурге, а когда я подумаю о Гамбурге...
Тут, при воспоминании о маленькой мачехе-родине, глазки Гирша влажно
заблестели, и он продолжал со вздохом:
-- Что такое человек! Прохаживаешься в свое удовольствие у Альтонских
ворот, по Гамбургской горе, осматриваешь там всякие достопримечательности,
львов, птиц, попугаев, обезьян, знаменитых людей, катаешься на карусели или
электризуешься, а думаешь, насколько больше удовольствия получил бы в
местности, которая отстоит от Гамбурга миль на двести, в стране, где растут
лимоны и апельсины, в Италии. Что такое человек! Когда он стоит перед
Альтонскими воротами, ему очень хочется в Италию, а когда он в Италии, то
хотел бы опять очутиться у Альтонских ворот! Ах, стоять бы мне снова там и
видеть опять колокольню Михаила и на ней наверху часы с большими золотыми
цифрами на цифер-
242
блате, на которые я так часто смотрел после обеда, когда они приветливо
блестели на солнце -- не раз мне хотелось поцеловать их. Ах, теперь я в
Италии, где растут лимоны и апельсины, но когда я вижу, как растут лимоны и
апельсины, я вспоминаю Каменную улицу в Гамбурге, где они разложены так
привольно на переполненных лотках, и можно там спокойно наслаждаться ими, и
не надо карабкаться в гору, с опасностью для жизни, и терпеть такую палящую
жару. Как бог свят, господин маркиз, если бы я это не сделал ради чести и
ради образованности, я бы не последовал сюда за вами. Но, нужно признаться,
быть с вами, -- значит иметь честь и получать образование.
-- Гиацинт, -- сказал тут Гумпелино, слегка смягченный этой лестью,--
Гиацинт, иди теперь к...
-- Я уж знаю...
-- Ты не знаешь, говорю тебе, Гиацинт...
-- Я говорю вам, господин Гумпель, я знаю. Ваше превосходительство
посылаете меня к леди Максфилд... Мне совсем ничего не нужно говорить. Я
знаю ваши мысли, даже те, которых вы еще и не думали и которые, пожалуй, вам
и в голову не придут во всю вашу жизнь. Такого слугу, как я, вы нелегко
найдете, и я делаю это ради чести и ради образованности, и действительно,
быть с вами -- значит иметь честь и получать образование.
При этих словах он высморкался в весьма белый носовой платок.
-- Гиацинт, -- сказал маркиз, -- ты отправишься к леди Максфилд, к моей
Юлии, и отнесешь ей этот тюльпан -- береги его, он стоит пять паоли, -- и
скажешь ей...
-- Я уж знаю...
-- Ты ничего не знаешь! Скажи ей: тюльпан среди прочих цветов...
-- Я уж знаю, вы хотите сказать ей кое-что с помощью цветка. Я ведь
тоже не раз сочинял девизы, когда собирал деньги за лотерейные билеты.
-- Говорю тебе, Гиацинт, не нужно мне твоих девизов. Отнеси этот цветок
к леди Максфилд и скажи ей:
Тюльпан среди прочих цветов
Точь-в-точь средь сыров -- сыр страккино.
Но больше цветов и сыров Обожает тебя Гумпелино!
243
-- Дай мне бог здоровья, вот это здорово! -- воскликнул Гиацинт. -- Не
мигайте мне, господин маркиз! Что вы знаете, то и я знаю, и что я знаю, то
знаете и вы. До свидания, господин доктор. О пустячном долге я вам не
напоминаю.
С этими словами он стал спускаться с холма, бормоча беспрестанно:
"Гумпелино -- Страккино, Страккино -- Гумпелино".
-- Это преданный человек, -- сказал маркиз, -- иначе я давно бы
отделался от него, потому что он не знает этикета. При вас это ничего. Вы
ведь понимаете меня. Как вам нравится его ливрея? На ней позументов на сорок
талеров больше, чем на ливрее у слуг Ротшильда. Я испытываю внутреннее
удовольствие, когда подумаю, как он у меня совершенствуется. Временами я его
сам поучаю для его образования. Часто я говорю ему: что такое деньги?
Денежки -- круглые и катятся прочь, а образование остается. Да, доктор, если
я, боже упаси, потеряю мои деньги, все же я останусь большим знатоком
искусства, знатоком живописи, музыки, поэзии. Завяжите мне глаза и сведите
меня в галерею во Флоренции, и у каждой картины, у которой вы меня
поставите, я назову имя живописца, ее написавшего, или, по крайней мере,
школу, к которой принадлежит живописец. Музыка? Заткните мне уши, и я
все-таки услышу всякую фальшивую ноту. Поэзия? Я знаю всех актрис Германии и
знаю наизусть всех поэтов. А уж природа! Я проехал двести миль, ехал дни и
ночи напролет, чтобы увидеть только одну гору в Шотландии. Но Италия все
превосходит. Как вам нравится эта местность? Что за произведение искусства?
Взгляните на деревья, на горы, на небо, на воду, там внизу, разве все это
как будто не нарисовано? Видели вы что-нибудь красивее в театрах?
Становишься, так сказать, поэтом! Стихи приходят в голову, сам не знаешь
откуда:
Под покровом сумерек в молчанье Дремлет поле, замер дальний гул;
И лишь здесь, в старинном грустном зданье,
Свой напев кузнечик затянул.
Эти торжественные слова маркиз продекламировал, весь исполненный
умиления, с просветленным лицом, глядя вниз, на смеющуюся, светом утра
озаренную долину.
244
Когда я однажды в прекрасный весенний день прогуливался в Берлине Под
Липами, передо мною шли две женщины и долго молчали; наконец одна из них
томно вздохнула: "Ах, эти зеленые деревья!" На что другая, молоденькая,
спросила с наивным изумлением: "Мамаша, ну что вам за дело до зеленых
деревьев?"
Я не могу не заметить, что хотя обе они и не были одеты в шелк, но
все-таки отнюдь не принадлежали к черни, да и вообще в Берлине нет черни,
разве только в высших сословиях. Что же касается этого наивного вопроса, то
он не выходит у меня из памяти. Всякий раз, когда я ловлю людей на
лицемерном восхищении природою и на прочих явных подделках, вопрос этот с
забавным смехом оживает в моей памяти. Он и теперь вспомнился мне, когда
маркиз стал декламировать, и маркиз, угадав насмешку на моих губах,
воскликнул недовольно:
-- Не мешайте мне -- вы ничего не понимаете в том, что естественно, вы
разорванный человек, разорванное сердце, вы, так сказать, Байрон.
Может быть, и ты, любезный читатель, принадлежишь к числу тех
благочестивых птиц, что хором подпевают этой песне о надорванности Байрона
-- песне, которую мне вот уже десять лет насвистывают и нащебечивают и
которая нашла себе отзвук, как ты только что слышал, даже под черепом
маркиза? Ах, дорогой читатель, если уж ты хочешь сокрушаться об этой
надорванности, то уж лучше сокрушайся о том, что весь мир надорван по самой
середине. А так как сердце поэта -- центр мира, то в наше время оно тоже
должно самым жалостным образом надорваться. Кто хвалится, что сердце его
осталось целым, тот признается только в том, что у него прозаичное, далекое
от мира, глухое закоулочное сердце. В моем же сердце прошла великая мировая
трещина, и именно поэтому я знаю, что великие боги милостиво отличили меня
среди многих других и признали меня достойным мученического назначения
поэта.
Когда-то -- в древности и в средние века -- мир был целостен; несмотря
на внешнюю борьбу, все же сохранялось единство мира, и были цельные поэты.
Воздадим честь этим поэтам и порадуемся им. Но всякое подража-
245
ние их цельности есть ложь, ложь, которую насквозь видит всякий
здоровый глаз и которая не укроется от насмешки. Недавно я с большим трудом
раздобыл в Берлине стихотворения одного из таких цельных поэтов, столь
горько сетовавшего на мою байроническую надорванность, и его фальшивая
свежесть, его нежная восприимчивость к природе, словно свежим сеном
пахнувшая на меня из книги, так на меня подействовала, что мое бедное
сердце, давно уже надорванное, чуть не разорвалось от смеха, и я невольно
воскликнул: "Дорогой мой интендантский советник Вильгельм Нейман, что вам за
дело до зеленых деревьев?"
-- Вы разорванный человек, так сказать Байрон,-- повторял маркиз, все
еще просветленно глядя на долину и щелкая время от времени языком в
благоговейном восхищении.--Боже, боже! Все точно нарисовано.
Бедный Байрон! В таком безмятежном наслаждении тебе было отказано! Было
ли сердце твое так испорчено, 'что ты мог только созерцать природу,
изображать ее даже, но не мог находить в ней блаженства? Или прав Биши
Шелли, когда он утверждает, что ты подсмотрел природу в ее целомудренной
наготе и был разорван за то, подобно Актеону, ее собаками!
Довольно об этом; перед нами теперь -- предмет более приятный, а именно
жилище синьор Летиции и Франчески, маленький белый домик, который как будто
еще пребывает в неглиже; спереди у него два больших круглых окна, а высоко
вытянувшиеся виноградные лозы свешивают над ними свои длинные отростки; это
похоже на то, как будто пышные зеленые кудри спустились на глаза домика. Мы
подходим к дверям -- и уже до нас доносится звонкая сутолока, льющиеся
трели, аккорды гитары и смех.
Синьора Летиция, пятидесятилетняя юная роза, лежала в постели, напевала
и болтала со своими двумя поклонниками, из которых один сидел перед ней на
низенькой скамейке, а другой, развалившись в большом кресле, играл на
гитаре. В соседней комнате тоже по временам как бы вспархивали обрывки
нежной песни или еще бо-
246
лее нежного смеха. С некоторой, довольно плоской ирониею, по временам
овладевавшей маркизом, он представил меня синьоре и обоим господам, заметив,
что я тот самый Иоганн Генрих Гейне, доктор прав, который так знаменит
теперь в немецкой юридической литературе. К несчастью, один из гостей
оказался профессором из Болоньи, и притом юристом, хотя его плавно
округленное, полное брюшко свидетельствовало скорее о причастности к
сферической тригонометрии. Несколько смутившись, я заметил, что пишу не под
своим именем, а под именем Ярке. Я сказал это из скромности, -- мне пришло в
голову одно из самых жалких насекомообразных в нашей юридической литературе.
Болонец высказал, правда, сожаление, что не слышал еще этого знаменитого
имени -- как, вероятно, не слышал и ты, любезный читатель, -- но выразил
уверенность, что блеск его распространится скоро по всей земле. При этом он
откинулся в кресле, взял несколько аккордов на гитаре и запел из "Аксура":
О Брама могучий! Прими ты без гнева Невинность напева, Напева,
напева...
Как задорно-нежное соловьиное эхо, порхали и в соседней комнате звуки
такой же мелодии. Синьора Летиция напевала меж тем тончайшим дискантом:
Для тебя пылают щеки,
Кровь играет в этих жилах, Сердце бьется в муках страсти Для тебя лишь
одного!
И добавила самым жирным и прозаическим голосом:
-- Бартоло, дай плевательницу.
Тут со своей низкой скамеечки поднялся Бартоло на тощих деревянных
ногах и почтительно поднес не совсем чистую плевательницу из синего фарфора.
Этот второй поклонник, как шепнул мне по-немецки Гумпелино, был
знаменитый поэт, песни которого, хотя и созданные двадцать лет тому назад,
до сих пор звучат еще по всей Италии и опьяняют и молодых, и стариков тем
любовным пламенем, что горит в них; сам же он теперь бедный состарившийся
человек, с бледными глазами на увядшем лице, с седыми волосками на
трясущейся
247
голове и с холодом бедности в горестном сердце. Такой бедный старый
поэт в своей лысой одеревенелости напоминает виноградную лозу, которую нам
случается видеть зимою в холодных горах; тощая, лишенная листвы, она дрожит
на ветру и покрыта снегом, меж тем как сладкий сок, некогда источенный ею,
согревает множество упивающихся им сердец в самых далеких странах и,
опьяняя, вызывает у них хвалу. Как знать -- может быть, типографский станок,
этот виноградный пресс мысли, выжмет и меня когда-нибудь, и только в
издательском погребке "Гофмана и Кампе" можно будет разыскать старый,
выцеженный из меня напиток, а сам я, может быть, буду сидеть, такой же худой
и жалкий, как бедный Бартоло, на скамеечке; у постели старой возлюбленной и,
по ее требованию, буду подавать ей плевательницу/ Синьора Летиция извинилась
передо мною, что лежит в постели и притом на животе, ибо нарыв ниже
поясницы, вскочивший от неумеренного потребления винных ягод, мешает ей
лежать на спине, как приличествует каждой порядочной женщине. В самом деле,
она лежала наподобие сфинкса: голову с высокой прической она подпирала
обеими руками, между которыми, подобно Красному морю, колыхалась ее грудь.
-- Вы немец? -- спросила она меня.
-- Я слишком честен, чтобы отрицать это, синьора! -- отвечал я,
грешный.
-- Ах, честности у них вдоволь, у этих немцев! -- вздохнула она.--Но
какой толк, что люди, нас грабящие, честны? Они погубят Италию. Мои лучшие
друзья посажены в тюрьму в Милане: только рабство...
-- Нет, нет, -- воскликнул маркиз, -- не жалуйтесь на немцев! Мы, как
только являемся в Италию, оказываемся покоренными покорителями, побежденными
победителями; видеть вас, синьора, видеть вас и пасть к вашим ногам -- одно
и то же.-- И, развернув свой желтый шелковый платок и опустившись на колени,
он добавил: -- Вот, я склоняю перед вами колени и присягаю вам на верность
от имени всей Германии!
-- Кристофоро ди Гумпелино! -- вздохнула синьора, растроганная и
растаявшая.-- Встаньте и обнимите меня!
Но для того чтобы милый пастушок не повредил прически и красок своей
возлюбленной, она поцеловала его не в пылающие губы, а в милый лоб, так что
лицо его
248
пригнулось ниже, и руль, то есть нос, стал блуждать среди Красного
моря.
-- Синьор Бартоло, -- воскликнул я, -- позвольте и мне воспользоваться
плевательницей!
Синьор Бартоло грустно улыбнулся, но не сказал ни слова, хотя он,
наряду с Меццофанте, считается лучшим преподавателем языков в Болонье. Мы
неохотно разговариваем, когда разговор является нашей профессией. Он служил
синьоре в качестве немого рыцаря, и лишь по временам приходилось ему
прочитать стихи, которые он двадцать пять лет тому назад бросил на сцену,
когда синьора впервые выступила в Болонье в роли Ариадны. Сам он, возможно,
был в то время и пышнокудрым и пламенным, походил, может быть, на самого
бога Диониса, и его Летиция -- Ариадна, наверное, бросилась ему в юные
объятия с жаром вакханки: "Эвоэ, Вакх!" Он сочинил в то время еще много и
других любовных стихов, которые, как уже сказано, сохранились в итальянской
литературе, а между тем поэт и его возлюбленная давно уже превратились в
макулатуру.
На протяжении двадцати пяти лет хранил он свою верность, и, я думаю, он
до самой своей блаженной кончины будет сидеть на скамеечке и, по требованию
возлюбленной, читать свои стихи или подавать плевательницу. Профессор
юриспруденции почти столько же времени влачится в любовных оковах синьоры,
он столь же усердно ухаживает за ней, как и в начале этого столетия; он все
еще вынужден немилосердно пренебрегать своими университетскими лекциями,
когда она требует, чтобы он сопровождал ее куда-либо, и все еще несет бремя
сервитутов истинного "патито".
Постоянство и верность обоих поклонников этой давно уже пришедшей в
упадок красавицы превратились, может быть, в привычку, может быть, они --
дань почтительности по отношению к прежним чувствам, может быть, это само
чувство, ставшее совершенно независимым от нынешнего состояния своего былого
предмета и созерцающее его лишь глазами воспоминания. Не так ли мы на углах
улиц в католических городах часто видим стариков, склонившихся перед ликом
мадонны, столь поблекшим и обветшалым, что сохранились лишь немногие следы
его да контуры лица, а иногда, пожалуй, даже не видно ничего, кроме ниши,
где было изображе-
249
ние, и лампадки, висящей над ним; но старые люди, так набожно молящиеся
там с четками в дрожащих руках, слишком уж часто, с юношеских своих лет,
преклоняли здесь колени; привычка постоянно гонит их в одно и то же время к
одному и тому же месту; они не замечают, как тускнеет их любимый образ, да в
конце концов к старости становишься так слаб зрением, так слеп, что
совершенно, безразлично, виден ли предмет нашего поклонения или не виден.
Те, кто верует не видя, счастливее, во всяком случае, чем другие -- с острым
зрением, тотчас же обнаруживающие мельчайшую морщину на лицах своих мадонн.
Нет ничего ужаснее таких открытий! Когда-то я, правда, думал, что всего
ужаснее женская неверность, и, чтобы выразиться как можно ужаснее, я называл
женщин змеями. Но, увы! Теперь я знаю: самое ужасное -- то, что они не
совсем змеи; змеи ведь могут каждый год сбрасывать кожу и в новой коже
молодеть.
Почувствовал ли кто-нибудь из этих двух античных селадонов ревность,
когда маркиз или, вернее, его нос вышеописанным образом утопал в блаженстве,
я не мог заметить. Бартоло в полном спокойствии сидел на своей скамеечке,
скрестив свои сухие ножки, и играл с комнатной собачкой синьоры, хорошеньким
зверьком из тех, что водятся в Болонье и известны у нас под названием
болонок. Профессор невозмутимо продолжал свое пение, заглушаемое порою
смешливо-нежными, пародически ликующими звуками из соседней комнаты; время
от времени он сам прерывал пение, чтобы обратиться ко мне с вопросами
юридического характера. Когда наши мнения не совпадали, он брал резкие
аккорды и бренчал аргументами. Я же все время подкреплял свои мнения
авторитетом моего учителя, великого Гуго, который весьма знаменит в Болонье
под именем Угоне, а также Уголино.
-- Великий человек! -- воскликнул профессор, ударяя по струнам и
напевая:
Нежный голос, кроткий звук До сих пор в груди живет. Сколько светлых,
сладких мук, Сколько счастья он дает!
Тибо, которого итальянцы зовут Тибальдо, также пользуется большим
почетом в Болонье; но там знакомы не столько с сочинениями этих ученых,
сколько
250
с их основными взглядами и разногласиями. Я убедился, что Ганс и
Савиньи известны тоже только по имени. Последнего профессор принимал даже за
ученую женщину.
-- Так, так, -- сказал профессор, когда я вывел его из этого
простительного заблуждения, -- так, значит, действительно не женщина? Мне,
значит, не так сказали. Мне говорили даже, что синьор Ганс пригласил как-то
на балу эту даму танцевать, получил отказ, и отсюда возникла литературная
вражда.
-- В самом деле, вам не так сказали, синьор Ганс вовсе не танцует, и
прежде всего из человеколюбия, чтобы не вызвать землетрясения. Приглашение
на танец, о котором вы говорите, вероятно, плохо понятая аллегория.
Историческая и философская школы представлены в ней в качестве танцоров, и в
этом смысле, может быть, понимается кадриль в составе Угоне, Тибальдо, Ганса
и Савиньи. И, может быть, в этом смысле говорят, что синьор Угоне хотя он и
diable boiteux1 в юриспруденции, проделывает такие же изящные па,
как Лемьер, и что синьор Ганс в последнее время проделал несколько изрядных
прыжков, создавших из него Ore философской школы.
-- Синьор Ганс,-- поправился профессор,-- танцует, таким образом, лишь
аллегорически, так сказать, метафорически.
И вдруг, вместо того чтобы продолжать свою речь, он опять ударил по
струнам гитары и запел, как сумасшедший, под сумасшедшее бренчание струн:
Это имя дорогое
Наполняет нас блаженством.
Если волны бурно стонут, Если небо в черных тучах, -- Все к Тарару лишь
взывает,
Словно мир готов склониться
Перед именем его!
О господине Гешене профессор не знал даже, что он существует. Но это
имело свои естественные основания, так как слава великого Гешена не дошла
еще до Болоньи, а достигла только Поджо, откуда до нее еще четыре немецкие
мили и где она задержится на некоторое время для собственного удовольствия.
Геттинген далеко не так уж известен в Болонье, как можно было бы
__________________
1 Хромой бес (фр.).
251
ожидать хотя бы в расчете на благодарность, -- ведь его принято
называть немецкой Болоньей. Подходящее ли это название -- я не хочу
разбирать; во всяком случае, оба университета отличаются один от другого тем
простым обстоятельством, что в Болонье самые маленькие собаки и самые
большие ученые, а в Геттингене, наоборот, самые маленькие ученые и самые
большие собаки.
Когда маркиз Кристофоро ди Гумпелино, как некогда царь фараон, вытащил
свой нос из Красного моря, лицо его сияло потом и самодовольством. Глубоко
растроганный, он дал обещание синьоре отвезти ее в собственном экипаже в
Болонью, как только она в состоянии будет сидеть. Заранее условились, что
профессор выедет вперед, а Бартоло поедет вместе с ней в экипаже маркиза,
где он очень удобно может поместиться на козлах, держа на руках собачку, и
что, наконец, через две недели можно будет попасть во Флоренцию, куда к тому
времени вернется и синьора Франческа, отправляющаяся с миледи в Пизу. Считая
по пальцам расходы, маркиз напевал про себя: "Di tanti palpiti"1,
синьора разражалась громкими трелями, а профессор колотил по струнам гитары
и пел при этом такие пламенные слова, что со лба у него катились капли пота,
а из глаз слезы, которые соединялись в один поток, сбегавший по его красному
лицу. Среди этого пения и бренчания внезапно распахнулись двери соседней
комнаты, и оттуда выскочило существо...
Вас, музы древнего и нового времени, и вас, еще даже не открытые музы,
которых почтят лишь последующие поколения и которых я давно уже почуял в
лесах и на морях, вас заклинаю я, дайте мне краски, чтобы описать существо,
которое, после добродетели, великолепнее всего на свете. Добродетель, само
собою разумеется, занимает первое место среди всяческого великолепия; творец
украсил ее столькими прелестями, что, казалось, он не в силах создать
что-либо столь же великолепное; но тут он еще раз собрался с силами и в одну
из светлых своих
____________________
1 "Какой трепет" (ит.).
252
минут сотворил синьору Франческу, прекрасную танцовщицу, величайший
свой шедевр после создания добродетели, причем он ни в малейшей мере не
повторился, в отличие от земных маэстро, чьи позднейшие произведения
отражают блеск, позаимствованный у более ранних, -- нет, синьора Франческа
-- совершенно оригинальное произведение, не имеющее ни малейшего сходства с
добродетелью, и есть знатоки, которые считают ее столь же великолепной и
признают за добродетелью, созданной несколько ранее, лишь право
первородства. Но такой ли уж это большой недостаток для танцовщицы -- быть
моложе на каких-нибудь шесть тысяч лет? Ах, я вижу ее опять -- как она
прыгнула из распахнувшейся двери на середину комнаты, повернулась в тот же
миг бесчисленное множество раз на одной ноге, бросилась на софу и во всю
длину протянулась на ней, прикрыла обеими руками глаза и, едва дыша,
промолвила: "Ах, как я устала спать!" Тут подошел маркиз и произнес длинную
речь в своей иронической, пространно-почтительной манере, составляющей такой
загадочный контраст с его немногословной сжатостью в деловых беседах и с его
пошлой расплывчатостью в моменты сентиментального возбуждения. И все-таки
эта манера не была искусственной; возможно, что она выработалась в нем
естественным путем, благодаря тому, что ему не хватало смелости открыто
утверждать свое первенство, на которое, по его мнению, давали ему право его
деньги и его ум, и он трусливо маскировался выражениями самой преувеличенной
покорности. В широкой улыбке его было в таких случаях что-то
неприятно-забавное, и трудно было решить, следует ли побить его или
похвалить. В таком именно духе и была его утренняя речь, обращенная к
синьоре Франческе, еле слушавшей его спросонья, и когда в заключение он
попросил позволения поцеловать ее ноги, или, по крайней мере, одну левую
ножку, и заботливо разостлал затем в этих целях на полу свой желтый шелковый
носовой платок и склонил на него колени, она равнодушно протянула ему левую
ногу, обутую в прелестный красный башмачок, в противоположность правой, на
которой башмачок был голубой -- забавное кокетство, благодаря которому еще
заметнее делалось милое изящество этих ножек. Маркиз благоговейно поцеловал
ножку, поднялся с тяжким вздохом:
253
"Иисусе!" -- и попросил разрешения представить меня, своего друга,
каковое разрешение и было дано ему с тем же зевком; он не поскупился на
похвалы моим достоинствам и заверил словом дворянина, что я очень удачно
воспел несчастную любовь.
Я, с своей стороны, тоже испросил соизволения синьоры поцеловать ее
левую ножку, и в тот момент, когда я удостоился этой чести, она, как будто
пробудившись от дремоты, с улыбкой наклонилась ко мне, посмотрела на меня
большими удивленными глазами, весело выскочила на середину комнаты и опять
бесчисленное множество раз повернулась на одной ноге. Изумительная вещь -- я
почувствовал, что и сердце мое вертится вместе с нею, почти до обморока. А
профессор весело ударил по струнам гитары и запел:
Примадонна меня полюбила
И в мужья себе определила,
И вступили мы в брак с нею вскоре.
Горе мне, бедному, горе!
Но пришли мне на помощь пираты, И я продал ее за дукаты, Без
дальнейшего с ней разговора, Браво! Браво! Синьора!
Синьора Франческа еще раз окинула меня пристальным и испытующим
взглядом с головы до ног и затем с довольным выражением лица поблагодарила
маркиза, как будто я был подарком, который он любезно преподнес ей. Особых
возражений против подарка она не находила: только волосы мои, пожалуй,
слишком уж светло-каштановые, ей хотелось бы потемнее, как у аббата Чекко, и
глаза мои показались ей слишком маленькими и скорее зелеными, чем голубыми.
В отместку следовало бы и мне, дорогой читатель, изобразить синьору
Франческу в отрицательном свете, но, право, я ничего не мог бы сказать
дурного об этом прелестном создании, об этом воплощении грации, почти
легкомысленном по своим формам. И лицо было божественно соразмерно,
наподобие греческих статуй; лоб и нос составляли одну отвесную прямую линию,
с которой нижняя линия носа, удивительно короткая, образовала восхитительный
прямой угол; столь же коротко было расстояние от носа до рта, а губы были
полуоткрыты и мечтательно улыбались; под ними округло вырисовывался
прелестный полный
254
подбородок, а шея... Ах, мой скромный читатель, я захожу слишком
далеко, а кроме того, при этом вступительном описании я, как вновь
посвящаемый, не имею права распространяться о двух безмолвных цветках,
сиявших чистейшим блеском поэзии в тот момент, когда синьора расстегивала на
шее серебряные пуговки своего черного шелкового платья. Любезный читатель,
поднимемся опять выше и займемся описанием лица, о котором я могу сообщить
дополнительно, что оно было прозрачным и бледно-желтым, как янтарь, что
благодаря черным волосам, спускавшимся блестящими гладкими овалами над
висками, оно приобретало какую-то детскую округленность и было волшебно
освещено двумя черными быстрыми глазами.
Ты видишь, любезный читатель, что я готов самым основательным образом
дать тебе топографию моего блаженства, и подобно тому, как другие
путешественники прилагают к своим трудам отдельные карты местностей, важных
в историческом или примечательных в каком-либо ином отношении, так и я
охотно приложил бы гравированный на меди портрет Франчески. Но -- увы! --
что толку в мертвой передаче внешних контуров, когда божественное обаяние
форм заключается в жизни и движении! Даже лучший живописец не в состоянии
изобразить наглядно это обаяние, ибо живопись, в сущности, плоская ложь.
Скульптор скорее способен на это; при изменчивом освещении мы можем, до
некоторой степени, представить себе формы статуй в движении, и факел,
бросающий на них свой свет лишь извне, как бы оживляет их изнутри. И
существует статуя, которая могла бы дать тебе, любезный читатель, мраморное
представление о великолепии Франчески,-- это Венера великого Кановы, которую
ты можешь видеть в одном из последних зал Палаццо Питти во Флоренции. Я
часто вспоминаю теперь об этой статуе; иногда мне грезится, что она лежит в
моих объятиях и постепенно оживает и начинает, наконец, шептать что-то
голосом Франчески. Но то, что делало каждое ее слово таким прелестным,
бесконечно значительным, -- это был звук ее голоса; и если бы я привел здесь
самые слова, то получился бы лишь гербарий из засохших цветов, вся великая
ценность которых была в запахе. Разговаривая, она часто подпрыгивала и
пускалась танцевать; может быть, танец и был ее истинным
255
языком. А сердце мое неизменно танцевало вместе с нею, и проделывало
труднейшие па, и проявляло при этом столько таланта, сколько я никогда и не
подозревал в нем. Таким именно способом Франческа рассказала мне историю
аббата Чекко, молодого парня, влюбившегося в нее, когда она еще плела
соломенные шляпы в долине Арно; при этом она уверяла, что мне выпало счастье
быть похожим на него. Она сопровождала все это нежнейшими пантомимами, время
от времени прижимала кончики пальцев к сердцу, как бы черпая оттуда
нежнейшие чувства, плавно бросалась затем всей грудью на софу, прятала лицо
в подушки, протягивала ноги кверху и играла ими, как деревянными
марионетками. Голубая ножка должна была представлять аббата Чекко, красная
-- бедную Франческу, и, пародируя свою собственную историю, она показывала,
как расстаются две бедные влюбленные ножки; это было трогательно-глупое
зрелище -- ноги касались друг друга носками, обменивались поцелуями и
словами нежности, -- при этом сумасбродная девушка заливалась забавными,
вперемежку с хихиканьем, слезами, которые, однако, исходили порой из глубины
несколько большей, чем того требовала роль. В порыве болезненного
комического задора она изображала, как аббат Чекко держит длинную речь и в
педантических метафорах превозносит красоту бедной Франчески, и манера, в
которой она, в роли бедной Франчески, отвечала ему и копировала свой
собственный голос, с отзвуком былой сентиментальности, заключала в себе
что-то кукольно-печальное, удивительно волновавшее меня. Прощай, Чекко,
прощай Франческа! -- было постоянным припевом. Влюбленные ножки не хотели
расстаться, и я, наконец, обрадовался, когда неумолимая судьба разлучила их,
ибо сладостное предчувствие подсказывало мне, что было бы несчастьем для
меня, если бы влюбленные так и остались вместе.
Профессор зааплодировал на гитаре, шутовски дергая струны, синьора
стала выводить трели, собачка залаяла, маркиз и я стали бешено хлопать в
ладоши, а синьора Франческа встала и раскланялась с признательностью.
-- Это, право, недурная комедия,--сказала она мне, -- но прошло уже
много времени с тех пор, как она была поставлена, да и сама я состарилась,
-- угадайте-ка, сколько мне лет?
256
Но тут же, отнюдь не дожидаясь моего ответа, быстро проговорила:
"Восемнадцать" -- и при этом восемнадцать раз повернулась на одной ноге.
-- А сколько вам лет, dottore?1
-- Я, синьора, родился в ночь на новый тысяча восьмисотый год.
-- Я ведь говорил уже вам, -- заметил маркиз, -- это один из первых
людей нашего века.
-- А сколько, по-вашему, мне лет? -- внезапно воскликнула синьора
Летиция и, не помышляя о своем костюме Евы, скрытом доселе под одеялом,
порывистым движением приподнялась при этом вопросе так высоко, что
показалось не только Красное море, но и вся Аравия, Сирия и Месопотамия.
Отпрянув в испуге при столь ужасном зрелище, я пробормотал несколько
фраз о том, как затруднительно разрешить подобный вопрос, ибо ведь я видел
синьору только наполовину; но так как она все упорнее продолжала настаивать,
то я принужден был сказать правду,-- именно, что я не знаю соотношения между
годами итальянскими и немецкими.
-- А разве разница велика? -- спросила синьора Летиция.
-- Конечно,--ответил я,--тела расширяются от теплоты, поэтому и годы в
жаркой Италии гораздо длиннее, чем в холодной Германии.
Маркиз более удачно вывел меня из затруднительного положения, любезно
удостоверив, что только теперь красота ее распустилась в самой пышной
зрелости.
-- И подобно тому, синьора, -- добавил он, -- как померанец чем старее,
тем желтее, так и красота ваша с каждым годом становится более зрелой.
Синьора, казалось, удовлетворилась этим сравнением и, со своей стороны,
призналась, что действительно чувствует себя более зрелой, чем прежде,
особенно по сравнению с тем временем, когда она была еще тоненькой и впервые
выступала в Болонье, и что ей до сих пор непонятно, как она с такой фигурой
могла вызвать подобный фурор. Тут она рассказала о своем дебюте в роли
Ариадны; к этой теме, как я узнал потом, она очень часто возвращалась. По
этому случаю синьор Бартоло
_______________
1 Доктор (ит.).
257
должен был продекламировать стихи, брошенные ей тогда на сцену. Это
были хорошие стихи, полные трогательной скорби по поводу вероломства Тезея,
полные слепого воодушевления Вакхом и цветисто-восторженных похвал Ариадне.
"Bella cosa"1,-- восклицала синьора Летиция после каждой строфы.
Я тоже хвалил образы, и стихи, и всю трактовку мифа.
-- Да, миф прекрасный, -- сказал профессор, -- и в основе его лежит,
несомненно, историческая истина; некоторые авторы так прямо и рассказывают,
что Оней, один из жрецов Вакха, обвенчался с тоскующей Ариадною, встретив ее
покинутой на острове Наксосе, и, как часто случается, в легенде жрец бога
заменен самим богом.
Я не мог присоединиться к этому мнению, так как в области мифологии
более склонен к философским толкованиям, и потому возразил:
-- В фабуле мифа, в том, что Ариадна, покинутая Тезеем на острове
Наксосе, бросается в объятия Вакха, я вижу не что иное, как аллегорию:
будучи покинута, она предалась пьянству,-- гипотеза, которую разделяют
многие мои соотечественники -- ученые. Вы, господин маркиз, знаете,
вероятно, что покойный банкир Бетман постарался, в духе этой гипотезы, так
осветить свою Ариадну, чтоб она казалась красноносой.
-- Да, да, франкфуртский Бетман был великий человек! -- воскликнул
маркиз. В тот же миг, однако, что-то, по-видимому, очень важное, пришло ему
в голову, и он, вздохнув, пробормотал: "Боже, боже, я позабыл написать во
Франкфурт Ротшильду!" И с серьезным деловым лицом, с которого исчезло всякое
шутовское выражение, он быстро, без долгих церемоний, простился, пообещав
вернуться вечером.
Когда он исчез и я только что собрался, как это принято на свете,
сделать свои замечания о человеке, .благодаря любезности которого удалось
завязать столь приятное знакомство, я, к своему удивлению, увидел, что здесь
не могут нахвалиться им и в особенности превозносят, притом в самых
преувеличенных выражениях, его пристрастие к красоте, его аристократически
изящные манеры и бескорыстие. Синьора Франческа тоже присоединилась к общему
хору похвал, но призналась, что нос его
_______________
1 Прекрасно (ит.).
258
внушает ей некоторую тревогу и всегда напоминает ей Пизанскую башню.
Прощаясь, я снова просил удостоить меня милостивого соизволения
поцеловать ее левую ногу, и она с серьезной улыбкой сняла красный башмачок,
а также и чулок; а когда я склонил колени, она протянула мне свою
лилейно-белую цветущую ножку, которую я и прижал к губам с большим
благоговением, чем если бы проделал то же самое с ногой папы. Само собою
разумеется, я взял на себя также роль камеристки и помог ей надеть чулок и
башмак.
-- Я довольна вами, -- сказала синьора Франческа, когда дело было
сделано, причем я не слишком спешил, хотя и работал всеми десятью пальцами,
-- я довольна вами, вы можете почаще надевать мне чулки. Сегодня вы
поцеловали мне левую ногу, завтра к вашим услугам правая. Послезавтра вы
можете уже поцеловать мне левую руку, а день спустя -- и правую. Если будете
вести себя хорошо, то впоследствии я протяну вам и мои губы, и т. д. Видите,
я охотно поощряю вас, а так как вы еще молоды, то можете далеко пойти.
И я далеко пошел! Будьте в том свидетелями вы, тосканские ночи, и ты,
светло-синее небо с большими серебряными звездами, и вы, дикие лавровые
поросли и таинственные мирты, и вы, апеннинские нимфы, порхавшие вокруг нас
в свадебной пляске и грезами уносившиеся в лучшие времена -- времена богов,
когда не существовало еще готической лжи, разрешающей лишь слепые
наслаждения, ощупью, в укромном уголке, и прикрывающей своим лицемерным
фиговым листком всякое свободное чувство.
В отдельных фиговых листках тут и не было нужды -- целое фиговое дерево
с широко раскинувшимися ветвями шелестело над головами счастливцев.
Что такое побои -- это известно, но что такое любовь -- до этого никто
еще не додумался. Некоторые натурфилософы утверждали, что это род
электричества. Возможно -- ибо в момент, когда влюбляешься, кажется, будто
электрический луч из глаз возлюбленной поразил
259
внезапно твое сердце. Ах! Эти молнии самые губительные, и того, кто
найдет для них отвод, я готов поставить выше Франклина. Если бы существовали
небольшие громоотводы, которые можно было бы носить на сердце, и если бы на
них имелась игла, по которой можно было бы отводить ужасное пламя
куда-нибудь в сторону! Но боюсь, что отнять стрелы у маленького Амура не так
легко, как молнии у Юпитера и скипетры у тиранов. К тому же любовь не всегда
поражает молниеносно, иной раз она подстерегает, как змея под розами, и
высматривает малейшую щель в сердце, чтобы проникнуть туда; иногда это --
одно только слово, один взгляд, рассказ о чем-нибудь незначительном, и они
западают в наше сердце, как блестящее зерно, лежат там спокойно всю зиму,
пока не наступит весна и маленькое зерно не распустится в огненный цветок,
аромат которого пьянит голову. То самое солнце, что выводит из яиц
крокодилов в Нильской долине, способно одновременно довести до состояния
полной зрелости посев любви в юном сердце, где-нибудь в Потсдаме, на Хавеле
-- и тут-то польются слезы и в Египте и в Потсдаме! Но слезы далеко еще не
объяснение... Что такое любовь? Определил ли кто ее сущность, разрешил ли
кто ее загадку? Быть может, разрешение ее принесло бы большие муки, чем
самая загадка, и сердце ужаснулось бы и оцепенело, как при виде Медузы.
Вокруг страшного слова, разрешающего загадку, клубком вьются змеи... О, я
никогда не хочу слышать слово разгадки! Жгучая боль в моем сердце дороже мне
все-таки, чем холодное оцепенение. О, не произносите его, тени умерших, вы,
что блуждаете по розовым садам нашего мира, не зная боли, как камни, но и не
чувствуя ничего, как камни, и бледными устами улыбаетесь при виде молодого
глупца, превозносящего аромат роз и сетующего на шипы.
Но если я не могу, любезный читатель, сказать тебе, что такое
собственно любовь, то я мог бы тебе подробно рассказать, как ведет себя и
как чувствует себя человек, влюбившийся в Апеннинах. А ведет он себя как
дурак, пляшет по холмам и скалам и думает, что весь мир пляшет вместе с ним.
А чувствует он себя при этом так, будто мир сотворен только сегодня и он
первый человек. "Ах, как прекрасно все это!" -- ликовал я, покинув жилище
Франчески. Как прекрасен, как чудесен этот новый мир!
260
Казалось, я должен был дать имя каждому растению и каждому животному, и
я придумывал наименования для всего окружающего в соответствии с внутренней
его природой и с моим собственным чувством, которое так чудесно сливалось с
внешним миром. Грудь моя была как источник откровения; я понимал все формы,
все образы, запах растений, пение птиц, свист ветра и шум водопадов. Порой
слышал я также божественный голос: "Адам, где ты ?"„-- "Здесь,
Франческа, -- отвечал я тогда, -- я боготворю тебя, так как наверное знаю,
что ты сотворила солнце, луну, и звезды, и землю со всеми ее тварями!" Тут в
миртовых кустах раздался смех, и я тайно вздыхал: "Сладостное безумие, не
покидай меня!"
Позже, когда наступили сумерки, началось настоящее безумие блаженной
влюбленности. Деревья на горах танцевали уже не в одиночку -- сами горы
танцевали своими тяжеловесными вершинами, которые заходящее солнце озаряло
таким багровым светом, что казалось, они опьянены собственным виноградом.
Ручей внизу стремительнее катил свои воды вперед и боязливо шумел, как бы
опасаясь, что восторженно колышущиеся горы обрушатся вниз. А зарницы
сверкали при этом так нежно, как светлые поцелуи. "Да,-- воскликнул я,--
небо, смеясь, целует возлюбленную -- землю. О Франческа, прекрасное небо
мое, пусть я буду твоею землею! Весь я такой земной и тоскую по тебе, небо
мое!" Так восклицая, простирал я с мольбой объятия и наталкивался головой на
деревья, которые и обнимал, вместо того чтобы бранить их, и душа моя
ликовала в опьянении любовью, -- как вдруг я увидел ослепительно-красную
фигуру, разом вырвавшую меня из царства грез и вернувшую в мир самой
отрезвляющей действительности.
На зеленом холмике под раскидистым лавровым деревом сидел Гиацинт,
служитель маркиза, а подле него Аполлон, хозяйская собака. Последняя скорее
стояла, положив передние лапы на огненно-красные колени маленького
человечка, и с любопытством наблюдала, как Гиацинт, с грифельной доской в
руке, время от времени
261
что-то писал на ней и скорбно улыбался, качая головкой, глубоко вздыхал
и потом благодушно сморкался.
-- Что за черт! -- воскликнул я.-- Гирш-Гиацинт! Ты сочиняешь стихи?
Что же, знамения благоприятны! Аполлон подле тебя, а лавры уже висят над
твоей головой.
Но я оказался несправедливым к бедняге. Он кротко ответил мне:
-- Стихи? Нет, я хоть и люблю стихи, но сам их не пишу. Да и что мне
писать? Сейчас мне нечего было делать, и, чтобы поразвлечься, я составил для
себя список всех друзей, которые когда-нибудь покупали у меня лотерейные
билеты. Некоторые из них даже и должны мне еще кое-что -- не подумайте
только, господин доктор, что я напоминаю вам, время терпит, и вы человек
верный. Если бы вы в последний раз сыграли на 1364-й, а не на 1365-й номер,
то были бы теперь человеком с капиталом в сто тысяч марок, и незачем вам
было бы таскаться по здешним местам, и могли бы вы спокойно сидеть в
Гамбурге, спокойно и благополучно сидеть на софе и слушать рассказы о том,
каково в Италии. Как бог свят! Я не приехал бы сюда, если бы не хотел
сделать удовольствие господину Гумпелю. Ах! Какую жару, да какие опасности,
и сколько усталости приходится выносить, и ведь если только где-нибудь можно
хватить через край или посумасбродничать, то господин Гумпель тут как тут, и
я должен следовать за ним. Я бы уже давно ушел от него, если бы он мог
обойтись без меня. Ведь кто потом будет рассказывать дома, сколько чести и
сколько образованности он приобрел в чужих краях? Сказать правду, я и сам
начинаю придавать много значения образованности. В Гамбурге я, слава богу, в
ней не нуждаюсь, но ведь, как знать, иной раз можно попасть и в другое
место. Мир теперь совсем другой. И они правы: немножко образованности
украшает человека. А как тебя уважают! Леди Максфилд, например, как она
принимала меня сегодня утром и какое оказала уважение! Совсем так, будто я
ей ровня. И дала мне на водку один франческони, хотя весь цветок стоил пять
паоли. Кроме того, уже само по себе удовольствие -- держать в руках
маленькую белую ножку красивой дамы!
Я немало был смущен последним замечанием и тотчас же подумал, не намек
ли это. Но как мог мошенник
262
узнать о счастье, выпавшем мне на долю только сегодня, в то самое
время, когда он находился на противоположном склоне горы? Или здесь
происходила подобная же сцена и ирония великого мирового драматурга там, в
небесах, выразилась в том, что он разыграл сразу тысячу одинаковых,
пародирующих одновременно одна другую сцен, к удовольствию небесных воинств?
Но то и другое предположения оказались неосновательными, ибо после долгих,
многократных расспросов и после того, как я обещал ничего не говорить
маркизу, бедняга признался, что леди Максфилд лежала в постели, когда он
передал ей тюльпан, и в тот момент, когда он собрался произнести свое
красноречивое приветствие, показалась на свет ее босая ножка; и так как он
заметил на ней мозоли, то тотчас же попросил позволения срезать их, что и
было разрешено и затем вознаграждено одним франческони, включая сюда и
благодарность за доставку тюльпана.
-- Но все это -- ради одной лишь чести,--добавил Гиацинт,-- я сказал
это и барону Ротшильду, когда удостоился чести срезать ему мозоли. Это было
в его кабинете; он сидел в своем зеленом кресле, как на троне, произносил
слова, как король, вокруг него стояли его маклеры, и он отдавал распоряжения
и рассылал эстафеты ко всем королям, а я, срезая ему мозоли, думал в это
время про себя: сейчас в твоих руках нога человека, который сам держит в
руках целый мир, ты теперь тоже важный человек; если ты резнешь здесь,
внизу, слишком. глубоко, то он придет в дурное настроение и станет там,
наверху, еще сильнее резать самых могучих королей. Это был счастливейший
момент моей жизни!
-- Могу себе представить это чудесное ощущение, господин Гиацинт! Но
над кем же из ротшильдовской династии производили вы такую ампутацию? Не над
великодушным ли британцем с Ломбард-стрит, учредившим ломбард для
императоров и королей?
-- Разумеется, господин доктор, я имел в виду великого Ротшильда,
великого Натана Ротшильда, Натана Мудрого, у которого бразильский император
заложил свою алмазную корону. Но я имел честь познакомиться также и с
бароном Соломоном Ротшильдом во Франкфурте, и если я не удостоился интимного
знакомства с его ногами, то все же он ценил меня. Когда господин
263
маркиз сказал ему, что я был когда-то лотерейным маклером, барон
ответил весьма остроумно: "Я ведь и сам в этом роде, я главный маклер
ротшильдовской лотереи, и мой коллега, ей-ей, не должен обедать с прислугой,
пусть он сядет за стол рядом со мной!" И вот -- пусть меня накажет бог,
господин доктор, если я не сидел подле Соломона Ротшильда, и он обращался со
мной совсем как с равным, совсем фамилионерно. Я был у него также на
знаменитом детском балу, про который писали в газетах. Такой роскоши мне уж
не видать в жизни! Ведь я был и в Гамбурге на одном балу, который обошелся в
тысячу пятьсот марок восемь шиллингов, но это все равно, что куриный помет
по сравнению с целой навозной кучей. Сколько я там видел золота, серебра и
брильянтов! Сколько орденов и звезд! Орден Сокола, Золотого Руна, орден
Льва, орден Орла, и даже на одном совсем маленьком ребенке, я вам говорю --
на совсем маленьком ребенке, был орден Слона. Дети были прекрасно
костюмированы, и играли в займы, и были одеты королями, с коронами на
головах, а один большой мальчик был одет в точности старым Натаном
Ротшильдом. Он очень хорошо справлялся с делом, держал руки в карманах брюк,
звенел золотом, недовольно покачивался, когда кто-нибудь из маленьких
королей просил взаймы, и только одного маленького, в белом мундире и красных
штанах, ласково гладил по щекам и хвалил: "Ты моя радость, прелесть моя,
роскошь моя, но пусть твой кузен Михель отстанет от меня, я ничего не дам
взаймы этому дураку, который тратит в день больше людей, чем ему отпущено на
целый год; из-за него еще произойдет на земле несчастье, и дело мое
пострадает". Пусть накажет меня господь, мальчик великолепно справлялся с
ролью, особенно когда поддерживал толстого ребенка, укутанного в белый атлас
с настоящими серебряными лилиями, и время от времени говорил ему: "Ну-ну,
ты, ты, веди себя хорошо, живи честным трудом, позаботься, чтобы тебя опять
не выгнали, а то я потеряю свои деньги!" Уверяю вас, господин доктор,
слушать этого мальчика было одно удовольствие, да и другие дети -- все были
очень милые дети, справлялись с делом прекрасно, пока не принесли пирог; тут
они начали спорить из-за лучшего куска, срывать друг с друга короны, кричать
и плакать, а некоторые даже...
264
Нет ничего скучнее на этом свете, чем читать описание итальянского
путешествия -- разве только описывать такое путешествие, и автор может
сделать свой труд до некоторой степени сносным, если будет как можно меньше
говорить о самой Италии. Хотя и я в полной мере воспользовался этой уловкой,
но не могу обещать тебе, любезный читатель, что в последующих главах будет
много интересного. Если ты начнешь томиться, читая скучную историю, которая
окажется там, то утешься тем, что мне пришлось даже написать эту историю.
Советую тебе время от времени пропускать несколько страниц, и ты скорее
дойдешь до конца книги -- ах, если бы и я мог поступить так! Не думай
только, что я шучу, Если уж высказывать свое искреннее мнение об этой книге,
то советую тебе закрыть ее теперь же и вовсе не читать дальше. В другой раз
я напишу тебе кое-что получше, и если в следующей книге, в "Городе Лукке",
мы снова встретимся с Матильдой и Франческой, то их милые образы больше
привлекут и позабавят тебя, чем, в настоящей главе и в последующих.
Слава богу, под моим окном весело заиграла шарманка ! Моей хмурой
голове необходимо было такое развлечение, -- тем более что мне предстоит
описать визит к его превосходительству маркизу Кристофоро ди Гумпелино. Я
поведаю эту трогательную повесть совершенно точно, дословно верно, во всей
ее неопрятнейшей чистоте.
Было уже поздно, когда я достиг квартиры маркиза. Когда я вошел в
комнату, Гиацинт стоял один и чистил золотые шпоры своего барина, который,
как я заметил сквозь полуоткрытые двери его спальни, лежал распростертый
перед мадонною и большим распятием.
Тебе надлежит знать, любезный читатель, что маркиз, человек знатный,
стал теперь добрым католиком, что он строго выполняет обряды единоспасающей
церкви и даже держит при себе, бывая в Риме, особого капеллана, по той же
причине, по которой он содержит в Англии лучших рысаков, а в Париже -- самую
красивую танцовщицу.
-- Господин Гумпель сейчас молится, -- прошептал Гиацинт с
многозначительной улыбкой и еще тише доба-
265
вил, указав на кабинет своего барина: -- Так он и проводит каждый вечер
два часа на коленях перед примадонной с младенцем Иисусом. Это великолепное
произведение искусства, и обошлось оно ему в шестьсот франческони.
-- А вы, господин Гиацинт, почему не стоите на коленях позади него? Или
вы, может статься, не сторонник католической религии?
-- Я сторонник ее и в то же время не сторонник,-- ответил Гиацинт,
задумчиво покачав головой. -- Это хорошая религия для знатного барина,
свободного по целым дням, и для знатока искусств, но эта религия -- не для
гамбургского жителя, человека, занятого своим делом, и, уж во всяком случае,
не религия для лотерейного маклера. Я должен совершенно точно записать
каждый разыгрываемый номер, и если я случайно начну думать о бум! бум! бум!
-- о каком-нибудь католическом колоколе или перед глазами повеет
католическим ладаном и я ошибусь и напишу не то число, может случиться
великая беда. Я часто говорю господину Гумпелю: "Ваше превосходительство --
богатый человек, и вы можете быть католиком сколько вам угодно, и можете
затуманивать свой рассудок ладаном совсем по-католически, и можете быть
глупым, как католический колокол, и все-таки вы будете сыты; а я человек
деловой и должен держать в порядке свои семь чувств, чтобы кое-что
заработать". Правда, господин Гумпель полагает, что это необходимо для
образования, и если я не католик, то мне и не понять картин, составляющих
принадлежность образованности,-- ни Джованни да Фесселе, ни Корретшио, ни
Карратшио, ни Карраватшио -- но я всегда думал, что ни Корретшио, ни
Карратшио, ни Карраватшио1 не помогут мне, если никто не станет
брать у меня лотерейных билетов, и я сяду тогда в лужу. Кроме того, должен
признаться вам, господин доктор, что католическая религия не доставляет мне
даже и удовольствия, и вы, как человек рассудительный, согласитесь со мною.
Я не вижу, в чем тут прелесть: это такая религия, как будто господь бог,
чего боже упаси, только что умер, и пахнет от нее ладаном, как от
погребальной процессии, да еще гудит
____________________________
1 Гиацинт перевирает имена итальянских живописцев Корреджо, Караччи,
Караваджо, Джованни да Фьезоле (Фра Беато Анджелико).
266
такая унылая похоронная музыка, что просто могут сделаться меланхколики
-- уж я вам говорю, эта религия не для гамбургского жителя.
-- Ну, а как вам нравится протестантская религия, господин Гиацинт?
-- Она, наоборот, чересчур уж разумна, господин доктор, и если бы в
протестантской церкви не было органа, то она и вовсе не была бы религией.
Между нами говоря, эта религия безвредна и чиста, как стакан воды, но и
пользы от нее никакой. Я попробовал ее, и эта проба обошлась мне в четыре
марки четырнадцать шиллингов.
-- Как так, любезный господин Гиацинт?
-- Видите ли, господин доктор, я подумал: это очень просвещенная
религия, и ей не хватает мечтаний и чудес, а между тем немножечко мечтаний
должно бы быть, и должна она творить хотя бы совсем"малюсенькие чудеса, если
желает выдавать себя за порядочную религию. Но кто же тут будет творить
чудеса? -- подумал я, когда осматривал однажды в Гамбурге протестантскую
церковь, из числа самых голых, где нет ничего, кроме коричневых скамеек и
белых стен, а на стене висит только черная дощечка с полудюжиной белых цифр.
Ты несправедлив к этой религии, -- подумал я опять, -- может быть, эти цифры
могут совершить чудо не хуже, чем образ божией матери или кость ее мужа,
святого Иосифа, и, чтобы проникнуть в самую сущность, я отправился в Альтону
и поставил в алътонской лотерее на эти именно числа -- на амбу поставил
восемь шиллингов, на терну -- шесть, на кватерну -- четыре и на квинтерну --
два шиллинга. Но, честью моей уверяю вас, не вышло ни одного протестантского
номера. Теперь-то я знал, что мне думать: теперь, подумал я, не нужно мне
религии, которая ничего не может, у которой не выходит даже амба, -- неужели
же я буду дураком и вверю этой религии, на которой я потерял уже четыре
марки и четырнадцать шиллингов, еще и все свое блаженство?
-- Старая еврейская религия представляется вам, конечно, более
целесообразной, любезный?
-- Господин доктор, отстаньте от меня со старой еврейской религией, ее
я не пожелал бы и злейшему своему врагу. От нее никакого проку -- один лишь
стыд и срам. Я вам говорю, это не религия вовсе, это несчастье. Я избегаю
всего, что может мне о ней напо-
267
мнить, и так как Гирш -- еврейское слово и по-немецки будет Гиацинт, то
я даже отделался от прежнего Гирша и подписываюсь теперь: "Гиацинт,
коллектор, оператор и таксатор". Кроме того, здесь еще и та выгода, что на
моей печати стоит уже буква Г. и мне незачем заказывать новую. Уверяю вас,
на этом свете много зависит от того, как тебя зовут, имя много значит. Когда
я подписываюсь: "Гиацинт, коллектор, оператор и таксатор" -- то это звучит
совсем иначе, чем если бы я написал просто "Гирш", и уж тогда со мной нельзя
обращаться как с обыкновенным проходимцем.
-- Любезный господин Гиацинт! Кто бы стал с вами так обращаться! Вы,
по-видимому, так много сделали для свого образования, что в вас сразу же
признаешь образованного человека, прежде даже, чем вы откроете рот, чтобы
заговорить.
-- Вы, правы, господин доктор, я зашел в образованности так далеко, как
какая-нибудь великанша. Я, право, не знаю, когда вернусь в Гамбург, с кем
мне там водить знакомство; а что касается религии, то я знаю, что мне
делать. Пока что, впрочем, я могу удовольствоваться новой еврейской
синагогой; я имею в виду чистейшее мозаическое богослужение с правильным
орфографическим немецким пением и трогательными проповедями и с кое-какими
мечтаньицами, которые, безусловно, необходимы для всякой религии. Накажи
меня бог, мне не нужно сейчас лучшей религии, и она заслуживает того, чтобы
ее поддерживали. Я буду делать свое дело, и когда вернусь в Гамбург, то по
субботам, если не будет розыгрыша, всегда буду ходить в новую синагогу.
Находятся, к несчастью, люди, которые распространяют дурную славу об этом
новом еврейском богослужении и утверждают, что оно дает, с позволенья
сказать, повод к расколу, но могу уверить вас, это -- хорошая, чистая
религия, слишком еще хорошая для простого человека, для которого старая
еврейская религия, может быть, все еще очень полезна. Простому человеку
нужна для счастливого самочувствия какая-нибудь глупость, и он счастлив со
своей глупостью. Этакий старый еврей с длинной бородой и в разорванном
сюртуке, хоть он не умеет сказать двух слов орфографически правильно и даже
слегка паршив, внутренне, может быть, более счастлив, чем я со всею моей
образованностью. Вот в Гамбурге на Булочной
268
улице, на задворках, живет человек по имени Моисей Люмп; называют его
также Моисей Люмпхен;1 он целую неделю бегает по городу, в дождь и ветер, с
узелком на спине, чтобы заработать свои две-три марки, и когда в пятницу
вечером он возвращается домой, то его ждет зажженная лампа с семью
светильниками и стол, накрытый белой скатертью, и он сбрасывает свой узелок
и свои заботы, и садится за стол со своей кривой женой и еще более кривой
дочерью, и ест вместе с ними рыбу, сваренную в приятном белом чесночном
соусе, распевает при этом великолепные псалмы царя Давида, радуется от всего
сердца исходу детей израилевых из Египта, радуется также тому, что все
злодеи, причинявшие им зло, в конце концов перемерли, что нет в живых ни
царя-фараона, ни Навуходоносора, ни Амана, ни Антиоха, ни Тита, ни других им
подобных, а вот он -- Люмпхен -- жив и ест рыбу в обществе жены и дочери. И
я скажу вам, господин доктор, рыба -- деликатес, и сам он счастлив, ему не
приходится мучить себя образованностью, он сидит, довольный своей религией и
своим зеленым халатом, как Диоген в своей бочке; он с удовольствием смотрит
на свои свечи, которых даже и не оправляет сам... И я говорю вам, если свечи
горят немножко тускло и нет вблизи женщины для субботних услуг, которая их
оправляет, и если бы вошел в это время Ротшильд Великий со всеми своими
маклерами, дисконтерами, экспедиторами и начальниками контор, при помощи
которых он завоевал мир, и сказал бы: "Моисей Люмп, проси у меня милости,
все, что ты пожелаешь, будет исполнено",-- я убежден, господин доктор, что
Моисей Люмп спокойно ответил бы: "Оправь свечи!" -- и Ротшильд Великий
сказал бы с изумлением: "Не будь я Ротшильдом, я хотел бы быть таким
Люмпхеном".
Пока Гиацинт развивал таким образом, эпически растекаясь, по
обыкновению, свои взгляды, маркиз поднялся со своих молитвенных подушек и
подошел к нам, все еще бормоча в нос "Отче наш". Гиацинт задернул зеленым
занавесом образ мадонны, висевшей над аналоем, потушил две восковые свечи,
горевшие перед ним, снял медное распятие, вернулся к нам, держа его в руках,
_____________________________________________
1 Люмпхен -- уменьшительное от Люмп (Lump) -- негодяй, бездельник
(нем.).
269
и стал чистить его той же тряпкой и так же добросовестно поплевывая,
как только что чистил шпоры своего барина. Этот последний словно растаял от
жары и умиления; вместо сюртука на нем было просторное голубое шелковое
домино с серебряной бахромой, а нос его блестел томно, как влюбленный
луидор.
-- Иисусе! -- вздохнул он, опустившись на подушки дивана. -- Не
находите ли вы, доктор, что сегодня вечером у меня чрезвычайно мечтательный
вид? Я очень взволнован, дух мой как бы отрешился от всего, я постигаю
высший мир,--
И небеса очам открыты,
И полнится блаженством грудь.
-- Господин Румпель, вам следует принять внутрь...--прервал Гиацинт эту
патетическую декламацию,-- кровь у вас во внутренностях опять замутилась, я
знаю, чего вам нужно...
-- Ты не знаешь, -- вздохнул барин.
-- Говорю вам, знаю,-- возразил слуга и покачал своим
добродушно-участливым личиком,-- я вас знаю всего насквозь, я знаю, вы
полная противоположность мне. Когда вам хочется пить, мне хочется есть,
когда я хочу пить, вы хотите есть. Вы слишком полновесны, я слишком худощав;
у вас много воображения, а у меня зато больше деловой сметки; я практик, а
вы диарретик; - короче говоря, вы мой антиподекс1.
-- Ах, Юлия,-- вздохнул Гумпелино,-- если бы я был желтой лайковой
перчаткой на твоей руке и мог бы целовать тебе щечку! Вы видели
когда-нибудь, господин доктор, Крелингер в "Ромео и Джульетте"?
-- Видел, и до сих пор испытываю душевный восторг...
-- В таком случае, -- воскликнул маркиз с воодушевлением, и огонь
засверкал в его глазах и озарил его нос, -- в таком случае вы поймете меня!
В таком случае вам понятно будет, если я скажу: я люблю! Я хочу вполне
открыться перед вами. Гиацинт, выйди!
-- Мне незачем выходить, -- отвечал недовольно Гиацинт, -- вам нечего
передо мной стесняться, я тоже знаю, что такое любовь, и знаю...
________________________________
1 Гиацинт вместо -- "теоретик" здесь говорит -- "диарретик"; а вместо
"антипод" -- "антиподекс" ("диарретик" -- больной поносом; "подекс" --
задняя часть).
270
-- Ты не знаешь! -- воскликнул Гумпелино.
-- В доказательство того, что я знаю, господин маркиз, мне достаточно
назвать имя Юлии Максфилд. Успокойтесь, и вас тоже любят, но от этого мало
толку. Зять вашей возлюбленной не спускает с нее глаз и сторожит ее, как
брильянт, днем и ночью.
-- О, я несчастный! --сокрушался Гумпелино.--Я люблю, и меня любят, мы
тайком пожимаем друг другу руки, мы встречаемся ногами под столом, делаем
знаки друг другу глазами, а случай все не представляется! Как часто стою я
при свете луны на балконе и воображаю, что сам я -- Юлия, и мой Ромео или
мой Гумпелино назначил мне rendezvous1, и я декламирую, совсем
как Крелингер:
Приди, о ночь!
И с нею, светлый, день,
Примчись на крыльях ночи, Гумпелино,
Как чистый снег на ворона спине,
Приди, о ночь волшебная!
С тобою Придет Ромео или Гумпелино!
Но -- увы! -- лорд Максфилд непрестанно сторожит нас, и мы умираем от
страсти. Я не доживу до того дня, когда настанет ночь и когда "цвет юности
чистейшей залогом станет жертвенной любви"! Ах, такая ночь приятнее, чем
главный выигрыш в гамбургской лотерее!
-- Что за фантазия! -- воскликнул Гиацинт. -- Главный выигрыш -- сто
тысяч марок!
-- Да, приятнее, чем главный выигрыш,-- продолжал Гумпелино, -- одна
такая ночь, и -- ах! -- она не раз уже обещала мне такую ночь, при первом
удобном случае, и я уже представлял себе, как наутро она будет
декламировать, совсем точно Крелингер:
Уходишь ты? Ведь день еще далек.
То соловья, не жаворонка трели
До слуха донеслися твоего.
Он на гранатном дереве поет.
Поверь, любимый, это -- соловей.
-- Главный выигрыш за одну-единственную ночь! -многократно повторял
между тем Гиацинт, не будучи в состоянии успокоиться. -- Я высокого мнения о
вашей образованности, господин маркиз, но я никогда бы не
_________________
1 Свидание (фр.).
271
подумал, что вы так далеко зайдете в своих фантазиях. Любовь -- дороже,
чем главный выигрыш! Право, господин маркиз, с тех пор как я имею дело с
вами в качестве вашего слуги, я немало приобрел образованности, но знаю
наверняка, что не дал бы за любовь и одной восьмушечки главного выигрыша!
Боже упаси меня от этого! Если даже отсчитать пятьсот марок налогу, то
все-таки остается еще двенадцать тысяч марок! Любовь! Если сосчитать,
сколько мне стоила любовь, то выйдет всего-навсего двенадцать марок и
тринадцать шиллингов. Любовь! Я часто был счастлив в любви и даром, мне она
ничего не стоила; лишь иногда я, par complaisance1, срезал мозоли
моей возлюбленной. Истинную, полную чувства, страстную привязанность я
испытал один-единственный раз: это была толстая Гудель с Грязного Вала. Она
играла при моем посредстве в лотерее, и когда я являлся к ней, чтобы
возобновить билет, она каждый раз всовывала мне в руку кусок пирога, кусок
очень хорошего пирога, а иногда она давала мне и немножко варенья, с
рюмочкой ликеру, а когда я как-то раз пожаловался ей, что страдаю
меланхолией, она дала мне рецепт порошков, которые принимает ее собственный
муж. Я до сих пор принимаю эти порошки, они всегда действуют -других
последствий наша любовь не имела. Я полагаю, господин маркиз, вам следовало
бы попробовать такой порошок. Первое, что я сделал, приехав в Италию, --
пошел в аптеку в Милане и заказал порошки, и они постоянно со мной.
Погодите, я поищу их, а поищу, так и найду, а найду, так вы, ваше
превосходительство, должны их принять.
Слишком долго было бы повторять те комментарии, которыми Гиацинт,
деловито принявшись за поиски, сопровождал каждый предмет, вытаскиваемый из
карманов. Извлечены были: 1) половинка восковой свечи, 2) серебряный футляр
с инструментами для срезания мозолей, 3) лимон, 4) пистолет, хотя и не
заряженный, но завернутый в бумагу, быть может, затем, чтобы вид его не
наводил на опасные мысли, 5) печатная таблица выигрышей последней большой
гамбургской лотереи, 6) книжка в черном кожаном переплете с псалмами Давида
и со списком должников, 7) сухие прутья ивы, как бы
__________________
1 Из любезности (фр.).
272
сплетенные узлом, 8) пакетик в вылинявшей розовой тафте с квитанцией
лотерейного билета, некогда выигравшего пятьдесят тысяч марок, 9) плоский
кусочек хлеба, наподобие белого корабельного сухаря, с небольшой дырочкой
посередине, и, наконец, 10) вышеупомянутые порошки, которые человек этот и
стал рассматривать не без волнения, удивленно и скорбно покачивая головой.
-- Когда я вспомню, -- вздохнул он, -- что десять лет тому назад
толстая Гудель дала мне этот рецепт, и что я теперь в Италии, и у меня в
руках этот рецепт, и когда я снова читаю слова: sal mirabile
Glauberi1, что значит по-немецки -- самая лучшая глауберова соль
самого лучшего сорта, то -- ах! -- мне кажется, будто я принял уже
глауберову соль и чувствую ее действие. Что такое человек! Я в Италии, а
думаю о толстой Гудель с Грязного Вала! Кто бы мог представить себе это!
Она, я воображаю, сейчас в деревне, в своем саду, где светит луна, тоже,
конечно, поет соловей или жаворонок.
"То соловья, не жаворонка трели!" -- вздохнул Гумпелино и
продекламировал опять:
Он на гранатном дереве поет Поверь, любимый, это -- соловей
-- Это совершенно безразлично, -- продолжал Гиацинт, -- по мне, пусть
даже канарейка; птицы, которые в саду, обходятся всего дешевле. Главное дело
-- оранжерея, и обивка в павильоне, и политические фигуры, что поставлены
там. А там стоят, например, голый генерал, из богов, и Венера Уриния, и цена
им вместе триста марок. Посреди сада Гудель завела себе также фонтанчик. А
сама стоит теперь, может быть, там, и почесывает нос, и наслаждается
мечтами, и думает обо мне... Ах!
За вздохом этим последовала выжидательная тишина, которую маркиз
прервал внезапно томным вопросом:
-- Скажи по чести, Гиацинт, ты действительно уверен, что твой порошок
подействует?
-- Честное слово, подействует, -- отвечал Гиацинт. -- Почему он может
не подействовать? Действует же он на меня! А разве я не такой же человек,
как вы? Глауберова
_______________________________________
1 Чудесная глауберова соль. Дальше идет игра слов: Гиацинт вместо
Glaubersalz, что значит -- "глауберова соль", говорит Glauben-salz -- "соль
веры" (нем.).
273
соль всех уравнивает, и когда Ротшильд принимает глауберову соль, то
так же чувствует ее действие, как и самый маленький маклер. Я все скажу вам
наперед: я всыплю порошок в стакан, подолью воды, размешаю, и как только вы
проглотите это, вы скорчите кислую физиономию и скажете: "Бр...бр..." Потом
вы услышите сами, как что-то бурлит внутри, вам станет как-то странно, и вы
ляжете на кровать, и, даю вам честное слово, вы с нее встанете, и опять
ляжете, и опять встанете, и так далее, а на следующее утро почувствуете себя
легко, как ангел с белыми крыльями, запляшете от избытка здоровья и только
будете несколько бледнее с виду; но я знаю, вам приятно, когда у вас
томно-бледный вид, а когда у вас томно-бледный вид, то и другим приятно
посмотреть на вас.
Несмотря на такие убедительные доводы и на то, что Гиацинт стал уже
приготовлять порошки, все это ни к чему бы не привело, если бы внезапно
маркизу не пришло в голову то место трагедии, где Джульетта выпивает роковой
напиток.
-- Что вы думаете, доктор, о венской Мюллер? -- воскликнул он. -- Я
видел ее в роли Джульетты, и -- боже, боже! -- как она играет! Я ведь
величайший поклонник Крелингер, но Мюллер в тот момент, когда она выпивает
кубок, потрясла меня. Взгляните-ка, -- сказал он, с трагическим жестом взяв
в руки стакан, в который Гиацинт высыпал порошок, -- взгляните-ка, вот так
она держала бокал и сказала, содрогнувшись и вызвав всеоб-1цее содрогание:
Мертвящий трепет проникает в жилы
И леденит пылающую кровь.
Вот так стояла она, как я стою сейчас, держа бокал у губ, и при словах:
Подожди, Тибальдо!
Иду, Ромео! Пью я за тебя! --
она осушила бокал...
-- На здоровье, господин Румпель! -- произнес торжественно Гиацинт,
когда маркиз, с таким увлечением подражая артистке, осушил стакан и, в
изнеможении от своей декламации, опустился на софу.
274
Но он не долго пробыл в таком положении; внезапно раздался стук в
дверь, и в комнату вошел маленький жокей леди Максфилд; он, улыбаясь, с
поклоном передал маркизу записку и тотчас же удалился. Маркиз поспешно
распечатал письмо; пока он читал, нос и глаза его сверкали от восторга. Но
вдруг призрачная бледность покрыла его лицо, дрожь ошеломления свела
мускулы, он вскочил с жестом отчаяния, горестно захохотал и стал бегать по
комнате, восклицая:
О, горе мне, посмешищу судьбы!
-- Что такое? Что такое? -- спросил Гиацинт дрожащим голосом, судорожно
сжав в дрожащих руках распятие, за чистку которого он вновь принялся. -- На
нас нападут этой ночью?
-- Что с вами, господин маркиз?---спросил я, тоже немало изумившись.
-- Читайте! Читайте! -- воскликнул Гумпелино, бросив полученную им
записку и все еще бегая по комнате в полном отчаянии, причем голубое домино
его развевалось, как грозовая туча.--О, горе мне, посмешищу судьбы!
В записке мы прочли следующее:
"Прелесть моя, Гумпелино! На рассвете я должна отбыть в Англию. Мой
деверь отправился уже вперед и встретит меня во Флоренции. Никто теперь не
следит за мною -- к сожалению, только в эту единственную ночь. Воспользуемся
ею, осушим до последней капли чашу нектара, которую преподносит нам любовь.
Жду, трепещу.
Юлия Максфилд".
-- О, горе мне, посмешищу судьбы! -- стонал Гумпелино.--Любовь
преподносит мне чашу нектара, а я... ах! -- я, глупое посмешище судьбы,
осушил уже чашу глауберовой соли! Кто освободит мой желудок от ужасного
напитка? Помогите! Помогите!
-- Тут уж не поможет ни один живой человек на земле, -- вздохнул
Гиацинт.
-- Всем сердцем сочувствую вам, -- выразил я свое соболезнование. --
Испить вместо чаши с нектаром чашу
275
с глауберовой солью -- слишком уж горько. Вместо трона любви вас ждет
теперь ночной стул.
-- Иисусе! Иисусе! --продолжал кричать маркиз.-- Я чувствую, как
напиток бежит по всем моим жилам. О, честный аптекарь! Твой напиток
действует быстро, но это все-таки не остановит меня, я поспешу к ней, упаду
к ее ногам, истеку кровью!
-- О крови не может быть и речи, -- успокаивал Гиацинт.--У вас ведь нет
гомероя. Только не надо так волноваться!
-- Нет, нет! Я хочу к ней, в ее объятья! О, эта ночь, эта ночь!
-- Говорят вам, -- с философским спокойствием продолжал Гиацинт, -- вы
не найдете покоя в ее объятьях, вам придется раз двадцать вставать. Только
не волнуйтесь! Чем больше вы прыгаете взад и вперед по комнате, чем больше
горячитесь, тем скорее подействует глауберова соль. Ведь настроение играет
на руку природе. Вы должны сносить как мужчина то, что судьба послала вам.
Что это так случилось, -- может быть, хорошо, и, может быть, хорошо, что это
случилось так. Человек -- существо земное и не ведает божественного
промысла. Часто человек думает, что идет навстречу счастью, а на пути ждет
его, может быть, несчастье с палкой в руках, а когда мещанская палка
пройдется по дворянской спине, то человек ведь чувствует это, господин
маркиз!
-- О, горе мне, посмешищу судьбы! -- все еще бушевал Гумпелино, а слуга
его продолжал спокойно:
-- Часто человек ждет чаши с нектаром, а получает палочную похлебку, и
если нектар сладок, то удары тем горше. И поистине счастье, что человек,
который колотит другого, в конце концов устает, иначе другой, право, не
выдержал бы. А еще опаснее, когда несчастье с кинжалом и ядом подстерегает
человека на пути любви, так что он и в своей жизни не уверен. Может быть,
господин маркиз, и правда хорошо, что вышло так, ведь, может быть, вы
побежали бы в пылу любви к возлюбленной, а по дороге на вас напал бы
маленький итальянец с кинжалом длиною в шесть брабантских футов и только
уколол бы вас -- без злой мысли будь сказано -- в икры. Ведь здесь нельзя,
как в Гамбурге, позвать сейчас же караул: в Апеннинах-то нет ночных
сторожей. Или даже,
276
может быть,-- продолжал он неумолимо утешать, нисколько не смущаясь
отчаянием маркиза,-- может быть даже, в то время как вы сидели бы спокойно и
уютно у леди Максфилд, вернулся бы вдруг с пути деверь и приставил бы вам к
груди заряженный пистолет и заставил бы вас подписать вексель в сто тысяч
марок. Без злой мысли будь сказано, но беру такой случай: вы, предположим,
красавец, и, предположим, леди Максфилд пришла в отчаяние, что ей предстоит
потерять такого красавца, и, ревнуя вас, как свойственно женщинам, она не
пожелала бы, чтобы вы осчастливили другую, -- что бы она сделала? Она берет
лимон или апельсин, подсыпает туда немножко порошку и говорит: "Прохладись,
любимый мой, ты набегался, тебе жарко",-- и на другое утро вы и в самом деле
похолодевший человек. Был такой человек, звали его Пипер, у него была
страстная любовь с некоей девушкой, которую звали Ангелочек Трубный Глас,
жила она на Кофейной улице, а он на Фулентвите...
-- Я бы хотел, Гирш, -- бешено закричал маркиз, беспокойство которого
достигло крайних пределов, -- я бы хотел, чтобы и твой Пипер с Фулентвите, и
Ангелочек Трубный Глас с Кофейной, и ты, и Гудель, чтобы все вы напились
моей глауберовой соли!
-- Что вы от меня хотите, господин Гумпель? -- возразил Гиацинт не без
запальчивости.-- Чем я виноват, что леди Максфилд собирается уехать именно
нынче ночью и пригласила вас именно нынче? Разве мог я знать это наперед?
Разве я Аристотель? Разве я на службе у провидения? Я только обещал вам, что
порошок подействует, и он действует -- это так же верно, как то, что я
некогда удостоюсь блаженства, а если вы будете и дальше бегать так
беспокойно, и так волноваться, и так беситься, то он подействует еще скорее.
-- Ну, так я буду сидеть спокойно! -- простонал Гумпелино, топнув ногою
об пол, и сердито бросился на софу, с усилием подавив свое бешенство.
Господин и слуга долгое время молча смотрели друг на друга, и наконец
первый, вздохнув глубоко, почти с робостью обратился ко второму:
-- Но послушай, Гирш, что подумает обо мне эта дама, если я не приду?
Она ждет меня теперь, ждет с нетерпением, трепещет, пылает любовью.
277
-- У нее красивая нога, -- произнес Гиацинт про себя и скорбно покачал
головкой, но что-то в его груди начало приходить в движение, под его красной
ливреей явственно заработала смелая мысль...
-- Господин Гумпель, -- произнес он наконец, -- пошлите меня!
При этих словах яркий румянец разлился по его бледному деловитому лицу.
Когда Кандид прибыл в Эльдорадо, он увидел, как мальчишки на улицах
играют большими слитками золота вместо камней. Роскошь эта дала ему
основание думать, что перед ним дети короля, и он немало изумился, услышав,
что в Эльдорадо золотые слитки ничего не стоят, так же как у нас булыжники,
и что ими играют школьники. С одним из моих друзей, иностранцем, случилось
нечто подобное: он приехал в Германию, стал читать немецкие книжки и сперва
поразился богатству мыслей, содержавшихся в них, но скоро он заметил, что
мысли в Германии столь же заурядное явление, как золотые слитки в Эльдорадо,
и что писатели, которых он счел за властителей духа,-- обыкновенные
школьники.
История эта постоянно приходит мне на ум, когда я собираюсь письменно
изложить прекраснейшие свои размышления об искусстве и жизни, -- и вот я
начинаю смеяться и предпочитаю удержать на кончике пера мои мысли или же
черчу вместо них на бумаге какие-нибудь рисунки или фигурки, стараясь
убедить себя, что узорные обои в таком роде много пригоднее в Германии, этом
духовном Эльдорадо, чем самые золотые мысли.
На обоях, которые я теперь разворачиваю перед тобой, любезный читатель,
ты можешь вновь увидеть хорошо знакомые тебе физиономии Гумпелино и его
Гирша-Гиацинта, и если первый изображен в недостаточно определенных
очертаниях, то я надеюсь все-таки, что ты окажешься достаточно
проницательным и уяснишь себе этот отрицательный характер без особых
положительных указаний. Последние могли бы навлечь на меня обвинение в
оскорблении личности или в чем-либо еще более скверном, ибо маркиз благодаря
своим деньгам и связям
278
очень силен. К тому же, он -- естественный союзник моих врагов и
оказывает им поддержку своими субсидиями, он аристократ и ультрапапист, и
лишь одного ему не хватает...-- ну, да когда-нибудь он этому научится, --
руководство у него в руках, как ты в дальнейшем увидишь на обоях.
Опять вечер. На столе стоят два подсвечника с зажженными восковыми
свечами, отсветы их колеблются на золотых рамах образов, которые висят на
стенах и словно оживают в трепете света и игре теней. Снаружи, перед окном,
стоят, озаренные серебряным сиянием месяца, унылые, таинственно неподвижные
кипарисы, а издали доносятся скорбные звуки песенки в честь девы Марии --
отрывистый, словно больной детский голос. В комнате царит какая-то особенная
духота, маркиз Кристофоро ди Гумпелино сидит или, лучше сказать, лежит опять
с небрежно-важным видом на подушках дивана; его благородное, потеющее тело
облачено опять в легкое голубого шелка домино, в руках у него книжка в
переплете красного сафьяна с золотым обрезом, и он декламирует что-то из
этой книжки громко и томно. Глаза его светятся при этом каким-то
своеобразным маслянистым блеском, как это бывает обыкновенно у влюбленных
котов, а щеки и ноздри подернуты болезненною бледностью. Но бледность эта,
любезный читатель, довольно просто объясняется с
философско-антропологической точки зрения, если припомнить, что накануне
вечером маркиз проглотил целый стакан глауберовой соли.
А Гирш-Гиацинт сидит на корточках и чертит большим куском мела на
коричневом паркете в крупном масштабе приблизительно следующие знаки:
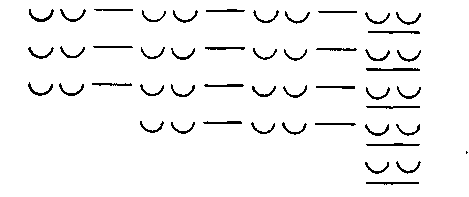 Занятие это, кажется, не очень по вкусу маленькому человечку, -- он,
наклоняясь, каждый раз вздыхает и сердито бормочет: спондей, трохей, ямб,
антиспаст, анапест и чертов пест. При этом он для большего удобства дви-
279
жений снял красную ливрею, и вот обнаружились две коротенькие скромные
ножонки в узких ярко-красных штанах и две тощие, несколько более длинные
руки, торчащие из белых широких рукавов рубашки.
-- Что это за странные знаки? -- спросил я, поглядев некоторое время на
его работу.
-- Это стопы в натуральную величину, -- простонал он в ответ, -- и я,
несчастный, должен помнить все эти стопы наизусть, и руки мои болят от этих
стоп, которые мне приходится писать. Это истинные, настоящие стопы поэзии.
Делаю я это только ради образованности, иначе я давно махнул бы рукой на
поэзию со всеми ее стопами. Сейчас я беру частные уроки поэтического
искусства у господина маркиза. Господин маркиз читает мне вслух стихи и
объясняет, из скольких стоп они состоят, а я должен отмечать их и проверять
потом, правильные ли стихи...
-- Вы, действительно, -- произнес маркиз дидактически-патетическим
тоном, -- застали нас за поэтическим занятием. Правда, я знаю, доктор, что
вы принадлежите к поэтам, у которых упрямая голова, и вы не согласны с тем,
что стопы -- главное дело в поэтическом искусстве. Но образованный ум можно
привлечь только совершенной формой, а этой последней можно научиться только
у греков и у новых поэтов, которые стремятся ко всему греческому, мыслят
по-гречески, чувствуют по-гречески и таким способом передают свои чувства
другому.
-- Разумеется, другому, а не другой, как поступают обыкновенно
не-классические поэты-романтики, -- заметил я, грешный.
-- Господин Гумпель говорит порой точно книга,-- прошептал мне сбоку
Гиацинт и сжал узкие губы, а глазки гордо засверкали блеском удовлетворения,
и головка восхищенно закачалась. -- Я вас уверяю, -- добавил он несколько
громче,-- он говорит порой точно книга, он тогда не человек, так сказать, а
высшее существо, и, слушая его, я как будто глупею.
-- А что у вас сейчас в руках? -- спросил я маркиза.
-- Брильянты, -- ответил он и передал мне книгу.
При слове "брильянты" Гиацинт высоко подскочил, но, увидев книгу,
страдальчески улыбнулся. На обложке брильянтовой книжки оказалось следующее
заглавие:
"Стихотворения графа Августа фон Платена. Штут-
280
гарт и Тюбинген. Издание книготорговой фирмы И.-Г. Котта. 1828".
На второй странице написано было красивым почерком: "В знак горячей
братской дружбы". При этом от книги распространялся запах, не имеющий ни
малейшего отношения к одеколону и объяснявшийся, может быть, тем
обстоятельством, что маркиз читал книжку всю ночь.
-- Я всю ночь не мог сомкнуть глаз, -- пожаловался он мне, -- я был так
взволнован, одиннадцать раз пришлось встать с постели, но, на счастье,
оказалась тут эта превосходная книга, из коей я почерпнул не только много
поучительного в области поэзии, но и жизненное утешение. Видите, с каким
уважением я отнесся к книге, в ней все страницы целы, а ведь порою, сидя,
как я сидел, я испытывал искушение...
-- Это, вероятно, кое с кем уже случалось, господин маркиз.
-- Клянусь вам нашей лоретской бргоматерью и говорю вам как честный
человек, -- продолжал он, -- стихи эти не имеют себе равных. Как вам
известно, вчера вечером я был в отчаянии, так сказать au
desespoir1, когда судьба лишила меня обладания моею Юлиею, и вот
я принялся читать эти стихи, по одному стихотворению всякий раз, когда
приходилось вставать, и в результате это равнодушие к женщинам так на меня
подействовало, что мне стали противны мои любовные страдания. Именно то и
прекрасно в этом поэте, что он пылает только к мужчинам -- горячею дружбою;
он отдает нам предпочтение перед женщинами, и уж за одну эту честь мы должны
быть ему благодарны. В этом он более велик, чем все остальные4 поэты; он не
льстит пошлому вкусу толпы, он исцеляет нас от нашей страсти к женщинам,
несущей столько несчастий... О женщины, женщины ! Тот, кто освободит нас от
ваших оков, будет благодетелем человечества. Вечно приходится сожалеть, что
Шекспир не употребил на это свой выдающийся драматический талант, ибо, как я
впервые прочитал здесь, он, оказывается, питал чувства не менее благородные,
чем великий граф Платен, который говорит о Шекспире в одном из своих
сонетов:
__________________
1 В отчаянии (фр.).
281
Ты не подпал девическому нраву,
И только дружбу ты ценил на свете, Твой друг тебя спасал из женской
сети, В его красе твоя печаль и слава.
В то время как маркиз с жаром декламировал эти слова и на языке его
словно таял чистейший навоз, Гиацинт корчил гримасы самого противоположного
свойства, вместе и сердитые и одобрительные, и наконец сказал:
-- Господин маркиз, вы говорите как книга, и стихи текут у вас опять
так же легко, как сегодня ночью, но содержание их мне не нравится. Как
мужчина я чувствую себя польщенным, что граф Платен отдает нам предпочтение
перед женщинами, но как сторонник женщин я опять-таки против него. Таков
человек! Один охотно ест лук, другому больше по душе горячая дружба. И я как
честный человек должен откровенно признаться, я охотнее ем лук, и кривая
кухарка мне милее, чем прекраснейший друг красоты. Да, должен признаться, не
вижу я в мужском поле столько уж красивого, чтобы можно было влюбиться.
Произнося последние слова, Гиацинт испытующе посмотрел на себя в
зеркало, а маркиз, не смущаясь, декламировал дальше:
Со счастием надежда гибнет вместе,
Но не сойтись -- увы! -- с тобою вместе;
В твоих устах мое так нежно имя,
Но нежный звук с тобой заглохнет вместе. Как солнце и луну, разъединить
нас Обычай с долгом порешили вместе. Склонись ко мне: твои чернеют кудри,
Мой светел лик -- они прекрасны вместе. Увы! я грежу -- ты меня
покинешь,
Нас не сведет с тобою счастье вместе! Сердца в крови, тела в разлуке
горькой;
Мы -- как цветы, сплелись бы тесно вместе!
-- Смешная поэзия! -- воскликнул Гиацинт, бормотавший себе под нос
рифмы, -- "обычай с долгом вместе, светлый лик мой вместе, с тобою вместе,
тесно вместе"! Смешная поэзия! Мой шурин, когда читает стихи, часто
забавляется тем, что в конце каждой строки прибавляет слова "спереди" и
"сзади" попеременно; но я не знал, что поэтические стихи, которые получаются
этим способом, называются газеллами. Нужно будет попробовать, не
282
станет ли еще красивее стихотворение, прочитанное маркизом, если каждый
раз после слова "вместе" прибавлять попеременно "спереди" и "сзади";
наверное, поэзии прибавится на двадцать процентов.
Не обращая внимания на эту болтовню, маркиз продолжал декламировать
газеллы и сонеты, в которых влюбленный воспевает своего прекрасного друга,
восхваляет его, жалуется на него, обвиняет его в холодности, составляет
планы, как бы проникнуть к нему, кокетничает с ним, ревнует, тает от
восторга, проходит целую шкалу любовных нежностей, и притом так пылко,
чувственно и страстно, что можно подумать, автор -- девчонка, с ума сходящая
от мужчин. Только при этом странно одно -- девчонка постоянно скорбит о том,
что ее любовь противна "обычаю", что она так же зла на этот "разлучающий
обычай", как карманный вор на полицию, что она любовно обняла бы "бедра"
друга, она жалуется на "лукавых завистников", которые "объединились, чтобы
нам мешать и нас держать в разлуке", она сетует на обиды и оскорбления,
причиняемые другом, уверяет его: "ни звуком не смущу твой слух, любимый" и,
наконец, признается:
Знакома мне в других любви преграда; Ты мне не внял, но ты и не
отвергнул Моей любви, мой друг, моя отрада.
Я должен засвидетельствовать, что маркиз хорошо декламировал эти стихи,
вздыхал вдоволь и, ерзая по дивану, как бы кокетничал своим седалищем.
Гиацинт отнюдь не упускал случая повторять за ним рифмы, хотя попутно и
вставлял неподходящие замечания. Больше всего привлекли его внимание оды.
-- Этот сорт, -- сказал он, -- научит большему, чем сонеты и газеллы; в
одах сверху особо отмечены стопы, и можно очень удобно проверить каждое
стихотворение. Каждому поэту следовало бы, как это делает граф Платен в
самых своих трудных поэтических стихах, отмечать сверху стопы, заявляя
читателям: "Видите, я честный человек, я не хочу вас обманывать, эти кривые
и прямые черточки, которые я ставлю перед каждым стихотворением, -- они, так
сказать, conto fintol для каждого стихо-
_____________________________________
1 "Воображаемый счет", номинальная запись в бухгалтерской книге (ит.).
283
творения, и вы можете подсчитать, скольких оно мне стоило трудов; они,
так сказать, -- масштаб для стихотворения; вы можете измерить стих, и если
недостает хоть одного слога, то назовите меня мошенником, говорю вам как
честный человек!" Но именно этим честным видом можно обмануть публику.
Именно, когда стопы отпечатаны перед стихотворением, всякий и подумает: к
чему мне быть недоверчивым, к чему мне делать подсчет, автор, конечно,
человек честный! И вот стоп не считают и попадаются впросак. Да и можно
разве каждый раз пересчитывать? Сейчас мы в Италии, и у меня есть время
отмечать стопы мелом на полу и проверять каждую оду. Но в Гамбурге, где у
меня свое дело, у меня не хватило бы времени и пришлось бы верить графу
Платену не считая, как веришь в кассе надписям на денежных мешках, когда
сказано, сколько в них сотен талеров, -- они ходят по рукам запечатанные,
каждый верит другому, что в них содержится столько, сколько написано; и
все-таки были примеры, что люди свободные, не имеющие лишнего дела,
вскрывали такие мешки, пересчитывали и находили, что двух-трех талеров
недостает. Так и в поэзии может быть много мошенничества. В особенности я
становлюсь недоверчив, когда подумаю о денежных мешках. Ведь мой шурин
рассказывал мне, что в тюрьме в Одензее сидит некий человек, который служил
на почте и бесчестно вскрывал денежные мешки, проходившие через его руки,
бесчестно вынимал из них деньги, а затем искусно зашивал их и отправлял
дальше. Когда слышишь о таком проворстве, то теряешь доверие к людям и
становишься человеком недоверчивым. Да, сейчас на свете много мошенничества,
и, конечно, в поэзии все обстоит так же, как и в других делах.
-- Честность, -- продолжал Гиацинт, в то время как маркиз декламировал
дальше, не обращая на нас внимания, целиком погрузившись в чувства, --
честность, господин доктор, -- главное дело, и того, кто не честный человек,
я считаю за мошенника, а кого я считаю за мошенника, у того я не покупаю
ничего, не читаю ничего -- короче, не имею с ним никаких дел. Я такой
человек, господин доктор, который ничего себе не воображает, а если бы я
хотел вообразить себе что-нибудь, то я вообразил бы себе, что я честный
человек. Я расскажу вам одну свою благородную черту, и вы изумитесь,-
284
говорю вам, вы изумитесь, это я говорю вам как честный человек. У нас в
Гамбурге, на Копейной площади, живет один человек, он зеленщик, и зовут его
Клетцхен, то есть я зову его Клетцхен, потому что мы с ним близкие приятели,
а зовут-то его господин Клотц. И жену его приходится звать мадам Клотц, и
она терпеть не могла, чтобы муж ее играл у меня, и когда ее муж хотел играть
через меня, то я не смел приходить к нему в дом с лотерейными билетами, и он
всегда говорил мне на улице: "Вот на такой-то и такой-то номер я хочу
сыграть, и вот тебе деньги, Гирш!" И я говорил всегда: "Хорошо, Клетцхен!" А
когда возвращался домой, то клал билет запечатанным в конверт отдельно для
него и писал на конверте немецкими буквами: за счет господина Христиана
Генриха Клотца. А теперь слушайте и изумляйтесь: был прекрасный весенний
день, деревья около биржи были зеленые, зефиры веяли так приятно, солнце
сверкало на небе, и я стоял у Гамбургского банка. И вот проходит Клетцхен,
мой Клетцхен, под руку со своей толстой мадам Клотц, сначала здоровается со
мною и начинает говорить о весеннем великолепии божьем, потом делает
несколько патриотических замечаний насчет гражданской милиции и спрашивает
меня, как дела; и я рассказываю ему, что несколько часов тому назад опять
кто-то стоял у позорного столба, и вот так, в разговоре, он говорит мне:
"Вчера ночью мне приснилось, что на номер 1538 упадет главный выигрыш". И в
тот момент, когда мадам Клотц начала рассматривать императорских статистов
перед ратушей, он всовывает мне в руку тринадцать полновесных луидоров, --
кажется, я и сейчас чувствую их в руке, -- и прежде чем мадам Клотц
обернулась, я говорю ему: "Хорошо, Клетцхен!" -- и ухожу. И иду напрямик, не
оглядываясь, в главную контору и беру номер 1538 и кладу в конверт, как
только возвращаюсь домой, и пишу на конверте: за счет господина Христиана
Генриха Клотца. И что же делает бог? Две недели спустя, чтобы испытать мою
честность, он делает так, что на номер 1538 падает выигрыш в пятьдесят тысяч
марок. А что делает Гирш, который стоит сейчас перед вами? Этот Гирш
надевает чистую белую верхнюю рубашку и чистый белый галстук, берет
извозчика и едет в главную контору за своими пятьюдесятью тысячами марок, и
отправляется с ними на Копейную площадь. А Клетц-
285
хен, увидев меня, спрашивает: "Гирш, почему ты сегодня такой нарядный?"
Но я, не отвечая ни слова, кладу на стол большой сюрпризный мешок с золотом
и говорю весьма торжественно: "Господин Христиан Генрих Клотц! Номер 1538,
который вам угодно было заказать мне, удостоился счастья выиграть пятьдесят
тысяч марок; имею честь преподнести вам в этом мешке деньги и позволяю себе
попросить расписку". Клетцхен, как только услышал это, начинает плакать,
мадам Клотц, услышав эту историю, начинает плакать, рыжая служанка плачет,
кривой приказчик плачет, дети плачут, а я? Такой чувствительный человек,
каков я есть, я все-таки не мог заплакать и сначала упал в обморок, и потом
только слезы полились у меня из глаз, как ручей, и я проплакал три часа.
Голос маленького человечка дрожал, когда он рассказывал это, и он
торжественно вытащил из кармана пакетик, о котором упоминалось выше,
развернул выцветшую розовую тафту и показал мне квитанцию, на которой
Христиан Генрих Клотц расписался в получении пятидесяти тысяч марок сполна.
-- Когда я умру, -- произнес Гиацинт, прослезившись, -- пусть положат
со мной в могилу эту квитанцию, и когда мне придется там, наверху, в день
суда дать отчет в моих делах, я выступлю перед престолом всемогущего с этой
квитанцией в руке; и когда мой злой ангел прочтет все злые дела, которые я
совершил на этом свете, а мой добрый ангел тоже захочет прочесть список моих
добрых дел, тогда я скажу спокойно: "Помолчи! Ответь только, подлинная ли
эта квитанция? Это -- подпись Христиана Генриха Клотца?" Тогда прилетит
маленький-маленький ангел и скажет, что ему доподлинно известна подпись
Клетцхена, и расскажет при этом замечательную историю о честности, которую я
когда-то проявил. И творец вечности, всеведущий, который все знает, вспомнит
об этой истории и похвалит меня в присутствии солнца, луны и звезд и тут же
высчитает в голове, что если вычесть из пятидесяти тысяч марок честности мои
злые дела, то все-таки сальдо останется в мою пользу, и он скажет: "Гирш!
назначаю тебя ангелом первой степени; можешь носить крылья с красными и
белыми перьями".
286
Кто же этот граф Платен, с которым мы в предыдущей главе познакомились
как с поэтом и пылким другом? Ах! Любезный читатель, я давно уже читаю на
лице твоем этот вопрос и с трепетом приступаю к объяснениям. В том-то и
незадача немецких писателей, что со всяким добрым и злым дураком, которого
они выводят на сцену, им приходится знакомить нас при помощи сухой
характеристики и перечисления примет, дабы, во-первых, показать, что он
существует, а во-вторых, обнаружить слабое его место, где настигнет его
бич,--снизу или сверху, спереди или сзади. Иначе обстояло дело у древних,
иначе обстоит оно еще и у некоторых современных народов, например у англичан
и у французов, у которых есть общественная жизнь, а потому имеются и public
characters1. У нас же, немцев, хотя народ у нас в целом и
придурковатый, все же мало выдающихся дураков, которые были бы настолько
известны, чтобы служить и в прозе и в стихах образцом выдающихся личностей.
Те немногие представители этой породы, которых мы знаем, поистине правы,
когда начинают важничать. Они неоценимы и могут предъявлять самые высокие
требования. Так, например, господин тайный советник Шмальц, профессор
Берлинского университета,--человек, которому цены нет; писатель-юморист не
обойдется без него, и сам он в столь высокой степени чувствует свое личное
значение и незаменимость, что пользуется всяким случаем доставить
писателям-юмористам материал для сатиры и дни и ночи напролет ломает голову
над тем, как бы показаться в самом смешном свете в качестве государственного
человека, низкопоклонника, декана, антигегелианца и патриота и оказать тем
самым действенную поддержку литературе, для которой он как бы жертвует
собой. Вообще следует поставить в заслугу немецким университетам, что
немецким литераторам они поставляют в большем количестве, чем какому-либо
иному сословию, дураков всех видов; в особенности я ценил всегда в этом
смысле Геттинген. В этом и заключается тайная причина, по которой я стою за
сохранение университетов, хотя всегда
________________________________
1 Общественные характеры (англ.).
287
проповедовал свободу промыслов и уничтожение цехового строя. При столь
ощутительном недостатке в выдающихся дураках нельзя не благодарить меня за
то, что я вывожу на сцену новых и пускаю их во всеобщее употребление. Для
блага литературы я намерен поэтому несколько обстоятельнее поговорить сейчас
о графе Августе фон Платен-Галлермюнде. Я поспособствую тому, чтобы он
сделался в подобающей мере известным и до некоторой степени знаменитым; я
как бы раскормлю его в смысле литературном, наподобие того, как ирокезы
поступают с пленниками, которых предполагают съесть впоследствии на
праздничных пирах. Я буду вполне корректен, и правдив, и отменно вежлив, как
и надлежит человеку среднего сословия; материальной, так сказать, личной
стороны я буду касаться лишь постольку, поскольку в ней находят себе
объяснение явления духовного свойства, и всякий раз я буду ясно определять
точку зрения, с которой я наблюдал его, и даже порой те очки, сквозь которые
на него смотрел.
Отправной точкой, с которой я впервые наблюдал графа Платена, был
Мюнхен, арена его устремлений, где он пользуется славою среди всех, кто его
знает, и где, несомненно, он будет бессмертен, пока жив. Очки, сквозь
которые я взглянул на него, принадлежали некоторым мюнхенцам из тех, что
порой, под веселую руку, обменивались парой веселых слов о его наружности.
Сам я ни разу его не видел, и когда хочу представить его себе, всегда
вспоминаю о той комической ярости, с какой когда-то мой друг, доктор
Лаутенбахер, обрушивался на дурачества поэтов вообще и в особенности
упоминал некоего графа Платена, который с лавровым венком на голове
загораживал путь гуляющим на бульваре в Эрлангене и, подняв к небу
оседланный очками нос, делал вид, будто застывает в поэтическом экстазе.
Другие отзывались благоприятнее о бедном графе и сожалели только о его
ограниченных средствах, которые, при свойственном ему честолюбивом желании
выдвинуться, хотя бы в качестве поэта, заставляли его напрягаться через
силу; в особенности они его хвалили за предупредительность по отношению к
младшим, с которыми он казался воплощенной скромностью: он с умилительным
смирением просил разрешения посещать их по временам в их комнатах и заходил
в своем благодушии так далеко, что
288
снова и снова навещал их, даже в тех случаях, когда ему ясно давали
понять, что визиты его в тягость. Все эти рассказы до известной степени
тронули меня, хотя я и признаю вполне естественным то, что он так мало
пользовался успехом. Тщетны были частые сетования графа:
Ты слишком юн и светел, отрок милый, Тебе угрюмый спутник не по нраву
Что ж., Я примусь за шутки, за забаву,
Отныне места нет слезе унылой
И пусть пошлют небесные мне силы Веселья чуждый дар -- тебе во
славу.
Тщетно уверял бедный граф, что со временем он станет самым знаменитым
поэтом, что лавры бросают уже тень на чело его, что он может обессмертить и
своих нежных отроков, воспев их в вечных своих стихах. Увы! Именно такого
рода слава никому не улыбалась, да и в самом деле она не из завидных. Я
помню еще, с какой сдержанной улыбкой взирало несколько веселых приятелей
под мюнхенскими аркадами на одного из таких кандидатов в бессмертные. Один
дальнозоркий злодей уверял даже, что сквозь полы его сюртука он видит тень
лаврового листа. Что касается меня, любезный читатель, то я не так зол, как
ты полагаешь; в то время как другие издеваются над бедным графом, я ему
сочувствую, я сомневаюсь только в том, что он на деле отомстил ненавистным
"добрым нравам", хотя в своих песнях он и мечтает отдаться такой мести;
скорее я верю ему тогда, когда он трогательно воспевает мучительные обиды,
оскорбительные и унизительные отказы. Я уверен, что на деле он более ладит с
"добрыми нравами", чем ему самому хотелось бы, и он, как генерал Тилли,
может похвалиться: "Я никогда не был пьян, не прикоснулся ни к одной женщине
и не проиграл ни одного сражения". Вот почему, конечно, и говорит Поэт:
Ты юноша воздержанный и скромный
Бедный юноша или, лучше сказать, бедный старый юноша -- ибо за плечами
его было уже в то время несколько пятилетий, -- корпел тогда, если не
ошибаюсь, в Эрлангенском университете, где ему подыскали какие-то занятия;
но так как занятия эти не удовлетворяли его
289
стремящейся ввысь души, так как с годами все более и более давало себя
чувствовать его чувственное тяготение к чувствительной известности и граф
все более и более воодушевлялся великолепием своего будущего, то он
прекратил эти занятия и решил жить литературой, случайными подачками свыше и
прочими заработками. Дело в том, что графство нашего графа расположено на
Луне, откуда он, при скверных путях сообщения между нею и Баварией, может
получить свои несметные доходы лишь через двадцать тысяч лет, когда, по
вычислениям Грейтгейзена, Луна приблизится к Земле.
Уже ранее дон Платен де Коллибрадос Галлермюнде издал в Лейпциге у
Брокгауза собрание стихотворений с предисловием, под заглавием: "Страницы
лирики, номер 1-й". Книжка эта осталась неизвестной, хотя, как он уверяет,
семь мудрецов изрекли хвалу автору. Впоследствии он издал, по образцу Тика,
несколько драматических сказок и повестей, которые постигла та же счастливая
участь -- они остались неизвестными невежественной черни, и прочли их только
семь мудрецов. Той порою, чтобы приобрести, помимо семи мудрецов, еще
несколько читателей, граф пустился в полемику и написал сатиру, направленную
против знаменитых писателей, главным образом против Мюлльнера, который в то
время снискал уже всеобщую ненависть и морально был уничтожен, так что граф
явился в самый подходящий момент для того, чтобы нанести последний удар
мертвому надворному советнику Эриндуру -- не в голову, а на фальстафовский
лад, в икры. Негодование против Мюлльнера наполняло в то время все
благородные сердца; люди вообще слабы, полемическое произведение графа не
потерпело поэтому фиаско, и "Роковая вилка" встречена была кое-где
благосклонно -- не большою публикой, а литераторами и ученой братией,
последней в особенности, ибо сатира написана была в подражание не романтику
Тику, а классику Аристофану.
Кажется, в это самое время господин граф поехал в Италию; он не
сомневался более, что окажется в состоянии жить поэзией; на долю Котта
выпала обычная прозаическая честь -- платить деньги за поэзию, ибо у поэзии,
высокородной дочери неба, никогда нет денег, и она, нуждаясь в них, всегда
обращается к Котта. Граф стал сочинять стихи дни и ночи напролет; он не
доволь-
290
ствовался уже примером Тика и Аристофана, он подражал теперь Гете в
форме песни, Горацию -- в одах, Петрарке -- в сонетах, и, наконец, поэту
Гафизу -- в персидских газеллах; говоря короче, он дал нам, таким образом,
целую антологию лучших поэтов, а между прочими и свои собственные страницы
лирики" под заглавием: "Стихотворения графа Платена и т. д.".
Никто во всей Германии не относится к поэтическим произведениям с
большею снисходительностью, чем я, и, конечно, я с полной готовностью
признаю за беднягой вроде Платена его крошечную долю славы, заработанную с
таким трудом в поте лица. Никто более меня не склонен превозносить его
стремления, его усердие и начитанность в поэзии и признавать его заслуги в
сочетании слогов. Мои собственные опыты дают мне возможность, более чем
кому-либо другому, оценить метрические заслуги графа. О тяжких усилиях,
неописуемом упорстве, скрежете зубовном- в зимние ночи и мучительном
напряжении, которых стоили графу его стихи, наш брат догадается скорее, чем
обыкновенный читатель, который увидит в гладкости, красивости и лоске стихов
графа нечто легкое, будет просто восхищаться гладкой игрой слов, подобно
тому, как мы в продолжение нескольких часов забавляемся искусством
акробатов, балансирующих на канате, танцующих на яйцах и становящихся на
голову, и не помышляем о том, что эти несчастные только путем многолетней
выучки и мучительного голода постигли это головоломное искусство, эту
метрику тела. Я, который не так много мучился над стихотворным искусством и,
упражняясь в нем, всегда хорошо питался, я тем более готов воздать должное
графу Платену, которому пришлось куда тяжелее и горше; я готов подтвердить,
во славу его, что ни один канатоходец во всей Европе не балансирует так
хорошо на слабо натянутых газеллах, никто не проделывает пляску яиц над
Занятие это, кажется, не очень по вкусу маленькому человечку, -- он,
наклоняясь, каждый раз вздыхает и сердито бормочет: спондей, трохей, ямб,
антиспаст, анапест и чертов пест. При этом он для большего удобства дви-
279
жений снял красную ливрею, и вот обнаружились две коротенькие скромные
ножонки в узких ярко-красных штанах и две тощие, несколько более длинные
руки, торчащие из белых широких рукавов рубашки.
-- Что это за странные знаки? -- спросил я, поглядев некоторое время на
его работу.
-- Это стопы в натуральную величину, -- простонал он в ответ, -- и я,
несчастный, должен помнить все эти стопы наизусть, и руки мои болят от этих
стоп, которые мне приходится писать. Это истинные, настоящие стопы поэзии.
Делаю я это только ради образованности, иначе я давно махнул бы рукой на
поэзию со всеми ее стопами. Сейчас я беру частные уроки поэтического
искусства у господина маркиза. Господин маркиз читает мне вслух стихи и
объясняет, из скольких стоп они состоят, а я должен отмечать их и проверять
потом, правильные ли стихи...
-- Вы, действительно, -- произнес маркиз дидактически-патетическим
тоном, -- застали нас за поэтическим занятием. Правда, я знаю, доктор, что
вы принадлежите к поэтам, у которых упрямая голова, и вы не согласны с тем,
что стопы -- главное дело в поэтическом искусстве. Но образованный ум можно
привлечь только совершенной формой, а этой последней можно научиться только
у греков и у новых поэтов, которые стремятся ко всему греческому, мыслят
по-гречески, чувствуют по-гречески и таким способом передают свои чувства
другому.
-- Разумеется, другому, а не другой, как поступают обыкновенно
не-классические поэты-романтики, -- заметил я, грешный.
-- Господин Гумпель говорит порой точно книга,-- прошептал мне сбоку
Гиацинт и сжал узкие губы, а глазки гордо засверкали блеском удовлетворения,
и головка восхищенно закачалась. -- Я вас уверяю, -- добавил он несколько
громче,-- он говорит порой точно книга, он тогда не человек, так сказать, а
высшее существо, и, слушая его, я как будто глупею.
-- А что у вас сейчас в руках? -- спросил я маркиза.
-- Брильянты, -- ответил он и передал мне книгу.
При слове "брильянты" Гиацинт высоко подскочил, но, увидев книгу,
страдальчески улыбнулся. На обложке брильянтовой книжки оказалось следующее
заглавие:
"Стихотворения графа Августа фон Платена. Штут-
280
гарт и Тюбинген. Издание книготорговой фирмы И.-Г. Котта. 1828".
На второй странице написано было красивым почерком: "В знак горячей
братской дружбы". При этом от книги распространялся запах, не имеющий ни
малейшего отношения к одеколону и объяснявшийся, может быть, тем
обстоятельством, что маркиз читал книжку всю ночь.
-- Я всю ночь не мог сомкнуть глаз, -- пожаловался он мне, -- я был так
взволнован, одиннадцать раз пришлось встать с постели, но, на счастье,
оказалась тут эта превосходная книга, из коей я почерпнул не только много
поучительного в области поэзии, но и жизненное утешение. Видите, с каким
уважением я отнесся к книге, в ней все страницы целы, а ведь порою, сидя,
как я сидел, я испытывал искушение...
-- Это, вероятно, кое с кем уже случалось, господин маркиз.
-- Клянусь вам нашей лоретской бргоматерью и говорю вам как честный
человек, -- продолжал он, -- стихи эти не имеют себе равных. Как вам
известно, вчера вечером я был в отчаянии, так сказать au
desespoir1, когда судьба лишила меня обладания моею Юлиею, и вот
я принялся читать эти стихи, по одному стихотворению всякий раз, когда
приходилось вставать, и в результате это равнодушие к женщинам так на меня
подействовало, что мне стали противны мои любовные страдания. Именно то и
прекрасно в этом поэте, что он пылает только к мужчинам -- горячею дружбою;
он отдает нам предпочтение перед женщинами, и уж за одну эту честь мы должны
быть ему благодарны. В этом он более велик, чем все остальные4 поэты; он не
льстит пошлому вкусу толпы, он исцеляет нас от нашей страсти к женщинам,
несущей столько несчастий... О женщины, женщины ! Тот, кто освободит нас от
ваших оков, будет благодетелем человечества. Вечно приходится сожалеть, что
Шекспир не употребил на это свой выдающийся драматический талант, ибо, как я
впервые прочитал здесь, он, оказывается, питал чувства не менее благородные,
чем великий граф Платен, который говорит о Шекспире в одном из своих
сонетов:
__________________
1 В отчаянии (фр.).
281
Ты не подпал девическому нраву,
И только дружбу ты ценил на свете, Твой друг тебя спасал из женской
сети, В его красе твоя печаль и слава.
В то время как маркиз с жаром декламировал эти слова и на языке его
словно таял чистейший навоз, Гиацинт корчил гримасы самого противоположного
свойства, вместе и сердитые и одобрительные, и наконец сказал:
-- Господин маркиз, вы говорите как книга, и стихи текут у вас опять
так же легко, как сегодня ночью, но содержание их мне не нравится. Как
мужчина я чувствую себя польщенным, что граф Платен отдает нам предпочтение
перед женщинами, но как сторонник женщин я опять-таки против него. Таков
человек! Один охотно ест лук, другому больше по душе горячая дружба. И я как
честный человек должен откровенно признаться, я охотнее ем лук, и кривая
кухарка мне милее, чем прекраснейший друг красоты. Да, должен признаться, не
вижу я в мужском поле столько уж красивого, чтобы можно было влюбиться.
Произнося последние слова, Гиацинт испытующе посмотрел на себя в
зеркало, а маркиз, не смущаясь, декламировал дальше:
Со счастием надежда гибнет вместе,
Но не сойтись -- увы! -- с тобою вместе;
В твоих устах мое так нежно имя,
Но нежный звук с тобой заглохнет вместе. Как солнце и луну, разъединить
нас Обычай с долгом порешили вместе. Склонись ко мне: твои чернеют кудри,
Мой светел лик -- они прекрасны вместе. Увы! я грежу -- ты меня
покинешь,
Нас не сведет с тобою счастье вместе! Сердца в крови, тела в разлуке
горькой;
Мы -- как цветы, сплелись бы тесно вместе!
-- Смешная поэзия! -- воскликнул Гиацинт, бормотавший себе под нос
рифмы, -- "обычай с долгом вместе, светлый лик мой вместе, с тобою вместе,
тесно вместе"! Смешная поэзия! Мой шурин, когда читает стихи, часто
забавляется тем, что в конце каждой строки прибавляет слова "спереди" и
"сзади" попеременно; но я не знал, что поэтические стихи, которые получаются
этим способом, называются газеллами. Нужно будет попробовать, не
282
станет ли еще красивее стихотворение, прочитанное маркизом, если каждый
раз после слова "вместе" прибавлять попеременно "спереди" и "сзади";
наверное, поэзии прибавится на двадцать процентов.
Не обращая внимания на эту болтовню, маркиз продолжал декламировать
газеллы и сонеты, в которых влюбленный воспевает своего прекрасного друга,
восхваляет его, жалуется на него, обвиняет его в холодности, составляет
планы, как бы проникнуть к нему, кокетничает с ним, ревнует, тает от
восторга, проходит целую шкалу любовных нежностей, и притом так пылко,
чувственно и страстно, что можно подумать, автор -- девчонка, с ума сходящая
от мужчин. Только при этом странно одно -- девчонка постоянно скорбит о том,
что ее любовь противна "обычаю", что она так же зла на этот "разлучающий
обычай", как карманный вор на полицию, что она любовно обняла бы "бедра"
друга, она жалуется на "лукавых завистников", которые "объединились, чтобы
нам мешать и нас держать в разлуке", она сетует на обиды и оскорбления,
причиняемые другом, уверяет его: "ни звуком не смущу твой слух, любимый" и,
наконец, признается:
Знакома мне в других любви преграда; Ты мне не внял, но ты и не
отвергнул Моей любви, мой друг, моя отрада.
Я должен засвидетельствовать, что маркиз хорошо декламировал эти стихи,
вздыхал вдоволь и, ерзая по дивану, как бы кокетничал своим седалищем.
Гиацинт отнюдь не упускал случая повторять за ним рифмы, хотя попутно и
вставлял неподходящие замечания. Больше всего привлекли его внимание оды.
-- Этот сорт, -- сказал он, -- научит большему, чем сонеты и газеллы; в
одах сверху особо отмечены стопы, и можно очень удобно проверить каждое
стихотворение. Каждому поэту следовало бы, как это делает граф Платен в
самых своих трудных поэтических стихах, отмечать сверху стопы, заявляя
читателям: "Видите, я честный человек, я не хочу вас обманывать, эти кривые
и прямые черточки, которые я ставлю перед каждым стихотворением, -- они, так
сказать, conto fintol для каждого стихо-
_____________________________________
1 "Воображаемый счет", номинальная запись в бухгалтерской книге (ит.).
283
творения, и вы можете подсчитать, скольких оно мне стоило трудов; они,
так сказать, -- масштаб для стихотворения; вы можете измерить стих, и если
недостает хоть одного слога, то назовите меня мошенником, говорю вам как
честный человек!" Но именно этим честным видом можно обмануть публику.
Именно, когда стопы отпечатаны перед стихотворением, всякий и подумает: к
чему мне быть недоверчивым, к чему мне делать подсчет, автор, конечно,
человек честный! И вот стоп не считают и попадаются впросак. Да и можно
разве каждый раз пересчитывать? Сейчас мы в Италии, и у меня есть время
отмечать стопы мелом на полу и проверять каждую оду. Но в Гамбурге, где у
меня свое дело, у меня не хватило бы времени и пришлось бы верить графу
Платену не считая, как веришь в кассе надписям на денежных мешках, когда
сказано, сколько в них сотен талеров, -- они ходят по рукам запечатанные,
каждый верит другому, что в них содержится столько, сколько написано; и
все-таки были примеры, что люди свободные, не имеющие лишнего дела,
вскрывали такие мешки, пересчитывали и находили, что двух-трех талеров
недостает. Так и в поэзии может быть много мошенничества. В особенности я
становлюсь недоверчив, когда подумаю о денежных мешках. Ведь мой шурин
рассказывал мне, что в тюрьме в Одензее сидит некий человек, который служил
на почте и бесчестно вскрывал денежные мешки, проходившие через его руки,
бесчестно вынимал из них деньги, а затем искусно зашивал их и отправлял
дальше. Когда слышишь о таком проворстве, то теряешь доверие к людям и
становишься человеком недоверчивым. Да, сейчас на свете много мошенничества,
и, конечно, в поэзии все обстоит так же, как и в других делах.
-- Честность, -- продолжал Гиацинт, в то время как маркиз декламировал
дальше, не обращая на нас внимания, целиком погрузившись в чувства, --
честность, господин доктор, -- главное дело, и того, кто не честный человек,
я считаю за мошенника, а кого я считаю за мошенника, у того я не покупаю
ничего, не читаю ничего -- короче, не имею с ним никаких дел. Я такой
человек, господин доктор, который ничего себе не воображает, а если бы я
хотел вообразить себе что-нибудь, то я вообразил бы себе, что я честный
человек. Я расскажу вам одну свою благородную черту, и вы изумитесь,-
284
говорю вам, вы изумитесь, это я говорю вам как честный человек. У нас в
Гамбурге, на Копейной площади, живет один человек, он зеленщик, и зовут его
Клетцхен, то есть я зову его Клетцхен, потому что мы с ним близкие приятели,
а зовут-то его господин Клотц. И жену его приходится звать мадам Клотц, и
она терпеть не могла, чтобы муж ее играл у меня, и когда ее муж хотел играть
через меня, то я не смел приходить к нему в дом с лотерейными билетами, и он
всегда говорил мне на улице: "Вот на такой-то и такой-то номер я хочу
сыграть, и вот тебе деньги, Гирш!" И я говорил всегда: "Хорошо, Клетцхен!" А
когда возвращался домой, то клал билет запечатанным в конверт отдельно для
него и писал на конверте немецкими буквами: за счет господина Христиана
Генриха Клотца. А теперь слушайте и изумляйтесь: был прекрасный весенний
день, деревья около биржи были зеленые, зефиры веяли так приятно, солнце
сверкало на небе, и я стоял у Гамбургского банка. И вот проходит Клетцхен,
мой Клетцхен, под руку со своей толстой мадам Клотц, сначала здоровается со
мною и начинает говорить о весеннем великолепии божьем, потом делает
несколько патриотических замечаний насчет гражданской милиции и спрашивает
меня, как дела; и я рассказываю ему, что несколько часов тому назад опять
кто-то стоял у позорного столба, и вот так, в разговоре, он говорит мне:
"Вчера ночью мне приснилось, что на номер 1538 упадет главный выигрыш". И в
тот момент, когда мадам Клотц начала рассматривать императорских статистов
перед ратушей, он всовывает мне в руку тринадцать полновесных луидоров, --
кажется, я и сейчас чувствую их в руке, -- и прежде чем мадам Клотц
обернулась, я говорю ему: "Хорошо, Клетцхен!" -- и ухожу. И иду напрямик, не
оглядываясь, в главную контору и беру номер 1538 и кладу в конверт, как
только возвращаюсь домой, и пишу на конверте: за счет господина Христиана
Генриха Клотца. И что же делает бог? Две недели спустя, чтобы испытать мою
честность, он делает так, что на номер 1538 падает выигрыш в пятьдесят тысяч
марок. А что делает Гирш, который стоит сейчас перед вами? Этот Гирш
надевает чистую белую верхнюю рубашку и чистый белый галстук, берет
извозчика и едет в главную контору за своими пятьюдесятью тысячами марок, и
отправляется с ними на Копейную площадь. А Клетц-
285
хен, увидев меня, спрашивает: "Гирш, почему ты сегодня такой нарядный?"
Но я, не отвечая ни слова, кладу на стол большой сюрпризный мешок с золотом
и говорю весьма торжественно: "Господин Христиан Генрих Клотц! Номер 1538,
который вам угодно было заказать мне, удостоился счастья выиграть пятьдесят
тысяч марок; имею честь преподнести вам в этом мешке деньги и позволяю себе
попросить расписку". Клетцхен, как только услышал это, начинает плакать,
мадам Клотц, услышав эту историю, начинает плакать, рыжая служанка плачет,
кривой приказчик плачет, дети плачут, а я? Такой чувствительный человек,
каков я есть, я все-таки не мог заплакать и сначала упал в обморок, и потом
только слезы полились у меня из глаз, как ручей, и я проплакал три часа.
Голос маленького человечка дрожал, когда он рассказывал это, и он
торжественно вытащил из кармана пакетик, о котором упоминалось выше,
развернул выцветшую розовую тафту и показал мне квитанцию, на которой
Христиан Генрих Клотц расписался в получении пятидесяти тысяч марок сполна.
-- Когда я умру, -- произнес Гиацинт, прослезившись, -- пусть положат
со мной в могилу эту квитанцию, и когда мне придется там, наверху, в день
суда дать отчет в моих делах, я выступлю перед престолом всемогущего с этой
квитанцией в руке; и когда мой злой ангел прочтет все злые дела, которые я
совершил на этом свете, а мой добрый ангел тоже захочет прочесть список моих
добрых дел, тогда я скажу спокойно: "Помолчи! Ответь только, подлинная ли
эта квитанция? Это -- подпись Христиана Генриха Клотца?" Тогда прилетит
маленький-маленький ангел и скажет, что ему доподлинно известна подпись
Клетцхена, и расскажет при этом замечательную историю о честности, которую я
когда-то проявил. И творец вечности, всеведущий, который все знает, вспомнит
об этой истории и похвалит меня в присутствии солнца, луны и звезд и тут же
высчитает в голове, что если вычесть из пятидесяти тысяч марок честности мои
злые дела, то все-таки сальдо останется в мою пользу, и он скажет: "Гирш!
назначаю тебя ангелом первой степени; можешь носить крылья с красными и
белыми перьями".
286
Кто же этот граф Платен, с которым мы в предыдущей главе познакомились
как с поэтом и пылким другом? Ах! Любезный читатель, я давно уже читаю на
лице твоем этот вопрос и с трепетом приступаю к объяснениям. В том-то и
незадача немецких писателей, что со всяким добрым и злым дураком, которого
они выводят на сцену, им приходится знакомить нас при помощи сухой
характеристики и перечисления примет, дабы, во-первых, показать, что он
существует, а во-вторых, обнаружить слабое его место, где настигнет его
бич,--снизу или сверху, спереди или сзади. Иначе обстояло дело у древних,
иначе обстоит оно еще и у некоторых современных народов, например у англичан
и у французов, у которых есть общественная жизнь, а потому имеются и public
characters1. У нас же, немцев, хотя народ у нас в целом и
придурковатый, все же мало выдающихся дураков, которые были бы настолько
известны, чтобы служить и в прозе и в стихах образцом выдающихся личностей.
Те немногие представители этой породы, которых мы знаем, поистине правы,
когда начинают важничать. Они неоценимы и могут предъявлять самые высокие
требования. Так, например, господин тайный советник Шмальц, профессор
Берлинского университета,--человек, которому цены нет; писатель-юморист не
обойдется без него, и сам он в столь высокой степени чувствует свое личное
значение и незаменимость, что пользуется всяким случаем доставить
писателям-юмористам материал для сатиры и дни и ночи напролет ломает голову
над тем, как бы показаться в самом смешном свете в качестве государственного
человека, низкопоклонника, декана, антигегелианца и патриота и оказать тем
самым действенную поддержку литературе, для которой он как бы жертвует
собой. Вообще следует поставить в заслугу немецким университетам, что
немецким литераторам они поставляют в большем количестве, чем какому-либо
иному сословию, дураков всех видов; в особенности я ценил всегда в этом
смысле Геттинген. В этом и заключается тайная причина, по которой я стою за
сохранение университетов, хотя всегда
________________________________
1 Общественные характеры (англ.).
287
проповедовал свободу промыслов и уничтожение цехового строя. При столь
ощутительном недостатке в выдающихся дураках нельзя не благодарить меня за
то, что я вывожу на сцену новых и пускаю их во всеобщее употребление. Для
блага литературы я намерен поэтому несколько обстоятельнее поговорить сейчас
о графе Августе фон Платен-Галлермюнде. Я поспособствую тому, чтобы он
сделался в подобающей мере известным и до некоторой степени знаменитым; я
как бы раскормлю его в смысле литературном, наподобие того, как ирокезы
поступают с пленниками, которых предполагают съесть впоследствии на
праздничных пирах. Я буду вполне корректен, и правдив, и отменно вежлив, как
и надлежит человеку среднего сословия; материальной, так сказать, личной
стороны я буду касаться лишь постольку, поскольку в ней находят себе
объяснение явления духовного свойства, и всякий раз я буду ясно определять
точку зрения, с которой я наблюдал его, и даже порой те очки, сквозь которые
на него смотрел.
Отправной точкой, с которой я впервые наблюдал графа Платена, был
Мюнхен, арена его устремлений, где он пользуется славою среди всех, кто его
знает, и где, несомненно, он будет бессмертен, пока жив. Очки, сквозь
которые я взглянул на него, принадлежали некоторым мюнхенцам из тех, что
порой, под веселую руку, обменивались парой веселых слов о его наружности.
Сам я ни разу его не видел, и когда хочу представить его себе, всегда
вспоминаю о той комической ярости, с какой когда-то мой друг, доктор
Лаутенбахер, обрушивался на дурачества поэтов вообще и в особенности
упоминал некоего графа Платена, который с лавровым венком на голове
загораживал путь гуляющим на бульваре в Эрлангене и, подняв к небу
оседланный очками нос, делал вид, будто застывает в поэтическом экстазе.
Другие отзывались благоприятнее о бедном графе и сожалели только о его
ограниченных средствах, которые, при свойственном ему честолюбивом желании
выдвинуться, хотя бы в качестве поэта, заставляли его напрягаться через
силу; в особенности они его хвалили за предупредительность по отношению к
младшим, с которыми он казался воплощенной скромностью: он с умилительным
смирением просил разрешения посещать их по временам в их комнатах и заходил
в своем благодушии так далеко, что
288
снова и снова навещал их, даже в тех случаях, когда ему ясно давали
понять, что визиты его в тягость. Все эти рассказы до известной степени
тронули меня, хотя я и признаю вполне естественным то, что он так мало
пользовался успехом. Тщетны были частые сетования графа:
Ты слишком юн и светел, отрок милый, Тебе угрюмый спутник не по нраву
Что ж., Я примусь за шутки, за забаву,
Отныне места нет слезе унылой
И пусть пошлют небесные мне силы Веселья чуждый дар -- тебе во
славу.
Тщетно уверял бедный граф, что со временем он станет самым знаменитым
поэтом, что лавры бросают уже тень на чело его, что он может обессмертить и
своих нежных отроков, воспев их в вечных своих стихах. Увы! Именно такого
рода слава никому не улыбалась, да и в самом деле она не из завидных. Я
помню еще, с какой сдержанной улыбкой взирало несколько веселых приятелей
под мюнхенскими аркадами на одного из таких кандидатов в бессмертные. Один
дальнозоркий злодей уверял даже, что сквозь полы его сюртука он видит тень
лаврового листа. Что касается меня, любезный читатель, то я не так зол, как
ты полагаешь; в то время как другие издеваются над бедным графом, я ему
сочувствую, я сомневаюсь только в том, что он на деле отомстил ненавистным
"добрым нравам", хотя в своих песнях он и мечтает отдаться такой мести;
скорее я верю ему тогда, когда он трогательно воспевает мучительные обиды,
оскорбительные и унизительные отказы. Я уверен, что на деле он более ладит с
"добрыми нравами", чем ему самому хотелось бы, и он, как генерал Тилли,
может похвалиться: "Я никогда не был пьян, не прикоснулся ни к одной женщине
и не проиграл ни одного сражения". Вот почему, конечно, и говорит Поэт:
Ты юноша воздержанный и скромный
Бедный юноша или, лучше сказать, бедный старый юноша -- ибо за плечами
его было уже в то время несколько пятилетий, -- корпел тогда, если не
ошибаюсь, в Эрлангенском университете, где ему подыскали какие-то занятия;
но так как занятия эти не удовлетворяли его
289
стремящейся ввысь души, так как с годами все более и более давало себя
чувствовать его чувственное тяготение к чувствительной известности и граф
все более и более воодушевлялся великолепием своего будущего, то он
прекратил эти занятия и решил жить литературой, случайными подачками свыше и
прочими заработками. Дело в том, что графство нашего графа расположено на
Луне, откуда он, при скверных путях сообщения между нею и Баварией, может
получить свои несметные доходы лишь через двадцать тысяч лет, когда, по
вычислениям Грейтгейзена, Луна приблизится к Земле.
Уже ранее дон Платен де Коллибрадос Галлермюнде издал в Лейпциге у
Брокгауза собрание стихотворений с предисловием, под заглавием: "Страницы
лирики, номер 1-й". Книжка эта осталась неизвестной, хотя, как он уверяет,
семь мудрецов изрекли хвалу автору. Впоследствии он издал, по образцу Тика,
несколько драматических сказок и повестей, которые постигла та же счастливая
участь -- они остались неизвестными невежественной черни, и прочли их только
семь мудрецов. Той порою, чтобы приобрести, помимо семи мудрецов, еще
несколько читателей, граф пустился в полемику и написал сатиру, направленную
против знаменитых писателей, главным образом против Мюлльнера, который в то
время снискал уже всеобщую ненависть и морально был уничтожен, так что граф
явился в самый подходящий момент для того, чтобы нанести последний удар
мертвому надворному советнику Эриндуру -- не в голову, а на фальстафовский
лад, в икры. Негодование против Мюлльнера наполняло в то время все
благородные сердца; люди вообще слабы, полемическое произведение графа не
потерпело поэтому фиаско, и "Роковая вилка" встречена была кое-где
благосклонно -- не большою публикой, а литераторами и ученой братией,
последней в особенности, ибо сатира написана была в подражание не романтику
Тику, а классику Аристофану.
Кажется, в это самое время господин граф поехал в Италию; он не
сомневался более, что окажется в состоянии жить поэзией; на долю Котта
выпала обычная прозаическая честь -- платить деньги за поэзию, ибо у поэзии,
высокородной дочери неба, никогда нет денег, и она, нуждаясь в них, всегда
обращается к Котта. Граф стал сочинять стихи дни и ночи напролет; он не
доволь-
290
ствовался уже примером Тика и Аристофана, он подражал теперь Гете в
форме песни, Горацию -- в одах, Петрарке -- в сонетах, и, наконец, поэту
Гафизу -- в персидских газеллах; говоря короче, он дал нам, таким образом,
целую антологию лучших поэтов, а между прочими и свои собственные страницы
лирики" под заглавием: "Стихотворения графа Платена и т. д.".
Никто во всей Германии не относится к поэтическим произведениям с
большею снисходительностью, чем я, и, конечно, я с полной готовностью
признаю за беднягой вроде Платена его крошечную долю славы, заработанную с
таким трудом в поте лица. Никто более меня не склонен превозносить его
стремления, его усердие и начитанность в поэзии и признавать его заслуги в
сочетании слогов. Мои собственные опыты дают мне возможность, более чем
кому-либо другому, оценить метрические заслуги графа. О тяжких усилиях,
неописуемом упорстве, скрежете зубовном- в зимние ночи и мучительном
напряжении, которых стоили графу его стихи, наш брат догадается скорее, чем
обыкновенный читатель, который увидит в гладкости, красивости и лоске стихов
графа нечто легкое, будет просто восхищаться гладкой игрой слов, подобно
тому, как мы в продолжение нескольких часов забавляемся искусством
акробатов, балансирующих на канате, танцующих на яйцах и становящихся на
голову, и не помышляем о том, что эти несчастные только путем многолетней
выучки и мучительного голода постигли это головоломное искусство, эту
метрику тела. Я, который не так много мучился над стихотворным искусством и,
упражняясь в нем, всегда хорошо питался, я тем более готов воздать должное
графу Платену, которому пришлось куда тяжелее и горше; я готов подтвердить,
во славу его, что ни один канатоходец во всей Европе не балансирует так
хорошо на слабо натянутых газеллах, никто не проделывает пляску яиц над
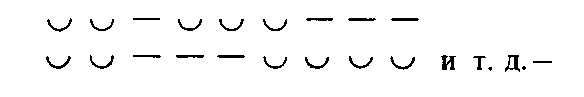 лучше, чем он, и никто не становится так хорошо вверх ногами. Если музы
и неблагосклонны к нему, то гений языка все же ему под силу, или, вернее, он
умеет его на-
291
силовать, ибо по собственной воле этот гений не отдаст ему своей любви,
и графу упорно приходится бегать также и за этим отроком, и он умеет
схватить только те внешние формы, которые, при всей их красивой
закругленности, не отличаются благородством. Никогда еще ни одному Платену
не удавалось извлечь из своей души или выразить в свете откровения те
глубокие, безыскусственные тона, которые встречаются в народных песнях, у
детей и у других поэтов; мучительное усилие, которое ему приходится
проделывать над собой, чтобы что-нибудь сказать, он именует "великим деянием
в слове"; ему до такой степени чуждо существо поэзии, что он не знает даже,
что только для ритора слово -- подвиг, для истинного же поэта оно -- обычное
дело. Язык у него, в отличие от истинных поэтов, не становится мастерским,
но сам он, наоборот, стал мастером в языке или, скорее, на языке, как
виртуоз -- на инструменте. Чем больших успехов он достигал в технике такого
рода, тем более высокого мнения был он о своем мастерстве; ведь он научился
играть на все лады, он сочинял самые трудные стихотворные пассажи, иной раз
поэтизировал, так сказать, на одной струне и сердился, если публика не
аплодировала. Подобно всем виртуозам, выработавшим в себе такой
односторонний талант, он стал заботиться только об аплодисментах и с досадой
присматривался к славе других, завидовал своим собратьям по поводу их
заработка, как, например, Клаурену, разражался пятиактными пасквилями, чуть
только чувствовал себя задетым какой-либо эпиграммою, следил за всеми
рецензиями, в которых хвалили других, и постоянно кричал: меня мало хвалят,
мало награждают, ведь я поэт, я поэт из поэтов и т. д. Такой ненасытной
жажды похвал и подачек не обнаруживал ни один истинный поэт, ни Клоп-шток,
ни Гете, к которым граф Платен причисляет себя в качестве третьего, хотя
каждый согласится, что он мог бы быть в триумвирате только с Рамлером и,
пожалуй, с А.-В. Шлегелем. Великий Рамлер, как звали его в свое время, когда
он разгуливал по берлинскому Тиргартену, скандируя стихи, -- правда, без
лаврового венка на голове, но зато с тем более длинной косичкой в сетке, с
поднятыми к небу глазами и тугим парусиновым зонтиком под мышкой, -- считал
себя в то время наместником поэзии на земле. Стихи его были совершеннейшими
в немец-
292
кой литературе, и почитатели его, в круг которых по ошибке попал даже
Лессинг, были убеждены, что дальше в поэзии пойти невозможно. Почти то же
самое произошло впоследствии с А.-В. Шлегелем, но его поэтическая
несостоятельность сделалась очевидной с тех пор, как язык прошел дальнейший
путь развития, и даже те, кто когда-то считал певца "Ариона" за настоящего
Ариона, видят в нем теперь только заслуженного школьного учителя. Но имеет
ли уже граф Платен право смеяться над прославленным некогда Шлегелем, как
этот последний смеялся в свое время над Рамлером, это я еще не знаю. Знаю
только, что в области поэзии все трое равны, и как бы красиво ни проделывал
граф Платен в своих газеллах головокружительные трюки, как бы превосходно ни
исполнял в своих одах танец на яйцах, более того -- как бы-ни становился он
на голову в своих комедиях, -- все-таки он не поэт. Он не поэт, так считает
даже та неблагодарная молодежь мужского пола, которую он столь нежно
воспевает. Он не поэт, говорят женщины, которые, быть может, -- это я должен
заметить в его пользу, -- не совсем в данном случае беспристрастны и, может
быть, несколько ревнуют, ввиду склонности, замечаемой в нем, или даже видят
в направлении его стихов угрозу своему выгодному до сих пор положению в
обществе. Строгие критики, вооруженные сильными очками, соглашаются с этими
мнениями или выражаются еще более лаконически-мрачно. "Что вы видите в
стихах графа фон Платена-Галлермюнде?" -- спросил я недавно одного такого
критика. "Одно седалище", -- ответил он. "Вы этим имеете в виду форму,
высиженную с таким мучительным трудом?" -- переспросил я его. "Нет,--
возразил он,-- я этим имею в виду также и содержание".
Что до содержания платеновских стихов, я, конечно, не стану хвалить за
него бедного графа, но и не желаю лишний раз навлекать на него ту цензорскую
ярость, с которой говорят или даже молчат о нем наши Катоны. Chacun a son
gout1, -- одному нравится бык, другому -- корова Васишты. Я
отношусь даже с неодобрением к той страшной радамантовской суровости, с
которой осуждается содержание платеновских стихов в берлинском
________________________
1 У каждого свой вкус (фр.).
293
"Научно-критическом ежегоднике". Но таковы уж люди: они очень легко
возбуждаются, когда речь заходит о грехах, которые им самим не доставляют
удовольствия. В "Утреннем листке" я недавно прочитал статью, озаглавленную
"Из дневника читателя", в которой граф Платен дает отповедь строгим
порицателям его "дружеской любви", со скромностью, которой ему никогда не
удастся скрыть и по которой его легко можно узнать. Говоря, что "Гегелевский
еженедельник" обвиняет его со "смешным пафосом" в тайном пороке, он, как
легко угадать, хочет этим предупредить попреки других, чей образ мыслей ему
уже известен из третьих рук. Однако он плохо осведомлен: в этом случае я не
дам повода упрекнуть себя в пафосе; благородный граф, в моих глазах, явление
скорее забавное, и в его сиятельном любовничестве я вижу только нечто
несовременное, робко-стыдливую пародию на античное дерзание. В том-то и
дело, что такого рода любовь не противоречила добрым нравам древности и
выступала с героической откровенностью. Когда, например, император Нерон
устроил на кораблях, изукрашенных золотом и слоновой костью, пир, стоивший
несколько миллионов, он велел торжественно обвенчать с собою одного отрока
из своего мужского гарема, Пифагора ("Cuncta denique spectata quae etiam in
femina nox operit"1), а затем венчальным факелом своим поджег
город Рим, чтобы при треске пламени воспеть подобающим образом падение Трои.
Об этом сочинителе газелл я мог бы еще говорить с некоторым пафосом, но
смешон мне наш новый пифагореец, убогий и трезвый, опасливо крадущийся в
нынешнем Риме по тропинке дружбы; черствое сердце молодежи отвергает его,
светлоликого, и он отправляется вздыхать при скудном свете лампочки над
своими мелкими газеллами. Интересно в этом отношении сравнить платеновские
стишки с Петронием. У последнего все резко, пластически определенно,
антично, язычески откровенно; наоборот, граф Платен, хотя он и претендует на
классичность, относится к своему предмету скорее как романтик, --
прикровенно, томно, по-поповски и, я бы добавил, по-ханжески. Дело в том,
что граф нередко маскируется
__________________________________________
1 "Напоказ было все то, что даже у женщин ночь прикрывает" (лат.).
294
чувствами чистыми, избегая более точных обозначений пола; одним лишь
посвященным можно понять его, от толпы же он полагает возможным укрыться,
если иной раз опустит слово "друг", уподобляясь при этом страусу, который
считает себя в достаточной мере спрятавшимся, если зароет голову в песок,
так что виден только зад. Наша сиятельная птица поступила бы лучше, если бы
уткнула зад в песок, а нам показала бы голову. В самом деле, он мужчина не
столько с лица, сколько с заду; слово "мужчина" вообще не подходит к нему;
любовь его отличается пассивно-пифагорейским характером, в стихах своих он
пассивен; он -- женщина, и притом женщина, которая забавляется всем женским,
он, так сказать, мужская трибада. Эта его робко-вкрадчивая природа сквозит
во всех его любовных стихах; он всегда находит себе нового прекрасного
друга, повсюду в этих стихах мы встречаемся с полиандрией. Пусть он
пускается в сентиментальности:
Ты любишь молча. Если бы в молчанье Твоей я любовался красотою!
О, если б я не говорил с тобою,
Не знал бы я жестокого страданья!
Но нет, любовь -- одно мое желанье,
Я не стремлюсь к забвенью и покою! Любовь роднит нас с дивною страною,
Где ангелы сплетаются в лобзанье...
При чтении этих стихов нам приходят в голову те самые ангелы, которые
явились к Лоту, сыну Арана, и которым с большим трудом удалось уклониться от
нежнейших лобзаний; к сожалению, в Пятикнижии не приводятся те газеллы и
сонеты, которые сочинены были при этом случае у дверей Лота. Повсюду в
стихах Платена все та же птица -- страус, прячущая одну лишь голову, та же
тщеславная, бессильная птица; у нее самые красивые перья, но летать она не
может и сердито ковыляет по песчаной пустыне литературной полемики. С
красивыми перьями, но неспособный взлететь, с красивыми стихами, но без
поэтической силы, он составляет полную противоположность орлу поэзии, с
менее блестящим оперением, но парящему под самым солнцем... Я опять
возвращаюсь к припеву: граф Платен не поэт.
От поэта требуются две вещи: в лирических его стихотворениях должна
звучать природа, в эпических или
295
драматических должны быть живые образы. Если он не в состоянии
удовлетворить таким требованиям, то он теряет право на звание поэта, хотя бы
его прочие фамильные документы и дворянские грамоты были в полнейшем
порядке. Что эти последние документы у графа Платена в порядке, я не
сомневаюсь; я уверен, что он ответил бы только милой сострадательной
улыбкой, если бы заподозрили подлинность его графства; но чуть только вы
осмелитесь выразить в одной-единой эпиграмме малейшее сомнение в подлинности
его поэтического звания -- он тотчас же злобно засядет за стол и напишет на
вас пятиактную сатиру. Ведь люди тем настойчивее держатся за свое звание,
чем сомнительнее и двусмысленнее основания, по которым они на него
притязают. Быть может, впрочем, граф Платен и был бы настоящим поэтом, если
бы жил в другое время и представлял бы собою вдобавок не то, что он есть
теперь. Если природа не звучит в стихах графа, то происходит это, может
быть, оттого, что он живет в эпоху, когда не смеет назвать по имени свои
истинные чувства, когда те самые "добрые нравы", которые всегда враждебны
его любви, мешают ему даже открыто жаловаться на это обстоятельство, когда
он принужден скрывать все свои ощущения из страха оскорбить хотя бы единым
слогом слух публики, как и слух "сурового красавца". Этот страх заглушает в
нем голос природы, принуждает его перерабатывать в стихи чувства других
поэтов, как своего рода безукоризненный и традиционный материал, и
маскировать таким путем по мере необходимости свои собственные чувства.
Несправедливо, быть может, ставить ему в упрек, не считаясь с его несчастным
положением, то обстоятельство, что граф Платен и в области поэзии желает
быть только графом и держится за свое дворянство, а потому воспевает только
чувства, принадлежащие к известной фамилии, чувства, насчитывающие по
шестьдесят четыре предка в прошлом. Если бы он жил в эпоху римского
Пифагора, он, может быть, более свободно выражал бы свои собственные чувства
и, может быть, признан был бы поэтом. По крайней мере, в его лирических
стихах слышны были бы звуки природы, но драмы его по-прежнему страдали бы
недостатком образов, пока не изменилась бы и его чувственная природа и он не
стал бы другим. Образы, о которых я говорю, это те само-
296
довлеющие создания, которые возникают из творческого духа поэта, как
Афина-Паллада из головы Кронида, вполне законченные, во всех своих доспехах,
живые порождения мечты, тайна возникновения которых находится в более
тесной, чем принято думать, связи с чувственной природой поэта, так что
этого рода духовное зачатие непостижимо для того, кто сам, как бесплотное
существо, растекается дрябло и поверхностно в газеллах.
Но все это -- личные суждения поэта, и вески они постольку, поскольку
признается компетентным сам судья. Я не могу не упомянуть, что граф Платен
очень часто уверяет публику, что только впоследствии он напишет самое
значительное, о чем сейчас никто и представления иметь не может, что свои
"Илиады" и "Одиссеи", классические трагедии и прочие бессмертно-великие
творения он напишет только после основательной многолетней подготовки. Может
быть, и сам ты, любезный читатель, читал эти излияния осознавшего себя духа
в форме стихов, вылощенных с тяжкими усилиями; может быть, перспектива столь
прекрасного будущего тем более показалась тебе радостной, что граф попутно
изобразил всех немецких писателей, кроме совсем уж старого Гете, как скопище
скверных бумагомарак, лишь преграждающих ему путь к славе и столь
бесстыдных, что они срывают лавры и гонорары, предназначенные лишь ему
одному.
Я умолчу о том, что слышал на эту тему в Мюнхене, но в интересах
хронологии должен отметить, что в то время баварский король выразил
намерение назначить годовой оклад какому-нибудь поэту, не связывая этого
оклада с должностью, каковой необычайный почин должен был повести к самым
лучшим для немецкой литературы последствиям. И мне говорили...
Но я не хочу все-таки отступать от темы; я говорил о хвастовстве графа
Платена, который непрестанно кричал: "Я поэт, поэт из поэтов! Я напишу
"Илиады" и "Одиссеи", и т. д.". Не знаю, как относится к такому хвастовству
публика, но совершенно точно знаю, что думает об этом поэт,-- конечно, поэт
истинный, познавший уже стыдливую сладость и тайный трепет поэзии; такой
поэт, подобно счастливому пажу, пользующемуся тайной благосклонностью
принцессы, не станет, разумеется, хвастать блаженством своим на площади.
297
Над графом Платеном не раз уже вдоволь трунили за такое бахвальство, но
он, как Фальстаф, всегда умел найти себе оправдание. В этих случаях он
обнаруживает талант, совершенно исключительный в своем роде и заслуживающий
особого признания. Граф Платен обладает тою именно способностью, что всегда
находит у какого-либо великого человека следы, хотя бы и ничтожные, того
порока, который живет и в его груди, и, основываясь на такого рода
порочно-избирательном сродстве, сравнивает себя с ним. Так, например, о
сонетах Шекспира ему известно, что они обращены к молодому человеку, а не к
женщине, и он превозносит Шекспира за его разумный выбор и сравнивает себя с
ним -- и это все, что он имеет сказать о Шекспире. Можно было бы написать
апологию графа Платена с отрицательной точки зрения, утверждая, что ему
нельзя еще поставить в вину то или иное заблуждение, так как он еще не успел
сравнить себя с тем или другим великим человеком, которому это заблуждение
ставят в упрек. Но всего гениальнее и изумительнее он проявил себя в выборе
человека, в жизни которого ему удалось открыть нескромные речи и чьим
примером он пытается приукрасить свое хвастовство. И, право же, слова этого
человека никогда еще не приводились с такой целью. Это не кто другой, как
сам Иисус Христос, служивший нам до сего времени образцом смирения и
скромности. Неужели Христос когда-нибудь хвастался? Этот скромнейший из
людей, скромный тем более, что он же и самый божественный? Да, то, что до
сих пор ускользало от внимания всех богословов, открыл граф Платен. Ведь он
инсинуирует: Христос, стоя перед Пилатом, тоже не проявлял скромности и
отвечал нескромно. Когда Пилат спросил его: "Ты царь Иудейский?", он
ответил: "Ты сказал". Точно так же утверждает и он, граф Платен: "Да, я
таков, я поэт!" То, что оказалось не под силу ненависти какого-либо хулителя
Христа, то удалось толкованию самовлюбленного тщеславия.
Мы знаем теперь, как относиться к человеку, который беспрестанно кричит
о себе: "Я поэт!" Знаем также и то, как будет обстоять дело с теми
совершенно необычайными творениями, которые намерен создать граф, когда
достигнет надлежащей зрелости, и которые должны неслыханным образом
превзойти по своему значению все его предыдущие шедевры. Мы знаем очень
хорошо, что
298
позднейшие произведения истинного поэта отнюдь не значительнее ранних;
неверно, что женщина чем чаще рожает, тем будто бы лучших производит детей;
нет, первый ребенок не хуже второго, только роды потом бывают легче. Львица
не рождает сначала кролика, потом зайчика, потом собачку и под конец --
львенка. Госпожа Гете сразу же разрешилась юным львом, а он, в свою очередь,
тоже сразу своим львенком -- "Берлихингеном". Точно так же и Шиллер сразу
разрешился своими "Разбойниками", по лапе которых уже видать львиную их
породу. Впоследствии уже появились лоск, гладкость, шлифовка, "Побочная
дочь" и "Мессинская невеста". Не так обстоит дело с графом Платеном,
начавшим с робкого сочинительства; поэт говорит о нем:
Из ничего готовый ты возник; Прилизан, лакирован гладкий лик, Игрушка
ты из пробки вырезная.
Но если признаться в сокровеннейших моих мыслях, то должен сказать, что
я не считаю графа Платена таким дураком, каким он может показаться, судя по
этому хвастовству и постоянному самовосхвалению. Немножко глупости, понятно,
требуется для поэзии, но было бы ужасно, если бы природа обременила огромной
порцией глупости, достаточной для сотни великих поэтов,
одно-го-единственного человека, а поэзии отпустила ему самую ничтожную дозу.
Я имею основание подозревать, что господин граф сам не верит своему
хвастовству, и, будучи бедняком как в жизни, так и в литературе, он, ради
заботы насущной, принужден и в литературе и в жизни быть своим собственным,
самого себя восхваляющим руффиано1. Вот почему и тут и там мы
наблюдаем явления, о которых можно сказать, что они представляют не столько
эстетический, сколько психологический интерес; вот откуда и эта слезливейшая
душевная вялость, и вместе напускное высокомерие; отсюда жалкое нытье о
близкой смерти и самонадеянные выкрики о бессмертии; отсюда спесивый пыл и
томная покорность ; отсюда постоянные жалобы на то, что "Котта морит его
голодом", и опять жалобы, что "Котта морит его голодом", и припадки
католицизма и т. д.
_________________
1 Сводником (ит.).
299
Я сомневаюсь, чтобы граф принимал всерьез свой католицизм. Стал ли он
вообще католиком, подобно некоторым своим высокородным друзьям, я не знаю. О
том, что он собирается стать таковым, я впервые узнал из газет, которые даже
добавили, что граф Платен принимает монашество и поступает в монастырь. Злые
языки замечали, что обет бедности и воздержания от женщин дается графу
легко. Само собою разумеется, при таких известиях в сердцах его друзей в
Мюнхене зазвонили все колокольчики благочестия. В поповских листках начали
превозносить его стихи под звуки "Кирие элейсон" и "Аллилуйя"; да и в самом
деле, как не радоваться было святым мужам безбрачия по поводу стихов,
способствовавших воздержанию от женского пола? К сожалению, мои стихи
отличаются другим направлением, и то обстоятельство, что попы и певцы
отроческой красоты не восхищаются ими, может, правда, меня огорчить, но
отнюдь не удивляет. Столь же мало удивился я и тогда, когда за день до
отъезда в Италию услышал от моего друга, доктора Кольба, что граф Платен
очень враждебно настроен против меня и готовит мне погибель в комедии под
названием "Царь Эдип", которая представлена уже в Аугсбурге некоторым
князьям и графам, чьи имена я забыл или хочу забыть. И другие рассказывали
мне, что граф Платен ненавидит меня и выступает в качестве моего врага. Во
всяком случае, мне это приятнее, чем если бы мне сообщили, что граф Платен
любит меня, как друга, без моего ведома. Что касается святых мужей, чья
благочестивая ярость обратилась в то же время на меня не столько за мои
стихи, противные целибату, сколько за "Политические анналы", редактором
которых я тогда был, то я точно так же мог бы быть только в выигрыше, раз
выяснилось, что я не заодно с этими мужами. Если я намекаю, что о них не
говорят ничего хорошего, то я еще отнюдь не говорю о них ничего дурного. Я
уверен даже, что они исключительно из любви к добру пытаются обезвредить
речи злых людей путем благочестивого обмана и богоугодной клеветы и что
исключительно ради этой благородной цели, освящающей всякие средства, они
пробуют заградить для таких людей не только духовные, но и материальные
источники жизни. Этих добрых людей, выступающих даже в Мюнхене открыто в
качестве конгрегации, удостаивают, по глупости,
300
имени иезуитов. Право, они не иезуиты, ведь иначе они бы сообразили,
что я, например, один из злых, в худшем случае все же посвящен в искусство
литературной алхимии -- чеканить дукаты даже из моих врагов и, таким
образом, сам получаю дукаты, а враги мои -- удары; они сообразили бы, что
удары эти отнюдь не станут легче, если они будут поносить имя человека,
наносящего их,-- ведь и приговоренный к наказанию чувствует же на себе удары
плети, хотя палач, исполняющий приговор, считается бесчестным, а самое
главное, они сообразили бы, что некоторое мое пристрастие к
антиаристократическому Фоссу и несколько невинных шуток насчет богоматери,
за которые они с самого начала забрасывали меня дерьмом и глупостями,
проистекают не из антикатолического рвения. Право, они не иезуиты, они
рождены от помеси дерьма и глупости, которую я столь же мало способен
ненавидеть, как бочку с навозом и вола, тащащего ее; все их усилия могут
достичь только обратной цели и довести меня до того, что я покажу, в какой
степени я протестант; я воспользуюсь моим правом доброго протестанта в его
самом широком понимании и с увлечением возьму в руки добрую протестантскую
боевую секиру. Пусть они тогда, чтобы расположить к себе чернь, продолжают
при посредстве своего лейб-поэта пускать в ход бабьи россказни о моем
неверии -- по хорошо знакомым ударам они признают во мне единоверца Лютера,
Лессинга и Фосса. Правда, я не мог бы так серьезно, как эти герои, потрясать
старой секирой -- при виде врагов мне бы легко было рассмеяться, я ведь
немножко Ойленшпигель по природе, я люблю примешивать к делу и шутку, но я
оглушил бы этих дерьмовозов не менее чувствительным образом, если бы даже и
украсил перед тем свою секиру цветами смеха.
Я не хочу, однако, слишком далеко отступать от моей темы. Кажется, это
было в то самое время, когда баварский король, руководствуясь упомянутыми
выше целями, назначил графу Платену содержание в шестьсот гульденов в год, и
притом не из государственной казны, а из личных своих средств, чего именно,
как особой милости, и хотелось графу. Последнее обстоятельство,
характеризующее эту касту, каким бы оно ни казалось незначительным, я
отмечаю лишь в качестве материала для естествоиспытателя, который пожелал бы
заняться
301
наблюдениями над дворянством. В науке ведь все важно. А того, кто
упрекнет меня в излишнем внимании к графу Платену, я отсылаю в Париж --
пусть он посмотрит, как тщательно описывает в своих лекциях изысканный и
изящный Кювье самое гадкое насекомое, во всех его подробностях. Поэтому мне
жаль даже, что я не могу привести даты, когда были назначены эти шестьсот
гульденов; знаю, во всяком случае, что граф Платен раньше написал своего
"Царя Эдипа" и что этот последний не кусался бы так, если бы у автора было
чем закусить.
В Северной Германии, куда меня вызвали, когда внезапно умер мой отец, я
получил наконец чудовищное создание, которое вылупилось в конце концов из
огромного яйца; долго высиживал его наш блестяще оперенный страус, и ночные
совы из конгрегации, набожно закаркав, и аристократические павлины, пышно
распушив свои хвосты, приветствовали его еще задолго до его появления на
свет. Должен был появиться по меньшей мере погибельный василиск. Знаешь ли
ты, любезный читатель, сказание о василиске? Народ рассказывает: если
птица-самец снесет, как самка, яйцо, то на свет является ядовитое существо,
отравляющее своим дыханием воздух, и убить его можно, только поставив перед
ним зеркало: испугавшись собственной мерзости, василиск умирает от страха.
Я не хотел в то время осквернять свою священную скорбь и лишь через два
месяца, приехав на остров Гельголанд, на морские купанья, прочитал "Царя
Эдипа". Постоянное созерцание моря, во всем его величии и дерзновении,
настроило меня на возвышенный лад, и тем более ясны мне стали мелочность и
крохоборство высокородного автора. Этот шедевр обрисовал его наконец в моих
глазах таким, каков он есть, во всей его цветущей дряблости, с его бьющим
через край скудоумием, с самомнением без воображения,-- таким, каков он
есть, с его постоянным насилием над собою при отсутствии силы, с постоянной
пикировкой без всякой пикантности: сухая водянистая душа, унылый любитель
веселья! И этот трубадур уныния, дряхлый телом и душой, вздумал подражать
самому могучему, неисчерпаемо изобретательному, остроумнейшему поэту
цветущей эллинской эпохи! Право, нет ничего противнее этой судорожной
беспомощности, пытающейся раздуться в дерзание, этих
302
вымученных пасквилей, которые покрылись плесенью застарелой злобы,
этого робкого верифицирующего подражания творческому упоению! Само собой
разумеется, в произведениях графа Платена нет и следа той глубокой
миросокрушительной идеи, которая лежит в основании всех аристофановских
комедий и, подобно волшебному фантастически-ироническому дереву, с гнездами
распевающих соловьев и резвящимися обезьянами, распускается в них цветами
мыслей. Такой идеи, с ликованием смерти и сопутствующим ему разрушительным
фейерверком, мы, конечно, не могли ожидать от бедного графа. Средоточие его
так называемой комедии, первая и конечная ее идея, ее цель и основа
заключается, как и в "Роковой вилке", в ничтожных литературных дрязгах;
бедный граф оказался в состоянии копировать Аристофана только в частностях
внешнего порядка, а именно -- только в тонкости стихов и в грубости слов. Я
говорю о "грубости слов" потому только, что не желаю выразиться грубее. Он,
как сварливая баба, выливает целые цветочные горшки ругани на головы
немецких поэтов. Я готов от всего сердца простить графу его злобу, но все же
ему следовало бы соблюсти некоторые приличия. Он по меньшей мере должен был
бы уважать наш пол; мы ведь не женщины, а мужчины и, стало быть, принадлежим
в его глазах к прекрасному полу, который он так сильно любит. А это
свидетельствует о недостатке деликатности; ведь какой-нибудь отрок может
усомниться на этом основании в искренности его поклонения, ибо каждый
понимает, что истинно любящий человек чтит заодно и весь пол. Певец
Фрауэнлоб никогда, конечно, не был груб по отношению к какой бы то ни было
женщине, а потому и Платенам следовало бы питать побольше уважения к
мужчинам. Между тем -- какая неделикатность ! Он, не стесняясь, сообщает
публике, что мы, северогерманские поэты, больны "чесоткой", против которой
"мазь нужна такая, что задохнется всякий в срок короткий". Рифма хороша.
Всего неделикатнее он относится к Иммерману. Уже в самом начале пьесы он
заставляет его проделывать за ширмою вещи, которые я не осмеливаюсь назвать
их именем и которые, однако, неопровержимы. Я считаю даже весьма вероятным,
что Иммерман делал такие вещи. Но характерно, что фантазия графа Платена
способна следить даже за врагами
303
a posterioril. Он не пощадил даже и Гоувальда, эту добрую
душу, этого человека, кроткого, как девушка. Ах, может быть, именно за эту
милую женственность и ненавидит его Платен. Мюлльнера, которого он, как
выражается, давно уже "сразил своею шуткой смертоносной", этого покойника он
опять тревожит в могиле. Он не оставляет в покое ни старого, ни малого.
Раупах -- жид.
Жидочек Раупель,
Поднявший нос высоко, ныне Раупах,--
"трагедии кропает на похмелье". Еще хуже приходится "выкресту Гейне".
Да, да, ты не ошибся, любезный читатель, именно меня он имеет в виду! В
"Царе Эдипе" ты можешь прочитать, что я настоящий жид, что я, пописав
несколько часов любовные стихи, присаживаюсь затем и обрезаю дукаты, что по
субботам я сижу с бородатыми Мойшами и распеваю из Талмуда, что в пасхальную
ночь я убиваю несовершеннолетнего христианина, выбирая для этой цели из
злопыхательства непременно какого-нибудь незадачливого писателя. Нет,
любезный читатель, я не хочу лгать тебе, таких прекрасных, живописных картин
нет в "Царе Эдипе"; это именно обстоятельство я и ставлю в упрек автору.
Граф Платен, располагая порой прекрасными мотивами, не умеет ими
воспользоваться. Если бы у него было хоть чуточку больше фантазии, он
представил бы меня по меньшей мере тайным ростовщиком. Сколько можно было бы
написать комических сцен! Я испытываю душевную боль при виде того, как
бедный граф упускает один за другим случаи поострословить! Как великолепно
он мог бы пустить в ход Раупаха в качестве Ротшильда от трагедии, у которого
делают займы королевские театры! Самого Эдипа, главное лицо комедии, он мог
бы точно так же, путем некоторых изменений в фабуле пьесы, использовать
лучше. Вместо того чтобы Эдипу убивать отца Лая и жениться на матери
Иокасте, следовало бы придумать наоборот. Эдип должен бы убить мать и
жениться на отце. Элемент резко драматический получил бы мастерское
выражение в такой пьесе под пером Платена, его собственные чувства нашли бы
тем самым отражение, и ему пришлось бы только, как соловью, излить в песне
_________________________________________
1 Сзади, позднее (букв.: от позднейшего) (лат.).
304
свое сердце; он сочинил бы такую пьесу, что, будь еще жив газеллический
Иффланд, она, несомненно, сейчас же была бы разучена в Берлине, ее и теперь
бы еще ставили на частных сценах. Не могу вообразить себе никого
совершеннее, чем актер Вурм в роли такого Эдипа. Он превзошел бы самого
себя. Затем я нахожу неполитичным со стороны графа, что он уверяет в
комедии, будто обладает "действительным остроумием". Или он, может быть,
бьет на неожиданный эффект, на театральный трюк, когда публика ждет
обещанного остроумия и в конце концов так и остается с носом? Или он хочет
подстрекнуть публику, чтобы она искала в пьесе действительного тайного
остроумия, и все в целом есть не что иное, как игра в жмурки, где
платеновское остроумие так хитро увертывается, что остается неуловимым?
Может быть, поэтому-то публика, которую комедии обычно смешат, так
раздражается при чтении платеновской пьесы; она никак не может найти
спрятавшееся остроумие; напрасно остроумие, спрятавшись, пищит, пищит все
громче: "Я здесь! Я, право, здесь!" Напрасно! Публика глупа и строит
серьезнейшую физиономию. Но я-то, знающий, где спрятано остроумие, от души
посмеялся, когда прочитал о "сиятельном, властолюбивом поэте", который
украшает себя аристократическим нимбом, хвастается тем, что "всякий звук",
слетевший с его уст, "сокрушает", и обращается ко всем немецким поэтам со
словами:
Я, как Нерон, хочу, чтоб мозг ваш был един,-- Единым острым словом
раздробить его
Стихи неважны. Остроумие же вот в чем: граф, собственно, хочет, чтобы
мы все сплошь были Неронами, а он, наоборот, нашим единственным другом,
Пифагором.
Пожалуй, я мог бы в интересах графа разыскать в его произведениях еще
не одну укромную остроту, но так как он в своем "Царе Эдипе" затронул самое
для меня дорогое -- ибо что же может быть для меня более дорого, чем мое
христианство ? --то пусть не ставит мне в упрек, что я, по слабости
человеческой, считаю "Эдипа", этот "великий подвиг словесный", менее
серьезным его подвигом, чем предыдущие.
305
Тем не менее истинная заслуга всегда вознаграждается, и автор "Эдипа"
тоже дождется награды, хотя в данном случае он, как и всегда, поддался лишь
влиянию своих аристократических и духовных поборников. Существует же среди
народов Востока и Запада древнее поверье, что всякое доброе и злое дело
влечет за собой непосредственные последствия для сотворившего его. И будет
день, когда появятся они -- приготовься, любезный читатель, к тому, что я
впаду сейчас в некоторый пафос и стану страшен, -- будет день, когда
появятся из Тартара они, ужасные дщери тьмы, Эвмениды. Клянусь Стиксом, -- а
этою рекою мы, боги, никогда не клянемся зря, -- будет день, когда появятся
они, мрачные, извечно праведные сестры! Они появятся с лицами, багровыми от
гнева, обрамленными кудрями-змеями, и с теми самыми змеиными бичами в руках,
которыми они бичевали некогда Ореста, противоестественного грешника,
убившего свою мать Тиндариду Клитемнестру. Может быть, и сейчас уже до слуха
графа доносится змеиное шипение,-- прошу тебя, любезный читатель, вспомни
Волчью долину и музыку Самиэля. Может быть, уже и сейчас тайный трепет
охватывает душу грешника-графа, небо хмурится, каркают ночные птицы, гром
гремит издалека, сверкают молнии, пахнет канифолью. Горе! Горе! Сиятельные
предки встают из могил; трижды и четырежды вопиют они к жалкому потомку:
"Горе! Горе!" Они заклинают его надеть их старинные железные штаны, чтобы
защититься от ужасных розог -- ибо Эвмениды истерзают его этими розгами, их
змеиные иронические бичи потешатся вдоволь, и вот, подобно распутному королю
Родриго, заключенному в змеиную башню, бедный граф в конце концов застонет и
завизжит:
Ах! Сожрут они те части.
Что в грехах моих повинны.
Не ужасайся, любезный читатель, все это ведь только шутка. Эти страшные
Эвмениды -- не что иное, как веселая комедия, которую я под таким названием
сочиню через несколько пятилетий, а трагические стихи, только что тебя
напугавшие, приведены мною из самой веселой на земле книги -- из "Дон-Кихота
Ламанчского", где некая старая благопристойная придворная дама декламирует
306
их в присутствии всего двора. Вижу, ты опять улыбаешься. Простимся же с
веселой улыбкой. Если эта последняя глава оказалась скучноватой, то причиной
тому ее тема, да и писал я больше для пользы, чем для забавы: если мне
удалось пустить в литературный оборот одного нового дурака, отечество будет
мне благодарно. Я возделал ниву, и пускай другие, более остроумные писатели
засеют ее и соберут жатву. В скромном сознании этой заслуги -- лучшая моя
награда.
А к сведению тех королей, которые пожелали бы прислать мне еще и
табакерку, сообщаю, что книгоиздательство "Гофман и Кампе" в Гамбурге
уполномочено принимать таковые для передачи мне.
Писано поздней осенью 1829 г
Третья часть "Путевых картин" была опубликована книгой в 1829 году,
отдельные фрагменты ее Гейне до этого помещал в журналах.
В этой части отражены пребывание поэта в Мюнхене с конца 1827 до
середины 1828 года и последующее путешествие в Италию, продолжавшееся до
ноября 1828 года. Здесь снова трактуются вопросы не только немецкой
внутриполитической, культурной, литературной жизни, но и более широкие
проблемы европейской действительности.
В Мюнхен Гейне привела практическая надежда получить профессорское
место в тамошнем университете. Над баварской столицей с 1825 года, когда на
престол взошел король Людвиг I, витал дух культурного обновления: соперничая
с Берлином, Людвиг намеревался превратить Мюнхен в культурную столицу, во
"вторые Афины", не жалея средств, стягивал сюда культурные силы, затеял
строительство многочисленных помпезных зданий, организовал музеи. Однако
весь этот болезненный культурполитический энтузиазм питался реакционными
феодально-католическими настроениями с уклоном в мистику и национализм: в
Мюнхене главным пророком был президент баварской Академии наук Шеллинг, чья
натурфилософия в молодости выражала смелые искания романтизма, но с годами
все более устремлялась к религиозному мистицизму; похожую, но еще более
резкую эволюцию проделали числившиеся в местном университете экс-романтики
философ Баадер и историк Геррес, чья реакционность уже тогда становилась
притчей во языцех. Их усилия не без успеха поддерживал теолог-мракобес
Деллингер, впоследствии снискавший печальную известность основателя и вождя
старокатолического движения; Деллингер возглавил нападки на мюнхенский
журнал "Политические анналы", когда Гейне стал его редактором в 1828 году. В
Мюнхене подвизался и националист-тевтономан Массман, которого Гейне
впоследствии не раз атаковал своей сатирой. Понятно, что в таком окружении
Гейне в Мюнхене никак не мог прижиться.
Славой первого поэта "баварских Афин" пользовался тогда граф Август фон
Платен-Галлермюнде (1796--1835), писатель небесталанный, но безнадежно
погрязший в затхлой мистической атмосфере Мюнхена той поры. Платен умело
подыгрывал новоантичным притязаниям баварского короля, писал в манере
"древних", культивируя в своей поэзии изощренный аристократизм формы,
подчеркнутую академичность, брезгливо сторонился "злобы дня" и при этом
постоянно негодовал на "чернь", на широкую публику, которая к его стихам
равнодушна. Понятно, что всякий упрек в свой адрес он воспринимал с
величайшим возмущением: страдая в глубине души комплексом литературной
неполноценности, он по малейшему поводу, а то и вовсе без повода рвался в
литературную полемику и, естественно, не мог простить Карлу Иммерману и его
другу Гейне эпиграмм, опубликованных в "Северном море", и грубо напал на них
в своей комедии "Романтический Эдип".
В "Луккских водах" Гейне ответил Платену. В полемике с Платеном поэт
отнюдь не беспощаден, напротив, он очевидно своего противника щадит
(истинную силу Гейне-полемиста Платен скорее мог почувствовать в третьей
главе "Путешествия от Мюнхена до Генуи"), ясно давая понять, что
руководствуется отнюдь не личными мотивами. Платен для Гейне -- явление
общественного порядка, печальное порождение пресловутых немецких
обстоятельств, результат многовековой отторгнутости искусства от
общественной жизни. И хотя Платен с его замашками жреца от поэзии, с его
аристократической спесью, с его противоестественными эротическими
наклонностями чрезвычайно Гейне неприятен, эта личная антипатия по мере
возможности из полемики устранена. Гейне выводит спор на более серьезный
уровень размышления об искусстве и условиях, в которых возникает искусство и
формируются его задачи.
Итальянские главы "Путевых картин" с особой силой дают почувствовать, в
какой мере Гейне уже в те годы был писателем политическим. Надо помнить о
традициях "итальянской темы" в немецкой литературе, о многочисленных
описаниях Италии как страны-музея (от Винкельмана до Гете и романтиков),
чтобы оценить смелость, с какой Гейне эту традиционную картину Италии
отодвинул на второй план. Для Гейне живые люди, условия, в которых они
живут, важнее памятников старины. Он видит прежде всего итальянский народ,
страдающий от засилия чужеземных захватчиков, но не порабощенный духовно и
не сломленный морально. В Италии тогда росло народное негодование, в начале
20-х годов поднялись восстания в Неаполе и Сицилии, жестоко подавленные
силами Священного союза, оккупировавшего большую часть страны австрийскими
войсками. Иносказанием, намеком, деталью Гейне умеет показать, сколько
революционной энергии таится в простом народе Италии, и с сожалением
противопоставляет итальянцев своим законопослушным соотечественникам, столь
неприязненно выведенным в "Луккских водах".
Стр. 234. Эпиграфы: "Как мужу я жена..." -- П л атен. Газеллы (1821);
"Угодно графу..." -- текст оперы Моцарта "Женитьба Фигаро" (I).
Стр. 235. Нью-Бедлам, Сент-Люк -- лондонские дома для душевнобольных.
Стр. 237. ...я все время катил большой камень.--Намек на миф о Сизифе,
приговоренном богами к вечной муке безрезультатного труда (гре ч. миф.).
Кристофоро ди Гумпелшо. -- Под этим именем выведен гамбургский банкир
Христиан Гумпель, враг Соломона Гейне, дяди поэта. Образ этот, несмотря на
его историческую аутентичность, перерастает в сатирическое обобщение большой
силы: Гейне издевается над всеми нуворишами.
Аргус -- стоглазое чудовище, стерегло возлюбленную Зевса, превращенную
в корову (греч. миф.).
Стр. 239. Кйн Эдмунд (1787--1833) -- знаменитый английский трагик, одна
из лучших его ролей -- Ричарда III в трагедии Шекспира. "Коня! Коня! Все
царство за коня!" -- Шекспир. Ричард III (V, 4).
"Когда я на коне, то поклянусь..." -- Шекспи р. Генрих IV (I, Н, 3).
Стр. 241. Голъцбехер Юлия (1809 --1839) -- известная в ту пору
берлинская актриса.
Господин Гирш. -- И этот образ имеет прототипом реальное историческое
лицо, гамбургского продавца лотерейных билетов Исаака Рокамору.
Стр. 244. "Под покровом сумерек в молчанье..." -- Начало "Элегии"
сентиментального поэта Фридриха Маттисона (1761 -- 1831), к тому времени
безнадежно устаревшего.
Стр. 246. Нейман Вильгельм (1784--1834) -- прусский чиновник, литератор
по совместительству, в одной из рецензий вскользь неодобрительно отозвался о
Гейне, обвинив его в "разорванности" и слепом подражании байроновской
меланхолии.
Или прав Биши Шелли...-- Шелли Перси Биши (1792--1822) -- великий
английский поэт-романтик. Цитируемые слова относятся не к Байрону, а к Китсу
-- см. элегию "Адонис" на смерть этого поэта.
Стр. 247. Ярке Карл Эрнст (1801-1852) - юрист в Бонне, крайний
реакционер, в свое время однокашник Гейне в Боннском университете.
"Аксур" -- опера Сальери на либретто Бомарше.
Стр. 248. "Гофман и Кампе" -- гамбургское издательство, в котором Гейне
печатал почти все свои произведения.
Стр. 249. Меццофанти Джузеппе (1774--1848) -- болонский полиглот,
владевший пятьюдесятью восемью языками.
Сервитут -- право ограниченной собственности. Патито (и т.) --
любовник.
Стр. 250. Гуго.-- См. коммент. к с. 17.
Тибо Антон Фридрих Юстус (1774--1840) -- юрист, профессор в
Гейдельберге.
Стр. 251. Ганс и Савинъи -- юристы двух враждующих школ. О Гансе см.
коммент. к с. 61, он был представителем гегельянского направления. Савиньи
Фридрих Карл (1779--1861) -- прусский юрист, глава так называемой
"исторической школы", охранявшей феодально-монархические интересы. Гейне,
естественно, берет сторону гегельянцев.
...синьор Ганс пригласил... эту даму танцевать... -- Намек на попытку
примирения между Гансом и Савиньи, предпринятую в 1828 г.
Лемьер, Оге. -- См. коммент. к с. 55 и 56.
Гешен.-- См. коммент. к с. 61. В 1817 г. посетил Верону с научными
целями.
Стр. 252. "Di tanti palpiti" -- ария из оперы Россини "Танкред" (акт
I).
Стр. 254. "Примадонна меня полюбила..." -- ария из оперы Сальери
"Аксур" (акт III).
Стр. 258. Бетман Симон Мориц (1768--1826) -- франкфуртский банкир,
коллекционер произведений искусств, выставил приобретенную им скульптуру
Даннеккера "Ариадна на Наксосе" в красноватом освещении для придания ей
"полного жизнеподобия".
Ротшильд Ансельм (1773--1855) -- глава франкфуртского банка Ротшильдов.
Стр 263 Ротшильд Натан (1777--1836) -- глава лондонского банка
Ротшильдов, Гейне сравнивает его с Натаном Мудрым, героем драмы Лессинга.
Ротшильд Соломон (1774--1855) -- глава венского банка Ротшильдов
Стр 264 в белом мундире и красных штанах -- См коммент кс 185, кузен
Михель -- прусский король, белый атлас с серебряными лилиями -- одежда
французского монарха династии Бурбонов
Стр 268 чистейшее мозаическое богослужение -- У Гейне Гиацинт путает
"мозаическое" с "моисеевым" (игра слов, возможная в немецком языке) Имеются
в виду реформаторские начинания в Гамбурге, где стремились модернизировать
иудаизм, в частности, вести богослужения на немецком языке
Стр 270 "И небеса очам открыты "-- Шиллер Песнь о колоколе
Крелингер Августа (1795--1865) -- известная берлинская актриса
Стр 271 "Приди о ночь" --пародированная цитата из трагедии Шекспира
"Ромео и Джульетта" (III, 2)
"Уходишь ты?" --Шекспир Ромео и Джульетта (III, 5)
Стр 274 Мюллер Софи (1803-- 1830) -- известная венская актриса
"Мертвящий трепет " "Подожди Тибальдо" -- Шекспир Ромео и Джульетта
(IV, 3)
Стр 275 "О, горе мне посмешищу судьбы" -- Шекспир Ромео и Джульетта
(III, I)
Стр 278 Когда Кандид прибыл в Эльдорадо -- Имеется в виду эпизод из
философской повести Вольтера "Кандид, или Оптимизм" (гл 17) Эльдорадо --
сказочная страна изобилия
Стр 282 "Ты не подпал девическому нраву" -- Цитата из стихотворения
Платена "Сонеты Шекспира"
"Со счастием надежда гибнет вместе" -- Гейне цитирует полный текст
газеллы IV из "Новых газелл" Платена
Стр 283 "Знакома мне в других любви преграда" -- Цитата из сонета
Платена (54) Гейне цитирует Платена по собранию его стихотворений, вышедшему
в 1828 г
Стр 287 Шмальц -- См коммент к с 127
Стр 288 Лаутенбахер Игнац (1799--1833) -- публицист, сотрудник
мюнхенских "Новых политических анналов", поддержал Гейне в полемике с
клерикалами, вспыхнувшей по поводу второй части "Путевых картин"
Стр 289 "Ты слишком юн и светел отрок милый" -- Цитата из сонета
Платена (55)
Генерал Тилли (1559--1632) -- главнокомандующий армией Католической
лиги во время Тридцатилетней воины
"Ты юноша воздержанный и скромный". -- Гейне цитирует здесь сонет
Иммермана против Платена из памфлета "В лабиринте метрики блуждающий
кавалер".
Стр. 290. Грейтгейзен Франц фон (1774--1852) -- профессор в Мюнхене,
астроном, естествоиспытатель.
Дон Плотен де Коллибрадос Галлермюнде. -- Гибрид из имен Платена и
заглавного героя в комедии датского драматурга Людвига Хольберга
(1684--1754) "Дон Ранудо де Коллибрадос", бедного, глупого, но необычайно
спесивого дворянина. На немецкой сцене комедия шла в обработке Коцебу с 1804
г.
"Страницы лирики..." -- Вышли в Лейпциге в 1821 г.
...несколько драматических сказок...--"Пьесы" Платена опубликованы в
1824 г. в Эрлангене.
Мюлльнер. -- См. коммент. к с. 57. Против Мюлльнера направлена комедия
Платена "Роковая вилка" (1826). Эриндур -- герой драмы Мюлльнера "Вина".
Стр. 292. Клаурен. -- См. коммент. к с. 63. В своей комедии
"Романтический Эдип" Платен задевает и Клаурена.
Рамлер Карл Вильгельм (1725--1798) -- поэт-классицист, знаток метрики,
его суховатые, академичные стихи к тому времени были совершенно забыты.
Шлегель Август Вильгельм. -- См. коммент. к с. 81. Здесь Гейне имеет в виду
поэзию Шлегеля, не слишком интересную, а не его работы по поэтике.
Стр. 293. "Арион" -- драматическая поэма А.-В. Шлегеля. Арион ( г р е
ч. миф.) -- поэт и певец.
Катан (234--190 гг. до н. э.) -- известный римский оратор
...Корова Васишты. -- Волшебной коровы бедняка Васишты домогался царь
Висвамитра, так как обладатель коровы становился счастливцем и ему делались
доступными все блага жизни (и н д. миф.).
Я отношусь даже с неодобрением...--Гейне имеет в виду разносную статью
о Платене своего берлинского друга Людвига Роберта.
Стр. 294. Петроний Гай (I в.) -- автор романа "Сатирикон",
изображающего нравственный упадок римского общества.
Стр. 295. Полиандрия -- многомужество.
"Ты любишь молча..." -- Цитата из сонета Платена (44). 1 Стр. 299. "Из
ничего готовый ты возник..." -- Цитата из сонета Иммермана против Платена.
Стр. 300. Кольб Густав (1798--1865) -- публицист и переводчик, издатель
аугсбургской "Всеобщей газеты".
Стр. 301. Фосс Иоганн Генрих (1751 --1826) -- поэт, переводчик Гомера,
Аристофана, Шекспира. Гейне называет его "антиаристократическим", имея в
виду демократическую направленность его творчества.
Стр. 302. Кювье Жорж (1769--1832) -- французский натуралист,
основоположник палеонтологии.
Стр. 303. Певец Фрауэнлоб -- прозвище ("хвалитель женщин") немецкого
средневекового поэта Генриха фон Мейссена (1250--1318).
Стр. 304. Гоувальд. -- См. коммент. к с. 100.
Раупах. -- См. коммент. к с. 100.
Стр. 305. Иффланд Август Вильгельм (1759--1814) -- актер, драматург,
директор театра в Берлине. Пьесы Иффланда и Коцебу -- классические образцы
"мещанской драмы" -- заполняли тогдашний театральный репертуар в Германии.
Гейне явственно намекает на противоестественные отношения между Иффландом и
берлинским актером Вурмом.
Стр. 306. ...Волчью долину и музыку Самиэля. -- Имеется в виду опера
Вебера "Вольный стрелок" (1821). Самиэлъ -- злой дух в этой опере, Волчья
долина -- место действия одной из демонических сцен.
Король Родриго -- последний король вестготов в Испании (VIII в.); по
преданию, обесчестил дочь своего вассала, за что тот привел в Испанию
мавров, которые казнили Родриго жуткой казнью: сбросили в ров к змеям. Этот
сюжет лег в основу многих романсов, трактуется он и в "Дон-Кихоте"
Сервантеса (II, 33).
Перевод В. Зоргенфрея
лучше, чем он, и никто не становится так хорошо вверх ногами. Если музы
и неблагосклонны к нему, то гений языка все же ему под силу, или, вернее, он
умеет его на-
291
силовать, ибо по собственной воле этот гений не отдаст ему своей любви,
и графу упорно приходится бегать также и за этим отроком, и он умеет
схватить только те внешние формы, которые, при всей их красивой
закругленности, не отличаются благородством. Никогда еще ни одному Платену
не удавалось извлечь из своей души или выразить в свете откровения те
глубокие, безыскусственные тона, которые встречаются в народных песнях, у
детей и у других поэтов; мучительное усилие, которое ему приходится
проделывать над собой, чтобы что-нибудь сказать, он именует "великим деянием
в слове"; ему до такой степени чуждо существо поэзии, что он не знает даже,
что только для ритора слово -- подвиг, для истинного же поэта оно -- обычное
дело. Язык у него, в отличие от истинных поэтов, не становится мастерским,
но сам он, наоборот, стал мастером в языке или, скорее, на языке, как
виртуоз -- на инструменте. Чем больших успехов он достигал в технике такого
рода, тем более высокого мнения был он о своем мастерстве; ведь он научился
играть на все лады, он сочинял самые трудные стихотворные пассажи, иной раз
поэтизировал, так сказать, на одной струне и сердился, если публика не
аплодировала. Подобно всем виртуозам, выработавшим в себе такой
односторонний талант, он стал заботиться только об аплодисментах и с досадой
присматривался к славе других, завидовал своим собратьям по поводу их
заработка, как, например, Клаурену, разражался пятиактными пасквилями, чуть
только чувствовал себя задетым какой-либо эпиграммою, следил за всеми
рецензиями, в которых хвалили других, и постоянно кричал: меня мало хвалят,
мало награждают, ведь я поэт, я поэт из поэтов и т. д. Такой ненасытной
жажды похвал и подачек не обнаруживал ни один истинный поэт, ни Клоп-шток,
ни Гете, к которым граф Платен причисляет себя в качестве третьего, хотя
каждый согласится, что он мог бы быть в триумвирате только с Рамлером и,
пожалуй, с А.-В. Шлегелем. Великий Рамлер, как звали его в свое время, когда
он разгуливал по берлинскому Тиргартену, скандируя стихи, -- правда, без
лаврового венка на голове, но зато с тем более длинной косичкой в сетке, с
поднятыми к небу глазами и тугим парусиновым зонтиком под мышкой, -- считал
себя в то время наместником поэзии на земле. Стихи его были совершеннейшими
в немец-
292
кой литературе, и почитатели его, в круг которых по ошибке попал даже
Лессинг, были убеждены, что дальше в поэзии пойти невозможно. Почти то же
самое произошло впоследствии с А.-В. Шлегелем, но его поэтическая
несостоятельность сделалась очевидной с тех пор, как язык прошел дальнейший
путь развития, и даже те, кто когда-то считал певца "Ариона" за настоящего
Ариона, видят в нем теперь только заслуженного школьного учителя. Но имеет
ли уже граф Платен право смеяться над прославленным некогда Шлегелем, как
этот последний смеялся в свое время над Рамлером, это я еще не знаю. Знаю
только, что в области поэзии все трое равны, и как бы красиво ни проделывал
граф Платен в своих газеллах головокружительные трюки, как бы превосходно ни
исполнял в своих одах танец на яйцах, более того -- как бы-ни становился он
на голову в своих комедиях, -- все-таки он не поэт. Он не поэт, так считает
даже та неблагодарная молодежь мужского пола, которую он столь нежно
воспевает. Он не поэт, говорят женщины, которые, быть может, -- это я должен
заметить в его пользу, -- не совсем в данном случае беспристрастны и, может
быть, несколько ревнуют, ввиду склонности, замечаемой в нем, или даже видят
в направлении его стихов угрозу своему выгодному до сих пор положению в
обществе. Строгие критики, вооруженные сильными очками, соглашаются с этими
мнениями или выражаются еще более лаконически-мрачно. "Что вы видите в
стихах графа фон Платена-Галлермюнде?" -- спросил я недавно одного такого
критика. "Одно седалище", -- ответил он. "Вы этим имеете в виду форму,
высиженную с таким мучительным трудом?" -- переспросил я его. "Нет,--
возразил он,-- я этим имею в виду также и содержание".
Что до содержания платеновских стихов, я, конечно, не стану хвалить за
него бедного графа, но и не желаю лишний раз навлекать на него ту цензорскую
ярость, с которой говорят или даже молчат о нем наши Катоны. Chacun a son
gout1, -- одному нравится бык, другому -- корова Васишты. Я
отношусь даже с неодобрением к той страшной радамантовской суровости, с
которой осуждается содержание платеновских стихов в берлинском
________________________
1 У каждого свой вкус (фр.).
293
"Научно-критическом ежегоднике". Но таковы уж люди: они очень легко
возбуждаются, когда речь заходит о грехах, которые им самим не доставляют
удовольствия. В "Утреннем листке" я недавно прочитал статью, озаглавленную
"Из дневника читателя", в которой граф Платен дает отповедь строгим
порицателям его "дружеской любви", со скромностью, которой ему никогда не
удастся скрыть и по которой его легко можно узнать. Говоря, что "Гегелевский
еженедельник" обвиняет его со "смешным пафосом" в тайном пороке, он, как
легко угадать, хочет этим предупредить попреки других, чей образ мыслей ему
уже известен из третьих рук. Однако он плохо осведомлен: в этом случае я не
дам повода упрекнуть себя в пафосе; благородный граф, в моих глазах, явление
скорее забавное, и в его сиятельном любовничестве я вижу только нечто
несовременное, робко-стыдливую пародию на античное дерзание. В том-то и
дело, что такого рода любовь не противоречила добрым нравам древности и
выступала с героической откровенностью. Когда, например, император Нерон
устроил на кораблях, изукрашенных золотом и слоновой костью, пир, стоивший
несколько миллионов, он велел торжественно обвенчать с собою одного отрока
из своего мужского гарема, Пифагора ("Cuncta denique spectata quae etiam in
femina nox operit"1), а затем венчальным факелом своим поджег
город Рим, чтобы при треске пламени воспеть подобающим образом падение Трои.
Об этом сочинителе газелл я мог бы еще говорить с некоторым пафосом, но
смешон мне наш новый пифагореец, убогий и трезвый, опасливо крадущийся в
нынешнем Риме по тропинке дружбы; черствое сердце молодежи отвергает его,
светлоликого, и он отправляется вздыхать при скудном свете лампочки над
своими мелкими газеллами. Интересно в этом отношении сравнить платеновские
стишки с Петронием. У последнего все резко, пластически определенно,
антично, язычески откровенно; наоборот, граф Платен, хотя он и претендует на
классичность, относится к своему предмету скорее как романтик, --
прикровенно, томно, по-поповски и, я бы добавил, по-ханжески. Дело в том,
что граф нередко маскируется
__________________________________________
1 "Напоказ было все то, что даже у женщин ночь прикрывает" (лат.).
294
чувствами чистыми, избегая более точных обозначений пола; одним лишь
посвященным можно понять его, от толпы же он полагает возможным укрыться,
если иной раз опустит слово "друг", уподобляясь при этом страусу, который
считает себя в достаточной мере спрятавшимся, если зароет голову в песок,
так что виден только зад. Наша сиятельная птица поступила бы лучше, если бы
уткнула зад в песок, а нам показала бы голову. В самом деле, он мужчина не
столько с лица, сколько с заду; слово "мужчина" вообще не подходит к нему;
любовь его отличается пассивно-пифагорейским характером, в стихах своих он
пассивен; он -- женщина, и притом женщина, которая забавляется всем женским,
он, так сказать, мужская трибада. Эта его робко-вкрадчивая природа сквозит
во всех его любовных стихах; он всегда находит себе нового прекрасного
друга, повсюду в этих стихах мы встречаемся с полиандрией. Пусть он
пускается в сентиментальности:
Ты любишь молча. Если бы в молчанье Твоей я любовался красотою!
О, если б я не говорил с тобою,
Не знал бы я жестокого страданья!
Но нет, любовь -- одно мое желанье,
Я не стремлюсь к забвенью и покою! Любовь роднит нас с дивною страною,
Где ангелы сплетаются в лобзанье...
При чтении этих стихов нам приходят в голову те самые ангелы, которые
явились к Лоту, сыну Арана, и которым с большим трудом удалось уклониться от
нежнейших лобзаний; к сожалению, в Пятикнижии не приводятся те газеллы и
сонеты, которые сочинены были при этом случае у дверей Лота. Повсюду в
стихах Платена все та же птица -- страус, прячущая одну лишь голову, та же
тщеславная, бессильная птица; у нее самые красивые перья, но летать она не
может и сердито ковыляет по песчаной пустыне литературной полемики. С
красивыми перьями, но неспособный взлететь, с красивыми стихами, но без
поэтической силы, он составляет полную противоположность орлу поэзии, с
менее блестящим оперением, но парящему под самым солнцем... Я опять
возвращаюсь к припеву: граф Платен не поэт.
От поэта требуются две вещи: в лирических его стихотворениях должна
звучать природа, в эпических или
295
драматических должны быть живые образы. Если он не в состоянии
удовлетворить таким требованиям, то он теряет право на звание поэта, хотя бы
его прочие фамильные документы и дворянские грамоты были в полнейшем
порядке. Что эти последние документы у графа Платена в порядке, я не
сомневаюсь; я уверен, что он ответил бы только милой сострадательной
улыбкой, если бы заподозрили подлинность его графства; но чуть только вы
осмелитесь выразить в одной-единой эпиграмме малейшее сомнение в подлинности
его поэтического звания -- он тотчас же злобно засядет за стол и напишет на
вас пятиактную сатиру. Ведь люди тем настойчивее держатся за свое звание,
чем сомнительнее и двусмысленнее основания, по которым они на него
притязают. Быть может, впрочем, граф Платен и был бы настоящим поэтом, если
бы жил в другое время и представлял бы собою вдобавок не то, что он есть
теперь. Если природа не звучит в стихах графа, то происходит это, может
быть, оттого, что он живет в эпоху, когда не смеет назвать по имени свои
истинные чувства, когда те самые "добрые нравы", которые всегда враждебны
его любви, мешают ему даже открыто жаловаться на это обстоятельство, когда
он принужден скрывать все свои ощущения из страха оскорбить хотя бы единым
слогом слух публики, как и слух "сурового красавца". Этот страх заглушает в
нем голос природы, принуждает его перерабатывать в стихи чувства других
поэтов, как своего рода безукоризненный и традиционный материал, и
маскировать таким путем по мере необходимости свои собственные чувства.
Несправедливо, быть может, ставить ему в упрек, не считаясь с его несчастным
положением, то обстоятельство, что граф Платен и в области поэзии желает
быть только графом и держится за свое дворянство, а потому воспевает только
чувства, принадлежащие к известной фамилии, чувства, насчитывающие по
шестьдесят четыре предка в прошлом. Если бы он жил в эпоху римского
Пифагора, он, может быть, более свободно выражал бы свои собственные чувства
и, может быть, признан был бы поэтом. По крайней мере, в его лирических
стихах слышны были бы звуки природы, но драмы его по-прежнему страдали бы
недостатком образов, пока не изменилась бы и его чувственная природа и он не
стал бы другим. Образы, о которых я говорю, это те само-
296
довлеющие создания, которые возникают из творческого духа поэта, как
Афина-Паллада из головы Кронида, вполне законченные, во всех своих доспехах,
живые порождения мечты, тайна возникновения которых находится в более
тесной, чем принято думать, связи с чувственной природой поэта, так что
этого рода духовное зачатие непостижимо для того, кто сам, как бесплотное
существо, растекается дрябло и поверхностно в газеллах.
Но все это -- личные суждения поэта, и вески они постольку, поскольку
признается компетентным сам судья. Я не могу не упомянуть, что граф Платен
очень часто уверяет публику, что только впоследствии он напишет самое
значительное, о чем сейчас никто и представления иметь не может, что свои
"Илиады" и "Одиссеи", классические трагедии и прочие бессмертно-великие
творения он напишет только после основательной многолетней подготовки. Может
быть, и сам ты, любезный читатель, читал эти излияния осознавшего себя духа
в форме стихов, вылощенных с тяжкими усилиями; может быть, перспектива столь
прекрасного будущего тем более показалась тебе радостной, что граф попутно
изобразил всех немецких писателей, кроме совсем уж старого Гете, как скопище
скверных бумагомарак, лишь преграждающих ему путь к славе и столь
бесстыдных, что они срывают лавры и гонорары, предназначенные лишь ему
одному.
Я умолчу о том, что слышал на эту тему в Мюнхене, но в интересах
хронологии должен отметить, что в то время баварский король выразил
намерение назначить годовой оклад какому-нибудь поэту, не связывая этого
оклада с должностью, каковой необычайный почин должен был повести к самым
лучшим для немецкой литературы последствиям. И мне говорили...
Но я не хочу все-таки отступать от темы; я говорил о хвастовстве графа
Платена, который непрестанно кричал: "Я поэт, поэт из поэтов! Я напишу
"Илиады" и "Одиссеи", и т. д.". Не знаю, как относится к такому хвастовству
публика, но совершенно точно знаю, что думает об этом поэт,-- конечно, поэт
истинный, познавший уже стыдливую сладость и тайный трепет поэзии; такой
поэт, подобно счастливому пажу, пользующемуся тайной благосклонностью
принцессы, не станет, разумеется, хвастать блаженством своим на площади.
297
Над графом Платеном не раз уже вдоволь трунили за такое бахвальство, но
он, как Фальстаф, всегда умел найти себе оправдание. В этих случаях он
обнаруживает талант, совершенно исключительный в своем роде и заслуживающий
особого признания. Граф Платен обладает тою именно способностью, что всегда
находит у какого-либо великого человека следы, хотя бы и ничтожные, того
порока, который живет и в его груди, и, основываясь на такого рода
порочно-избирательном сродстве, сравнивает себя с ним. Так, например, о
сонетах Шекспира ему известно, что они обращены к молодому человеку, а не к
женщине, и он превозносит Шекспира за его разумный выбор и сравнивает себя с
ним -- и это все, что он имеет сказать о Шекспире. Можно было бы написать
апологию графа Платена с отрицательной точки зрения, утверждая, что ему
нельзя еще поставить в вину то или иное заблуждение, так как он еще не успел
сравнить себя с тем или другим великим человеком, которому это заблуждение
ставят в упрек. Но всего гениальнее и изумительнее он проявил себя в выборе
человека, в жизни которого ему удалось открыть нескромные речи и чьим
примером он пытается приукрасить свое хвастовство. И, право же, слова этого
человека никогда еще не приводились с такой целью. Это не кто другой, как
сам Иисус Христос, служивший нам до сего времени образцом смирения и
скромности. Неужели Христос когда-нибудь хвастался? Этот скромнейший из
людей, скромный тем более, что он же и самый божественный? Да, то, что до
сих пор ускользало от внимания всех богословов, открыл граф Платен. Ведь он
инсинуирует: Христос, стоя перед Пилатом, тоже не проявлял скромности и
отвечал нескромно. Когда Пилат спросил его: "Ты царь Иудейский?", он
ответил: "Ты сказал". Точно так же утверждает и он, граф Платен: "Да, я
таков, я поэт!" То, что оказалось не под силу ненависти какого-либо хулителя
Христа, то удалось толкованию самовлюбленного тщеславия.
Мы знаем теперь, как относиться к человеку, который беспрестанно кричит
о себе: "Я поэт!" Знаем также и то, как будет обстоять дело с теми
совершенно необычайными творениями, которые намерен создать граф, когда
достигнет надлежащей зрелости, и которые должны неслыханным образом
превзойти по своему значению все его предыдущие шедевры. Мы знаем очень
хорошо, что
298
позднейшие произведения истинного поэта отнюдь не значительнее ранних;
неверно, что женщина чем чаще рожает, тем будто бы лучших производит детей;
нет, первый ребенок не хуже второго, только роды потом бывают легче. Львица
не рождает сначала кролика, потом зайчика, потом собачку и под конец --
львенка. Госпожа Гете сразу же разрешилась юным львом, а он, в свою очередь,
тоже сразу своим львенком -- "Берлихингеном". Точно так же и Шиллер сразу
разрешился своими "Разбойниками", по лапе которых уже видать львиную их
породу. Впоследствии уже появились лоск, гладкость, шлифовка, "Побочная
дочь" и "Мессинская невеста". Не так обстоит дело с графом Платеном,
начавшим с робкого сочинительства; поэт говорит о нем:
Из ничего готовый ты возник; Прилизан, лакирован гладкий лик, Игрушка
ты из пробки вырезная.
Но если признаться в сокровеннейших моих мыслях, то должен сказать, что
я не считаю графа Платена таким дураком, каким он может показаться, судя по
этому хвастовству и постоянному самовосхвалению. Немножко глупости, понятно,
требуется для поэзии, но было бы ужасно, если бы природа обременила огромной
порцией глупости, достаточной для сотни великих поэтов,
одно-го-единственного человека, а поэзии отпустила ему самую ничтожную дозу.
Я имею основание подозревать, что господин граф сам не верит своему
хвастовству, и, будучи бедняком как в жизни, так и в литературе, он, ради
заботы насущной, принужден и в литературе и в жизни быть своим собственным,
самого себя восхваляющим руффиано1. Вот почему и тут и там мы
наблюдаем явления, о которых можно сказать, что они представляют не столько
эстетический, сколько психологический интерес; вот откуда и эта слезливейшая
душевная вялость, и вместе напускное высокомерие; отсюда жалкое нытье о
близкой смерти и самонадеянные выкрики о бессмертии; отсюда спесивый пыл и
томная покорность ; отсюда постоянные жалобы на то, что "Котта морит его
голодом", и опять жалобы, что "Котта морит его голодом", и припадки
католицизма и т. д.
_________________
1 Сводником (ит.).
299
Я сомневаюсь, чтобы граф принимал всерьез свой католицизм. Стал ли он
вообще католиком, подобно некоторым своим высокородным друзьям, я не знаю. О
том, что он собирается стать таковым, я впервые узнал из газет, которые даже
добавили, что граф Платен принимает монашество и поступает в монастырь. Злые
языки замечали, что обет бедности и воздержания от женщин дается графу
легко. Само собою разумеется, при таких известиях в сердцах его друзей в
Мюнхене зазвонили все колокольчики благочестия. В поповских листках начали
превозносить его стихи под звуки "Кирие элейсон" и "Аллилуйя"; да и в самом
деле, как не радоваться было святым мужам безбрачия по поводу стихов,
способствовавших воздержанию от женского пола? К сожалению, мои стихи
отличаются другим направлением, и то обстоятельство, что попы и певцы
отроческой красоты не восхищаются ими, может, правда, меня огорчить, но
отнюдь не удивляет. Столь же мало удивился я и тогда, когда за день до
отъезда в Италию услышал от моего друга, доктора Кольба, что граф Платен
очень враждебно настроен против меня и готовит мне погибель в комедии под
названием "Царь Эдип", которая представлена уже в Аугсбурге некоторым
князьям и графам, чьи имена я забыл или хочу забыть. И другие рассказывали
мне, что граф Платен ненавидит меня и выступает в качестве моего врага. Во
всяком случае, мне это приятнее, чем если бы мне сообщили, что граф Платен
любит меня, как друга, без моего ведома. Что касается святых мужей, чья
благочестивая ярость обратилась в то же время на меня не столько за мои
стихи, противные целибату, сколько за "Политические анналы", редактором
которых я тогда был, то я точно так же мог бы быть только в выигрыше, раз
выяснилось, что я не заодно с этими мужами. Если я намекаю, что о них не
говорят ничего хорошего, то я еще отнюдь не говорю о них ничего дурного. Я
уверен даже, что они исключительно из любви к добру пытаются обезвредить
речи злых людей путем благочестивого обмана и богоугодной клеветы и что
исключительно ради этой благородной цели, освящающей всякие средства, они
пробуют заградить для таких людей не только духовные, но и материальные
источники жизни. Этих добрых людей, выступающих даже в Мюнхене открыто в
качестве конгрегации, удостаивают, по глупости,
300
имени иезуитов. Право, они не иезуиты, ведь иначе они бы сообразили,
что я, например, один из злых, в худшем случае все же посвящен в искусство
литературной алхимии -- чеканить дукаты даже из моих врагов и, таким
образом, сам получаю дукаты, а враги мои -- удары; они сообразили бы, что
удары эти отнюдь не станут легче, если они будут поносить имя человека,
наносящего их,-- ведь и приговоренный к наказанию чувствует же на себе удары
плети, хотя палач, исполняющий приговор, считается бесчестным, а самое
главное, они сообразили бы, что некоторое мое пристрастие к
антиаристократическому Фоссу и несколько невинных шуток насчет богоматери,
за которые они с самого начала забрасывали меня дерьмом и глупостями,
проистекают не из антикатолического рвения. Право, они не иезуиты, они
рождены от помеси дерьма и глупости, которую я столь же мало способен
ненавидеть, как бочку с навозом и вола, тащащего ее; все их усилия могут
достичь только обратной цели и довести меня до того, что я покажу, в какой
степени я протестант; я воспользуюсь моим правом доброго протестанта в его
самом широком понимании и с увлечением возьму в руки добрую протестантскую
боевую секиру. Пусть они тогда, чтобы расположить к себе чернь, продолжают
при посредстве своего лейб-поэта пускать в ход бабьи россказни о моем
неверии -- по хорошо знакомым ударам они признают во мне единоверца Лютера,
Лессинга и Фосса. Правда, я не мог бы так серьезно, как эти герои, потрясать
старой секирой -- при виде врагов мне бы легко было рассмеяться, я ведь
немножко Ойленшпигель по природе, я люблю примешивать к делу и шутку, но я
оглушил бы этих дерьмовозов не менее чувствительным образом, если бы даже и
украсил перед тем свою секиру цветами смеха.
Я не хочу, однако, слишком далеко отступать от моей темы. Кажется, это
было в то самое время, когда баварский король, руководствуясь упомянутыми
выше целями, назначил графу Платену содержание в шестьсот гульденов в год, и
притом не из государственной казны, а из личных своих средств, чего именно,
как особой милости, и хотелось графу. Последнее обстоятельство,
характеризующее эту касту, каким бы оно ни казалось незначительным, я
отмечаю лишь в качестве материала для естествоиспытателя, который пожелал бы
заняться
301
наблюдениями над дворянством. В науке ведь все важно. А того, кто
упрекнет меня в излишнем внимании к графу Платену, я отсылаю в Париж --
пусть он посмотрит, как тщательно описывает в своих лекциях изысканный и
изящный Кювье самое гадкое насекомое, во всех его подробностях. Поэтому мне
жаль даже, что я не могу привести даты, когда были назначены эти шестьсот
гульденов; знаю, во всяком случае, что граф Платен раньше написал своего
"Царя Эдипа" и что этот последний не кусался бы так, если бы у автора было
чем закусить.
В Северной Германии, куда меня вызвали, когда внезапно умер мой отец, я
получил наконец чудовищное создание, которое вылупилось в конце концов из
огромного яйца; долго высиживал его наш блестяще оперенный страус, и ночные
совы из конгрегации, набожно закаркав, и аристократические павлины, пышно
распушив свои хвосты, приветствовали его еще задолго до его появления на
свет. Должен был появиться по меньшей мере погибельный василиск. Знаешь ли
ты, любезный читатель, сказание о василиске? Народ рассказывает: если
птица-самец снесет, как самка, яйцо, то на свет является ядовитое существо,
отравляющее своим дыханием воздух, и убить его можно, только поставив перед
ним зеркало: испугавшись собственной мерзости, василиск умирает от страха.
Я не хотел в то время осквернять свою священную скорбь и лишь через два
месяца, приехав на остров Гельголанд, на морские купанья, прочитал "Царя
Эдипа". Постоянное созерцание моря, во всем его величии и дерзновении,
настроило меня на возвышенный лад, и тем более ясны мне стали мелочность и
крохоборство высокородного автора. Этот шедевр обрисовал его наконец в моих
глазах таким, каков он есть, во всей его цветущей дряблости, с его бьющим
через край скудоумием, с самомнением без воображения,-- таким, каков он
есть, с его постоянным насилием над собою при отсутствии силы, с постоянной
пикировкой без всякой пикантности: сухая водянистая душа, унылый любитель
веселья! И этот трубадур уныния, дряхлый телом и душой, вздумал подражать
самому могучему, неисчерпаемо изобретательному, остроумнейшему поэту
цветущей эллинской эпохи! Право, нет ничего противнее этой судорожной
беспомощности, пытающейся раздуться в дерзание, этих
302
вымученных пасквилей, которые покрылись плесенью застарелой злобы,
этого робкого верифицирующего подражания творческому упоению! Само собой
разумеется, в произведениях графа Платена нет и следа той глубокой
миросокрушительной идеи, которая лежит в основании всех аристофановских
комедий и, подобно волшебному фантастически-ироническому дереву, с гнездами
распевающих соловьев и резвящимися обезьянами, распускается в них цветами
мыслей. Такой идеи, с ликованием смерти и сопутствующим ему разрушительным
фейерверком, мы, конечно, не могли ожидать от бедного графа. Средоточие его
так называемой комедии, первая и конечная ее идея, ее цель и основа
заключается, как и в "Роковой вилке", в ничтожных литературных дрязгах;
бедный граф оказался в состоянии копировать Аристофана только в частностях
внешнего порядка, а именно -- только в тонкости стихов и в грубости слов. Я
говорю о "грубости слов" потому только, что не желаю выразиться грубее. Он,
как сварливая баба, выливает целые цветочные горшки ругани на головы
немецких поэтов. Я готов от всего сердца простить графу его злобу, но все же
ему следовало бы соблюсти некоторые приличия. Он по меньшей мере должен был
бы уважать наш пол; мы ведь не женщины, а мужчины и, стало быть, принадлежим
в его глазах к прекрасному полу, который он так сильно любит. А это
свидетельствует о недостатке деликатности; ведь какой-нибудь отрок может
усомниться на этом основании в искренности его поклонения, ибо каждый
понимает, что истинно любящий человек чтит заодно и весь пол. Певец
Фрауэнлоб никогда, конечно, не был груб по отношению к какой бы то ни было
женщине, а потому и Платенам следовало бы питать побольше уважения к
мужчинам. Между тем -- какая неделикатность ! Он, не стесняясь, сообщает
публике, что мы, северогерманские поэты, больны "чесоткой", против которой
"мазь нужна такая, что задохнется всякий в срок короткий". Рифма хороша.
Всего неделикатнее он относится к Иммерману. Уже в самом начале пьесы он
заставляет его проделывать за ширмою вещи, которые я не осмеливаюсь назвать
их именем и которые, однако, неопровержимы. Я считаю даже весьма вероятным,
что Иммерман делал такие вещи. Но характерно, что фантазия графа Платена
способна следить даже за врагами
303
a posterioril. Он не пощадил даже и Гоувальда, эту добрую
душу, этого человека, кроткого, как девушка. Ах, может быть, именно за эту
милую женственность и ненавидит его Платен. Мюлльнера, которого он, как
выражается, давно уже "сразил своею шуткой смертоносной", этого покойника он
опять тревожит в могиле. Он не оставляет в покое ни старого, ни малого.
Раупах -- жид.
Жидочек Раупель,
Поднявший нос высоко, ныне Раупах,--
"трагедии кропает на похмелье". Еще хуже приходится "выкресту Гейне".
Да, да, ты не ошибся, любезный читатель, именно меня он имеет в виду! В
"Царе Эдипе" ты можешь прочитать, что я настоящий жид, что я, пописав
несколько часов любовные стихи, присаживаюсь затем и обрезаю дукаты, что по
субботам я сижу с бородатыми Мойшами и распеваю из Талмуда, что в пасхальную
ночь я убиваю несовершеннолетнего христианина, выбирая для этой цели из
злопыхательства непременно какого-нибудь незадачливого писателя. Нет,
любезный читатель, я не хочу лгать тебе, таких прекрасных, живописных картин
нет в "Царе Эдипе"; это именно обстоятельство я и ставлю в упрек автору.
Граф Платен, располагая порой прекрасными мотивами, не умеет ими
воспользоваться. Если бы у него было хоть чуточку больше фантазии, он
представил бы меня по меньшей мере тайным ростовщиком. Сколько можно было бы
написать комических сцен! Я испытываю душевную боль при виде того, как
бедный граф упускает один за другим случаи поострословить! Как великолепно
он мог бы пустить в ход Раупаха в качестве Ротшильда от трагедии, у которого
делают займы королевские театры! Самого Эдипа, главное лицо комедии, он мог
бы точно так же, путем некоторых изменений в фабуле пьесы, использовать
лучше. Вместо того чтобы Эдипу убивать отца Лая и жениться на матери
Иокасте, следовало бы придумать наоборот. Эдип должен бы убить мать и
жениться на отце. Элемент резко драматический получил бы мастерское
выражение в такой пьесе под пером Платена, его собственные чувства нашли бы
тем самым отражение, и ему пришлось бы только, как соловью, излить в песне
_________________________________________
1 Сзади, позднее (букв.: от позднейшего) (лат.).
304
свое сердце; он сочинил бы такую пьесу, что, будь еще жив газеллический
Иффланд, она, несомненно, сейчас же была бы разучена в Берлине, ее и теперь
бы еще ставили на частных сценах. Не могу вообразить себе никого
совершеннее, чем актер Вурм в роли такого Эдипа. Он превзошел бы самого
себя. Затем я нахожу неполитичным со стороны графа, что он уверяет в
комедии, будто обладает "действительным остроумием". Или он, может быть,
бьет на неожиданный эффект, на театральный трюк, когда публика ждет
обещанного остроумия и в конце концов так и остается с носом? Или он хочет
подстрекнуть публику, чтобы она искала в пьесе действительного тайного
остроумия, и все в целом есть не что иное, как игра в жмурки, где
платеновское остроумие так хитро увертывается, что остается неуловимым?
Может быть, поэтому-то публика, которую комедии обычно смешат, так
раздражается при чтении платеновской пьесы; она никак не может найти
спрятавшееся остроумие; напрасно остроумие, спрятавшись, пищит, пищит все
громче: "Я здесь! Я, право, здесь!" Напрасно! Публика глупа и строит
серьезнейшую физиономию. Но я-то, знающий, где спрятано остроумие, от души
посмеялся, когда прочитал о "сиятельном, властолюбивом поэте", который
украшает себя аристократическим нимбом, хвастается тем, что "всякий звук",
слетевший с его уст, "сокрушает", и обращается ко всем немецким поэтам со
словами:
Я, как Нерон, хочу, чтоб мозг ваш был един,-- Единым острым словом
раздробить его
Стихи неважны. Остроумие же вот в чем: граф, собственно, хочет, чтобы
мы все сплошь были Неронами, а он, наоборот, нашим единственным другом,
Пифагором.
Пожалуй, я мог бы в интересах графа разыскать в его произведениях еще
не одну укромную остроту, но так как он в своем "Царе Эдипе" затронул самое
для меня дорогое -- ибо что же может быть для меня более дорого, чем мое
христианство ? --то пусть не ставит мне в упрек, что я, по слабости
человеческой, считаю "Эдипа", этот "великий подвиг словесный", менее
серьезным его подвигом, чем предыдущие.
305
Тем не менее истинная заслуга всегда вознаграждается, и автор "Эдипа"
тоже дождется награды, хотя в данном случае он, как и всегда, поддался лишь
влиянию своих аристократических и духовных поборников. Существует же среди
народов Востока и Запада древнее поверье, что всякое доброе и злое дело
влечет за собой непосредственные последствия для сотворившего его. И будет
день, когда появятся они -- приготовься, любезный читатель, к тому, что я
впаду сейчас в некоторый пафос и стану страшен, -- будет день, когда
появятся из Тартара они, ужасные дщери тьмы, Эвмениды. Клянусь Стиксом, -- а
этою рекою мы, боги, никогда не клянемся зря, -- будет день, когда появятся
они, мрачные, извечно праведные сестры! Они появятся с лицами, багровыми от
гнева, обрамленными кудрями-змеями, и с теми самыми змеиными бичами в руках,
которыми они бичевали некогда Ореста, противоестественного грешника,
убившего свою мать Тиндариду Клитемнестру. Может быть, и сейчас уже до слуха
графа доносится змеиное шипение,-- прошу тебя, любезный читатель, вспомни
Волчью долину и музыку Самиэля. Может быть, уже и сейчас тайный трепет
охватывает душу грешника-графа, небо хмурится, каркают ночные птицы, гром
гремит издалека, сверкают молнии, пахнет канифолью. Горе! Горе! Сиятельные
предки встают из могил; трижды и четырежды вопиют они к жалкому потомку:
"Горе! Горе!" Они заклинают его надеть их старинные железные штаны, чтобы
защититься от ужасных розог -- ибо Эвмениды истерзают его этими розгами, их
змеиные иронические бичи потешатся вдоволь, и вот, подобно распутному королю
Родриго, заключенному в змеиную башню, бедный граф в конце концов застонет и
завизжит:
Ах! Сожрут они те части.
Что в грехах моих повинны.
Не ужасайся, любезный читатель, все это ведь только шутка. Эти страшные
Эвмениды -- не что иное, как веселая комедия, которую я под таким названием
сочиню через несколько пятилетий, а трагические стихи, только что тебя
напугавшие, приведены мною из самой веселой на земле книги -- из "Дон-Кихота
Ламанчского", где некая старая благопристойная придворная дама декламирует
306
их в присутствии всего двора. Вижу, ты опять улыбаешься. Простимся же с
веселой улыбкой. Если эта последняя глава оказалась скучноватой, то причиной
тому ее тема, да и писал я больше для пользы, чем для забавы: если мне
удалось пустить в литературный оборот одного нового дурака, отечество будет
мне благодарно. Я возделал ниву, и пускай другие, более остроумные писатели
засеют ее и соберут жатву. В скромном сознании этой заслуги -- лучшая моя
награда.
А к сведению тех королей, которые пожелали бы прислать мне еще и
табакерку, сообщаю, что книгоиздательство "Гофман и Кампе" в Гамбурге
уполномочено принимать таковые для передачи мне.
Писано поздней осенью 1829 г
Третья часть "Путевых картин" была опубликована книгой в 1829 году,
отдельные фрагменты ее Гейне до этого помещал в журналах.
В этой части отражены пребывание поэта в Мюнхене с конца 1827 до
середины 1828 года и последующее путешествие в Италию, продолжавшееся до
ноября 1828 года. Здесь снова трактуются вопросы не только немецкой
внутриполитической, культурной, литературной жизни, но и более широкие
проблемы европейской действительности.
В Мюнхен Гейне привела практическая надежда получить профессорское
место в тамошнем университете. Над баварской столицей с 1825 года, когда на
престол взошел король Людвиг I, витал дух культурного обновления: соперничая
с Берлином, Людвиг намеревался превратить Мюнхен в культурную столицу, во
"вторые Афины", не жалея средств, стягивал сюда культурные силы, затеял
строительство многочисленных помпезных зданий, организовал музеи. Однако
весь этот болезненный культурполитический энтузиазм питался реакционными
феодально-католическими настроениями с уклоном в мистику и национализм: в
Мюнхене главным пророком был президент баварской Академии наук Шеллинг, чья
натурфилософия в молодости выражала смелые искания романтизма, но с годами
все более устремлялась к религиозному мистицизму; похожую, но еще более
резкую эволюцию проделали числившиеся в местном университете экс-романтики
философ Баадер и историк Геррес, чья реакционность уже тогда становилась
притчей во языцех. Их усилия не без успеха поддерживал теолог-мракобес
Деллингер, впоследствии снискавший печальную известность основателя и вождя
старокатолического движения; Деллингер возглавил нападки на мюнхенский
журнал "Политические анналы", когда Гейне стал его редактором в 1828 году. В
Мюнхене подвизался и националист-тевтономан Массман, которого Гейне
впоследствии не раз атаковал своей сатирой. Понятно, что в таком окружении
Гейне в Мюнхене никак не мог прижиться.
Славой первого поэта "баварских Афин" пользовался тогда граф Август фон
Платен-Галлермюнде (1796--1835), писатель небесталанный, но безнадежно
погрязший в затхлой мистической атмосфере Мюнхена той поры. Платен умело
подыгрывал новоантичным притязаниям баварского короля, писал в манере
"древних", культивируя в своей поэзии изощренный аристократизм формы,
подчеркнутую академичность, брезгливо сторонился "злобы дня" и при этом
постоянно негодовал на "чернь", на широкую публику, которая к его стихам
равнодушна. Понятно, что всякий упрек в свой адрес он воспринимал с
величайшим возмущением: страдая в глубине души комплексом литературной
неполноценности, он по малейшему поводу, а то и вовсе без повода рвался в
литературную полемику и, естественно, не мог простить Карлу Иммерману и его
другу Гейне эпиграмм, опубликованных в "Северном море", и грубо напал на них
в своей комедии "Романтический Эдип".
В "Луккских водах" Гейне ответил Платену. В полемике с Платеном поэт
отнюдь не беспощаден, напротив, он очевидно своего противника щадит
(истинную силу Гейне-полемиста Платен скорее мог почувствовать в третьей
главе "Путешествия от Мюнхена до Генуи"), ясно давая понять, что
руководствуется отнюдь не личными мотивами. Платен для Гейне -- явление
общественного порядка, печальное порождение пресловутых немецких
обстоятельств, результат многовековой отторгнутости искусства от
общественной жизни. И хотя Платен с его замашками жреца от поэзии, с его
аристократической спесью, с его противоестественными эротическими
наклонностями чрезвычайно Гейне неприятен, эта личная антипатия по мере
возможности из полемики устранена. Гейне выводит спор на более серьезный
уровень размышления об искусстве и условиях, в которых возникает искусство и
формируются его задачи.
Итальянские главы "Путевых картин" с особой силой дают почувствовать, в
какой мере Гейне уже в те годы был писателем политическим. Надо помнить о
традициях "итальянской темы" в немецкой литературе, о многочисленных
описаниях Италии как страны-музея (от Винкельмана до Гете и романтиков),
чтобы оценить смелость, с какой Гейне эту традиционную картину Италии
отодвинул на второй план. Для Гейне живые люди, условия, в которых они
живут, важнее памятников старины. Он видит прежде всего итальянский народ,
страдающий от засилия чужеземных захватчиков, но не порабощенный духовно и
не сломленный морально. В Италии тогда росло народное негодование, в начале
20-х годов поднялись восстания в Неаполе и Сицилии, жестоко подавленные
силами Священного союза, оккупировавшего большую часть страны австрийскими
войсками. Иносказанием, намеком, деталью Гейне умеет показать, сколько
революционной энергии таится в простом народе Италии, и с сожалением
противопоставляет итальянцев своим законопослушным соотечественникам, столь
неприязненно выведенным в "Луккских водах".
Стр. 234. Эпиграфы: "Как мужу я жена..." -- П л атен. Газеллы (1821);
"Угодно графу..." -- текст оперы Моцарта "Женитьба Фигаро" (I).
Стр. 235. Нью-Бедлам, Сент-Люк -- лондонские дома для душевнобольных.
Стр. 237. ...я все время катил большой камень.--Намек на миф о Сизифе,
приговоренном богами к вечной муке безрезультатного труда (гре ч. миф.).
Кристофоро ди Гумпелшо. -- Под этим именем выведен гамбургский банкир
Христиан Гумпель, враг Соломона Гейне, дяди поэта. Образ этот, несмотря на
его историческую аутентичность, перерастает в сатирическое обобщение большой
силы: Гейне издевается над всеми нуворишами.
Аргус -- стоглазое чудовище, стерегло возлюбленную Зевса, превращенную
в корову (греч. миф.).
Стр. 239. Кйн Эдмунд (1787--1833) -- знаменитый английский трагик, одна
из лучших его ролей -- Ричарда III в трагедии Шекспира. "Коня! Коня! Все
царство за коня!" -- Шекспир. Ричард III (V, 4).
"Когда я на коне, то поклянусь..." -- Шекспи р. Генрих IV (I, Н, 3).
Стр. 241. Голъцбехер Юлия (1809 --1839) -- известная в ту пору
берлинская актриса.
Господин Гирш. -- И этот образ имеет прототипом реальное историческое
лицо, гамбургского продавца лотерейных билетов Исаака Рокамору.
Стр. 244. "Под покровом сумерек в молчанье..." -- Начало "Элегии"
сентиментального поэта Фридриха Маттисона (1761 -- 1831), к тому времени
безнадежно устаревшего.
Стр. 246. Нейман Вильгельм (1784--1834) -- прусский чиновник, литератор
по совместительству, в одной из рецензий вскользь неодобрительно отозвался о
Гейне, обвинив его в "разорванности" и слепом подражании байроновской
меланхолии.
Или прав Биши Шелли...-- Шелли Перси Биши (1792--1822) -- великий
английский поэт-романтик. Цитируемые слова относятся не к Байрону, а к Китсу
-- см. элегию "Адонис" на смерть этого поэта.
Стр. 247. Ярке Карл Эрнст (1801-1852) - юрист в Бонне, крайний
реакционер, в свое время однокашник Гейне в Боннском университете.
"Аксур" -- опера Сальери на либретто Бомарше.
Стр. 248. "Гофман и Кампе" -- гамбургское издательство, в котором Гейне
печатал почти все свои произведения.
Стр. 249. Меццофанти Джузеппе (1774--1848) -- болонский полиглот,
владевший пятьюдесятью восемью языками.
Сервитут -- право ограниченной собственности. Патито (и т.) --
любовник.
Стр. 250. Гуго.-- См. коммент. к с. 17.
Тибо Антон Фридрих Юстус (1774--1840) -- юрист, профессор в
Гейдельберге.
Стр. 251. Ганс и Савинъи -- юристы двух враждующих школ. О Гансе см.
коммент. к с. 61, он был представителем гегельянского направления. Савиньи
Фридрих Карл (1779--1861) -- прусский юрист, глава так называемой
"исторической школы", охранявшей феодально-монархические интересы. Гейне,
естественно, берет сторону гегельянцев.
...синьор Ганс пригласил... эту даму танцевать... -- Намек на попытку
примирения между Гансом и Савиньи, предпринятую в 1828 г.
Лемьер, Оге. -- См. коммент. к с. 55 и 56.
Гешен.-- См. коммент. к с. 61. В 1817 г. посетил Верону с научными
целями.
Стр. 252. "Di tanti palpiti" -- ария из оперы Россини "Танкред" (акт
I).
Стр. 254. "Примадонна меня полюбила..." -- ария из оперы Сальери
"Аксур" (акт III).
Стр. 258. Бетман Симон Мориц (1768--1826) -- франкфуртский банкир,
коллекционер произведений искусств, выставил приобретенную им скульптуру
Даннеккера "Ариадна на Наксосе" в красноватом освещении для придания ей
"полного жизнеподобия".
Ротшильд Ансельм (1773--1855) -- глава франкфуртского банка Ротшильдов.
Стр 263 Ротшильд Натан (1777--1836) -- глава лондонского банка
Ротшильдов, Гейне сравнивает его с Натаном Мудрым, героем драмы Лессинга.
Ротшильд Соломон (1774--1855) -- глава венского банка Ротшильдов
Стр 264 в белом мундире и красных штанах -- См коммент кс 185, кузен
Михель -- прусский король, белый атлас с серебряными лилиями -- одежда
французского монарха династии Бурбонов
Стр 268 чистейшее мозаическое богослужение -- У Гейне Гиацинт путает
"мозаическое" с "моисеевым" (игра слов, возможная в немецком языке) Имеются
в виду реформаторские начинания в Гамбурге, где стремились модернизировать
иудаизм, в частности, вести богослужения на немецком языке
Стр 270 "И небеса очам открыты "-- Шиллер Песнь о колоколе
Крелингер Августа (1795--1865) -- известная берлинская актриса
Стр 271 "Приди о ночь" --пародированная цитата из трагедии Шекспира
"Ромео и Джульетта" (III, 2)
"Уходишь ты?" --Шекспир Ромео и Джульетта (III, 5)
Стр 274 Мюллер Софи (1803-- 1830) -- известная венская актриса
"Мертвящий трепет " "Подожди Тибальдо" -- Шекспир Ромео и Джульетта
(IV, 3)
Стр 275 "О, горе мне посмешищу судьбы" -- Шекспир Ромео и Джульетта
(III, I)
Стр 278 Когда Кандид прибыл в Эльдорадо -- Имеется в виду эпизод из
философской повести Вольтера "Кандид, или Оптимизм" (гл 17) Эльдорадо --
сказочная страна изобилия
Стр 282 "Ты не подпал девическому нраву" -- Цитата из стихотворения
Платена "Сонеты Шекспира"
"Со счастием надежда гибнет вместе" -- Гейне цитирует полный текст
газеллы IV из "Новых газелл" Платена
Стр 283 "Знакома мне в других любви преграда" -- Цитата из сонета
Платена (54) Гейне цитирует Платена по собранию его стихотворений, вышедшему
в 1828 г
Стр 287 Шмальц -- См коммент к с 127
Стр 288 Лаутенбахер Игнац (1799--1833) -- публицист, сотрудник
мюнхенских "Новых политических анналов", поддержал Гейне в полемике с
клерикалами, вспыхнувшей по поводу второй части "Путевых картин"
Стр 289 "Ты слишком юн и светел отрок милый" -- Цитата из сонета
Платена (55)
Генерал Тилли (1559--1632) -- главнокомандующий армией Католической
лиги во время Тридцатилетней воины
"Ты юноша воздержанный и скромный". -- Гейне цитирует здесь сонет
Иммермана против Платена из памфлета "В лабиринте метрики блуждающий
кавалер".
Стр. 290. Грейтгейзен Франц фон (1774--1852) -- профессор в Мюнхене,
астроном, естествоиспытатель.
Дон Плотен де Коллибрадос Галлермюнде. -- Гибрид из имен Платена и
заглавного героя в комедии датского драматурга Людвига Хольберга
(1684--1754) "Дон Ранудо де Коллибрадос", бедного, глупого, но необычайно
спесивого дворянина. На немецкой сцене комедия шла в обработке Коцебу с 1804
г.
"Страницы лирики..." -- Вышли в Лейпциге в 1821 г.
...несколько драматических сказок...--"Пьесы" Платена опубликованы в
1824 г. в Эрлангене.
Мюлльнер. -- См. коммент. к с. 57. Против Мюлльнера направлена комедия
Платена "Роковая вилка" (1826). Эриндур -- герой драмы Мюлльнера "Вина".
Стр. 292. Клаурен. -- См. коммент. к с. 63. В своей комедии
"Романтический Эдип" Платен задевает и Клаурена.
Рамлер Карл Вильгельм (1725--1798) -- поэт-классицист, знаток метрики,
его суховатые, академичные стихи к тому времени были совершенно забыты.
Шлегель Август Вильгельм. -- См. коммент. к с. 81. Здесь Гейне имеет в виду
поэзию Шлегеля, не слишком интересную, а не его работы по поэтике.
Стр. 293. "Арион" -- драматическая поэма А.-В. Шлегеля. Арион ( г р е
ч. миф.) -- поэт и певец.
Катан (234--190 гг. до н. э.) -- известный римский оратор
...Корова Васишты. -- Волшебной коровы бедняка Васишты домогался царь
Висвамитра, так как обладатель коровы становился счастливцем и ему делались
доступными все блага жизни (и н д. миф.).
Я отношусь даже с неодобрением...--Гейне имеет в виду разносную статью
о Платене своего берлинского друга Людвига Роберта.
Стр. 294. Петроний Гай (I в.) -- автор романа "Сатирикон",
изображающего нравственный упадок римского общества.
Стр. 295. Полиандрия -- многомужество.
"Ты любишь молча..." -- Цитата из сонета Платена (44). 1 Стр. 299. "Из
ничего готовый ты возник..." -- Цитата из сонета Иммермана против Платена.
Стр. 300. Кольб Густав (1798--1865) -- публицист и переводчик, издатель
аугсбургской "Всеобщей газеты".
Стр. 301. Фосс Иоганн Генрих (1751 --1826) -- поэт, переводчик Гомера,
Аристофана, Шекспира. Гейне называет его "антиаристократическим", имея в
виду демократическую направленность его творчества.
Стр. 302. Кювье Жорж (1769--1832) -- французский натуралист,
основоположник палеонтологии.
Стр. 303. Певец Фрауэнлоб -- прозвище ("хвалитель женщин") немецкого
средневекового поэта Генриха фон Мейссена (1250--1318).
Стр. 304. Гоувальд. -- См. коммент. к с. 100.
Раупах. -- См. коммент. к с. 100.
Стр. 305. Иффланд Август Вильгельм (1759--1814) -- актер, драматург,
директор театра в Берлине. Пьесы Иффланда и Коцебу -- классические образцы
"мещанской драмы" -- заполняли тогдашний театральный репертуар в Германии.
Гейне явственно намекает на противоестественные отношения между Иффландом и
берлинским актером Вурмом.
Стр. 306. ...Волчью долину и музыку Самиэля. -- Имеется в виду опера
Вебера "Вольный стрелок" (1821). Самиэлъ -- злой дух в этой опере, Волчья
долина -- место действия одной из демонических сцен.
Король Родриго -- последний король вестготов в Испании (VIII в.); по
преданию, обесчестил дочь своего вассала, за что тот привел в Испанию
мавров, которые казнили Родриго жуткой казнью: сбросили в ров к змеям. Этот
сюжет лег в основу многих романсов, трактуется он и в "Дон-Кихоте"
Сервантеса (II, 33).
Перевод В. Зоргенфрея
Популярность: 7, Last-modified: Mon, 06 Jan 2003 20:54:39 GmT
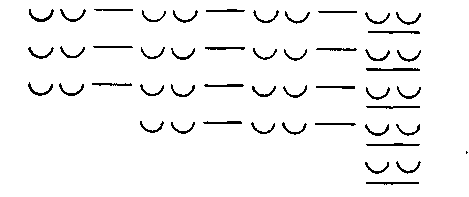 Занятие это, кажется, не очень по вкусу маленькому человечку, -- он,
наклоняясь, каждый раз вздыхает и сердито бормочет: спондей, трохей, ямб,
антиспаст, анапест и чертов пест. При этом он для большего удобства дви-
279
жений снял красную ливрею, и вот обнаружились две коротенькие скромные
ножонки в узких ярко-красных штанах и две тощие, несколько более длинные
руки, торчащие из белых широких рукавов рубашки.
-- Что это за странные знаки? -- спросил я, поглядев некоторое время на
его работу.
-- Это стопы в натуральную величину, -- простонал он в ответ, -- и я,
несчастный, должен помнить все эти стопы наизусть, и руки мои болят от этих
стоп, которые мне приходится писать. Это истинные, настоящие стопы поэзии.
Делаю я это только ради образованности, иначе я давно махнул бы рукой на
поэзию со всеми ее стопами. Сейчас я беру частные уроки поэтического
искусства у господина маркиза. Господин маркиз читает мне вслух стихи и
объясняет, из скольких стоп они состоят, а я должен отмечать их и проверять
потом, правильные ли стихи...
-- Вы, действительно, -- произнес маркиз дидактически-патетическим
тоном, -- застали нас за поэтическим занятием. Правда, я знаю, доктор, что
вы принадлежите к поэтам, у которых упрямая голова, и вы не согласны с тем,
что стопы -- главное дело в поэтическом искусстве. Но образованный ум можно
привлечь только совершенной формой, а этой последней можно научиться только
у греков и у новых поэтов, которые стремятся ко всему греческому, мыслят
по-гречески, чувствуют по-гречески и таким способом передают свои чувства
другому.
-- Разумеется, другому, а не другой, как поступают обыкновенно
не-классические поэты-романтики, -- заметил я, грешный.
-- Господин Гумпель говорит порой точно книга,-- прошептал мне сбоку
Гиацинт и сжал узкие губы, а глазки гордо засверкали блеском удовлетворения,
и головка восхищенно закачалась. -- Я вас уверяю, -- добавил он несколько
громче,-- он говорит порой точно книга, он тогда не человек, так сказать, а
высшее существо, и, слушая его, я как будто глупею.
-- А что у вас сейчас в руках? -- спросил я маркиза.
-- Брильянты, -- ответил он и передал мне книгу.
При слове "брильянты" Гиацинт высоко подскочил, но, увидев книгу,
страдальчески улыбнулся. На обложке брильянтовой книжки оказалось следующее
заглавие:
"Стихотворения графа Августа фон Платена. Штут-
280
гарт и Тюбинген. Издание книготорговой фирмы И.-Г. Котта. 1828".
На второй странице написано было красивым почерком: "В знак горячей
братской дружбы". При этом от книги распространялся запах, не имеющий ни
малейшего отношения к одеколону и объяснявшийся, может быть, тем
обстоятельством, что маркиз читал книжку всю ночь.
-- Я всю ночь не мог сомкнуть глаз, -- пожаловался он мне, -- я был так
взволнован, одиннадцать раз пришлось встать с постели, но, на счастье,
оказалась тут эта превосходная книга, из коей я почерпнул не только много
поучительного в области поэзии, но и жизненное утешение. Видите, с каким
уважением я отнесся к книге, в ней все страницы целы, а ведь порою, сидя,
как я сидел, я испытывал искушение...
-- Это, вероятно, кое с кем уже случалось, господин маркиз.
-- Клянусь вам нашей лоретской бргоматерью и говорю вам как честный
человек, -- продолжал он, -- стихи эти не имеют себе равных. Как вам
известно, вчера вечером я был в отчаянии, так сказать au
desespoir1, когда судьба лишила меня обладания моею Юлиею, и вот
я принялся читать эти стихи, по одному стихотворению всякий раз, когда
приходилось вставать, и в результате это равнодушие к женщинам так на меня
подействовало, что мне стали противны мои любовные страдания. Именно то и
прекрасно в этом поэте, что он пылает только к мужчинам -- горячею дружбою;
он отдает нам предпочтение перед женщинами, и уж за одну эту честь мы должны
быть ему благодарны. В этом он более велик, чем все остальные4 поэты; он не
льстит пошлому вкусу толпы, он исцеляет нас от нашей страсти к женщинам,
несущей столько несчастий... О женщины, женщины ! Тот, кто освободит нас от
ваших оков, будет благодетелем человечества. Вечно приходится сожалеть, что
Шекспир не употребил на это свой выдающийся драматический талант, ибо, как я
впервые прочитал здесь, он, оказывается, питал чувства не менее благородные,
чем великий граф Платен, который говорит о Шекспире в одном из своих
сонетов:
__________________
1 В отчаянии (фр.).
281
Ты не подпал девическому нраву,
И только дружбу ты ценил на свете, Твой друг тебя спасал из женской
сети, В его красе твоя печаль и слава.
В то время как маркиз с жаром декламировал эти слова и на языке его
словно таял чистейший навоз, Гиацинт корчил гримасы самого противоположного
свойства, вместе и сердитые и одобрительные, и наконец сказал:
-- Господин маркиз, вы говорите как книга, и стихи текут у вас опять
так же легко, как сегодня ночью, но содержание их мне не нравится. Как
мужчина я чувствую себя польщенным, что граф Платен отдает нам предпочтение
перед женщинами, но как сторонник женщин я опять-таки против него. Таков
человек! Один охотно ест лук, другому больше по душе горячая дружба. И я как
честный человек должен откровенно признаться, я охотнее ем лук, и кривая
кухарка мне милее, чем прекраснейший друг красоты. Да, должен признаться, не
вижу я в мужском поле столько уж красивого, чтобы можно было влюбиться.
Произнося последние слова, Гиацинт испытующе посмотрел на себя в
зеркало, а маркиз, не смущаясь, декламировал дальше:
Со счастием надежда гибнет вместе,
Но не сойтись -- увы! -- с тобою вместе;
В твоих устах мое так нежно имя,
Но нежный звук с тобой заглохнет вместе. Как солнце и луну, разъединить
нас Обычай с долгом порешили вместе. Склонись ко мне: твои чернеют кудри,
Мой светел лик -- они прекрасны вместе. Увы! я грежу -- ты меня
покинешь,
Нас не сведет с тобою счастье вместе! Сердца в крови, тела в разлуке
горькой;
Мы -- как цветы, сплелись бы тесно вместе!
-- Смешная поэзия! -- воскликнул Гиацинт, бормотавший себе под нос
рифмы, -- "обычай с долгом вместе, светлый лик мой вместе, с тобою вместе,
тесно вместе"! Смешная поэзия! Мой шурин, когда читает стихи, часто
забавляется тем, что в конце каждой строки прибавляет слова "спереди" и
"сзади" попеременно; но я не знал, что поэтические стихи, которые получаются
этим способом, называются газеллами. Нужно будет попробовать, не
282
станет ли еще красивее стихотворение, прочитанное маркизом, если каждый
раз после слова "вместе" прибавлять попеременно "спереди" и "сзади";
наверное, поэзии прибавится на двадцать процентов.
Не обращая внимания на эту болтовню, маркиз продолжал декламировать
газеллы и сонеты, в которых влюбленный воспевает своего прекрасного друга,
восхваляет его, жалуется на него, обвиняет его в холодности, составляет
планы, как бы проникнуть к нему, кокетничает с ним, ревнует, тает от
восторга, проходит целую шкалу любовных нежностей, и притом так пылко,
чувственно и страстно, что можно подумать, автор -- девчонка, с ума сходящая
от мужчин. Только при этом странно одно -- девчонка постоянно скорбит о том,
что ее любовь противна "обычаю", что она так же зла на этот "разлучающий
обычай", как карманный вор на полицию, что она любовно обняла бы "бедра"
друга, она жалуется на "лукавых завистников", которые "объединились, чтобы
нам мешать и нас держать в разлуке", она сетует на обиды и оскорбления,
причиняемые другом, уверяет его: "ни звуком не смущу твой слух, любимый" и,
наконец, признается:
Знакома мне в других любви преграда; Ты мне не внял, но ты и не
отвергнул Моей любви, мой друг, моя отрада.
Я должен засвидетельствовать, что маркиз хорошо декламировал эти стихи,
вздыхал вдоволь и, ерзая по дивану, как бы кокетничал своим седалищем.
Гиацинт отнюдь не упускал случая повторять за ним рифмы, хотя попутно и
вставлял неподходящие замечания. Больше всего привлекли его внимание оды.
-- Этот сорт, -- сказал он, -- научит большему, чем сонеты и газеллы; в
одах сверху особо отмечены стопы, и можно очень удобно проверить каждое
стихотворение. Каждому поэту следовало бы, как это делает граф Платен в
самых своих трудных поэтических стихах, отмечать сверху стопы, заявляя
читателям: "Видите, я честный человек, я не хочу вас обманывать, эти кривые
и прямые черточки, которые я ставлю перед каждым стихотворением, -- они, так
сказать, conto fintol для каждого стихо-
_____________________________________
1 "Воображаемый счет", номинальная запись в бухгалтерской книге (ит.).
283
творения, и вы можете подсчитать, скольких оно мне стоило трудов; они,
так сказать, -- масштаб для стихотворения; вы можете измерить стих, и если
недостает хоть одного слога, то назовите меня мошенником, говорю вам как
честный человек!" Но именно этим честным видом можно обмануть публику.
Именно, когда стопы отпечатаны перед стихотворением, всякий и подумает: к
чему мне быть недоверчивым, к чему мне делать подсчет, автор, конечно,
человек честный! И вот стоп не считают и попадаются впросак. Да и можно
разве каждый раз пересчитывать? Сейчас мы в Италии, и у меня есть время
отмечать стопы мелом на полу и проверять каждую оду. Но в Гамбурге, где у
меня свое дело, у меня не хватило бы времени и пришлось бы верить графу
Платену не считая, как веришь в кассе надписям на денежных мешках, когда
сказано, сколько в них сотен талеров, -- они ходят по рукам запечатанные,
каждый верит другому, что в них содержится столько, сколько написано; и
все-таки были примеры, что люди свободные, не имеющие лишнего дела,
вскрывали такие мешки, пересчитывали и находили, что двух-трех талеров
недостает. Так и в поэзии может быть много мошенничества. В особенности я
становлюсь недоверчив, когда подумаю о денежных мешках. Ведь мой шурин
рассказывал мне, что в тюрьме в Одензее сидит некий человек, который служил
на почте и бесчестно вскрывал денежные мешки, проходившие через его руки,
бесчестно вынимал из них деньги, а затем искусно зашивал их и отправлял
дальше. Когда слышишь о таком проворстве, то теряешь доверие к людям и
становишься человеком недоверчивым. Да, сейчас на свете много мошенничества,
и, конечно, в поэзии все обстоит так же, как и в других делах.
-- Честность, -- продолжал Гиацинт, в то время как маркиз декламировал
дальше, не обращая на нас внимания, целиком погрузившись в чувства, --
честность, господин доктор, -- главное дело, и того, кто не честный человек,
я считаю за мошенника, а кого я считаю за мошенника, у того я не покупаю
ничего, не читаю ничего -- короче, не имею с ним никаких дел. Я такой
человек, господин доктор, который ничего себе не воображает, а если бы я
хотел вообразить себе что-нибудь, то я вообразил бы себе, что я честный
человек. Я расскажу вам одну свою благородную черту, и вы изумитесь,-
284
говорю вам, вы изумитесь, это я говорю вам как честный человек. У нас в
Гамбурге, на Копейной площади, живет один человек, он зеленщик, и зовут его
Клетцхен, то есть я зову его Клетцхен, потому что мы с ним близкие приятели,
а зовут-то его господин Клотц. И жену его приходится звать мадам Клотц, и
она терпеть не могла, чтобы муж ее играл у меня, и когда ее муж хотел играть
через меня, то я не смел приходить к нему в дом с лотерейными билетами, и он
всегда говорил мне на улице: "Вот на такой-то и такой-то номер я хочу
сыграть, и вот тебе деньги, Гирш!" И я говорил всегда: "Хорошо, Клетцхен!" А
когда возвращался домой, то клал билет запечатанным в конверт отдельно для
него и писал на конверте немецкими буквами: за счет господина Христиана
Генриха Клотца. А теперь слушайте и изумляйтесь: был прекрасный весенний
день, деревья около биржи были зеленые, зефиры веяли так приятно, солнце
сверкало на небе, и я стоял у Гамбургского банка. И вот проходит Клетцхен,
мой Клетцхен, под руку со своей толстой мадам Клотц, сначала здоровается со
мною и начинает говорить о весеннем великолепии божьем, потом делает
несколько патриотических замечаний насчет гражданской милиции и спрашивает
меня, как дела; и я рассказываю ему, что несколько часов тому назад опять
кто-то стоял у позорного столба, и вот так, в разговоре, он говорит мне:
"Вчера ночью мне приснилось, что на номер 1538 упадет главный выигрыш". И в
тот момент, когда мадам Клотц начала рассматривать императорских статистов
перед ратушей, он всовывает мне в руку тринадцать полновесных луидоров, --
кажется, я и сейчас чувствую их в руке, -- и прежде чем мадам Клотц
обернулась, я говорю ему: "Хорошо, Клетцхен!" -- и ухожу. И иду напрямик, не
оглядываясь, в главную контору и беру номер 1538 и кладу в конверт, как
только возвращаюсь домой, и пишу на конверте: за счет господина Христиана
Генриха Клотца. И что же делает бог? Две недели спустя, чтобы испытать мою
честность, он делает так, что на номер 1538 падает выигрыш в пятьдесят тысяч
марок. А что делает Гирш, который стоит сейчас перед вами? Этот Гирш
надевает чистую белую верхнюю рубашку и чистый белый галстук, берет
извозчика и едет в главную контору за своими пятьюдесятью тысячами марок, и
отправляется с ними на Копейную площадь. А Клетц-
285
хен, увидев меня, спрашивает: "Гирш, почему ты сегодня такой нарядный?"
Но я, не отвечая ни слова, кладу на стол большой сюрпризный мешок с золотом
и говорю весьма торжественно: "Господин Христиан Генрих Клотц! Номер 1538,
который вам угодно было заказать мне, удостоился счастья выиграть пятьдесят
тысяч марок; имею честь преподнести вам в этом мешке деньги и позволяю себе
попросить расписку". Клетцхен, как только услышал это, начинает плакать,
мадам Клотц, услышав эту историю, начинает плакать, рыжая служанка плачет,
кривой приказчик плачет, дети плачут, а я? Такой чувствительный человек,
каков я есть, я все-таки не мог заплакать и сначала упал в обморок, и потом
только слезы полились у меня из глаз, как ручей, и я проплакал три часа.
Голос маленького человечка дрожал, когда он рассказывал это, и он
торжественно вытащил из кармана пакетик, о котором упоминалось выше,
развернул выцветшую розовую тафту и показал мне квитанцию, на которой
Христиан Генрих Клотц расписался в получении пятидесяти тысяч марок сполна.
-- Когда я умру, -- произнес Гиацинт, прослезившись, -- пусть положат
со мной в могилу эту квитанцию, и когда мне придется там, наверху, в день
суда дать отчет в моих делах, я выступлю перед престолом всемогущего с этой
квитанцией в руке; и когда мой злой ангел прочтет все злые дела, которые я
совершил на этом свете, а мой добрый ангел тоже захочет прочесть список моих
добрых дел, тогда я скажу спокойно: "Помолчи! Ответь только, подлинная ли
эта квитанция? Это -- подпись Христиана Генриха Клотца?" Тогда прилетит
маленький-маленький ангел и скажет, что ему доподлинно известна подпись
Клетцхена, и расскажет при этом замечательную историю о честности, которую я
когда-то проявил. И творец вечности, всеведущий, который все знает, вспомнит
об этой истории и похвалит меня в присутствии солнца, луны и звезд и тут же
высчитает в голове, что если вычесть из пятидесяти тысяч марок честности мои
злые дела, то все-таки сальдо останется в мою пользу, и он скажет: "Гирш!
назначаю тебя ангелом первой степени; можешь носить крылья с красными и
белыми перьями".
286
Занятие это, кажется, не очень по вкусу маленькому человечку, -- он,
наклоняясь, каждый раз вздыхает и сердито бормочет: спондей, трохей, ямб,
антиспаст, анапест и чертов пест. При этом он для большего удобства дви-
279
жений снял красную ливрею, и вот обнаружились две коротенькие скромные
ножонки в узких ярко-красных штанах и две тощие, несколько более длинные
руки, торчащие из белых широких рукавов рубашки.
-- Что это за странные знаки? -- спросил я, поглядев некоторое время на
его работу.
-- Это стопы в натуральную величину, -- простонал он в ответ, -- и я,
несчастный, должен помнить все эти стопы наизусть, и руки мои болят от этих
стоп, которые мне приходится писать. Это истинные, настоящие стопы поэзии.
Делаю я это только ради образованности, иначе я давно махнул бы рукой на
поэзию со всеми ее стопами. Сейчас я беру частные уроки поэтического
искусства у господина маркиза. Господин маркиз читает мне вслух стихи и
объясняет, из скольких стоп они состоят, а я должен отмечать их и проверять
потом, правильные ли стихи...
-- Вы, действительно, -- произнес маркиз дидактически-патетическим
тоном, -- застали нас за поэтическим занятием. Правда, я знаю, доктор, что
вы принадлежите к поэтам, у которых упрямая голова, и вы не согласны с тем,
что стопы -- главное дело в поэтическом искусстве. Но образованный ум можно
привлечь только совершенной формой, а этой последней можно научиться только
у греков и у новых поэтов, которые стремятся ко всему греческому, мыслят
по-гречески, чувствуют по-гречески и таким способом передают свои чувства
другому.
-- Разумеется, другому, а не другой, как поступают обыкновенно
не-классические поэты-романтики, -- заметил я, грешный.
-- Господин Гумпель говорит порой точно книга,-- прошептал мне сбоку
Гиацинт и сжал узкие губы, а глазки гордо засверкали блеском удовлетворения,
и головка восхищенно закачалась. -- Я вас уверяю, -- добавил он несколько
громче,-- он говорит порой точно книга, он тогда не человек, так сказать, а
высшее существо, и, слушая его, я как будто глупею.
-- А что у вас сейчас в руках? -- спросил я маркиза.
-- Брильянты, -- ответил он и передал мне книгу.
При слове "брильянты" Гиацинт высоко подскочил, но, увидев книгу,
страдальчески улыбнулся. На обложке брильянтовой книжки оказалось следующее
заглавие:
"Стихотворения графа Августа фон Платена. Штут-
280
гарт и Тюбинген. Издание книготорговой фирмы И.-Г. Котта. 1828".
На второй странице написано было красивым почерком: "В знак горячей
братской дружбы". При этом от книги распространялся запах, не имеющий ни
малейшего отношения к одеколону и объяснявшийся, может быть, тем
обстоятельством, что маркиз читал книжку всю ночь.
-- Я всю ночь не мог сомкнуть глаз, -- пожаловался он мне, -- я был так
взволнован, одиннадцать раз пришлось встать с постели, но, на счастье,
оказалась тут эта превосходная книга, из коей я почерпнул не только много
поучительного в области поэзии, но и жизненное утешение. Видите, с каким
уважением я отнесся к книге, в ней все страницы целы, а ведь порою, сидя,
как я сидел, я испытывал искушение...
-- Это, вероятно, кое с кем уже случалось, господин маркиз.
-- Клянусь вам нашей лоретской бргоматерью и говорю вам как честный
человек, -- продолжал он, -- стихи эти не имеют себе равных. Как вам
известно, вчера вечером я был в отчаянии, так сказать au
desespoir1, когда судьба лишила меня обладания моею Юлиею, и вот
я принялся читать эти стихи, по одному стихотворению всякий раз, когда
приходилось вставать, и в результате это равнодушие к женщинам так на меня
подействовало, что мне стали противны мои любовные страдания. Именно то и
прекрасно в этом поэте, что он пылает только к мужчинам -- горячею дружбою;
он отдает нам предпочтение перед женщинами, и уж за одну эту честь мы должны
быть ему благодарны. В этом он более велик, чем все остальные4 поэты; он не
льстит пошлому вкусу толпы, он исцеляет нас от нашей страсти к женщинам,
несущей столько несчастий... О женщины, женщины ! Тот, кто освободит нас от
ваших оков, будет благодетелем человечества. Вечно приходится сожалеть, что
Шекспир не употребил на это свой выдающийся драматический талант, ибо, как я
впервые прочитал здесь, он, оказывается, питал чувства не менее благородные,
чем великий граф Платен, который говорит о Шекспире в одном из своих
сонетов:
__________________
1 В отчаянии (фр.).
281
Ты не подпал девическому нраву,
И только дружбу ты ценил на свете, Твой друг тебя спасал из женской
сети, В его красе твоя печаль и слава.
В то время как маркиз с жаром декламировал эти слова и на языке его
словно таял чистейший навоз, Гиацинт корчил гримасы самого противоположного
свойства, вместе и сердитые и одобрительные, и наконец сказал:
-- Господин маркиз, вы говорите как книга, и стихи текут у вас опять
так же легко, как сегодня ночью, но содержание их мне не нравится. Как
мужчина я чувствую себя польщенным, что граф Платен отдает нам предпочтение
перед женщинами, но как сторонник женщин я опять-таки против него. Таков
человек! Один охотно ест лук, другому больше по душе горячая дружба. И я как
честный человек должен откровенно признаться, я охотнее ем лук, и кривая
кухарка мне милее, чем прекраснейший друг красоты. Да, должен признаться, не
вижу я в мужском поле столько уж красивого, чтобы можно было влюбиться.
Произнося последние слова, Гиацинт испытующе посмотрел на себя в
зеркало, а маркиз, не смущаясь, декламировал дальше:
Со счастием надежда гибнет вместе,
Но не сойтись -- увы! -- с тобою вместе;
В твоих устах мое так нежно имя,
Но нежный звук с тобой заглохнет вместе. Как солнце и луну, разъединить
нас Обычай с долгом порешили вместе. Склонись ко мне: твои чернеют кудри,
Мой светел лик -- они прекрасны вместе. Увы! я грежу -- ты меня
покинешь,
Нас не сведет с тобою счастье вместе! Сердца в крови, тела в разлуке
горькой;
Мы -- как цветы, сплелись бы тесно вместе!
-- Смешная поэзия! -- воскликнул Гиацинт, бормотавший себе под нос
рифмы, -- "обычай с долгом вместе, светлый лик мой вместе, с тобою вместе,
тесно вместе"! Смешная поэзия! Мой шурин, когда читает стихи, часто
забавляется тем, что в конце каждой строки прибавляет слова "спереди" и
"сзади" попеременно; но я не знал, что поэтические стихи, которые получаются
этим способом, называются газеллами. Нужно будет попробовать, не
282
станет ли еще красивее стихотворение, прочитанное маркизом, если каждый
раз после слова "вместе" прибавлять попеременно "спереди" и "сзади";
наверное, поэзии прибавится на двадцать процентов.
Не обращая внимания на эту болтовню, маркиз продолжал декламировать
газеллы и сонеты, в которых влюбленный воспевает своего прекрасного друга,
восхваляет его, жалуется на него, обвиняет его в холодности, составляет
планы, как бы проникнуть к нему, кокетничает с ним, ревнует, тает от
восторга, проходит целую шкалу любовных нежностей, и притом так пылко,
чувственно и страстно, что можно подумать, автор -- девчонка, с ума сходящая
от мужчин. Только при этом странно одно -- девчонка постоянно скорбит о том,
что ее любовь противна "обычаю", что она так же зла на этот "разлучающий
обычай", как карманный вор на полицию, что она любовно обняла бы "бедра"
друга, она жалуется на "лукавых завистников", которые "объединились, чтобы
нам мешать и нас держать в разлуке", она сетует на обиды и оскорбления,
причиняемые другом, уверяет его: "ни звуком не смущу твой слух, любимый" и,
наконец, признается:
Знакома мне в других любви преграда; Ты мне не внял, но ты и не
отвергнул Моей любви, мой друг, моя отрада.
Я должен засвидетельствовать, что маркиз хорошо декламировал эти стихи,
вздыхал вдоволь и, ерзая по дивану, как бы кокетничал своим седалищем.
Гиацинт отнюдь не упускал случая повторять за ним рифмы, хотя попутно и
вставлял неподходящие замечания. Больше всего привлекли его внимание оды.
-- Этот сорт, -- сказал он, -- научит большему, чем сонеты и газеллы; в
одах сверху особо отмечены стопы, и можно очень удобно проверить каждое
стихотворение. Каждому поэту следовало бы, как это делает граф Платен в
самых своих трудных поэтических стихах, отмечать сверху стопы, заявляя
читателям: "Видите, я честный человек, я не хочу вас обманывать, эти кривые
и прямые черточки, которые я ставлю перед каждым стихотворением, -- они, так
сказать, conto fintol для каждого стихо-
_____________________________________
1 "Воображаемый счет", номинальная запись в бухгалтерской книге (ит.).
283
творения, и вы можете подсчитать, скольких оно мне стоило трудов; они,
так сказать, -- масштаб для стихотворения; вы можете измерить стих, и если
недостает хоть одного слога, то назовите меня мошенником, говорю вам как
честный человек!" Но именно этим честным видом можно обмануть публику.
Именно, когда стопы отпечатаны перед стихотворением, всякий и подумает: к
чему мне быть недоверчивым, к чему мне делать подсчет, автор, конечно,
человек честный! И вот стоп не считают и попадаются впросак. Да и можно
разве каждый раз пересчитывать? Сейчас мы в Италии, и у меня есть время
отмечать стопы мелом на полу и проверять каждую оду. Но в Гамбурге, где у
меня свое дело, у меня не хватило бы времени и пришлось бы верить графу
Платену не считая, как веришь в кассе надписям на денежных мешках, когда
сказано, сколько в них сотен талеров, -- они ходят по рукам запечатанные,
каждый верит другому, что в них содержится столько, сколько написано; и
все-таки были примеры, что люди свободные, не имеющие лишнего дела,
вскрывали такие мешки, пересчитывали и находили, что двух-трех талеров
недостает. Так и в поэзии может быть много мошенничества. В особенности я
становлюсь недоверчив, когда подумаю о денежных мешках. Ведь мой шурин
рассказывал мне, что в тюрьме в Одензее сидит некий человек, который служил
на почте и бесчестно вскрывал денежные мешки, проходившие через его руки,
бесчестно вынимал из них деньги, а затем искусно зашивал их и отправлял
дальше. Когда слышишь о таком проворстве, то теряешь доверие к людям и
становишься человеком недоверчивым. Да, сейчас на свете много мошенничества,
и, конечно, в поэзии все обстоит так же, как и в других делах.
-- Честность, -- продолжал Гиацинт, в то время как маркиз декламировал
дальше, не обращая на нас внимания, целиком погрузившись в чувства, --
честность, господин доктор, -- главное дело, и того, кто не честный человек,
я считаю за мошенника, а кого я считаю за мошенника, у того я не покупаю
ничего, не читаю ничего -- короче, не имею с ним никаких дел. Я такой
человек, господин доктор, который ничего себе не воображает, а если бы я
хотел вообразить себе что-нибудь, то я вообразил бы себе, что я честный
человек. Я расскажу вам одну свою благородную черту, и вы изумитесь,-
284
говорю вам, вы изумитесь, это я говорю вам как честный человек. У нас в
Гамбурге, на Копейной площади, живет один человек, он зеленщик, и зовут его
Клетцхен, то есть я зову его Клетцхен, потому что мы с ним близкие приятели,
а зовут-то его господин Клотц. И жену его приходится звать мадам Клотц, и
она терпеть не могла, чтобы муж ее играл у меня, и когда ее муж хотел играть
через меня, то я не смел приходить к нему в дом с лотерейными билетами, и он
всегда говорил мне на улице: "Вот на такой-то и такой-то номер я хочу
сыграть, и вот тебе деньги, Гирш!" И я говорил всегда: "Хорошо, Клетцхен!" А
когда возвращался домой, то клал билет запечатанным в конверт отдельно для
него и писал на конверте немецкими буквами: за счет господина Христиана
Генриха Клотца. А теперь слушайте и изумляйтесь: был прекрасный весенний
день, деревья около биржи были зеленые, зефиры веяли так приятно, солнце
сверкало на небе, и я стоял у Гамбургского банка. И вот проходит Клетцхен,
мой Клетцхен, под руку со своей толстой мадам Клотц, сначала здоровается со
мною и начинает говорить о весеннем великолепии божьем, потом делает
несколько патриотических замечаний насчет гражданской милиции и спрашивает
меня, как дела; и я рассказываю ему, что несколько часов тому назад опять
кто-то стоял у позорного столба, и вот так, в разговоре, он говорит мне:
"Вчера ночью мне приснилось, что на номер 1538 упадет главный выигрыш". И в
тот момент, когда мадам Клотц начала рассматривать императорских статистов
перед ратушей, он всовывает мне в руку тринадцать полновесных луидоров, --
кажется, я и сейчас чувствую их в руке, -- и прежде чем мадам Клотц
обернулась, я говорю ему: "Хорошо, Клетцхен!" -- и ухожу. И иду напрямик, не
оглядываясь, в главную контору и беру номер 1538 и кладу в конверт, как
только возвращаюсь домой, и пишу на конверте: за счет господина Христиана
Генриха Клотца. И что же делает бог? Две недели спустя, чтобы испытать мою
честность, он делает так, что на номер 1538 падает выигрыш в пятьдесят тысяч
марок. А что делает Гирш, который стоит сейчас перед вами? Этот Гирш
надевает чистую белую верхнюю рубашку и чистый белый галстук, берет
извозчика и едет в главную контору за своими пятьюдесятью тысячами марок, и
отправляется с ними на Копейную площадь. А Клетц-
285
хен, увидев меня, спрашивает: "Гирш, почему ты сегодня такой нарядный?"
Но я, не отвечая ни слова, кладу на стол большой сюрпризный мешок с золотом
и говорю весьма торжественно: "Господин Христиан Генрих Клотц! Номер 1538,
который вам угодно было заказать мне, удостоился счастья выиграть пятьдесят
тысяч марок; имею честь преподнести вам в этом мешке деньги и позволяю себе
попросить расписку". Клетцхен, как только услышал это, начинает плакать,
мадам Клотц, услышав эту историю, начинает плакать, рыжая служанка плачет,
кривой приказчик плачет, дети плачут, а я? Такой чувствительный человек,
каков я есть, я все-таки не мог заплакать и сначала упал в обморок, и потом
только слезы полились у меня из глаз, как ручей, и я проплакал три часа.
Голос маленького человечка дрожал, когда он рассказывал это, и он
торжественно вытащил из кармана пакетик, о котором упоминалось выше,
развернул выцветшую розовую тафту и показал мне квитанцию, на которой
Христиан Генрих Клотц расписался в получении пятидесяти тысяч марок сполна.
-- Когда я умру, -- произнес Гиацинт, прослезившись, -- пусть положат
со мной в могилу эту квитанцию, и когда мне придется там, наверху, в день
суда дать отчет в моих делах, я выступлю перед престолом всемогущего с этой
квитанцией в руке; и когда мой злой ангел прочтет все злые дела, которые я
совершил на этом свете, а мой добрый ангел тоже захочет прочесть список моих
добрых дел, тогда я скажу спокойно: "Помолчи! Ответь только, подлинная ли
эта квитанция? Это -- подпись Христиана Генриха Клотца?" Тогда прилетит
маленький-маленький ангел и скажет, что ему доподлинно известна подпись
Клетцхена, и расскажет при этом замечательную историю о честности, которую я
когда-то проявил. И творец вечности, всеведущий, который все знает, вспомнит
об этой истории и похвалит меня в присутствии солнца, луны и звезд и тут же
высчитает в голове, что если вычесть из пятидесяти тысяч марок честности мои
злые дела, то все-таки сальдо останется в мою пользу, и он скажет: "Гирш!
назначаю тебя ангелом первой степени; можешь носить крылья с красными и
белыми перьями".
286