---------------------------------------------------------------
© Copyright Ирина Машинская
Email: imashinski@netzero.net
WWW: http://www.vavilon.ru/texts/prim/mashinskaya0.html
Date: 12 Sep 2002
Издание Е.Пахомовой (ЛИА Р.Элинина), Москва, 2001
ISBN 5-86280-081-6
---------------------------------------------------------------
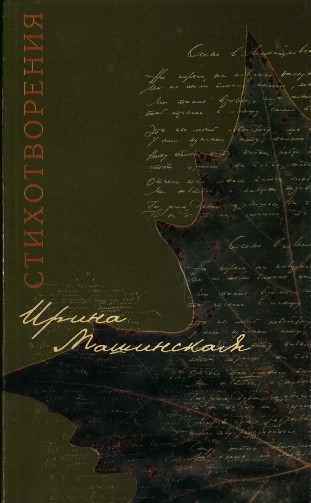 Ирина Машинская родилась в Москве. Окончила Географический факультет и
аспирантуру МГУ, где занималась теоретической палеоклиматологией. В 1991
году эмигрировала в США. Живет в нью-джерсийском городке Фэр Лон и преподает
математику в школе.
Ирина Машинская родилась в Москве. Окончила Географический факультет и
аспирантуру МГУ, где занималась теоретической палеоклиматологией. В 1991
году эмигрировала в США. Живет в нью-джерсийском городке Фэр Лон и преподает
математику в школе.
Другие книги Ирины Машинской:
1. Потому что мы здесь/Because We Are Here, сборник стихов на русском и
английском языках. Lunar Offensive Press, NY 1995.
2. После эпиграфа, книга стихотворений. Слово-Word, Нью-Йорк, 1996.
3. Простые времена, книга стихотворений. Hermitage Publishers,
Тенафлай, США, 2000.
Крейг Чури. Параллельное течение. Книгах стихов американского поэта в
переводах Ирины Машинской. Петрополь, С.-Пб., 1999
Автор выражает благодарность следующим изданиям, в которых были впервые
опубликованы стихотворения, вошедшие в эту книгу: Звезда, Арион, Петрополь,
Новая Юность, Время и мы (Россия); Слово, Новое Русское Слово, Новый Журнал,
Портфель, Встречи, Побережье, Черновик, Сталкер, Профиль (США); Русская
Мысль, Стетоскоп (Франция).
Осень в Михайловском
Элегия
Памяти И.А.Бродского
"В полседьмого навеки стемнеет..."
Автобус. Ньюарк, Нью-Джерси
Ветер
"Скажи, а кто устраивает вечер?"
В подъезде
"По двору, по канаве, трубе..."
Памяти "Иллюзиона"
"Перелески в окне - как реклама на длинном плакате..."
Ответ
Лагуна
Отрывок из письма с берега
TV
Митинг. 2000
"Они стоят лицом к стене..."
"Пришли простые времена..."
"Не в оцинкованное, с солью..."
Гроза в июне
"В такие дни тебя отсавляют люди..."
В горах
Шесть отрывков
Блюз
"Темное поле свое перейддем..."
Почтовое
Эпитафия
Август. 40
"Пусть никогда не приду в себя..."
"Четверг, тебя убили в понедельник..."
Июль
"Сегодня видно далеко..."
Годовщина
Жизнь в июле
"Но Вы-то, слава Богу, не..."
"Пространство, я тебя не опечалю..."
30 декабря 1996
В конце года
Антикварное
Воскресенье
В югендстиле. Браунау-Ам-Инн
"Сегодня ночью проложу..."
"О, я люблю тебя давно..."
Гром в марте
Москва
"Не сумев на чужом, не умею сказать на родном..."
Блюз пешего хода
Шесть с четвертью
"Что-то я от тебя от себя устала..."
"Пора вернуться к самому началу..."
"Страна, принимавшая тех, кто родился в апреле..."
Поэт и слависты
Не хочу
"Что в рифму гудеть нам, когда не слыхать отголоска?.."
Песни унылой родины
Тамбов
Ночная остановка
Птичий рынок
Инородец ("Деревья к сентябрю теряют вес...")
Утро на кухне
Заговор
После потопа
Вид из поезда на закате
"Нет, не тот это город, и полдень - не тот. На углу.."
Лунная ночь
На дороге
"Знаешь, не будем спорить, спор слеп..."
Городок
"Луна. Молчит виноградник..."
Любовь
В паузе
"Как в розвальни упавший старовер..."
Весенний крик воробья
Колыбельная с отгадкой
Трамвайная элегия
В соснах
"Выйти замуж..."
На мотив 60-х
"Дали мне простое имя..."
"Это зимою вставай, пора..."
Поэту, с опозданием
"Не растрачивай словасловаслова..."
"Непоющий певец и ручья не прошел..."
Маме
__________________________________________________________________________
ОСЕНЬ В МИХАЙЛОВСКОМ
На коряги, на ковриги наступали мы в лесу.
Мы не жгли плохие книги, мы не мучили лису.
Мы такое время года обнаружили впопад,
чтоб горящее с исподу само плыло в самопад.
Это кто летит навстречу, мы его перевернем.
У него изнанки нету, только стороны вдвоем.
Нету тайны, нету пытки, ветер дунет второпях:
этот прыгает на пятке, этот едет на бровях.
Отчего так много пятен, очень много синевы?
Мы невнятен и, наверно, незанятен, как и вы.
Ты зачем, дурак, гордишся, ты такой, как мы, дурак.
Ты на то, что мы, садишься, то же синее вокруг.
Мы не будем разрываться, внутри нету ничего,
только эху разрыдаться мимо дома ничьего.
Снизу желтый, сверху синий, фиолетовый венец.
Мы спокоен, мы свободен, мы спокоен, наконец.
Октябрь 1995
ЭЛЕГИЯ
Допустим, уснул -
но не видишься спящим. Повсюду,
как крошек, какого-то жадного люду.
И тот, кто тебя осуждал - и теперь осужает,
а тот, кто тебя осаждал - и теперь осаждает
тобой опрокинутый стул.
Река, и по ней
проплывает лишь берег. Не сразу
поймешь расщепленную надвое фразу,
осколок, сметенный как будто под лавку
- под строчку
но то, что наутро уже не наденешь сорочку -
вот это больней.
У нас карантин,
все блудят и читают газеты.
Мне под руку лезут какие-то вырезки, где ты
не слишком похож, типографски выходишь, тревожно,
и пачкаешь пальцы, как бабочка, смотришь несложно,
обычно один.
Насчет новостей:
ты не знаешь, какая погода.
Погода - подобье вчерашней. Полгода
тебя не бывало, чтоб это отметить, и нету
сегодня. Одежду пустую уже потащила по свету
молва без костей.
Ты эти слова
вероятно, получишь не скоро.
Я спорить ни с кем не намерена, спора
ужасней лишь истина, так же, как мертвого - спящий
один беззащитней. Правей меня первый входящий,
а я не права.
Я это пишу
находясь у реки, по привычке.
Рассвет, и приятно нащупывать спички,
пока понемногу приподымается полог,
золу пошевеливать прутиком, как археолог,
останки какого-то Шу.
На том берегу
постепенно расходится пена
тумана, сырая выходит Камена
горы, по теченью лежащей горбато, отлого,
округлого мира полна, словно счастья - эклога,
как спящий на правом боку.
29 июля 1996
ПАМЯТИ И.А. БРОДСКОГО
Вот, в роще, уже не священной, давно отведенной
под сруб,
и ты пролетел, только шаркнул подошвой о воздух.
С деревьев пускай
твое имя слетает, но только не с губ.
Еще поглазеет хвоя, что тебе до того? Вот, на звездах
ближайших уже различима твоя нетяжелая тень.
Уже ничего, что б могло задержать - не случилось.
Уже потащили куда-то, и сняли подсумок, ремень,
сугроб накидали, чтоб только не в землю сочилось.
Молчу оттого, что молчать тяжелее всего.
Видавшая виды братва языком отмолола.
А нашим понятно, как нашего, собственно, мало:
покуришь - и дальше, не вечно ж светить на село.
Чем выше, тем зренье острее. На пне
меня различишь, усмехнувшись,
и далее, в кронах -
отдельные ветки, как ворс на тяжелом сукне.
Всю вырубку эту, как место звезды на погонах.
Июль 1996
В полседьмого навеки стемнеет.
Я вернусь в городок никакой.
Пусть он взвоет, пускай озвереет
мотоцикл за Пассаик-рекой.
От платформы до серой парковки
- как пойду в темноте, пустоте?
По реке города, как спиртовки,
и над ними Ничто в высоте.
Никого моя жизнь не спасает.
Светофоры горят из кустов.
Это тихое слово Пассаик
пострашнее татарских костров.
Вы рубились на темной Каяле -
нам темнее знакомы места:
тут машины весь день простояли
у восточного края моста.
Все же странно, что с этой горою
неподвижной - по небу лечу.
Я примерзшую дверцу открою
и холодное сердце включу.
14 декабря 1995
АВТОБУС. НЬЮАРК, НЬЮ-ДЖЕРСИ
Окно, газета, жара. Красот -
не видно. Черная женщина ест кроссворд.
По горизонтали: через проход
белая женщина ест кроссворд.
Август, с истории взятки гладки -
люди ложатся, как закладки,
прямо в анналы, минуя землю.
Я еду, едва приемлю.
Я еду, и это гетто
налево. Направо - где-то
по вертикали:
(сверни газету!)
печь за нами бредет по свету
желтая (справа как раз и жарко).
Жаль, эрцгерцог не знал Ньюарка -
тут его бы не откопали.
Тут заканчивается пространство.
Мусор пенится, как убранство,
кружево серое, как оборка.
Вот где жарко!
Вот где вышло нам мыть посуду,
а "раскладываться не стоит" -
кто ж спорит!
Околачиваешься повсюду.
Я не знаю, зачем автобус
вышивает по беспределу
свой стеклярус. Меня сей ребус
укачал, не того хотела.
Мы допишем свои граффити.
Если бьют - то уже ногами.
Уголь мажется по газете.
Я не знаю, зачем тут дети.
Жуткий звон, если кинуть камень.
Август 1993
ВЕТЕР
С.Волкову
Сидите тихо, господа,
у них там ружья наготове.
И не играйте на гитаре,
и не ходите никуда.
Зачем крутится ветр в овраге?
Подъемля пыль, идут варяги.
Несут хоругви боевые,
корявые, как никогда.
Слышь, лес ползет, сухое днище.
Вот гнет сосну, что кнутовище.
Вот нож кладет за голенище
пока молчавший тамада.
Зачем бросать в бороздку семя,
зачем носить пустое имя,
зачем, зачем бродить со всеми?
Ведь ты один, как никогда.
15 марта 1999
* * *
В зеленых плакали и пели....
А.Блок
Скажи, а кто устраивает вечер?
Пришла давно, а никого не знаю.
Все разбрелись, им хорошо друг с другом,
зовут к себе, а я, поверь, стесняюсь.
Со мною друга нет. Со мною друг не ходит,
не ходит он, где я еще бываю.
А как кого зовут - я забываю,
и кто меня находит, тот находит.
Их лица озаренные, сквозь дымку
искусственого света, как на вече -
я их люблю, но близко к фотоснимку
не подойдешь, любовь, темня далече...
Как в поезде, как ложечка в стакане,
торчишь вот так, ломясь посередине.
Так свежесрезанный сидит в своем ульпане,
по пояс в зелени, башкой в ультрамарине.
Вот выпустили рыбку, а куда ей?
А лбом в стекло, улыбкой об улыбку.
Зеленые бегут-бегут за стаей,
раскачивают синие, как зыбку.
2000
В ПОДЪЕЗДЕ
Соне Чандлер
Спустись по лестнице, отстань
от няни. К батарее встань.
И в сон тебя потянет, в сон.
Окно морщит, как целлофан,
на подоконнике стакан
и трупик варежки чужой.
И столько света над водой,
в листве, изученной тобой,
а осень - как стакан пустой.
Две птицы есть на свете, их
сегодня нету. Их двоих
сегодня нету во дворе.
Вода морщит, как 33
и ты в пальто стоишь - смотри:
неглубоко, но ты внутри.
2000
* * *
По двору, по канаве, трубе,
по унылому, в пятнах, ТВ,
по топтанью у рампы подъездной -
я скучаю, мой друг, по тебе.
Может, это лазейки ГБ,
или это жалейки БГ -
я сыграла б на балалайке,
я скучаю сейчас по тебе.
Эти встречи в подземной толпе,
эти драмы в подъездном тепле,
расставанья столбняк - оглянуться
было больно, мой друг - а тебе?
- в ноябре, октябре, сентябре -
эти звезды, луна, и т.п.,
эта оторопь ночи морозной -
это все возвращалось к тебе.
Кому чайник, и след на столе -
а нам - свет на последнем столбе.
До свиданья, мой друг, до свиданья -
хорошо ль тосковать по тебе?
По Васильевской, как по тропе.
Фонари в изумрудном тряпье.
Все-то в мае твоем, и июне
посвящалось бы только тебе.
Уезжай, никого не губя,
и живи, ни о ком не трубя.
Забывая, мой друг, забывая,
привыкая к себе без тебя.
1997
ПАМЯТИ ИЛЛЮЗИОНА
...Да лишь асфальт шероховатый
и черно-белое ситро.
Висели разные плакаты
у разных выходов метро.
И были всякие уловки,
чтобы запомнить, где какой,
и у стеклянной остановки
автобусные рокировки
внушали смутный непокой.
Ты никого не растревожишь,
пожалуйста, не продолжай,
воспоминанья не подложишь,
как ты его ни наряжай.
Не видит прошлого картины,
кто голову не поднимал,
а только на одну картину
зрачок землистый поднимал:
а только в горку, по панели,
по сумеречной грязи он,
как рядовой, стремился к цели,
и тихо лампочки горели
над крепостью "Иллюзион".
май 1997
Перелески в окне - как реклама на длинном плакате:
разбираешь под утро, а сложишь уже на закате
то, что может сойти и за смысл, если круглые даты,
а замедлится если - то ели стоят, как солдаты.
До того как войдет проводник
с неизбежным вопросом,
ты умылся и едешь под голубым купоросом.
Только утром, пожалуй, и смотришь
с таким интересом,
словно тут ты живешь, за каким - все не выберешь,
лесом.
Но полуденный мир поражает подобьем устройства.
Переехав, ты только удвоишь размеры изгойства.
Разве ноги размять или яблок купить, а отстанешь -
только бабки останутся, сам же козленочком станешь.
Примеряйся хоть сколько к чужому вприглядку,
вприкуску -
не ухватишь всего на ужимку, утряску, утруску:
то луга, то стога, то снопы кувырком, как попало,
и лесок на стекле, и закатом горит одеяло.
Как печально чаинок вращенье в стакане граненом,
в этом свете, с востока зеленом, а справа каленом,
отставая повсюду, как есть расставаться готовясь -
не сегодня, так завтра - какая им разница, то есть.
сентябрь 1999
ОТВЕТ
А.С.
Бежит речка, как живая,
избегая общих мест,
Господа не называя,
крутит лист и камни ест.
Все, что знаем о свободе, -
из чужого словаря.
Ты скажи хоть о погоде,
но с другим не говоря.
Что - свобода? Ну свобода.
Пустота со всех сторон.
Мой глагол - другого рода,
оттого протяжней он.
(К этой строчке примечанье -
на окраине листа:
чем длиннее окончанье,
тем пустыннее места.)
Друг далекий, Селиванский!
Только воздух надо мной.
Слева берег пенсильванский,
справа берег - как родной.
Для того нужна граница,
для того я тут стою.
Вот летит большая птица,
я ее не узнаю.
март 1997
ЛАГУНА
Грядущее, подобное следам,
По влажному песку бежит от гунна.
Но я своей свободы не отдам.
К утру остыла гладкая лагуна -
по щиколотку, с горем пополам,
войдешь - и ладно. Рано, спит коммуна,
община затаилась по углам.
А ты твердишь: в общении лакуна.
Вот, рыбки мечутся, у них и то - бедлам,
и быстрых слов, что пузырьков нарзана,
но я люблю их по воде чертеж.
Лимонный свет, сияющий с экрана,
ломает пальцы, дальше - не войдешь.
Так вот она, свобода: мелко, плоско,
и холод снизу, поверху - галдеж,
описанный до нас, вдали - полоска
слепящей отмели. И даже если "я"
не значит "я", то этого наброска
достаточно, как слов "мое", "моя".
Ни эллина, похоже, ни этруска
не надобно совсем, душа моя,
когда и горизонт тебе - кутузка.
1995
ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА С БЕРЕГА
... и не сыщешь, хоть зрачок разорви,
до самого горизонта визави,
разве море - вот с ним говори.
Только башни, но не китеж: вокзал
поднимается со дна - и мотив
изменяется, как будто вассал
успокоился, сполна уплатив.
Только башни, но не китеж: вокзал
поднимается со дна, полон рот.
Все, что нам Карамзин рассказал,
исподлобья глядит из-под вод.
Что затеяно - не нам расхлебать,
и уж точно - не нам разглядеть.
Но в теплушки - русалкам вплывать
и на рифмах глагольных сидеть.
Наш мотивчик мелковат, подловат.
За живое - ну кого он возьмет?
Но мы знаем, как неглубоко тут ад
выше рая, где метрический мед,
завершив метонимический круг,
как под утро оглядишься: сам-друг,
как метафоры погасишь фонарь,
превращается снова - в янтарь.
И не вспомнишь никогда, почему
потревожили морскую пчелу.
Волны катят без числа на Чечню,
Возвращаются с лихвой на Чухну.
1 июля 1996
TV
не помнили, как кончилась зима
столетие уже не лезло в рамку
последних новостей а вот самум
и море лижет ранку
не значилась когда она падет
история иль как ее
казалось
до осени саддам не нападет
как будто это нас касалось
1993
МИТИНГ. 2000
Ходили в школы бедные за дальний переезд,
горланили победное, что нас никто не съест,
мол, нас никто не слопает - ни русские, ни те.
Мв все оденем новеое на тысячной черте.
Не колокол, не ботало, а круглое число.
Едва ли поздоровавшись, грядущее вошло.
Мы рюмочки затеплили и сели на полу -
на нем нам ждать прохладнее, чем на Твоем колу.
Нас мучили науками наперекор уму,
но мы Тебя аукали и верили всему,
что сказано по ящику, мигавшему "не лгу".
По косточке, по хрящику, а прибыло полку.
Поешь у телевизора - забудешь про детей.
Ошибочка провизора в программе новостей.
Катится солнце пыльное, голодное вдвойне,
и пальцы растопырили, кто не был на войне.
Ты будешь мне приятелем, ты будешь: корешок.
На митинге, на митинге нам вместе хорошо.
Мы все уже растеряны до положенья риз.
Мы не спустились с дерева. Мы сваливались вниз.
Июнь 1996
Они стоят лицом
к стене,
забытые в своей стране
как в мастерской отца
холсты
стоят лицом к стене.
Да мало ль деток у отца
- и вот, забытые отцом, стоят к стене лицом.
Они стоят лицом
к стене
и понимает их стена
горячей белизны,
в буграх,
в скорлупках извести,
наждак
песка, небес наждак.
Их двое, может, трое,
их, неверных,
то есть никому
не верных, больше никому
не должных. Их -
в ущелье
в кандалах
томящийся Аллах.
2000
* * *
Пришли простые времена,
а мы еще витиеваты.
Раскрой глаза, идет война,
растерянно идут солдаты.
* * *
- Не в оцинкованное, с солью,
на кристаллический костяк,
а чтоб космическою молью
проело звезды на кустах.
Тогда между помойных баков,
как между бакенов, пройдем
на улицу, чей створ опаков
и узок сумерек проем -
чтоб мостовою серокожей
к тебе придвинулось оно,
и стало до конца похоже
на черно-белое кино.
Уже ходульное любимо -
к чему бы это нам, дружок?
Ее холодная рябина
в последнем кадре, как флажок.
1997
ГРОЗА В ИЮНЕ
Сырую шкурку,
как штукатурку,
теряет туча
болотной ночью.
Белье снято,
пуста веревка.
Ребенок вырос,
качает колос.
Греби, предок,
вослед предкам
путем верным,
ты был редким.
Как все, парус,
скользи, ломок!
Мотай папирус,
дерзи, потомок.
1999
* * *
В.П.
В такие дни тебя оставляют люди.
Холод течет в длинных рукопожатьях.
Тысячелетье сидят за столом тесным.
Тысяча бедных слов канет в воду.
Ты же чего-то ждешь, все не уходишь.
Не приходи, не приходи в гости.
Не говори, не говори в трубку.
Как неопрятна жизнь, как без семьи плохо,
точно стоишь в рубашке среди одетых:
кончился тихий час, а ты наказан.
Длинные лампы гудят в три накала.
Ну, уходи же. Холод на плоскогорье.
Перед тобой пыльный уступ Тибета.
Из под ноги камешки сыпят, точно
шарит змея по склону, стекает в щели.
Века не хватит вон до того карниза.
Вот и стемнело. Словно на дно, долина
тихо ушло - поздно смотреть в долину.
Вон, над тобою, заперт, на черном черный,
спит монастырь уступом, звездой усыпан,
катится камень и проводник смеется.
1999
В ГОРАХ
Таких, как я, двуногих,
с подобьем головы,
в виду имея многих,
Вы мне сказали вы.
Я наклоняю ухо:
ну что же, вы так вы.
С чужими, неродными,
в невидимом строю,
я даже не хористом -
хористкою стою.
Как пузырьки в игристом -
поют, и я пою.
С настолько неродными,
каким бывает хор.
Я слушаю укоры,
мне страшен Ваш укор.
Со мной воюют горы -
знать, я достойна гор.
Но к ночи все больнее,
умереннней восторг.
Они лицом темнеют,
открытым на восток.
Поток, как некрещеный,
бежит себе, нестрог -
как мы, травою торной -
меня тут тьмы и тьмы,
и больно мне от черной
на западе тесьмы.
Гремит мой слух упорный.
Умеем слушать мы.
июль 1999
А..Сумеркину
Посмотри на ветку -
вот она скользнула.
А за ней - другая
смотри не моргая
Все стоишь матросом,
держишь, не качаясь,
толпу под вопросом
Зачем тебе это?
Зачем тебе это?
Со мною вы, мои труды и пни
пруды и дни в подслеповатой чаще
Меня такой живой и настоящей
вы знаете одни
и от созвездий
устать впору -
как от известий
бежишь в гору
под ноги глянешь
полюбишь глину
вниз гляжу
и люблю долину
Вот небо, синее с исподу,
вот сверху - черное до дна.
Не пой же, дева, про свободу,
она другому отдана.
Я расписываюсь так
и так
и вот так
потому что пуст,
а то полон,
то пуст мой верстак.
Вот моя подпись маленькая,
а вот - вот какая,
а вот печальненькая
1999
БЛЮЗ
Памяти Эллы Фитцджеральд
Вот опять закат оранжев, на стене квадрат пылится.
Уезжаю, уезжаю, стану уличной певицей,
отращу вот грудь и голос, стану уличной певицей.
На углу поставлю кружку, вот такое платье в блестках,
уезжаю, уезжаю, стану петь на перекрестках.
Пусть идут себе, не смотрят, стану петь на перекрестках.
И однажды в желтой майке молча втанет рядом с тумбой
черный маленький с маримбой, звук ее как капли пота
Будут думать, мне любовник, только разве важно это?.
Так и надо жить поэту, как сказал поэт поэту.
Как чернело на закате, выгибалось по кювету,
как стемнело, я не помню, как мело меня по свету.
Чайки метят на МакДональдс --
значит, где-то рядом море.
Я на юг наверно еду, но застряну в Балтиморе.
Потеряюсь на неделю, то-то будет людям горе!
Может быть, из-за названья -- так корабль идет красивый.
(А на самом деле -- сухо, вон забор зарос крапивой)
Этот город грязноватый, но зато закат красивый.
Ух как дворники по морю быстро-быстро заходили,
капли в лоб мне полетели -- они просто обалдели.
Справа сердце, слева дверца -- так текло б на Пикадилли.
Капли, как цыплячьи лапки, быстро-быстро -- и с обрыва,
они шлепаются в стекла, словно маленькие взрывы.
Даже радио не надо, только слушать эти взрывы.
Так бы ехать бесконечно, только б маленькая Элла
тихо пела, ну конечно, чтобы только Элла пела,
и стоять на светофоре, и чтоб вывеска горела,
чтобы в зеркале, и сбоку, перекошены рубином,
вертухаи неподвижно за рулем как с карабином,
тьмою тикая карминной, выжидали по кабинам.
Ты-то знала, чем заплатишь этим спинам, этим лицам,
ты-то знала, ты-то знала, как швырять свою свободу
до горючих слез охочим, на лицо летящим птицам.
1997
* * *
Темное поле свое перейдем
пристальным днем, под неслышным дождем.
К ночи четвертой дойдем до воды,
до уплывающей парной звезды,
до паровозных голодных речей,
до бормотания черных ключей.
Тронь эту оспинку донной звезды,
черные сколы холодной воды.
Сонная пыль залепила глаза.
Гладкие мчат полоза, полоза.
11 мая 1981
ПОЧТОВОЕ
За год они приблизились настолько,
топчась в прихожей писем, натыкаясь
на собственные локти, наступая
на туфли и непарные перчатки
что стало невозможно брякнуть слово,
не сделав стилистической ошибки.
Вначале это было непохоже
на то, чем стало, - потому что стало
той скорописью, милой для обоих
(как и для всех, к такому жанру склонных),
когда казалось, им одним понятна
дешевая податливость цитаты,
в теченьи фразы камешек блестящий
следы заминки, оборот обмолвки -
не синтаксис, а знаки препинанья...
А по углам, прикинувшись плащами,
накидками - прислушивались тени
без имени еще, уже печальны.
Чуть задохнувшаяся, но родная,
одежда на крючках еще хранила
с владельцами, владелицами сходство,
как вдруг опасно стало оглянуться -
и все это уже однажды было,
как зеркало с подсвечником в передней.
Так им мерещился, как рыцарь при доспехах,
подслеповатый образ постоянства,
спасительный, хоть пыльный, наблюдатель.
И даже это так напоминало
какое-то неполное былое,
как циферблат, размноженный без толку,
что было б непростительной ошибкой
пускай хоть это, где мы оказались,
где я так не хотела оказаться,
мучительное тесное пространство,
где натыкаешься на "ты", как некто
на пьяного наткнется, извиняясь,
отдать, оставить этот полустанок
площадку вымысла, ступеньку легкой лести ,
богатства неприкосновенья, эти
пустые ласки, полые как гнезда,
как с патиною лист, осенних листьев
мою любимую (а ты?) сухую тему -
как променять звучание на звуки,
разведки, вылазки - на грубую атаку,
молчанья круг, веселое паренье -
сменить на то, что, подойдя вплотную,
вслепую тычется, мычит или лопочет ...
о милый мой, мы там уже бывали.
Не нужно молний страшных по ущельям,
зеркальных стен в паденьи одиноком,
а в них опять свое же отраженье,
не нужно знать как влажны эти сланцы,
чтоб эхо "я" звучало отовсюду -
последняя, недорогая буква...
И если стерт, и влажная полоска
блестит где было имя - кто же
тогда тебе все это пишет, кто мне
напишет, отделяя запятой,
(как угол завернулся), дорогая?
май 1997/ июль 1997
ЭПИТАФИЯ
Плыви, челнок, плыви, плыви,
в печальной речи Дехлеви,
где откликаются - зови,
где отдыхают от любви
Над безымянною водой
летит сова - иль козодой?
И долго длится звук любой,
никто не знает - твой, не твой
Ночной пыльцы прохладный пыл,
тому, кто на земле побыл,
кто камнем канул, имя скрыл
1980-е
Памяти М.
Мой краткий брат, мой кроткий собеседник,
ровесник мой, и совесельник.
мой ясный разум, проводник, порука,
плачет подруга.
Где говор нежный, где моя забота,
где мой Четверг, где праздник мой, суббота?
Скажи теперь: ну с кем зажгу я свечи?
Стою, как в Сечи
последний иудей. Стою, мне больно.
Вокруг трава, слова - всего довольно,
вино, Манук, бумага. Хлопнет почта -
вот это то, что.
Не пять четвертых, как же так, не брубек,
а меньше единицы. Твой обрубок,
скажи теперь, кому скажу смешное?
Все стало - мною.
Вот поезд в поле - вижу яркий прочерк.
Одно тире осталось мне, а прочих
не знаю их. Зачем, сыграв поэта,
ты сделал это?
Я здесь, а ты? Всего тошней от неба.
Тебя там нет - ни с нимбом, ни без нимба.
Безумных звезд не спит Совет Верховный.
А ты, греховный,
уж точно, далеко от страшных окон.
Но знаю - и не под землей твой кокон:
земля тверда - не нам с тобою, мямлям,
уйти под землю.
Куда же ты, к какому ты пекину?
Как все покинули - так я тебя покину.
У той реки, где забывают весла,
не ищут смысла.
Все это что-то значило, но если
и был какой-то смысл - так это в смысле,
чтоб было бы теперь, не тронув локоть,
кому оплакать.
Ты полюбил однажды эту рифму -
она твоя, Манук. Ее, как гривну
блестящую - в пустую плоскодонку -
тебе вдогонку.
8 августа 1997
* * *
Пусть никогда не приду в себя,
пусть мне не ведать, пером скрипя,
как вырываются из репья,
пусть не собою до смерти слыть,
пусть у полпота каналы рыть,
пусть из забвенья вовек не всплыть,
пусть не посметь мне тебя назвать,
пусть недопивки себе сливать,
пусть никогда мне любви не знать.
Хоть захлестнусь я своей тропой,
пусть я услышу, как врет любой
праздник, который ушел с тобой,
пусть ни в одной, ни в другой стране
не пропустят тебя ко мне,
пусть захлебнусь я в своей вине,
пусть наорут на меня: "Отверг!"
ангелы, уводя наверх -
только б услышать: ты жив, Четверг.
1997
* * *
"Бог знает, что себе бормочешь..."
Вл.Ходасевич
Четверг, тебя убили в понедельник.
Я поняла во вторник, что тебя.
Вода текла из крана. Притупи,
прошу тебя, не жги так долго, больно.
Четверг, уже четверг, мне все равно.
Как будто в мелком я стою теченье.
Как медь в воде, теперь блестит значеньем
любая мелочь - как в плохом кино.
К какому безопасному, какому
свести тебя безвестью чердака?
Четверг, Четверг, как мне без Четверга?
Тебе-то как - по воздуху глухому?
Мне жутко думать, как идешь домой.
Дурацких звезд вокруг, как чьих-то денег.
Как полицейский, ночь тебя разденет
холодными руками, мальчик мой.
Почем ей знать, что сам себе бормочешь -
оглядываясь, в пустоту скользя,
в которой бормотать уже нельзя.
Я чувствую, как уходить не хочешь
1997
Послушай. Вот. Такая, значит, вещь.
Не нам глядеть на твердь, гадать о тверди
- не потому, что там твердят о смерти,
не потому, что нам о друге весть.
Хоть голову закинь: от вида звезд
тошнит, как от правительственных окон -
как заговор, как облитые лаком
затылки собираются на съезд.
Ты видел их пустые этажи,
их кошки-мышки, чай на полировке?
Равно бы власть - а то углы, уловки.
И это нами ведает, скажи?
Уж лучше равнодушье облаков
и эти камни, как бы неживые,
и эти листья, листики цветные,
и в луже отраженье облаков.
К траве склонившись, легче по траве
глазам блуждать - не потому, что ближе:
здесь все тебя переживет, но ляжет,
и под конец тоскуя по тебе.
Но вот четыре месяца пройдут,
и матерьял потребует отбелки,
и по стволу пролившиеся белки
горячей лапкой по сердцу скользнут,
и я пойму - ты еще тут.
1997
М.Жажояну
Сегодня видно далеко,
далеко видно.
Но то, что зрению легко -
ногам обидно.
Опять к тебе я не дойду,
видать, по водам,
Свободы статуя моя,
моя свобода!
По радио дудели: дождь,
а тут - погода!
Всегда я знала: не придешь
встречать у входа...
Раздетая братва на трап
ползет, смелея.
А я на эту резь да рябь
взглянуть не смею.
Когда б могла - я в их толпе
плыла б, глазела,
потом на голову тебе,
как птица б, села.
Ах, если бы - в бинокль, очки,
как эти гунны,
играть с тобою в дурачки,
с дурой чугунной...
Затем, слепцам, нам этот стыд,
слезливый, ложный,
что на божественную ты
глядеть не можно.
Держи дистанцию, храни,
стой, где маячишь!
Лишь в отдаленье, как огни,
ты что-то значишь.
Я шлю тебе свои суда,
даров подводы,
качающиеся стада
моей свободы.
2 апреля 1996
Но я заспала этот час,
а годовщина совершалась,
И лодка черная неслась,
и дна песчаного касалась.
За нею след не заживал,
полоска узконожевая.
И глядя в воду, ты сказал:
- Я кончился, а ты живая.
И полетел тяжелый снег
под своды влажные вокзала.
Но никого уже из тех,
кто был с тобой, я не узнала.
Там кафелем календаря
пустые клетки отливали
в сиянье слабом фонаря,
хотя его не зажигали,
он растекался по холсту
платформы, комкая белила,
где мы стояли на мосту
наваливаясь на перила -
над светлой горечью литой,
над щепок головокруженьем,
над уходящей вниз водой,
как над проигранным сраженьем,
и низких сумерек слюда
как лупа, приближала пятна
где я еще плыву туда,
а ты уже плывешь обратно,
как спичка мокрая, скользя
под этот мост неосторожно,
и удержать тебя нельзя,
и вот, расстаться невозможно.
1 июля 1998
Жук жужжал.
А.С.Пушкин
Малознакомые шары
валяются на пыльной грядке
на нас не падкий дождик редкий
зайдет во двор, расчешет прядки
ну, понавесит мишуры.
А ты - за Фебом-дураком,
Туда-сюда, как заключенный,
и днем, и ночью, кипяченый,
ходи, ходи себе кругом,
цветочной пылью золоченый,
раз угораздило на юг.
Земля родит, как помешалась!
Все, что в суглинок помещалось,
наружу выперло, мой друг,
все вылезло, любая шалость -
бежал на север мой конек,
и вот на юге мой каурка -
хоть косточка тебе, хоть шкурка:
тут деревом растет пенек,
там - весь курильщик из окурка
как витязь, лезет. Жук жужжит.
Трава растет - ее пинали.
Ваш друг под соснами в пенале,
как вечное перо, лежит.
Тарелка плавает в канале.
июль 1998
Но Вы-то, слава Богу, не
из из таковских, не из нервных.
Вы там, надеюсь, не одне -
где скучных нет, и нету первых,
январский снег, как пепел, сух,
но на дорожках птичьи крести,
и чей-то забавляют слух
не песенки еще, но вести.
1997
* * *
Пространство, я тебя не опечалю
еще незавершенностью одной.
Недовоплотившись, как отчалю?
Не береди, побудь еще со мной.
Холодное теченье Куро-Сио -
вот так блестят такси на авеню.
Как, милое, ты в сумерки красиво
Повремени, и я повременю.
Так путник на закате одеяло
скатает, обернувшись на посад -
там облако, как Троица, сияло,
но все погасло пять минут назад.
Что возвращенья может быть глупее?
Но если это так, то отчего
твой образ, как монета, голубая
на самом дне смиренья моего?
2000
Проснись средь шума городского,
гуденья низкого, какого
уже двенадцать - больше? - или
уже не помнишь как мы жили.
Как долго, как же долго длится
мое блаженство, шевелится,
сквозит колонна занавески,
скользит кольцо, и едут лески.
Пока еще не встал с постели
и нам еще не показали,
что там, внизу, уже творится,
а только штору, ветку, птицу -
проснись, в одну уставься точку,
вяжи узоры в одиночку
троллейбусов, трамваев, звяков,
чей голос всюду одинаков -
проснись в орехе Вашингтона,
в зеленой мякоти уклона
в грядущее, скажи кому-то,
кто рядом, лучше - никому:
- Отели с панорамой дымной
не город видят анонимный,
а облако - лети, минута,
ты никуда не улетишь.
Чем пасмурнее - тем прекрасней.
Она не начата, пока с ней
сей шторы тюль, и что-то в кадке -
намек, что смертны да не кратки.
дек.96/фев.97
В КОНЦЕ ГОДА
Листья умчались на юг.
Вот и останется вдруг:
иней на серых стволах,
изморозь на проводах.
В общем-то ничего
не было в этом году -
птицы уснули в саду,
рыбы уснули в пруду.
Птицы в замерзших садах,
рыбы в дырявых садках,
брошенные на задах
года, что начался с "ах" .
АНТИКВАРНОЕ
А.Сумеркину
А вот - советский подстаканник,
такой серебряный, такой
с венком тяжелым многогранник,
с лозой медлительный Джанкой.
Всю ночь, в купе, не зная тренья,
он тихо ехал и дрожал,
и в синем свете звякал, тренькал,
а вот теперь - подорожал.
На нем так выпуклы и гладки
узоры страшного литья,
что сразу вспомнишь эти грядки -
чего же улыбаюсь я?
Ах, милый Сашенька, мы тоже
со временами не в ладах,
с угрюмой нежностью под кожей
анахронического "ах".
"Во мне не бьется пульс эпохи"?
В тебе не бьется пульс эпо.
Все нам бы шорохи, и вздохи,
и карамели из сельпо.
Из времени любого выпасть
легко тому, кто налегке.
И вот стоишь, как гордый витязь,
но с подстаканником в руке.
Как будто бы из верхних ванных -
из будущего натекло.
Но в наших дружбах антикварных,
как в складках времени, тепло.
Меня забыл ампирный город
со страстью к золоту в реке,
татуировками исколот
на полустертом языке.
Но каменного истукана,
как прежде, я не признаю.
Как подстаканник без стакана,
чужому миру предстою,
как разлетевшийся посланник
- ах! - шлепнулся перед пашой,
как сей нелепый подстаканник,
но только с женскою душой.
28 августа 1996
ВОСКРЕСЕНЬЕ
День проходит, не дыша,
будто тень от самолета.
Просыпается душа
под пятой у стихоплета.
Слезы, розы, благодать,
сроки, проводы, прощенья -
неохота вспоминать
все былые превращенья.
День проходит. Ей бы встать,
ей бы платьице получше,
ей бы, скажем, погулять
или музыку послушать.
Вот, открыв глаза, лежит.
Полдень. Пыльное предместье.
В небе облачко бежит,
как последние известья.
1987
В ЮГЕНДСТИЛЕ. БРАУНАУ-АМ-ИНН
Ночевала тучка золотая
на груди у Гитлера младенца.
Кружева слегка приподымались
все еще далекой занавески.
Улыбалось ласковое чрево
мира, прогибавшегося к югу,
улетала чудо-занавеска.
То ей захотелось восвояси,
то скользила внутрь, на подоконник
налегала, словно это мама
гладила, скользя по одеялу
алою атласною ладонью.
Месяц нам какой апрель достался! -
утренний, летящий, изумрудный,
первых листьев нежные щепотки..
веток изумленное дрожанье..
Как живые, движутся обои,
как живые легкие картины
кружево ласкает подбородок -
Климт червленый,
и Бердслей змеиный
тоненькой решетки на балконе,
зло зияет в дыры золотые.
Cолнце, словно радио, играет,
с нами ни за что не расстается...
Ночевала тучка где попало,
а проснулась - радио играет,
песни распевает из колодца.
2000
сегодня ночью проложу
по нашей улице следы
куда хочу туда хожу
такие ровные ряды
вы говорите: много тут
живет, а я не вижу вот
мои следы туда идут
а вот идут наоборот
а больше просто вот ничьих,
ни песьих и ни птичьих да
вот мои наоборот
за четвергом бежит среда
вот так и мы (сказал бы тот поэт, чей так люблю стежок)вот так живу как
будто вотмоя земля и мой снежок
и до меня тут никогосо мною тоже ни следа и я назад по целинегде
кончились мои туда
27 февраля 1999
Моей дочери Саше Гончаровой
О, я люблю тебя давно,
мой домик с мордою комода.
Я, может, Гончарова, но
без Полотняного Завода.
И что? не всем же полотна
намеряно, зато как холодна
земля в снегу, как неумеренно
снежинка, обжигая, льнет.
зима 1999
P.S. да, я забыла:
и чиста
улыбка милого холста
ГРОМ В МАРТЕ
С.Гончарову
А тут опять весна, воздух скрипит сырой,
ветер такой в грудь, будто стучит: открой,
слабая тень косит, вбок бежит,
испаряется жизнь, плохо лежит.
Я стою под столом, надо мной стол,
гром расыпает, как ртуть, бильярд.
Будто один остался мужик - во дворе столб
посреди барахтающегося белья.
Вот из заплат атлант выгибается, вот колосс,
вот над кормой летит парус с прорехами.
Кто до свету рожден - до темноты подрос.
Ехали мы с тобой, ехали и приехали.
Ах, как хотят жить! - Так хотят пить.
Но идут к реке в сапогах котят топить,
где, угрожая, тебе говорят: мать.
где нелегко жить, легко умирать,
в тех краях, где воздух трещит, как холст,
где за холмом холм, на холме погост,
где, как дыра с дырой, с тобой говорит март -
там поймешь, что никто не мертв.
Вот и хватит ваять - ветер, ты лепи.
Нечего нам вещать, множить вещи.
Ничего, ничего в груди, кроме любви,
тяжелеющей, отсвечивающей.
1999
МОСКВА
Саше Пушкину,
нью-йоркскому поэту
Река идет на перекаты,
и в переходе не плакаты
про Днепрогэс,
а всякие картинки, книжки,
матрешки, пирожки и пышки,
а также воры и воришки.
И се - прогресс.
Продолжи сам, отсюда просто.
Положим, ты большого роста.
Тебя видать
и без ушанки, и без кепки,
и без великолепной лепки
лица. Без Емельяна в клетке.
Без упоительной таблетки -
тебя видать.
Но мы, которые от мамы
умели только с мылом рамы,
и не роняя мыла, мамы,
глазеть в окно,
и панорамой называли
то, что в округу насовали, -
мы хоть немного трали-вали,
но не говно.
И если раньше я, невеста,
когда поменьше было теста,
себе не находила места
в такой гурьбе -
сейчас подавно, ибо мекки
любой бегу, а от опеки
твоей, Москва - за те бы реки,
к другой тебе.
1997
II.
ПОСЛЕ ЭПИГРАФА
* * *
Не сумев на чужом - не умею сказать на родном.
Эти брызги в окно, эта музыка вся об одном.
Я ныряю, хоть знаю, что там ничего не растет -
разве дождь просочится
да поезд внезапный пройдет.
Разве дождик пройдет по карнизам,
как в фильме немой,
по музейному миру, где вещи лежат - по одной.
Только это - да насыпь
с травою горячей, густой
мы на дно унесем: нам знаком ее цвет городской.
Потому что, сказать не сумев,
мы уже не сумеем молчать.
Солнце речи родимой зайдет - мы подкидыша
станем качать.
1992
БЛЮЗ ПЕШЕГО ХОДА
из гаражей выезжают машины
спереди важно садятся мужчины
(но иногда - и дамы)
правую ногу согнув в колене -
все буквально, даже тюлени,
втискиваются - и выезжают из гаражей
это неважный, как все, но пылкий,
хмурый такой городок, и жалко
утром его покидать
я оглядываюсь на знаки
СТОП - и мимо иду; собаки
спят, и никто не лает
это сулящее вечер утро,
как разворачивающаяся сутра:
прохладно, чисто
это райская жизнь, и значит,
все мы в раю, вот и птичка плачет
в дереве красном
1994
ШЕСТЬ С ЧЕТВЕРТЬЮ
Пришла, теперь стою,
плачу. Потом стою
и ожидаю сдачу.
На что я время трачу.
Холодный день пришел.
Но он уже прошел.
Была бы из Заира -
не звали б меня Ира.
Поедешь вниз: метро.
Поедешь вверх: светло.
Не надо убиваться,
а надо наслаждаться.
Гляди, грачи летят,
остаться - не хотят.
Сойти с ума на службе
занятно. А по дружбе
сходить с ума зачем?
То был ничьим, то всем.
Перрон в бессмертье подан,
он пуст покуда полон.
Я так могу нести
до десяти шести.
И то - часам заплатка.
Легка моя палатка.
Я у Тебя в горсти.
Октябрь 1995
БЕЗ НАЗВАНИЯ
что-то я от тебя от себя устала
что-то мне стало с тобой с собой не чудно
ты же сто лет тут уже
это я с вокзала
вот и скажи что так не мудро мутно
дурно выходит как-то бочком неловко
чудится екнуло пискнуло показалось
выйдем давай на свет на любую лавку
только не в этой коробке не эту жалость
люди хорошие вроде только выходит дурно
словно жук скребет спичечную картонку
или бездомный вот обнимает урну
так домовито что рвется и где не тонко
19-24 авг. 1993
* * *
Пора вернуться к самому началу,
как в хорошо заверченном романе.
Пора вернуться к самому началу,
войти и встать надолго в хвост вагона,
и, сумку привалив к опасной двери,
покачиваясь, долго нависать
над Схемой Линий Метрополитена.
Мне нравятся названья этих станций:
вот Семьдесят седьмая улица, а вот
уже Сорок вторая, боже мой! -
как хороши неназванные вещи! -
так пальцы пробегут по позвонкам,
так дождь бежит себе, не называя,
смывая ложной схожести пыльцу.
В местах, где рифмы долго не живут -
как хороши, как свежи повторенья.
И если померещится значенье
иль, Боже упаси, какой-то тайный смысл -
смахни его, как рифму. Повторяясь,
скажу тебе опять: в повторах этих,
бессмысленных подобьях, возвращеньях
- нет ничего. Один лишь теплый свет
бесценного сквозного бормотанья.
...Когда-нибудь, на Пятой авеню
найди позеленевшую богиню
чего-то там. Скамеек, например.
Бродяга возлежит в ее тени.
Вся в ямочках она, в руке - газета
вчерашняя. Шутник - космополит:
вот-вот прочтешь знакомый заголовок.
Как эта осень пасмурна! Как нас
тревожат эти надписи на сваях!
Кошмарное бывает величаво,
особенно - когда глядишь с моста,
и вывеска багровая отеля
похожа на плакат "ЗА КОММУНИЗМ".
Я не увижу, как его снимают.
И я тебе еще скажу, схватясь
за поручень серебряный в десятках
блестящих отпечатков, близоруко
склонясь над вечной схемою метро
(как будто это карта звезд), скажу: зевака
не помнит, не накопит ничего,
ни странствие, ни грустное влеченье...
как капли - ласточке, как пальцы - позвонкам
- смотри сюда скорей - смешно, щекотно...
И я тебе еще скажу: никто,
похоже, что никто
на нас не смотрит сверху
Октябрь 1992
Нью-Йорк
* * *
Страна, принимавшая тех, кто родился в апреле,
недолго продержится, зря нас они обогрели.
Такие вот резкие и нехоленые лица
не встретишь в провинции, только в тюрьме
да в столице,
да в ссылке, в холодной.
Легко распростившись с родною,
задумавшись, смотрит в окно. С бородой накладною
парик теребит. Не подкова, не ангел над входом -
связной, запыхавшись,
стучится бессмысленным кодом,
сжимающим сердце, как шепот, волна, босса-нова...
- Волненье в столице, волненье, пошли, все готово! -
Ах, ноет свеча, и углы в паутине мигают,
как фильму какую-то крутят... Солдаты вбегают,
дыша тяжело... Копыта стучат на полмира -
как звякнет да всхлипнет моя нехоленая лира.
9 апреля 1995
ПОЭТ И СЛАВИСТЫ
Суровые слависты
сидели на суку
(и люстра, как монисто,
текла по потолку),
все почему-то парами.
Докладчик взял стакан.
Сюда б цыган с гитарами!
Нельзя сюда цыган.
Ни музыки, ни пения
не будет нам в конце.
И не было волнения
ни на одном лице.
Ты в кресле словно в проруби,
торчишь - а там зато
швейцары, словно голуби,
гуляют без пальто,
такси руками голыми
ловили просто так
и сумерки лиловые
проплыли, как пустяк.
1998
НЕ ХОЧУ
Не хочу ни фана вашего, ни шалостей,
дайте мне, пожалуйста,
просто доползти до воскресенья,
уж коли будет мне такое везенье.
Чтоб всю ночь лило, а к утру - капало,
и ни человека, ни вокабулы,
только б эти капельки и вякали
двух- и трехголосное и всякое.
Мне бы вроде одиночки, но без пыток чтоб,
да без этого, без вашего "а ты-то что?"
Я валяюсь, как Емеля, прямо с вечера.
Уходи себе, неделя, не отсвечивай.
Вон, поэт с поэтом, словно муж с женой, идет.
Воробей сидит на ветке, повышенья ждет.
Будто бы не все равно - рысак ли, пони ли!
Объясняли нам, а мы не поняли.
А пойду - ведь спросят: "Что запомнила?"
Вон, окно запомнила, заполнена
была комната окном, и в нем бело.
А за ним-то, может, ничего и не было -
как камин фальшивый: нацарапало
что-то плоское. Оно бубнило, капало.
Я лежу. Не спится, не читается -
это воскресенье начинается.
4 ноября 1994
* * *
Что в рифму гудеть нам, когда не слыхать отголоска?
Ума и обмылка не сыщешь,
ни мысли обноска.
Записки в руке не удержишь, о дружбах забудем.
Где вывесок пыльный рубин -
там фотографа бубен.
Хоть как поглядеть нам хотелось бы на поколенье,
хоть горечь почувствовать, что ли,
хоть сожаленье.
Как будто всех вместе небесные твари украли,
лучом ослепили,
и с палубы гладкой содрали.
Болтайся же, судно, по водам одно, без команды.
Другие пришли, на коньках,
как к себе в Нидерланды,
и катят, за руки держась, нашей рябью как сушей...
К стене отвернувшись: "Не хочется, - скажешь, -
не слушай".
1995
ПЕСНИ УНЫЛОЙ РОДИНЫ
1.ОКОННАЯ
По стеклу поезда
налево вниз
ползла капелька
встретила капельку
и
съела капельку
и еще и еще капельку...
Много капелек
съела капелька
2. ВОКЗАЛЬНАЯ
такие тени
только на вокзале
они двух слов
друг другу не сказали
а серебристый
серо-голубой
вот-вот догонит
небо над собой
чем доводить
дело до слов до слез
мы добегаем
до задних колес
до уходящей
площадки: есть - и нет
не задыхаясь
а улыбаясь вслед
3. У ЗАБОРА
Тут не Рубцов - так Рахманинов.
Да объясни ты толково,
что ты гудишь, ну чего тебе -
ветра, что ль, свиста какого?
Солнце садится холодное.
Гаснет листва бореальная.
Свет зажигает в деревне
жизнь, от начала печальная.
Слева несут декорацию,
справа снимают убранство.
Жизнь, от начала печальная,
не виноватит пространство.
4. ПЕСНЯ ПОКИНУТОЙ РОДИНЫ
а над невой заря еще нежней
чем зеленой зимой при брежневе
пешеход к метро а за ним колун
а в столице другой во палатах каплун
хочешь - дуй на него
хочешь - режь его
ничего нет страшней счастья прежнего
5. ВЕСТИ С ПОКИНУТОЙ РОДИНЫ
Слышишь: тихо.
Вот это лихо!
Это кто-то
закрыл ворота.
Кто там, впрочем,
скрипит к ночи?
Нота бене:
к едрене фене.
6. НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ
Говорят, мол, там теперь хорошо.
А ведь раньше было - нехорошо:
из парадного выходишь во двор
- только охнешь: не мороз, а топор!
то ли полночь, то ли семь, то ли шесть,
на работу - а на небе не счесть.
. . .
Не подскажете, какое число?
Ой, куды же это нас занесло!
Я вот платок себе куплю, и кастет.
Бают, нынче хорошо, где нас нет.
7. ПОХОДНАЯ
И герои, героям вослед,
собираются - мол, за Еленой...
Раздвигают военный рассвет,
будто впрямь - мы одни во Вселенной.
Как по улице полк за трубой
вдаль протопал: печально и пыльно.
Эти песни о нас, дорогой,
оттого-то и больно.
Даже в этом кафе потому
нам сыграют почти духовую,
чуть советскую, знаешь, какую.
Чтоб одно к одному.
Вот, губу закусил,
отвернулся - обиделись, значит.
Никого, кто бы сверху спросил:
- Кто тут ссорится, плачет?
У кого так темно на лице?
...Напылили, листву посбивали...
То и будет в конце,
что и было вначале.
8. ПУСТАЯ ПЕСЕНКА
какие тени!
так то - вокзал
(что те сказали?
что тот сказал?)
те не сказали
состав ту-ту
слегка толкнули
вокзал во льду
как будто дернут
нитку-уток
а это кто-то
уплыл, утек
там, где зиянье -
сильнее свет
- и не ищите,
меня тут нет
9 . САГА
1-й подъезд:
Челюкановы, Пряхины, близнецы Овсянниковы, зем-
ледельцы Китайкины, все уменьшающаяся баба Дора,
Лена Кузнецова, Юра Панфилов с матерью, Галемины
на втором, их родители на третьем.
2-й подъезд:
хозяйственные Сьомко, хулиган Блудов Олег с ма-
терью и бабкой, тетя Зоя из "Спортпроката" с дядей
Алешей, Юля и Андрюша Шевченко, Коля, мы,
Ядвига Густавовна, безумные Рутковские, Лошкаревы,
Сироткины Наташа и Витя, тетя Соня с точно такой
же сестрой, Дзуенки.
1994-95
ТАМБОВ
Кто под грушей, кто под сливой.
Брак случайный, несчастливый.
Тут затворы, там забор.
Что мы знали до сих пор?
Раздраженье разгрызая,
сверху смотрит белка злая.
За ней снежная гора,
в доме черная дыра.
Ничего не подевалось,
что вошло, то и осталось.
Чайник воет, как вулкан.
На столе стоит стакан.
Кому хрен, кому горчица.
Кому спится, кому злится.
Отведи, скрипя, засов.
Страшно утром в пять часов.
Нигде музыки не слышно.
Над дорогою всевышно.
Где Герасим - там Муму.
Не завидуй никому.
20 марта 1997
НОЧНАЯ ОСТАНОВКА
Сколько б ни длился твой бестолковый урок,
долгой сколь ни была бы ты, жизнь, радость моя -
я всего не успею сказать между ласковых строк,
лишь абзац начирикаю повести длинной:
как на кухне июньской, где окна отворены,
закипает вода,
- или в поезде дальнего
следования, от тишины
вдруг просыпаясь, вижу: пыль на сандалиях,
серые складки, песок. И пока ты грозишь
из вечерних газет
на столике жестком, покатом -
- Харьков, - в тамбуре скажут,
и к подушке фонарь подойдет
и узлы понесут, и зашепчутся в доме плацкартном.
Спи, напротив сосед, спи, за вагоном вагон,
спи, коммуналка-времянка,
одеяла свисают, как флаги.
Ты же - пыль на щеках освети, станционный огонь
медленных фонарей сквозь толщу оконной влаги.
1982/85
ПТИЧИЙ РЫНОК
Черед подойдет - и чредою размолвки,
толкаясь, по сердцу пройдутся, как волны.
Чуть бровь подымаешь - так в бой, да локтями,
да скалкой грозятся. Люби-ка, попробуй.
Меня покупали на рынке на Птичьем,
там жизнь голосила, и жены рожали.
В платок завернули, и носом в кошелку -
да щелку оставили: вырвись-ка в щелку!
Мороз, подставляй-ка шершавую щеку!
По снегу пойду похожу - что за скрипы!
Да солнце! да искры! да слезы-иголки,
теплые нежные шапки-ушанки!
1989/91
* * *
Деревья к сентябрю теряют вес,
как в воду, в небосвод погружены.
И с севера доносится ответ,
когда на юг слова обращены.
А к ночи - двери настежь, ветер злей,
но все ж милей сердечности двойной.
Родившийся среди таких полей
не знает, к счастью, местности иной.
Лес вдалеке, как темный Спас в углу,
притягивает взор в дому чужом.
А выйдешь - белка чиркнет по стволу
и луч скользнет последним этажом.
1987-89
УТРО НА КУХНЕ
1.
(Эпиграф из Пушкина)
Вода, удравшая из крана,
вчерашняя, как макароны,
что ночевали на окне -
мы поутру не на коне.
Чужой шумок, ревнивый к прочим,
свое-свое сказать охочим -
уже в мозгу, желая быть.
И лень, и жаль его убить.
Журчат уборных сонатинки,
летят из форточки снежинки,
чужая речь стоит со мной,
глотая воздух ледяной,
перед окном. На нем узоры -
узорней, чем вчера. Авроры
не видно, нет.
А этот двор
пустей, чем с миром разговор.
1987
2.
(Эпиграф из Высоцкого)
Во мне бубнит чужая речь,
она не может мне помочь.
Она в мозгу отыщет течь,
она мою отнимет ночь.
Я ноги в тапочки - она
на кухню тащится за мной,
и в чайник с розой ледяной
летят снежинки из окна.
Легко ж тебе, чужая речь,
как на пороге, в горле лечь,
как тот щенок, что твой "Маяк",
тем хороша, что не моя.
Как этот двор в окне рябит
и голый снег, как свет, горит,
как сводка новостей плохих
врасплох берет чужих-своих.
1988
ЗАГОВОР
Я тебя уговорю, заговором умолю, вещий, сущий, настоящий -чтобы ты меня
любил, не любил - так не губил, стану тварью я дрожащей. Я тебя уговорю,
Божий мир, и к январю разберусь я с этим страхом. Будет холод, будет лед,
будет, знаю, новый год сыпать корм голодным плахам. Эти слухи тяп и ляп, и
тяжелый липкий хлеб, как свеча с кривым нагаром -дудки! я не выйду вон, в
бочке ухну с ниагары, вынырну, что твой гвидон.
1 января 1989
ПОСЛЕ ПОТОПА
Ты жив. Но неочнувшейся земли
так жаль. Еще темно вдали.
И ты, в карманы руки заложив,
шагаешь прочь над обмороком нив.
Гроза прошла, и умер царь лесной.
Поляны, перемазанные хной,
дымятся,
и на западе ночлег
блестит, как свежеструганный ковчег.
И под ногой, прозрачней и нежней,
безропотнее дождевых червей,
без кожи и без края перегной.
Играет радуга. Шагает новый Ной.
Легко, в карманы руки заложив -
как новорожденный шагает к тем, кто жив.
И вымытые тучи вдалеке
бегут строкой на древнем языке.
1985
ВИД ИЗ ПОЕЗДА НА ЗАКАТЕ
Когда с окурками волна,
слепя осколками вокзала,
уйдет, от взора взяв сполна, -
как хорошо! себя бывалым
возницей вижу, ездоком
по миру, где всего навалом,
и с тем, и с этим ты знаком,
но смысл еще не показался
того, что, скажем, за окном.
Я тут звалась, а ты тут звался.
Кондуктор брал мой проездной,
моей руки слегка касался,
румяный брат его родной
в дверях стоит, слепой от солнца.
И мы не товарняк с рудой,
и наших жизней волоконца
в забавный связаны узор.
Мне зимний ужас кроманьонца,
разборки мировой позор -понятней, чем закат линялый, германский
розоватый вздор... Нет, прелесть местности унылой, а не унынье просто
так:бежит... ушло... и стало мило...и нам вот этот перестуксреди течения
чужого -чтобы в окне, к окну впритык -приют убогого чухонца... 1995* * *
Н.Ю. Нет, не тот это город, и полдень - не тот. На углу,за углом,
спотыкаясь, повсюду встречаешь метлу.На Страстном - листопад, желтокрылые
птицы поют.Пыль сухую смахнут, и последнее чувство сметут. Шварк да шварк в
синеве. Шварк да шварк по песку за спиной.Я от воли своей-то - ушла, так
уйду от чужой.Но холодным умом упираюсь в ту же листву,и верчусь, как
волчок, и сдаю, как Кутузов, Москву. Вот афиша и голуби - кофе попью у
ларька,пожую, оживу, да любимого свистну конька.Всюду крошки и холодно. Но,
облетая Москвой,меня ветер нагонит, шумя золотою мошкой. 1988
ЛУННАЯ НОЧЬ
Меня со всеми унесло.
Песок блестел, как в день творенья.
Сияло слово, как число,
в случайной тьме стихотворенья.
Но я все там же, среди глыб,
на влажной, темной кромке века,
и наблюдаю пенье рыб,
и слышу голос человека.
Во мгле мелькают плавники
на размыкающемся своде,
и догорают маяки
и разговоры о свободе.
И тьма, переутомлена
сознанием, не молвит звуки.
Но ювенильная луна
сама плывет в пустые руки.
1989
НА ДОРОГЕ
Н.М.
А что еще осталось? - а завязать узлы,
в две или три ладони вложить щепоть золы,
и все, что там мелькалось, запрятать в зрачок
и - в карман пятачок.
А что еще осталось? - а неусыпный свет,
невидимый уму,
скользящий вслед.
И все, что не сказалось, не скажем потому.
С темным смыслом, как с кринкой молока,
выйду на дорогу:
рассвет, река,
под ногой дорога.
Русским утром тучи идут.
В доме спят, никого не ждут.
Так не гневайся, туча, что черно окно.
На запад, сказано, темно, на восток - темно.
Смысл божественный, в сумерках молоко.
Ты не гневайся, туча, что глянула далеко.
По лиловой дороге, кто знает...
- Скажи ж ты мне, кто уезжает?
1989-90
* * *
К.Славину
Знаешь, не будем спорить, спор - слеп.
- Слишком ты умный,
- скажем, - да глуп.
Лучше пойдем на пристань,
а если будет хлябь -
cапоги наденем, пойдем в клуб.
Через реку идет паром - чуть вкось.
Я люблю, чтоб туман и такой вот неяркий день.
Давай жить, не спрашивая, где пришлось.
Длинною гривой - пашня,
а лес будет - конь.
Пусть он тронется - шагом, пускай мгла
снова на реку ляжет, пойдем вспять.
Потому что ночное встает, светлое А
и я чувствую лишней уже - ять.
Видишь, след под ногами - светлой воды круг.
Туча, как орган чувства, сюда плывет.
Влажное сердце ложится в туманный лог,
будто всегда оно тут живет.
1984
С.Гончарову1. Романс
Ищите выгод от перемены местВокзал не выдаст - семья не съестВагонным
сердцем прослушаешь совет,цыганским серьгам поверишь или нет
Пока не тянет
сума твое плечо -
пускай настанет
туманное еще
Скорее сдайся
на милость проводниц
о только б дальше
от этих близких лиц
О к морю, к лесу,
о к черту на рога -
где поворачивает
река
Пусть подстаканник,
как вечный странник,
дрожит - ах, нет -
бежит в окне
2. На улице в четыре дома...
На улице в четыре дома
я знаю только два столба.
Иду, не подымая лба,
по улице в четыре дома.
А этот лед - моя беда.
День короток. Но к маю, к маю
- сбегает поздняя вода,
гремит музыка полковая
от поворота и до рва.
На улице в четыре дома -
вот где вселенская истома,
растет пахучая трава.
Очнувшись ночью в южном далеко,
мне так легко теперь сказать, легко,
как разве что погладить по руке
в уже неразличимом далеке.
Едва от губ - лети, мое люблю,
сухим птенцом лети по февралю,
лети, любовь, язык твой птичий прост,
я уцеплюсь за твой скользящий хвост.
1983, 85
Крым
* * *
Луна. Молчит виноградник.
Сонная линия гор не приносит покоя.
Пахнет травой. А внизу в городке,
томно раскинувшись, словно на пляже гигантском,
тает огнями долина, зовет Челентано, танцует,
но ярче - луна, и желтей,
и романтических скрипок громче - трава и цикады.
Я вниз никогда не сойду,
Так и буду сидеть среди темных рядов винограда,
пускай
разбивает скалу за скалой дискотека. Неси.
под ногой осыпаясь,
дорожка,
по серому склону в овраг,
слух обжигая песком,
(музыка скрылась за склоном).
Вот и первый сарай и продмаг, и бараки "шанхая",
столб и асфальт
- постой, кед завяжу,
улицу нахожу
- там, где музыкою пахнет,
где гармошка тихо ахнет,
где спускается в овраг
на ночь запертый продмаг,
где у дома углового
ситец розами горит,
и фонарь, как уголовник,
как на шухере, стоит.
1984
Крым
ЛЮБОВЬ
...перебирая четки пустяков -
обмолвок, взглядов; мятых лепестков
замучив миллионы; от свиданий
страдая; год
из четырех углов
следившая,
и двух не молвившая слов...
1985
Отказываешься от меня, отказываешься.
Боишься - а я смирная. Раскаешься.
Назад идешь, к метро, я - к трамваю,
оглядываюсь - и ты оглядываешься.
Площадь под нами черна, как безумие.
Лужи горят на полосе нейтральной.
Коплю, коплю тебя, моя радость, с собой везу тебя.
Если б ты знал, каково это: не тратить.
Все гостинцы друг другу носим - слова, книги.
Ими ласкаем друг друга - скажи, не глупо ль?
Вздрогнет в метро контролерша, как пограничник.
Но даже она не знает, как любим.
Уходи, уходи, улетай.
Я тебя не встревожу ничуть.
Это просто - оборванный край
неба
лег на железный путь.
Никого уже не обманет
"как-нибудь".
Провожавшему в горле станет
в город обратный путь.
Уплощается в перспективе,
упрощается даль.
Нам иронии не хватило -
вот печаль.
В воздухе - запах льда, и он
может тебя нести.
Летное поле - как ладонь
разжавшаяся: лети.
1983
* * *
"Воспоминание об Альгамбре",
этюд тремоло для гитары
Франсиско Таррега
...Как в розвальни упавший старовер,
зима в себя погружена,
как в соты.
И снег не вынесет напрасной этой ноты,
по сердцу странствующей.
Милиционер
проталкивает пробку безуспешно,
как я гоню мотив тревоги грешной.
- К тебе на грудь!
на снег слетает лист.
Как ученик, склонился гитарист
над декою, щекою оснеженной
такого города, где ты - и где тебя
нет.
Упаси нас от соседства:
вернее нету средства для разлук.
...Слепят глаза карнизы и полпредства
в известке снега.
Запряженный звук,
моргая, тащит сердце против снега.
И в душу просится словарь волны и брега.
И на столицу пялясь, как турист,
троллейбус тянется - усердный гитарист
гриф проводов терзает.
И разлука
нелепой кажется.
А небо кажется доступнее тебя.
Душа, сжимаясь до размеров звука,
что, днем и ночью стенки теребя,
в ней свил гнездо - узнает ли тебя?
29 января 1984
ВЕСЕННИЙ КРИК ВОРОБЬЯ
Забывает маяту нелюбви к себе святую,
отторгает пустоту - кто прожил свое вчистую.
В этой местности чужой, в пестроте лугов астральных,
забывают холод свой посреди кустов хрустальных.
Вот я воздух ем, лечу, у-лю-лю кричат с земли мне,
и щекочет по плечу частокол колючих линий.
Вижу краешек зимы, вижу черноземов паюс,
подымаясь над тобой, не собой - тобою маюсь.
Ветер перья шевелит, реет дождь аэрозольный,
душу-зернышко болит легкий звон страны озонной.
- Нюхай корку, свежий край черных зим,
суглинков красных,
рыжий ворох собирай дымом пахнущих согласных.
Знает пригород с травой, небо низкое рябое,
как с неангельской трубой ворочусь я за тобою.
1985
КОЛЫБЕЛЬНАЯ С ОТГАДКОЙ
Слова, как слоны,
вереницею длинной
за сонными снами ушли,
и тихо цеплялись
к троллейбусным линиям,
и синие факелы жгли.
Трубили трамваи,
боками качая,
об обетованном депо.
И пахло Китаем
и байховым чаем
весеннего неба дупло.
И будто светало,
хотя не светало.
Хотелось забыться-уснуть.
Но света для этого
не хватало,
и штора завесила путь.
В рубашке мерцающей
ночь собеседница
сидела в ногах, босиком.
О ком бормотала,
умаявшись, лестница?
Ты знаешь прекрасно, о ком.
1984
ТРАМВАЙНАЯ ЭЛЕГИЯ
П.Сургучеву
Пальто забрызгала, но приступом трамвай
взяла. Протискиваюсь в середину,
как требует невидимый водитель
(я чувствую, как близко микрофон
к губам она подносит). В середине
салона - так же тесно, но тепло
(а вот и поручень!) и сухо. Повисаю,
в тепле, довольстве свысока смотрю
на сумрак, дождь в окошко проливное.
И если не сломается вагон,
и нас не высадят в полузнакомом месте -
смотри себе в окошко, прогибаясь,
раскачиваясь, словно обезьяна,
на гладких поручнях. А вот уже опять
открылась дверь, и снова уминают.
Сказать по правде, хочется домой:
погреть под краном руки, выпить чаю -
но с давкой дождь все борется в дверях.
У остановки странное названье,
всегда прислушиваюсь: Стеклоагрегат.
Ни стекол, никакого агрегата:
пустырь, забор, какая-то листва
- да марсианский лом блестит на глине,
округе надоевший натюрморт.
Все это жизнь моя, не более. Все это
лишь повод провести нас на мякине,
пока мы тут въезжаем в поворот.
Март 1983
В СОСНАХ
Фанера есть фанера, но все же - дом под крышей.
Железная дорога - как моря суррогат.
Должно быть где-то море,
его уже не слышно -
и кто в том виноват?
Как на аэродром, летят к клеенке осы,
и серебристый день от сосен полосат.
Дымится мокрый пень, наш день вдвоем несносен,
и кто в том виноват?
1981
* * *
выйти замуж
строить замок
и смотреть с утра в оконце:
будто око
будто солнце
будто зеркало оно
будет так заведено
будет небо баловаться
брейгель - с горочки кататься
мать - грозить ему в окно
1978
НА МОТИВ 60-Х
Арктика льды распаковывает
паковые, прикованные
к тундре,
весной искалеченные -
руки ли не воздеть:
да будет лето сие
писано по воде!
Талая-ла печаль!
Знаю лишь: даль, даль.
Даль моя, припорошенная
мелким снежком, к морошке
тянущаяся, как монастырь весной
- в летний лесной запой...
1979
* * *
Дали мне простое имя -
чтобы путали с другими,
вздрагивать на каждый зов
громких каменных дворов.
В детской комнате, в которой
я себя не узнаю,
в зимних сумерках за шторой
нерешительно стою.
И когда из разных окон
позовут меня домой,
и сбегает водостоком
незнакомый звук губной,
и деревья остаются,
остаются там, внизу -
я тебе, как жизнь, на блюдце
чашку медленно несу,
темнотою коридора -
где под каждой дверью свет,
где за каждой дверью штора
сводит улицу на нет.
1985
* * *
Это зимою - "вставай, пора",
лампы рядами гудят с утра.
Подчеркиванье пунктиром.
Что увидишь в дыру транспортира?
Только кусочек тетради в клетку.
Учиться - это бабка за дедку
год за годом тащить за нитку,
убежавшую в зелень мира
(и там привязанную к некоей ветке,
а этим концом - к запотевшей спинке
кровати),
и видеть вокруг картинки:
двор, физкультура, себя у стенки
в низком старте -
и встать,
отряхивая коленки.
<Начало 80-х>
1. ПЛАЧ
По ком
слеза блазнится?
В разоре
стоит тело
Какая теперь разница,
как жить
и что делать
В каналах
вода голая
поворачивается на бок
к темной стенке - не видеть полог
повисающего
снегопада
2. СТРАНСТВИЕ
В городе, где даже сила тяжести
кажется вытянутой к горизонту,
нету поэтому большей радости,
чем разматывание узоров
этих решеток вдоль чутких улиц,
этих витиеватых лестниц,
этих, вдоль длинного неба, узких
туч, тянущихся к Адмиралтейству.
3. ПИСЬМО. ИЮНЬ
Это лай всех собак
(и округа спит)
Это сон всех мостов
навесных цепей
Вслушивайся же
в свой шаг
В этом городе был постой
денщиков-императоров
и солдат-царей
Это бег всех дверей
подворотен зов
Загляни в захудалую душу свою
Не распутаешь
о такой поре
понавязанных
нежных узлов
и заря идет не догнав зарю
И барашки по белой воде бегут
и бумажные корабли идут
Ты за тыщу верст
а тебе наврут
будто был ты тут
1976 (84)
* * *
Не растрачивай словасловаслова
говорилаговорила голова
я ей головой киваю но ей-ей
укачало от учителей
Слово медленное словно сухогруз
черный ум везет в экибастуз
ох же там намнут ему бока
ох и поваляют, дурака
Чтоб ему да чтоб его да ой
ты зачем не острый а тупой
но зато под угольной горой
выйдет он упругий молодой
Из метаморфических глубин
из метафорических темнот
вынесет он звук что ни один
не добыл обидчик алладин
И над полем черным с сединой
тот же звук но в скорописи звезд
напевая повернет домой
прямиком и стало быть в объезд
Потому и тащит за собой
слово медленное как порожнюю баржу
потому и бормоча свое гугу
не посмеет "больше не могу"
80-е (17 ноября 1995)
* * *
Н.Горбаневской
непоющий певец и ручья не прошел
как анапест тяжел он сидел на коре
он как птицы не пел он как жук многокрыл
он копил под оборками звук настоящий
отзывался в коробке безокий язык
никуда не ушел он не сжал кулака
тридцать лет и три года сидел и смотрел в облака
1999
Популярность: 9, Last-modified: Thu, 12 Sep 2002 13:58:10 GmT
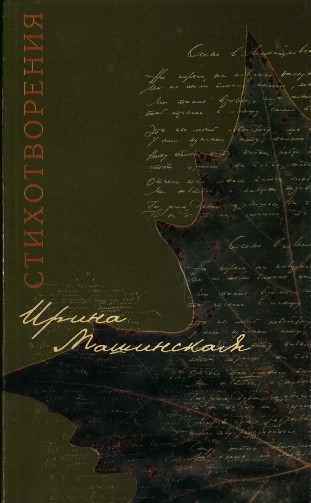 Ирина Машинская родилась в Москве. Окончила Географический факультет и
аспирантуру МГУ, где занималась теоретической палеоклиматологией. В 1991
году эмигрировала в США. Живет в нью-джерсийском городке Фэр Лон и преподает
математику в школе.
Ирина Машинская родилась в Москве. Окончила Географический факультет и
аспирантуру МГУ, где занималась теоретической палеоклиматологией. В 1991
году эмигрировала в США. Живет в нью-джерсийском городке Фэр Лон и преподает
математику в школе.