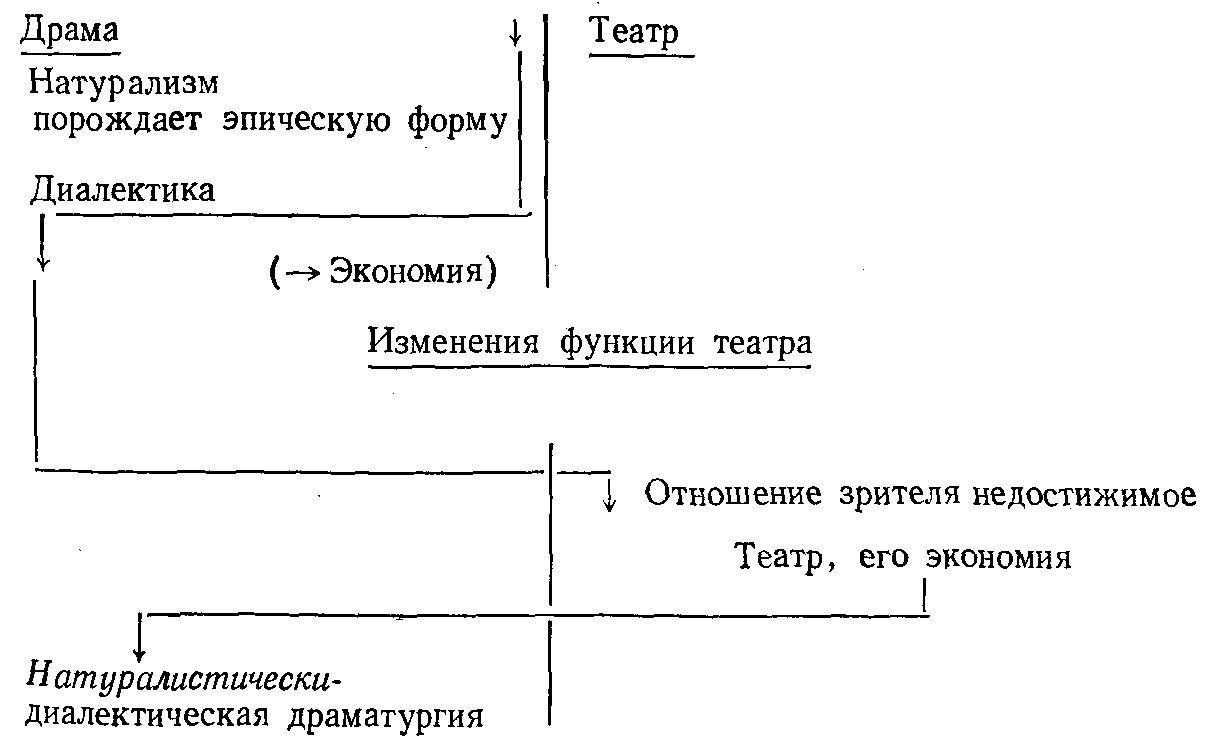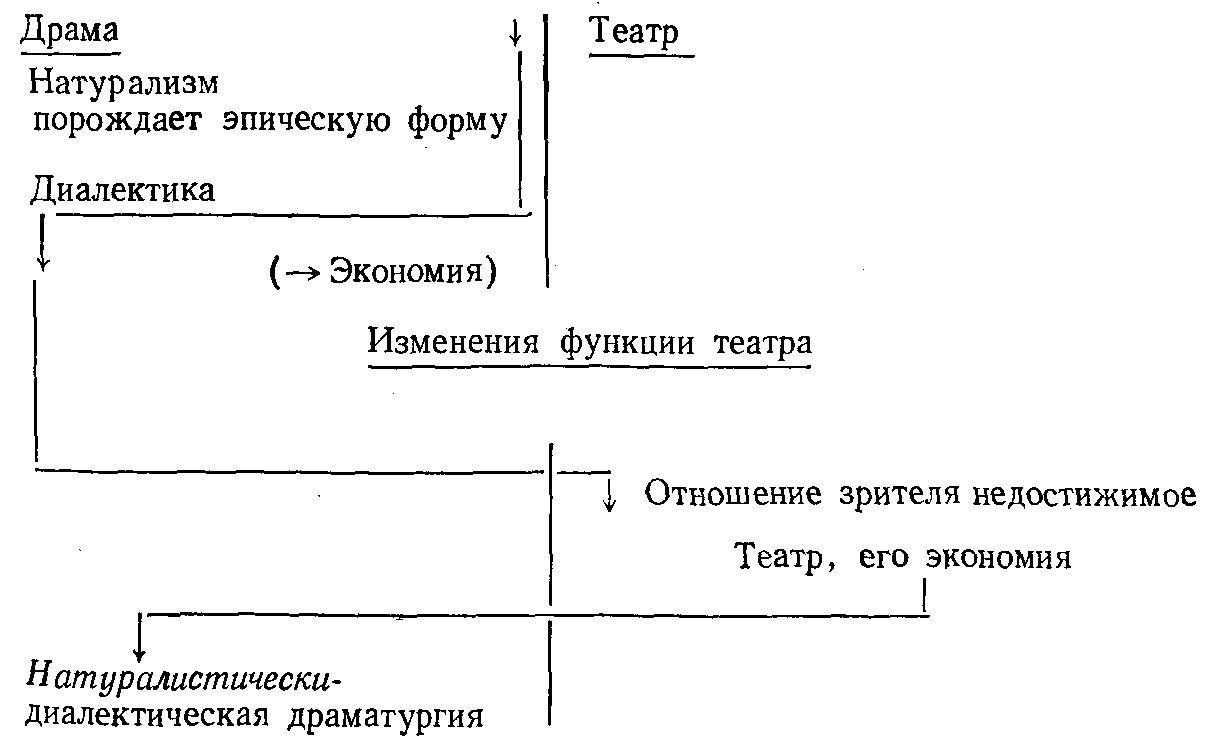---------------------------------------------------------------------------
Бертольт Брехт. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти томах. Т. 5/2
М., Искусство, 1965
OCR Бычков М.Н. mailto:bmn@lib.ru
----------------------------------------------------------------------------
ПРОТИВ ТЕАТРАЛЬНОЙ РУТИНЫ
Больше хорошего спорта! Перевод В. Клюева
О подготовке зрителя. Перевод В. Клюева
Материальная ценность. Перевод В. Клюева
О "народном театре". Перевод В. Клюева
Как играть классиков сегодня? Перевод В. Клюева
Театральная ситуация 1917-1927 годов. Перевод В. Клюева
Не ликвидировать ли нам эстетику? Перевод В. Клюева
Человек за режиссерским пультом. Перевод В. Клюева
Беседа по кельнскому радио. Перевод В, Клюева.....
Должна ли драма иметь тенденцию? Перевод В. Клюева
Против "органичности" славы, за ее организацию. Перевод В. Клюева
Отречение драматурга. Перевод М. Вершининой
НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОМУ ТЕАТРУ
Господину в партере. Перевод В. Клюева
Опыт Пискатора. Перевод В. Клюева
Размышления о трудностях эпического театра. Перевод В. Клюева
Последний этап - "Эдип". Перевод В. Клюева
О темах и форме. Перевод В. Клюева
Путь к большому современному театру. Перевод В. Клюева
Советский театр и пролетарский театр. Перевод В. Клюева
Диалектическая драматургия. Перевод С. Львова
О НЕАРИСТОТЕЛЕВСКОЙ ДРАМЕ
Театр удовольствия или театр поучения? Перевод Е. Эткинда
Немецкий театр двадцатых годов. Перевод М. Вершининой
Критика вживания в образ. Перевод М. Вершининой
Реалистический театр и иллюзия. Перевод С. Апта
Небольшой список наиболее распространенных и банальных заблуждений
относительно эпического театра. Перевод М. Вершининой
Об экспериментальном театре. Перевод В. Клюева
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА
Краткое описание новой техники актерской игры, вызывающей так
называемый "эффект очуждения". Перевод Е. Эткинда
Диалектика и очуждение. Перевод М. Вершининой
Построение образа. Перевод И. Млечиной
Отношение актера к публике. Перевод И. Млечиной
Диалог об актрисе эпического театра. Перевод И. Млечиной
Мастера показывают смену вещей и явлений. Перевод И. Млечиной
Перевод В. Клюева
Прогрессивность системы Станиславского
Культовый характер системы Станиславского
Станиславский - Вахтангов - Мейерхольд
О формулировке "полное перевоплощение"
Неполное перевоплощение - это регресс мнимый
Изучение
Развитие образа
Физические действия
Правда
Возможные эксперименты
Вживание
Чему наряду с прочим можно поучиться у театра Станиславского?
"Малый органон" и система Станиславского
Станиславский и Брехт
ХУДОЖНИК И КОМПОЗИТОР В ЭПИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
Об оформлении сцены в неаристотелевском театре. Перевод М. Вершининой
Признаки общественных процессов. Перевод М. Вершининой
Небольшое конфиденциальное послание моему другу Максу Горелику. Перевод
М. Вершининой
Об использовании музыки в эпическом театре. Перевод Е. Михелевич
"МАЛЫЙ ОРГАНОН" ДЛЯ ТЕАТРА
"Малый органон" для театра. Перевод Л. Копелева и В. Неделина
Добавления к "Малому органону". Перевод Е. Михелевич.
В защиту "Малого органона". Перевод Е. Михелевич
Из письма к актеру. Перевод Н. Португалова
Диалектика на театре. Перевод Е. Эткинда
Некоторые заблуждения в понимании метода игры "Берлинского ансамбля".
Перевод Е. Эткинда
Заметки о диалектике на театре. Перевод Е. Эткинда
Можно ли назвать театр школой эмоций? Перевод Е. Эткинда
Вопросы о работе режиссера. Перевод И. Фрадкина
Театр эпический и диалектический. Перевод Е. Эткинда
ПРОТИВ ТЕАТРАЛЬНОЙ РУТИНЫ
Наша надежда основывается на спортивной публике.
Наш глаз косится - мы не скрываем этого - на огромные цементные горшки,
наполненные пятнадцатью тысячами человек всех классов и всех обличий, самой
умной и самой порядочной публикой в мире. Здесь вы найдете пятнадцать тысяч
человек, которые платят большие деньги и получают причитающееся на основе
здорового регулирования спроса и предложения. Они не могут ожидать честного
поведения там, где дело идет к старости. Испорченность нашей театральной
публики происходит оттого, что ни театр, ни публика не имеют представления о
том, что же здесь должно происходить. Во дворцах спорта люди, покупая билет,
точно знают, что им будет показано; когда они занимают свои места, там
происходит то, чего, они ждали, а именно: тренированные люди приятнейшим для
них образом демонстрируют свою особенную силу с тончайшим чувством
ответственности и все же так, что приходится верить, будто делают они это
главным образом ради собственного удовольствия. _У старого же театра сегодня
нет больше своего лица_.
Непонятно, почему бы и театру не иметь своего "хорошего спорта". Если
выстроенные для театральных целей здания, которые все равно уже стоят и
пожирают арендную плату, рассматривать просто как более или менее пустующие
помещения, в которых можно было бы заняться "хорошим спортом", то,
несомненно, и из них можно было хоть что-нибудь выколотить для публики,
которая действительно сегодня зарабатывает сегодняшние деньги и сегодня ест
сегодняшнюю говядину.
Разумеется, могут сказать, что есть еще и такая публика, которая ждет
от театра не "спорта", а чего-то другого. Однако мы просто-таки ни разу не
заметили, чтобы публика, наполняющая сегодня театры, _хотела хоть
чего-нибудь_. Косное нежелание публики отказаться от своих старых,
унаследованных от дедов мест не следовало бы выдавать за свежее изъявление
воли.
От нас принято требовать, чтобы мы творили не только "на потребу". Но я
все же полагаю, что художник, даже если он работает на пресловутом чердаке,
за закрытыми дверьми, ради будущих поколений, даже он ничего не сумеет
сделать, если ветер не наполнит его парусов. И ветер этот должен быть ветром
именно его времени, а не ветром будущего. Это отнюдь не объясняет, как
пользоваться таким ветром (ведь известно, что при ветре можно плыть и против
него, но нельзя плыть без ветра или с ветром завтрашним), и вполне вероятно,
что художник будет еще далек от достижения своего максимального эффекта
сегодня, хотя и поплывет под сегодняшним ветром. Было бы совершенно неверно
доказывать наличие или отсутствие в той или иной пьесе контакта со своим
временем одним лишь сегодняшним впечатлением от нее. С театрами же дело
обстоит совсем по-другому.
_Театр без публики - это нонсенс_. Следовательно, наш театр - нонсенс.
Если у театра сегодня еще нет контакта с публикой, то это происходит оттого,
что он не знает, чего от него хотят. Он разучился делать то, что некогда
умел, но если бы и умел еще, то это уже не захотели бы смотреть. Однако
театр все еще неуклонно продолжает делать то, чего уже не умеет и чего уже
не хотят. Во всех этих хорошо отапливаемых, красиво освещенных, поглощающих
уйму денег импозантных зданиях и во всей той чепухе, которая в них
предлагается, нет ни на грош _удовольствия_. Ни один театр не смог бы
пригласить нескольких людей, славящихся тем, что находят удовольствие в
изготовлении пьес, посмотреть свои спектакли в надежде, что эти люди ощутят
потребность написать пьесу для этого театра. Они тотчас увидят, что
_удовольствия_ здесь не добиться никаким путем. Здесь нет ветра в парусах.
Здесь нет "хорошего спорта".
Возьмем, например, актера. Я не хочу сказать, будто у нас меньше
талантов, чем в другие времена; но я не думаю, чтобы когда-либо были такие
затравленные, используемые в преступных целях, одержимые страхом,
искусственно подстегиваемые труппы актеров, как наши. _А ни один человек,
делающий свое дело без удовольствия, не может рассчитывать на то, что оно
кому-то понравится_.
Разумеется, вышестоящие сваливают все на нижестоящих, а охотнее всего
нападают на безобидные чердаки. Народная ярость обращается против этих
чердаков: пьесы, мол, никуда не годятся. На это можно возразить, что пьесы,
если они написаны, например, просто лишь с удовольствием, уже должны быть
лучше театра, их ставящего, и публики, их смотрящей. Вы просто не узнаете
пьесы, если она пройдет через такую мясорубку. Если мы придем и скажем: "Мы,
как публика, все представляли себе иначе; мы, например, за элегантность,
легкость, сухость, конкретность", то театр наивно ответит: "Предпочитаемые
вами, дорогой господин, страсти не живут ни под одним смокингом". Как будто
и "отцеубийство" нельзя совершить элегантно, деловито, так сказать,
классически совершенно!
Но вместо подлинного умения нам под видом интенсивности предлагают
просто конвульсии.
Вы больше не в состоянии вывести на сцену особенное, то есть
достопримечательное. Актером, с самого начала находящимся под властью
неосознанного стремления ни в коем случае не упустить публику, овладевает
такой неестественный порыв, что выглядит это так, будто поднять руку на
своего отца - это самое обычное дело на свете. Но одновременно заметно, что
такая игра ужасно изнуряет его. _А человек, утомляющийся на сцене, если он
хоть чего-нибудь стоит, утомляет и всех людей в партере_.
Я не разделяю взглядов тех людей, которые жалуются, что приостановить
быстрый закат Запада почти невозможно. Я думаю, что есть такая масса
достопримечательных тем, достойных восхищения типов и достойных познания
знаний, что, подними мы всего-навсего хороший спортивный дух, пришлось бы
строить театры, если бы их не было. Однако самая большая надежда сегодняшних
театров - это люди, уходящие из театра после спектакля через парадный и
через служебный подъезды: они уходят недовольными.
6 февраля 1926 г.
Одной из основ нашего восприятия искусства является мнение, будто
великое искусство воздействует непосредственно, прямо, от чувства к чувству;
будто оно перепрыгивает различия между людьми и, напротив, сплачивает людей
тем, что, будучи само незаинтересованным, выключает и интересы
наслаждающихся искусством. Поскольку в настоящее время такое воздействие уже
не достигается ни с помощью старого, ни с помощью нового искусства, то либо
приходят к заключению, будто великого искусства сегодня не существует (и это
фактически общее мнение), либо бывают вынуждены или, скажем, считают себя
вправе не предъявлять этого требования большому искусству. Что и
наблюдается.
Большое искусство служит большим целям. Если вы хотите установить,
насколько крупно какое-либо художественное произведение, то спросите: каким
большим целям оно служит? У эпох без больших целей нет и большого искусства.
Каких целей? Духовных (поскольку их можно свести к целям материальным).
В нашу эпоху есть довольно много слоев людей, у которых совершенно
различные цели и которые, соответственно, совершенно по-разному реагируют и
духовно. Если бы сегодня вершилось большое искусство, то оно заранее могло
бы быть предназначено лишь одному из этих слоев; тогда оно служило бы целям
этого слоя и только этот слой стал бы реагировать на него. Но при любых ли
обстоятельствах станет этот слой реагировать на искусство?
Нет.
Если вы спросите стодвадцатилетнего старика, есть ли смысл в жизни, то
он - особенно, если жил плохо, - скажет: мало.
Времена, которые возятся с таким ужасным хламом, как "художественные
формы" (к тому же других времен), не смогут ничего достичь ни в драме, ни в
какой-либо области искусства вообще. Поколению должно быть довольно стыдно,
если к его концу возникает вопрос, окупается ли вообще такой труд, как
затраченный им? И мы, обладающие все же большим и здоровым театральным
аппетитом, должны признаться (и этим вызвать неудовольствие), что, например,
такая дешевая и беспомощная штуковина, как гипсовый рельеф под названием
"Ирод и Мариамна", удовлетворять нас больше не может. Но, чтобы люди более
поздней даты рождения вообще отказались от театра или чтобы он вообще
опротивел им, это маловероятно.
4 апреля 1926 г.
Существует большая всесторонняя заинтересованность в том, чтобы не
делалось ничего вполне нового. Эта заинтересованность царит во всех тех
областях у людей, которые хорошо себя чувствуют при старых порядках и лри
старом ходе дел. Понятно, что у тех, кто не хочет больше чего-то старого,
преобладает мнение, что наихудшим выражением этого старого являются те, кого
оно вполне устраивает.
Поскольку римляне умели писать, а древние вандалы нет, то о
предприятиях последних имеются исключительно римские данные. Если исходить
из них, то приходишь к мнению, что эти вандалы были одержимы невероятным
эстетическим фанатизмом; они выступали против определенного направления в
искусстве или по меньшей мере испытывали непреодолимое отвращение ко всякому
искусству вообще. Я не верю, чтобы это было так. По-моему, в худшем случае
это было озорством. Однако иной раз вандалы использовали старые вещи главным
образом как материал. Дерево, например, способно давать огонь, а резьбы на
нем вандалы не замечали. (Такого понимания искусства, которое понадобилось,
например, немцам, чтобы выбрать для обстрела Реймский собор, у тех людей
наверняка не было.) Этим я хочу сказать, что вандалы относились к древнему
культурному достоянию просто дерзко. Пусть в более высоком смысле это
говорит не в нашу пользу (с высоких позиций мы вообще поначалу 'Предстаем в
неприглядном свете), что мы оцениваем вандализм не с эстетической точки
зрения, а просто хотим извлечь >из него урок. Он таков: до материальной
ценности вещи без дерзости не добраться.
Но объяснимся же, наконец, и останемся несимпатичными! Недавно я в двух
словах разделался с монументальным произведением Геббеля "Ирод и Мариамна" и
причислил его к старому хламу (само собой разумеется, старый хлам обладает
для меня большой притягательной силой; разобранные, наполовину сломанные
дрожки мне много милее, поскольку они являются материалом).
Непосредственно вслед за этим в одном литературном журнале кто-то в
достойной форме выдвинул против Геббеля тщательно подобранные литературные
аргументы. Я хотел бы подчеркнуть, что происходило это самым серьезным
образом и что этого человека следовало бы расстрелять. Я сам давным-давно
собирался поставить "Ирода и Мариамну". Само собой разумеется, что при этом
я имел в виду только ее чисто материальную ценность, то есть, скажем, грубую
канву действия, правда, вероятно, без последнего акта. Дерзость моя исходила
из следующей моей позитивной установки. Совершенно безразлично и ни для кого
не имеет значения, если в ближайшие пятьдесят лет будет господствовать
другая точка зрения на безразличного всем Фридриха Геббеля, чем в предыдущие
пятьдесят лет. Зато крайне важно, что какая-то вредная почтительность,
какой-то бесцеремонно грубый пиетет публики мешают использовать материальную
ценность его сделанных уже однажды работ. Например, в пьесе "Валленштейн" -
чтобы не пройти, не задев за живое и некоторых еще не задетых мною читателей
- помимо ее музейной пригодности, есть еще отнюдь не малая материальная
ценность; в ней недурно организован исторический сюжет, а если правильно
сократить большие куски текста и придать им другой смысл, то в конце концов
и "Валленштейн" окажется пригодным. То же самое с "Фаустом". Как же строить
репертуар, если такие вещи уничтожаются с помощью аргументов и отклоняются в
целом? С другой стороны, как мы дошли до того, что эти написанные для других
театров и обороняемые не известными нам аргументами, но явно талантливые
памятники прежних взглядов на искусство мы принимаем как кота в мешке,
попросту снимая с себя всякую ответственность перед своими современниками?
Впрочем, буржуазия, которая взяла на себя столь разносторонние
обязательства, что, как правило, нужно обладать очень верной хваткой, чтобы
уловить соответствующие ее делам взгляды, на практике всегда прикрывала
вандализм. Предводителем сегодняшнего вандализма на театре является
превозносимый прессой режиссер Л. Йесснер. С помощью хорошо продуманных
ампутаций и эффектных комбинаций многих сцен он придает новый смысл
классическим произведениям или по крайней мере их частям, старое содержание
которых театр уже не доносит. Значит, при этом он использует материальную
ценность пьес. Вопрос собственности, который у буржуазии - даже в делах
духовных - играет большую (крайне комическую) роль, в упомянутом случае
регулируется тем, что пьеса с помощью генетивус поссесивус приписывается
тому, кто в возмещение эпитета "смелый" взвалил на себя ответственность. Так
"Фауст" Гете превращается в "Фауста" Иесснера, а это в моральном отношении
приблизительно соответствует литературному плагиату. Ведь если не хотят
допустить даже возможности использования в постановках лучших немецких
театров отрывков из наших классиков на манер плагиата, то, естественно,
нельзя допускать и вырубку органических частей произведений, поскольку если
рассматривать по-буржуазному - это хищение, независимо от того, используются
ли вырубленные или сохранившиеся части. Такое не вызывающее опасений
практическое применение нового, коллективистского понятия собственности -
одно из немногих, но решающих преимуществ буржуазного театра перед
литературой. (О бесспорных заслугах нескольких писателей на ниве плагиата я
лучше поговорю тогда, когда мои собственные заслуги станут несколько
значительнее.)
Если поговорить с человеком из "Народного театра", то прежде всего
услышишь о стольких-то тысячах членов, о стольких-то представлениях
такого-то произведения, и при этом он полагает, что этим уже что-то сделано.
Все это оправданием- служить не может. "Народный театр" никогда не начинал.
А должен был бы начать. Он всего лишь продолжал старый, отставший театр на
другой лад и стал сегодня не чем иным, как бесполезным распределителем
театральных билетов между своими членами, зависящими от милости и немилости
какой-то комиссии. А что может сделать какая-то комиссия? Ничего! Если бы
"Народный театр" захотел сегодня что-то предпринять, начать заново, то мог
бы, например, создать театральную лабораторию, в которой актеры, авторы и
режиссеры работали бы так, как это доставляет им удовольствие, без
определенного намерения. А каждый захотевший туда попасть мог бы посмотреть
и лабораторию и спектакли на экспериментальной сцене. Наилучшие и наиболее
успешные результаты переносятся затем на большую сцену. При этом "Народный
театр" решительно ничем не рисковал бы. Ведь это дело обеспечено его
членами. Но он ни на что не отваживается, у него нет смелости.
Июнь 1926 г.
2. ТЕНДЕНЦИЯ "НАРОДНОГО ТЕАТРА" ЧИСТОЕ ИСКУССТВО
В эти дни, в связи с большим впечатлением, произведенным одним
революционным спектаклем, в "Народном театре" снова проявились _тенденции
чистого искусства_. Правда, сам "Народный театр" имеет столько же прав на
звание театра, сколько, скажем, этнографический музей. Он остается
заведением Ашингера, проявлявшим, до сих пор некоторую добрую волю. Правда,
одной доброй воли мало, но теперь это к тому же и злая воля. То, что господа
Нестрипке и Нефт против революции, это совершенно понятно, но когда они
хотят уверить, будто они за чистое искусство, то это неописуемо смешно. Если
бы эти люди были за чистое искусство или за революцию, то не только на
искусстве, но даже на революции можно было бы поставить крест. Всегда, когда
наступает такое идеальное состояние, как у нас сегодня, когда на сцене
недостает таланта, а в зрительном зале интереса, перед нами появляется
обычный коммерческий театр с тенденцией к чистому искусству.
Говорят, что Пискатор проявил тенденцию. А другие люди, ставившие там
спектакли? Разве они не проявляли тенденции? Можно было бы спокойно сказать,
что они ничего не показали, если бы не пришлось сказать, что тенденция была
все же показана. Они проявили отчетливую тенденцию к оглуплению публики, к
опошлению молодежи, к подавлению свободной мысли. Они уверяют, будто не
представляют никакой партии? Нет, они представляют партию лентяев и дураков!
А это очень мощная партия. Опираясь на кучку классиков и
предводительствуемая несколькими чиновниками, она может творить, что ей
заблагорассудится. Они принимают искусство за нечто такое, чему ничто
повредить не может. С их точки зрения, спектакль можно исправить, если
вырезать из него часть фильма (что для одного искусство, то для другого
дешевка). Я очень высокого мнения о постановках Пискатора. Но если бы в них
содержалась одна-единственная тенденция: изгнать господ, которые управляют
"Народным театром" и придерживаются мнения, будто у бобов и художественных
произведений не должно быть тенденции, то одно это было бы уже
свидетельством художественной воли. Однако, высказывая все это, я полагаю,
что отношение "Народного театра" ко всякому живому театру не следует считать
удивительным. Разумеется, "Народный театр" против искусства и против
революции, а поскольку средства производства в его руках, то в своем
помещении он будет легко прижимать к стенке живой театр. Но все, кто за
живой театр, перестанут поддерживать "Народный театр". Большой эпический и
документальный театр, которого мы ждем, не может быть создан "Народным
театром" и не может быть им предотвращен.
КАК ИГРАТЬ КЛАССИКОВ СЕГОДНЯ?
Когда в не слишком гнилую эпоху загнивает какое-то не слишком гнилое
дело, то все находящиеся при этом живые люди считают своей обязанностью
способствовать еще большему загниванию, дабы как можно скорее это дело
похоронить. Действительно, сегодня наиболее жизнелюбивые люди, имеющие дело
с театром, в своей деятельности ограничиваются почти исключительно тем, что
портят театр. Я думаю, если начнут разыскивать тех людей, которые - помимо
моды - повинны в (неудержимом!) падении этого театра, то добровольно явятся
с повинной все же очень немногие - кроме нас. Мы считаем себя самым
выдающимся образом причастными к этому падению. Одной лишь постановкой
нескольких наших пьес сделано уже многое. Целые комплексы тем
дореволюционного театра, да еще целая готовая психология и почти все
относящееся к мировоззрению стали для большей части актеров и меньшей части
публики просто невыносимы. (После постановки "Разбойников" Пискатор сказал
мне, что ему хотелось добиться, чтобы люди, уходя из театра, заметили, что
сто пятьдесят лет - это не мелочь.) Не говоря уже об их саботируемой
условиями загнивания творческой деятельности, благодаря которой в старом
театре было пробуждено чувствительно его ранившее опасное желание новых и
авантюрных ходов мысли, само присутствие в зрительном зале нескольких
молодых людей действовало на старый театр просто раздражающе. Видя эти
несимпатичные и недовольные физиономии, выражавшие отвращение целого
поколения к устаревшим мыслям, театр во время исполнения своего обычного,
проверенного на успех репертуара приходил в невыразимо отрадную
неуверенность, которая получала передышку в совершенно бессмысленном
экспериментировании и таком сумасбродстве, которое при прежних порядках
считалось бы просто непристойным. Были сделаны открытия, и я думаю, что их
будут делать и впредь. Но любопытны открытия, сделанные на склоне лет. Люди,
как бы зацепившись за последний сук, изобретают все больше и больше, и
преимущественно пилы. Они могут выдумывать, что им заблагорассудится, но в
конце концов все равно получается пила; они могут как угодно владеть собой,
но их тайное желание слишком сильно, и неожиданно они замечают, что
подпиливают свой собственный сук. Каждая постановка совершенно старой и,
следовательно, уже бесконечное время - то есть с того момента, когда она не
была еще старой - ни разу не провалившейся пьесы оказывалась смертельным
прыжком, совершающимся на глазах затаившей дыхание публики. При всем этом
старый классический репертуар - независимо от того, что с ним вытворяли ради
хоть какого-то освежения, чем и доконали его окончательно, - оказался все же
достаточно хрупким и изрядно потраченным молью. В старой его форме его
поистине нельзя было отважиться предложить взрослым читателям газеты.
Действительно пригодной оставалась лишь сама тема. (Известные классические
пьесы, чистая материальная ценность которых недостаточна, в нашу эпоху уже
невыносимы.) Однако для упорядочения и для действенности этого материала
потребовались новые точки зрения. А позаимствовать их можно было только в
современной продукции. С помощью политической точки зрения можно было бы
какую-нибудь классическую пьесу превратить в нечто большее, чем наслаждение
воспоминаниями. Есть и другие точки зрения: их можно найти в современной
продукции. Говоря без обиняков, я считаю, что нет ни малейшего смысла
ставить пьесу Шекспира, пока театр не в состоянии производить впечатление
современной продукцией. Здесь не помогут никакие обходные пути. Нечего
надеяться, что из новейших пьес можно будет просто выковырять какие-то точки
зрения, чтобы затем применить их к старым, пьесам; таким путем их не
отыскать. Мне видится в мрачном свете будущее тех, кто хочет уклониться от
жестких требований нетерпеливого времени.
25 декабря 1926 г.
ТЕАТРАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 1917-1927 ГОДОВ
_Сегодняшний театр - это явление чисто временное_. Суждение о нем было
бы уже неверным, если бы мы приписали ему хоть какое-то желание иметь дело с
вещами духовными, то есть с искусством. В действительности он хочет иметь
дело только _с публикой_, о которой у него нет четкого представления и
которая состоит из людей либо теряющих наивность, едва они переступают порог
театра, либо никогда ею не обладавших. И театр отчаянно пытается удержать
эту публику, все дальше и дальше идя ей навстречу, что очень трудно, ибо
невозможно узнать, в чем же нужно уступать этой публике, поскольку у нее
вообще нет _никакого аппетита_. Возможно, что, кроме того, на таком пути
потакания публике театр надеется отыскать и _стиль_. То есть стиль в данном
случае означал бы своего рода _навыки_ обращения с публикой. Если публику,
играющую столь большую роль для театра, не рассматривать в классовом
отношении, то как сокровищницу нового стиля ее, разумеется, следует
_отклонить_.
Я допускаю, что человек, питающий страсть к театру, сегодня не может
больше относиться серьезно к старому типу посетителя театра. А чтобы
дождаться нового типа, ни на мгновение нельзя забывать, что типу этому
надлежит еще научиться ходить в театр, что, следовательно, соглашаться с
первыми его требованиями бессмысленно, поскольку требования эти будут
чистейшим недоразумением. (Правда, у негров существует новый способ
использования бритвенных приборов - вешать их на шею, но такой способ не
приведет к существенному улучшению бритвенных приборов.)
Я не верю, что утверждения некоторых новейших режиссеров, будто они
предпринимают определенные изменения в классических пьесах по желанию
публики, могут опровергнуть тот факт, что публика всячески стремится увидеть
_новейшие пьесы_ в как можно более _старой форме_. Тем не менее, обязавшись
не обращать больше внимания на публику, у которой, как он установил, нет
желаний, режиссер берет на себя еще одно обязательство - рассматривать
старые произведения старого театра просто как материал, игнорировать их
стиль, предать забвению их авторов и всем этим произведениям, созданным для
других эпох, навязать стиль нашей эпохи.
Показав, что ни новым стилем, ни новыми определяющими точками зрения он
не располагает, _режиссер_ должен искать этот стиль не у себя в голове, а в
_драматической продукции_ данного времени. Он обязан постоянно обновлять
свои опыты, которые должны привести к созданию большого эпического и
документального театра, соответствующего нашей эпохе.
16 мая 1927 г.
НЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ЛИ НАМ ЭСТЕТИКУ?
Дорогой господин Икс.
Если я попросил Вас высказать суждение о драме с точки зрения
социологии, то произошло это оттого, что я ожидаю от социологии ликвидации
сегодняшней драмы. Как Вы сразу же поняли, социология должна была выполнить
простую и радикальную функцию: она должна была привести доказательство того,
что у этой драмы нет больше прав на существование, а у всего, что сегодня
или в дальнейшем будет строиться на тех предпосылках, которые дали однажды
возможность появиться драме, у всего этого будущего нет. У драмы - как
выразилась бы социология, в оценке которой мы, надеюсь, сходимся, - нет
больше социологического пространства. Ни одна другая наука, кроме Вашей, не
располагает достаточной свободой мышления, всякая другая слишком
заинтересована и замешана в увековечении общего уровня цивилизации нашей
эпохи.
Вы не станете отдавать дань общераспространенному суеверию, будто
какая-то драма собиралась удовлетворить вечные человеческие аппетиты, так
как в действительности она всегда пыталась удовлетворить только один вечный
аппетит - смотреть драму. Вы знаете, что другие аппетиты сменяются, и знаете
почему. Вы, социолог, следовательно, единственный, кто, не боясь усмотреть
упадок человечества уже в отказе от одного из его аппетитов, готов
подтвердить, что великие шекспировские драмы, основа нашей драмы, сегодня не
производят уже впечатления. Эти шекспировские драмы предвосхитили те триста
лет, за которые индивидуум развился в капиталиста, и оказались преодоленными
не тем, что следует за капитализмом, а им самим. Нет смысла говорить о
послешекспировской драме, поскольку она вся без исключений значительно
слабее, а в Германии, из-за латинских влияний, и вовсе выродилась. Защищает
ее еще только местный патриот.
Избрав социологическую точку зрения, мы сможем понять, что по части
литературы мы увязли в болоте. При известных условиях мы сможем привести
эстетов к признанию того, что утверждает социолог, а именно - что нынешняя
драма плоха. Но нам не удастся отнять у них надежду, что ее можно исправить.
(Эстету ничего не стоит признать, что такое "улучшение" драмы он может себе
представить только как результат заимствования совершенно старых ремесленных
приемов, "улучшенного" построения сцены в старом смысле, "улучшенного"
мотивирования ради тех зрителей, которые привыкли к добрым старым
мотивировкам, и т. д.) Видимо, на нашей стороне будут одни социологи, если
мы скажем, что драму эту уже никогда не улучшить и что мы требуем ее
ликвидировать. Социолог знает, что существуют такие ситуации, когда уже
никакие улучшения не помогают. Шкала его оценок расположена не между
отметками "хорошо" и "плохо", а между отметками "правильно" и "неправильно".
Если драма "неправильна", он не станет ее хвалить, будь она "хороша" (или
"прекрасна"), и он один останется глух к эстетическим прелестям постановки,
которая неправильна. Он один знает, что в ней неправильно; он не релятивист,
интересы его жизненны, ему не доставляет никакого удовольствия умение
доказывать все: просто он хочет отыскать то единственное, что стоит
доказывать. Он отнюдь не берет на себя ответственности за все, он отвечает
только за одно. Социолог - наш человек.
Даже тогда, когда из нее вытекают похвалы, эстетическая точка зрения
несправедлива к новой продукции. Это доказывается беглым обзором чуть ли не
всех мероприятий в пользу новой драматургии. Даже там, где критика
руководствовалась и верным инстинктом, она смогла найти в эстетическом
словаре лишь немного убедительных доводов в пользу своей положительной
оценки и информировала публику совершенно неудовлетворительно. Но прежде
всего она оставила без всяких практических указаний театр, который
вдохновляла на постановку таких пьес. Так новые пьесы служили в конечном
счете всегда только старому театру, отсрочивая его гибель, от которой они
все же зависят. Положение новой продукции непонятно тому, кто ничего не
знает об активной вражде между этим поколением и всем предшествовавшим и кто
по-обывательски думает, будто и это поколение хочет всего-навсего
выдвинуться и завоевать уважение. У этого поколения нет ни желания, ни
возможности завоевать театр с его публикой, чтобы в этом театре и перед этой
публикой исполнять улучшенные или только более современные пьесы; но у этого
поколения есть обязательство и возможность завоевать театр для другой
публики. Новая продукция, которую все больше и больше дает большой эпический
театр, соответствующий данной социологической ситуации, понятна и по
содержанию и по форме прежде всего тем, кто эту ситуацию понимает. Она не
будет удовлетворять старую эстетику, она уничтожит ее.
Обязанный Вам этой надеждой, Ваш
Брехт.
2 июня 1927 г.
ЧЕЛОВЕК ЗА РЕЖИССЕРСКИМ ПУЛЬТОМ
Та режиссура, которая у нас сейчас есть, вероятно, слишком хороша для
правильных постановок хороших старых пьес. Но она наверняка недостаточна для
постановки пьес новых. Разумеется, это ее задача - преподносить старые пьесы
так, чтобы они казались новыми, но фактически театр сегодня довольствуется
усилиями по постановке наших новых пьес на старый манер. Даже лучшие из
режиссеров все еще исходят из того, что для наших пьес хватит и доброго
старого стиля, использованного великолепными новыми умами. Они и не думают
переучиваться. А между тем перед ними стоит задача огромной трудности:
повысить театр до уровня науки и исполнять репертуар перед такой публикой,
которая привыкла к _лучшей_ обстановке, где ее не решаются потчевать чистыми
иллюзиями.
В самом деле, сегодня существует тип режиссера, который, ввиду
несостоятельности драматической продукции, стал своими силами, то есть как
придется, представлять публике такие темы, по поводу которых драматургам
сказать нечего. Такой род режиссуры не может быть разборчивым в средствах:
прежде всего он пользуется, естественно, несметным множеством средств. Если
по этой причине он, вероятно, и не сумел бы поставить новые пьесы большого
формата на действительно высоком уровне, то все же он наверняка лучше всего
работает на новую драматургию. Он разжевывает темы, он избавляет средних
людей от их публичного самолюбования, он тренирует зрителей и самое главное
- уничтожает старый реакционный театральный стиль, который сегодня
неограниченно господствует на театре в прямой связи с политической реакцией.
Январь 1928 г.
БЕСЕДА ПО КПЛЬНСКОМУ РАДИО
Хардт. ...Почему социология?
Брехт. Дорогой господин Хардт, окажись вы сегодня в театре, где все
начинается в восемь часов, то - будь это "Эдип", "Отелло", "Возчик Геншель"
или "Барабаны в ночи" - примерно в половине девятого вы уже почувствуете
известную нравственную угнетенность; но самое позднее в девять часов у вас
появится желание непременно и тотчас же выйти на улицу. Желание это
появляется не потому, что показываемое вам, скажем, не совсем хорошо, но и в
том случае, если оно совершенно. Просто оно неправильно. Тем не менее
практически из зала вы не выходите; ни вы, ни я и никто; да и теоретически
очень трудно возразить против такого театра, поскольку вся наша эстетика, то
есть все наше учение о прекрасном, нам в этом совершенно не помогает. С
помощью одной эстетики предпринять что-либо против существующего театра мы
не можем. Чтобы ликвидировать этот театр, то есть чтобы его упразднить,
убрать, сбыть с рук, уже необходимо привлечь науку, подобно тому как для
ликвидации всевозможных суеверий мы также привлекали науку. Причем в нашем
случае это должна быть социология, то есть учение об отношении человека к
человеку, следовательно, учение о непрекрасном. Социология должна помочь
вам, господин Йеринг, и нам по возможности полностью и поглубже закопать в
землю все имеющееся у нас сегодня в драматургии и театре.
Йеринг. Итак, если я вас правильно понял, вы хотите этим сказать, что
так называемая современная драма по сути дела является не чем иным, как
старой драмой, а поэтому с ней тоже должно быть покончено. По какой причине?
Вы что же, хотите устранить все драмы, занимающиеся судьбой индивидуумов,
являющиеся, следовательно, трагедиями личными? Но это бы означало, что вы не
считаете пригодным и Шекспира, на котором основывается вся наша сегодняшняя
драматургия. Ибо и Шекспир писал драмы индивидуума, трагедии одиночек вроде
"Короля Лира", пьесы, которые просто выгоняли человека в одиночество, а в
конце показывали его в трагической изоляции. Следовательно, вы оспариваете у
драмы всякую вечную ценность?
Брехт. Вечную ценность! Чтобы и вечную ценность захоронить поглубже,
нам также необходимо призвать на помощь только науку. Штернберг, как там
обстоят дела с вечной ценностью?
Штернберг. В искусстве вечных ценностей нет. У драмы, рожденной в
определенном культурном кругу, столь же мало вечных ценностей, как и у
эпохи, в которую она создана и которая длится не вечно. Содержание драмы
составляют конфликты людей между собой, конфликты людей в их отношениях со
всякими институциями. Конфликты людей между собой - это, например, все те
конфликты, которые возникают из любви мужчины к женщине. Однако конфликты
эти настолько же не вечны, насколько в каждую эпоху культуры отношения
мужчины и женщины коренным образом различны. Другие конфликты возникают в
отношениях людей ко всяким институциям, например к государству. Но и эти
конфликты не вечны; они зависят от того, каков, смотря по обстоятельствам,
радиус отдельно взятого человека как одиночки, каков радиус государственного
насилия. И поэтому отношения государства к людям, а тем самым и людей между
собой опять-таки в различные эпохи культуры абсолютно различны. В древности,
когда экономика базировалась на рабстве, они были другими, а поэтому и
античная драма в этом пункте для нас не вечна; в современном
капиталистическом хозяйстве они иного рода, и опять-таки иными станут они,
разумеется, в грядущую эпоху, которая не будет больше знать ни классов, ни
классовых различий. О вечных ценностях нельзя говорить именно потому, что мы
стоим на рубеже двух эпох.
Йеринг. Не могли бы вы эти общие ваши положения применить конкретно к
Шекспиру?
Штернберг. Европейская драма не сделала ни одного шага дальше Шекспира.
А он стоял на рубеже двух эпох. То, что мы называем "средневековьем", нашло
свое отражение в Шекспире, однако у средневекового человека динамика эпохи
уже нарушила установившиеся связи; индивидуум был рожден как индивидуум, как
нечто неделимое, незаменимое. И таким образом шекспировская драма стала
драмой средневекового человека как человека, все больше и больше
открывавшего в себе индивидуума, в качестве которого он и оказывался в
драматическом конфликте с подобными ему и с вышестоящими силами. В этой
связи важны сюжеты, избиравшиеся Шекспиром для своих больших римских драм.
Он не подарил нам ни одной драмы о великих республиканских временах Рима,
когда каждое отдельное имя еще ничего не значило, когда коллективная воля
просто была решающей - Senatus Роpulusque Romanus; нет, Шекспир избирал
эпоху, либо предшествовавшую этой, либо следовавшую за ней. Великую
мифическую эпоху, в которой отдельное лицо еще противопоставляло себя массе,
как в "Кориолане", и эпоху распадавшейся империи, в экспансии которой уже
был зародыш распада (и при этом она выдвигала великих одиночек) - в "Юлии
Цезаре" и "Антонии и Клеопатре".
Брехт. Да, великие одиночки! Великие одиночки становились сюжетом, а
этот сюжет создавал форму таких драм. Это была так называемая драматическая
форма, а "драматическая" означает: необузданная, страстная, противоречивая,
динамическая. Какой же была эта драматическая форма? Каков ее смысл? У
Шекспира это отчетливо видно. На протяжении четырех актов Шекспир разрывает
все человеческие связи великого одиночки - Лира, Отелло, Макбета - с семьей
и государством и выгоняет его в пустошь, в полное одиночество, где он должен
показать себя великим в падении. Это порождает форму вроде, скажем, "облавы
на козла". Первая фраза трагедии существует лишь ради второй, а все фразы -
ради последней. Страсть - вот что держит на ходу весь этот механизм, а смысл
его - великое индивидуальное переживание. Последующие эпохи должны будут
назвать эту драму драмой для людоедов и сказать, что человека пожирали
сначала с удовольствием, как Третьего Ричарда, а под конец с состраданием,
как возчика Геншеля, но всегда пожирали.
Штернберг. Однако Шекспир еще олицетворял героическое время драмы и
вместе с этим эпоху героического переживания. Героическое прошло, а жажда
переживания осталась. Чем больше приближаемся мы к XlXi веку и его второй
половине, тем более оформленной становится буржуазная драма; круг событий -
в драме! - ограничивался в основном отношениями мужчина- женщина и женщина -
мужчина. Все возможности, вытекающие из этой проблемы, и стали однажды
буржуазной драмой: возвращается ли женщина к своему мужу, уходит ли к
третьему, или к обоим, или ни к кому, должны ли мужчины стреляться и кто
кого должен убить. Большая часть драм XIX века этим издевательством и
исчерпывается. А что же происходит дальше, поскольку в действительности
индивидуум как индивидуум, как индивидуальность, как неделимое и незаменимое
исчезает все больше и больше, поскольку на исходе эпохи капитализма
определяющим снова становится коллектив?
Йеринг. Тогда нужно распрощаться со всей техникой драмы. Неправы те
люди театра и критики, которые утверждают, что для того, чтобы в Германии
снова прийти к драме, необходимо идти на выучку к парижским драматургам,
заняться лишь шлифовкой диалога, улучшением композиции сцен,
совершенствованием техники. Как будто эта манера не исчерпана давным-давно
Ибсеном и французами, как будто тут вообще возможно какое-либо дальнейшее
развитие. Нет, речь идет не о совершенствовании существующей ремесленной
техники, не об улучшении, не о парижской школе. В этом непонятное
заблуждение, например, Газенклевера и его комедии "Браки заключаются на
небесах". Нет, речь идет о принципиально другом виде драмы.
Брехт. Именно. О драме эпической.
Йеринг. Да, Брехт, ведь вы же развили совершенно определенную теорию,
вашу теорию эпической драмы.
Брехт. Да, эта теория эпической драмы, во всяком случае, принадлежит
нам. Мы попробовали также создать несколько эпических драм. Я написал в
эпической технике "Что тот солдат, что этот", Броннен - "Поход на восточный
полюс", а Флейсер свои ингольштадтские драмы. Однако опыты по созданию
эпических драм предпринимались уже значительно раньше. Когда они начались? В
эпоху великого старта науки, в прошлом столетии. Истоки натурализма были
истоками эпической драмы в Европе. На других культурных орбитах - в Индии и
Китае - эта более прогрессивная форма существовала еще два тысячелетия тому
назад. Натуралистическая драма возникла из буржуазного романа Золя и
Достоевского, романа, который опять-таки свидетельствовал о проникновении
науки в область искусства. Натуралисты (Ибсен, Гауптман) пытались вывести на
сцену новый материал новых романов и не нашли для этого никакой другой
подходящей формы, кроме присущей самим этим романам - формы эпической. Когда
же их немедленно упрекнули в недраматичности, они тотчас вместе с формой
отбросили и сюжеты, так что движение вперед застопорилось, и не столько
движение в область новых тем, как казалось, сколько углубление в эпическую
форму.
Йеринг. Итак, вы говорите, что у эпической формы есть традиция, о
которой, в общем, ничего не знают. Вы утверждаете, что все развитие
литературы за пятьдесят лет было устремлено в русло эпической драмы. Кто же,
по-вашему, последний представитель этой тенденции развития?
Брехт. Георг Кайзер.
Йеринг. Вот это мне не совсем понятно. Именно Георг Кайзер, как мне
кажется, характерен для последней стадии развития индивидуалистической
драмы, то есть драмы, которая диаметрально противоположна драме эпической.
Именно Кайзер является драматургом самого короткого дыхания. В угоду стилю
он растратил свои темы, а реальность обогнал стилем. Что же можно
использовать из этого стиля? Стиль Кайзера - это его личный почерк, это
частный стиль.
Брехт. Да, Кайзер тоже индивидуалист. Однако в его технике есть нечто
такое, что не подходит к его индивидуализму и что, следовательно, годится
нам. Что технический прогресс порой замечают там, где никаких других сдвигов
не видно, - это случается не только в драме. Фабрика Форда, если ее
рассматривать чисто технически, - организация большевистская, она не
подходит буржуазному индивидууму, а скорее годится для большевистского
общества. Так, Кайзер ради своей техники уже отказывается от великого
шекспировского средства - внушения, которое действует как при эпилепсии,
когда один эпилептик заражает эпилепсией всех к ней предрасположенных.
Кайзер уже обращается к разуму.
Йеринг. Да, к разуму, но с индивидуалистическим содержанием и даже в
заостренно-драматической форме, как в "С утра до полуночи". Но как вы
собираетесь отсюда совершить долгий путь к эпической драме?
Штернберг. Этот путь от Кайзера к Брехту короток. Он - не продолжение,
а диалектический переворот. Разум, используемый Кайзером, пока еще для
противопоставления друг другу одиночных судеб, связанных драматической
формой в единый круг событий, этот разум будет сознательно использован
Брехтом для развенчивания индивидуума.
Брехт. Естественно, что для позиции дискутирующего наблюдателя чистая
эпическая драма с ее коллективистским содержанием подходит больше.
Йеринг. Почему? Сейчас в Берлине идет активная, то есть драматическая
драма "Бунт в воспитательном доме" П.-М. Лампеля. Однако эта драматическая
драма вызывает примерно такое же впечатление; публика дискутирует о ней,
причем не об ее эстетических ценностях, а о содержании.
Брехт. Э-э! В этой пьесе в дискуссию оказались втянутыми общественные
порядки, а именно: невыносимый средневековый режим в некоторых
воспитательных домах. Такие порядки должны, естественно, - будучи описаны в
любой форме, - вызывать возмущение. Но Кайзер уже ушел значительно дальше.
Он уже некоторое время назад сделал возможной совершенно новую позицию
театральной публики, холодную позицию заинтересованного исследователя, а это
и есть позиция публики эпохи науки. У Лампеля же, разумеется, и речи нет о
большом, достойном распространения драматическом принципе.
Йеринг. Вы правы только в последней фразе. В остальном же вы неожиданно
утверждаете, будто эпическая драма является вечным принципом, а мы же
согласились с доводами господина Штернберга, что вечных принципов не бывает.
Как же господин Штернберг отнесется к этому вопросу теперь?
Штернберг. Эпическая драма сможет стать независимой от своих отношений
к современным событиям и этим обрести известную продолжительность
существования лишь тогда, когда ее центральная позиция станет
предвосхищением событий будущей истории. Подобно тому как путь от Кайзера к
Брехту смог стать короче, ибо произошел диалектический переворот, эпическая
драма тоже сможет обрести продолжительность существования, как только
переворот экономических отношений создаст соответствующую ситуацию. Таким
образом, эпическая драма, как всякая драма, зависит от развития истории.
Фрагмент
ДОЛЖНА ЛИ ДРАМА ИМЕТЬ ТЕНДЕНЦИЮ?
Может быть, и не должна, но совершенно очевидно, что имеет. Всякая
драма, имеющая не только тенденцию делать деньги, имеет и какую-то другую
тенденцию. Что касается прежней "драмы", то ее и тенденцией не спасти от
вечного проклятия. Современная драма находится в буквальнейшем смысле слова
вне дискуссии, а от будущей пока налицо, пожалуй, только тенденция.
Ноябрь 1928 г.
ПРОТИВ "ОРГАНИЧНОСТИ" СЛАВЫ, ЗА ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЮ
Важный вопрос при проведении экспериментов по преобразованию театра -
это создание славы.
Капитализм развивает такие обычаи, которые, будучи порождены его
способом производства или его общественным строем, призваны поддерживать или
использовать капитализм, но в то же время отчасти и революционны, поскольку
основаны на методах производства хотя и капиталистических, но представляющих
собой ступеньку к другим, более высоким методам производства.
Поэтому эти развитые капитализмом обычаи мы должны тщательно проверять
на их революционную потребительскую стоимость.
Как же рождается литературная или театральная слава сегодня и какой
потребительской стоимостью для революционизации обладает этот обычай?
В литературе и театре славу распространяет _критика_ (и издатели
иллюстрированных журналов). Общественная роль сегодняшней буржуазной критики
- это извещение о развлечениях. Театры покупают вечерние развлечения, а
критика направляет туда публику. Впрочем, при таком обычае критика
представляет отнюдь не публику, как то на первый взгляд кажется, а театр.
(Причем это "кажется на первый взгляд" весьма полезно.) Она выуживает
публику для театра. Мы уже исследовали в другом месте, _почему_ критика в
данном случае больше защищает интересы театра, чем публики. Ответ был
вкратце таков: потому что театры являются хозяйственными учреждениями с
организацией, контролем, а следовательно, и с возможностями воздействия и
социальными привилегиями. Тем не менее критика, разумеется, очень зависит от
своей публики: она не имеет права слишком часто рекомендовать такие
спектакли, которые на поверку не нравятся ее публике, иначе критика потеряет
контакт с ней и перестанет быть для театра такой уж ценной. Мы видим, что
имеем дело с большим и сложным хозяйственным устройством и в этом большом
хозяйственном устройстве _славу делают_.
Так как мы противоречим обычному идеалистическому взгляду, может
показаться, будто мы против такого способа создания славы. Это не так. Такой
способ определяется нашей капиталистической системой, сначала он должен быть
признан, а потом потребует только выводов. Легко понять, что в такой прочной
системе, как наша, на которую влияют столь трудно контролируемые интересы,
многого со старым способом создания славы - органическим - не добьешься.
Действительно, для приобретения влияния личного вкуса критика теперь уже
недостаточно. (Причем, конечно же, под "личным вкусом" нужно понимать знание
критиком вкуса своих читателей!) Описывая театральные наслаждения, ожидающие
покупателей билетов, как можно заманчивее, сочнее и аппетитнее, критик может
оказать театру большие услуги, но влияния на театр он этим все же не
приобретет. Если в театре есть руководитель, так же хорошо знающий вкус
читателей этого критика (а значит, вкус критика), то критик берлинского
Запада - как это имеет место в случае с Рейбаро - не вынесет вообще никакого
суждения, а только красочным (как реклама) описанием выделит и сделает
заметными отдельных художников. Богатые с критиками этого типа не считаются:
они слишком несамостоятельны и слишком зависимы и не могут сделать ни одного
шага без публики, не теряя своей ценности для театров. Если уж публике
что-то понравилось, то критик может позаботиться о том, чтобы публика и
узнала об этом, но он не может подвигнуть театр на то, относительно чего
театр еще не уверен, понравится ли это публике, то есть на что-то новое.
(Сделай такой критик еще один только шаг, он вообще сосредоточился бы только
на той части своей "критики", которая затем публикуется после отдела
объявлений, и, значит, с самого начала он работает на это место газеты.)
Такому роду критики тоже, конечно, соответствует слава, но слава эта
возникает весьма сомнительным образом. Она результат постоянного расчета:
кого или что можем мы прославить так, чтобы не только не потерять публику,
но и заполучить ее? Можно ли навязать им того-то и того-то? (Причем, "он",
"тот-то и тот-то" - величина переменная, а "они" - постоянная.) Таким
образом возникает "органическая" слава, и органична она постольку, поскольку
что-либо может быть органично в этом обществе; во всяком случае, она
отвечает запросам определенного слоя читателей и зрителей, которые ищут
развлечения или хотя бы культурных ценностей, и, значит, органична. В
противоположность ей нам требуется для революционного искусства
_организация славы_. Что это такое?
Для нашей эпохи характерно, что драма должна глубоко проникать в
политику: а) в политику театра, б) в политику общества.
а) Мы говорим о ликвидации драмы. Нет никакого смысла отпираться от
этого, а лучше признать ликвидацию как факт и идти дальше.
б) "Ликвидация драмы" - это внешнее проявление столкновения сцены с
драмой, поэзии с обществом. "Написать драму" сегодня - или завтра - уже
означает преобразовать театр и его стиль. Это будет продолжаться вплоть до
полной революционизации театрального искусства.
Продумать, написать или поставить драму означает, кроме того,
преобразовать общество, преобразовать государство, контролировать идеологию.
Для такой задачи органической славы (как кредита) не хватило бы, но
прежде всего ее не удалось бы добыть. Для такой огромной задачи она должна
быть организована.
Отныне вкус критика не играет роли, поскольку нельзя принимать во
внимание и вкус зрителя. Ибо зрителя нужно научить, то есть изменить. И
задача не в том, чтобы препарировать для новой формы и новой поэтической
школы его вкус, а в том, чтобы он, зритель, сам совершенно преобразился,
пересмотрел свои интересы, познал самого себя, перемонтировал себя, а это не
вопрос вкуса.
Организованная слава - это слава организующая. Она революционна. Она
создается с (почти научной) точки зрения: что идет на пользу
перегруппировке? Идет ли такой взгляд актера на пользу перегруппировке (или
жалованию и посещению театра)? И т. д.
У критики, организующей революционную славу, возникает необходимость и
возможность практической работы. Ей нечего опасаться такой коррупции,
которая угрожает типу кулинарного критика. Ей придется бороться с коррупцией
иного рода. Отныне коррупция - это содействие тем экономическим институтам,
которые стимулируют реакцию, то есть недостаточное знание собственной
деятельности и ее следствий. Возникает возможность "художественной ошибки",
похожей на врачебную ошибку в медицине.
Англичанин Сомерсет Моэм, написавший свыше тридцати пьес, многие из
которых пользовались большим успехом, а некоторые шли по всему миру, заявил
в предисловии к своему последнему тому пьес, что намерен навсегда
распрощаться "с карьерой драматурга".
Крупные газеты восприняли и подали его заявление как сенсацию, словно
это было сообщение железнодорожного магната о том, что он намерен отказаться
от своего дела. "Я до конца своих дней не буду больше заниматься продажей
пьес". Некоторые сентиментальные писаки даже усмотрели в этих словах решение
господина Моэма похоронить себя заживо. Впрочем, поведение прессы удивляет
меньше, чем поведение самого Моэма. Очень редко люди, сделавшие карьеру,
заканчивают ее сами, по своей воле. Карьера стала своего рода конвейером. Он
несет попавшего на него человека, хочет он этого или нет. Но человек почти
всегда этого хочет.
Моэм, по-видимому, не хочет. И он вызывает такое же изумление, какое
еще сегодня испытывают школьники, читая в учебниках истории о решении
римского диктатора Суллы, который будто бы отказался от своего звания в
полном расцвете своего могущества. Этому не перестают удивляться и в наши
дни.
Все же и в драматургии встречаются подобные случаи. Величайший коллега
Моэма - Вильям Шекспир на вершине своей славы целиком ушел в личную жизнь.
Этот поступок также дает повод для величайшего изумления, которое и поныне
столь сильно, что некоторые исследователи, оспаривая принадлежность
прославленных драм перу актера и режиссера Шекспира, обосновывают свое
мнение именно тем, что он внезапно перестал писать, - чего, разумеется,
никогда не делают истинные писатели.
2. УТЕРЯН КОНТАКТ СО ЗРИТЕЛЕМ
Моэм констатирует: "Я чувствую, что у меня утерян контакт со зрителем,
покровительствующим театру. Это случается рано или поздно с большинством
драматургов, и они поступают мудро, когда внимают этому предостережению.
Тогда для них самое время уйти из литературы".
Моэм продолжает: "Я делаю это с облегчением. Вот уже несколько лет, как
меня все более и более тяготит необходимость удерживаться в рамках
драматургических условностей".
Он говорит и о том, как тягостно противостоять искушению и отказаться
от многогранного воплощения идеи, к которому манят художника большее знание
людей, терпимость и, быть может, мудрость, приобретенные с годами, но
которое, увы, неосуществимо из-за драматургических условностей.
Уже обычный реалистический диалог затрудняет передачу духовной
сложности современного человека ("of the man in the street"). Моэму
недостает внутреннего монолога и реплик в сторону.
Сейчас больше и прежде всего нужна "драма души". По мнению Моэма, такое
направление навязано драматургам успехами кино.
Драма стала формой искусства, в которой действие - лишь повод для
раскрытия внутренней жизни изображенных на сцене людей. Происходящие на
сцене всевозможные события позволяют раскрыть душевные движения героя.
Впрочем, чем меньше действия, тем более ценна в литературном отношении
пьеса. Детектив с его увлекательным сюжетом - не литература.
Романистам проще. Они располагают большими возможностями, и им намного
легче показать противоречивость характера своих героев. Но в последнее время
наступила перемена, поставившая драматургов в еще более трудное положение.
Бальзак и Диккенс еще изображали статичные характеры. Герои оставались почти
неизменными на протяжении всего романа. В конце повествования они обладали
теми же качествами, что и в начале. Более поздние романисты отошли от этого
принципа. Их герои изменяются. Переживания уже не проходят для них
бесследно, одни качества у них исчезают, другие появляются. Теперь уже
несчастным драматургам не догнать романистов. Им не остается ничего другого,
как и дальше создавать "условные иероглифы" ролей и предоставлять самим
артистам облечь их в плоть и кровь.
Драматург Моэм отказывается от состязания с романистами и удаляется на
покой перед лицом столь прискорбного развития событий.
3. ЗРИТЕЛЬ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ
"Зритель больше не верит в героев, которых ему предлагают", - жалуется
Моэм.
Возникает вопрос: не идет ли театр к гибели?
Моэм отказывается так думать. Он достаточно умен и честен, чтобы
видеть, что такое стихийно существующее явление, как театр, не может
погибнуть, если одно поколение театральных драматургов и зашло в тупик. Он
советует театру вернуться к своим истокам и уж, во всяком случае, к его
более раннему периоду.
Он говорит: "Великие драматурги прошлого жертвовали правдой ради
раскрытия характера и общим правдоподобием действия ради одной ситуации,
которую они рассматривали как основу драмы". Современная более или менее
натуралистическая драма в прозе отошла от этого. Отказ от стиха и танца, как
и отказ от энергично развивающегося действия, сделал театр скучным. Он
перестал быть пиршеством зрения и слуха.
Достичь же правдивости в изображении характера так и не удалось, или же
ее долго еще не удастся добиться, что, в сущности, одно и то же, а
"правдоподобие действия" само по себе не очень действует на зрителя.
Кажется, Моэм в своем пессимизме представляет себе, что драма может
иметь будущее лишь при условии, если ради красочности действия и прочих
пиршеств слуха и зрения отныне откажутся от правды и правдоподобия.
Остается лишь сомневаться в том, что такое будущее и есть истинное
будущее драмы.
Моэм видит ее в тенденциях современной драмы, что несомненно говорит о
прогрессивности его взглядов. Он, так сказать, готов переступить через
самого себя. Это немало, и, вероятно, было бы несправедливо требовать от
него большего. Ибо нельзя согласиться, что найденный им выход столь же
отраден, сколь проницателен его взгляд на ошибочность путей современного
театра.
Моэм понял, что зритель ему _больше не верит_, и испугался этого. А
выходом из такого положения явилось бы создание либо драмы, которой вообще
не надо было бы верить, либо драмы, которой можно было бы поверить вновь.
По совершенно определенным причинам, рассмотрение которых здесь завело
бы нас слишком далеко, мне представляется сомнительным, что в настоящий
момент удастся создать драму, которой бы верили. Это не вопрос техники,
стиля или точки зрения, как для современной науки - не вопрос новой логики,
могут ли быть выдвинуты научные утверждения, имеющие общую значимость
аксиомы. Современная наука в целом отказалась от веры. Театру, в его
совершенно иной, специфической области, пожалуй, тоже придется от нее
отказаться.
Очевидно, остался второй выход: драма, которой не надо верить.
Разумеется, это отнюдь не должна быть неправдоподобная, абсолютно
фантастическая драма, ничего общего не имеющая с правдой. Просто эта драма
не должна рассчитывать только на доверие зрителя и зависеть от него. Иначе
говоря, нужна драма, считающаяся с критикой своего зрителя и апеллирующая к
ней.
Такого рода драма действительно возникает сейчас. Что есть действие? С
этой первичной стихии драмы, всякой драмы, хотелось бы начать разбор.
Известно, что уже давно в произведениях самых крупных драматургов подлинное
действие на сцене отсутствует. Теперь уже среда, а не отдельный человек,
становится героем драмы. Человек лишь реагирует (что создает только
видимость действия). В наиболее чистом виде это проявляется в
натуралистических шедеврах Ибсена. В пьесах такого рода нечто происходило
когда-то и где-то, а сама драма начинается лишь сейчас, раскрывая нам, как
некие люди это "расхлебывают". Или же происходит то или иное событие (война,
банкротство, совращение с последующей беременностью, преступление), и герои
пьесы реагируют на них, справляются с ними или не справляются. Для
драматурга важно лишь, чтобы душевная реакция его героя была правдоподобной,
ибо иначе судьба героя не трогает зрителя. Если же у зрителя закрадывается
сомнение, нельзя ли было поступить иначе, если его жизненный опыт
подсказывает ему, что в действительности люди поступают по-другому, тогда
власти вымысла приходит конец. И он уже никого не "захватывает".
Фрагмент
НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОМУ ТЕАТРУ
Я предполагаю, что за свои деньги вам захочется увидеть у меня кое-что
о жизни. Вы захотите, чтобы в поле вашего зрения оказались люди этого
столетия, главным образом выдающиеся, меры, принимаемые этими выдающимися
людьми против ближних своих, их высказывания в часы опасности, их взгляды и
их шутки. Вы захотите принять участие в их карьере и получить выгоду от их
падения. И, конечно же, захотите получить хороший спорт. Как _все люди этого
времени_, вы испытываете потребность испробовать в игре свои комбинаторские
способности и полны решимости отпраздновать триумф своего организаторского
таланта над жизнью, но в не меньшей мере и над моим изображением ее. Поэтому
вы и были за пьесу "В чаще". Я знал, что вы хотите спокойно сидеть в
зрительном зале и произносить свой приговор над миром, а также проверять
свое знание людей, делая ставку на того или иного из них на сцене. Вы были
обрадованы тем, что так приятно смотреть на холодный Чикаго, ибо показывать,
что мир приятен, целиком входит в наши планы. Вы цените участие в некоторых
_бессмысленных_ эмоциях, будь то восторг или уныние, которые делают жизнь
интересной. Короче говоря, я должен обратить внимание на то, чтобы в моем
театре укреплялся ваш аппетит. Если я доведу дело до того, что у вас
появится охота закурить сигару, и превзойду самого себя, добившись того, что
в определенные, предусмотренные мною моменты она будет затухать, мы будем
довольны друг другом. А это всегда самое главное.
25 декабря 1925 г.
Если не считать принципиально важной постановки "Кориолана" Э. Энгелем,
то опыты по созданию эпического театра предпринимались только по линии
драмы. (Первой из драм, строящих этот эпический театр, была драматическая
биография "Ваал" Брехта, самой простой- "Американская молодежь" Эмиля
Бурриса, самой покамест незащищенной, поскольку принадлежит автору
совершенно другого направления, - "Поход на восточный полюс" Броннена.) Но
вот и театр начинает лить воду на эту мельницу: это опыт Пискатора.
Самое существенное в этом опыте заключается в следующем:
Благодаря тому что введение фильма позволяло отделить те части
действия, в которых нет столкновения партнеров, звучащее слово оказалось
разгруженным и становится абсолютно решающим. Зритель получает возможность
самостоятельно рассматривать определенные события, создающие предпосылки для
решений действующих лиц, а также возможность видеть эти события иными
глазами, чем движимые ими герои. Персонажи, поскольку они больше не обязаны
объективно информировать зрителя, могут высказываться свободно: их
высказывания будут весомы. Кроме того, преодоление контраста между плоско
сфотографированной действительностью и пластичным, произнесенным на фоне
фильма словом также можно трюковым образом использовать для неограниченного
подъема выразительности речи. Благодаря спокойной фотографической
демонстрации подлинного фона патетическое и одновременно многозначное слово
приобретает вес. Фильм прокладывает путь драме.
Благодаря фотографированию окружающей среды во всей ее широте говорящие
персонажи становятся несоразмерно большими. В то время как окружающую среду
приходится сжимать или расширять на одной и той же плоскости - на экране,
так что Эверест, например, предстает то маленьким, то большим, персонажи
постоянно остаются одного и того же роста.
В своем спектакле Энгель собрал все исходные моменты для эпического
театра. Он преподнес историю о Кориолане таким образом, что каждая сцена
существовала сама по себе и только результаты ее использовались для целого.
В противоположность драматическому театру, где все устремляется навстречу
катастрофе, то есть почти все носит вводный характер, здесь все оставалось
неизменным от сцены к сцене. Опыт Пискатора окончательно разделается с
прежним положением, если устранит ряд решающих недостатков. (Например,
неиспользованный переход от слова к картине, который все еще очень резок,
просто увеличивает число находящихся в театре зрителей на число все еще
занятых на сцене, стоящих перед проекционным экраном актеров; например,
обычный еще и сегодня патетический оперный стиль уничтожающе разоблачается,
по-видимому, из-за недостаточной осторожности, прекрасной наивностью
сфотографированных машин - технические ошибки, придающие опыту Пискатора тот
аромат, без которого невозможен наивный театр.)
Использование фильма как чистого документа сфотографированной
действительности, как совести, эпический театр должен еще испытать.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТРУДНОСТЯХ ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА
Театр, который всерьез пытается поставить одну из последних пьес,
рискует полностью перестроиться. Публика, таким образом, спокойно наблюдает
за борьбой между театром и пьесой, предприятием почти что академическим,
требующим от публики, поскольку она вообще заинтересована в процессе
обновления театра, только решения: победил ли театр в этой борьбе не на
жизнь, а на смерть, или, наоборот, побежден. (Победителем пьес театр может
сегодня выйти, пожалуй, лишь в том случае, если вообще избежит риска
оказаться измененным пьесой, что ему пока почти всегда удается.) Не влияние
пьесы на публику, а только ее влияние на театр - вот что покамест решает
дело.
Такое положение будет существовать до тех пор, пока театры не
выработают тот постановочный стиль, который диктуют и делают возможным наши
пьесы. При этом мало найти для наших пьес некий особый стиль, вроде
изобретения так называемой Мюнхенской шекспировской сцены, пригодной лишь
для Шекспира; театры должны найти такой стиль, который сделал бы всю
покамест еще жизнеспособную часть репертуара по-новому действительной.
Разумеется, _полная перестройка театра_ не должна зависеть от какого-то
артистического каприза, она просто должна соответствовать полной духовной
перестройке нашего времени.
Известные симптомы такой перестройки духовной жизни до сих пор
рассматривались просто как симптомы болезни. В некоторой мере это
справедливо, ибо сначала, конечно, обнаруживаются признаки упадка старого.
Однако было бы заблуждением принимать эти признаки, например, так называемый
американизм, за нечто иное, чем за болезненные изменения, которые вызваны в
старом теле нашей культуры духовными влияниями поистине нового толка. И было
бы заблуждением вообще не считать новые идеи идеями и вообще не
рассматривать их как явления _духовной_ жизни, противопоставляя им театр как
бастион духа. Напротив, именно театр, литература, искусство должны создать
"идеологическую надстройку" для эффективных реальных преобразований в
современном образе жизни.
Так вот, в произведениях новой драматургии театральным стилем нашего
времени провозглашается эпический театр. Изложить в нескольких словах
принципы эпического театра невозможно. Они касаются - хотя подробно они по
большей части еще не разработаны - актерской игры, техники сцены,
литературной части театра, театральной музыки, использования кино и т. д.
Существенное же в эпическом театре заключается, вероятно, в том, что он
апеллирует не столько к чувству, сколько к разуму зрителя. Зритель должен не
сопереживать, а спорить. При этом было бы совершенно неверно отторгать от
этого театра чувство. Это означало бы то же, что отторгать сегодня чувство,
например, от науки.
27 ноября 1927 г.
В эти годы большую драму и большой театр развивает Германия - страна,
специализировавшаяся на философии. Будущее у театра - философское.
Это развитие протекает не прямолинейно, а отчасти диалектически,
противоречиво, отчасти же параллельно, но так быстро, что много этапов
пройдено за один-единственный год. Последним из них представляется "Эдип".
Этот сезон доказывает влияние Пискатора. С точки зрения театра Пискатор
вынес на обсуждение не столько (как это считают) вопросы формы (техника
театра), сколько вопросы содержания. Он пронизан ими. Средние театры
набрасывались на содержание ("Преступник", "Бунт", "Глина в руках гончара").
Было два исключения: "Трехгрошовая опера" и "Эдип". Здесь дважды поднимались
вопросы формы.
Что касается заботы о содержании - тут не повезло. В этом вопросе -
поскольку не хватало Пискатора - не было никакого творческого подкрепления
(за исключением "Бунта", спектакля пискаторовской студии, появившегося на
свет уже без отца). В этом году продвижение шло по линии большой формы.
Последний этап - "Эдип".
Заботы о содержании и заботы о форме дополняют друг друга. С точки
зрения театра успехи театральной техники являются успехами только тогда,
когда они служат реализации содержания; "успехи техники драмы являются
успехами только тогда, когда они служат реализации содержания".
Относительно большой формы. Большие современные темы нужно видеть в
мимической перспективе, они должны обладать жестовым характером. Они должны
определяться отношениями людей или групп людей между собой. Однако
существовавшая до сих пор большая форма, драматическая, для нынешних тем не
подходит. Грубо говоря, для специалистов: сегодняшние темы не раскрываются в
старой "большой" форме.
Большая форма нацелена на реализацию тем для "вечности". "Типическое"
существует и во временной плоскости. Кто пользуется большой формой, тот
рассказывает свое содержание грядущим временам так же хорошо или лучше, чем
собственному времени.
Наша драматическая форма основана на том, что зритель идет в ногу с
изображением, вживается в него, может его понять, отождествлять себя с ним.
Грубо говоря, для специалистов: пьеса, местом действия которой была бы,
скажем, пшеничная биржа, в большой драматической форме написана быть не
может. _Нам_ трудно себе представить такое время и занять такую позицию, при
которой подобные порядки неестественны, а _последующие поколения_ будут с
удивлением рассматривать только эти непонятные и неестественные порядки.
Следовательно, какой же должна быть наша большая форма?
Эпической. Она должна повествовать. Она не должна верить, что можно
вжиться в наш мир, она этого и не должна желать. Темы чудовищны, наша
драматургия должна это учитывать.
Относительно последнего этапа - "Эдипа". Важно: 1) большая форма.
(Важно: 2) техника второй части ("Эдип в Колоне"), где рассказ ведется с
большой театральной действенностью. То, что прежде поносилось как лирика,
дает здесь театральный эффект. Если здесь и наступает "переживание", то
источник его - из области философии.
1 февраля 1929 г.
Трудности преодолеваются не тем, что их замалчивают. На практике
необходимо делать один шаг за другим, теория же обязана видеть весь путь
целиком. Первый этап - это новые темы; правда, путь продолжается. Трудность
заключается в том, что тяжело совершать работу первого этапа (новые темы),
когда уже думаешь о втором (новые отношения людей между собой). Например,
выяснение роли гелия еще не дает широкой картины мира; однако роль гелия
нельзя выяснить, если голова занята чем-то другим (скажем, чем-то большим,
чем гелий). Правильный путь исследования новых взаимоотношений людей
проходит через исследование новых тем (брак, болезнь, деньги, война и т.
д.).
Итак, первое - это определение новых тем, второе - воспроизведение
новых отношений. Основание: искусство следует за действительностью. Пример:
добыча и использование нефти - это новый комплекс тем, в котором при более
внимательном рассмотрении обнаруживаются совершенно новые отношения между
людьми. Наблюдается определенное поведение одиночки и массы, явно
характерное для комплекса нефти. Однако не это новое поведение породило
особый способ использования нефти. Первичным был комплекс нефти, а вторичным
- новые отношения. Новые отношения представляют собой ответы, которые дают
люди на вопросы, поставленные "темой", они представляют собой решение
задачи. Тема (так сказать, ситуация) развивается по определенным законам, в
силу простых необходимостей, а нефть создает новые отношения. Последние, как
уже сказано, вторичны.
Уже определение новых тематических областей стоит новой драматической и
театральной формы. Можем ли мы говорить о деньгах ямбом? "Курс марки,
позавчера на пятьдесят, сегодня уже на сто долларов, завтра выше и т. д" -
разве это годится? Нефть противится пяти актам пьесы, сегодняшние катастрофы
протекают не прямолинейно, а в виде циклических кризисов, "герои" меняются с
каждой новой фазой, они заменимы и т. д.; кривая действий усложняется
_неверными_ действиями, судьба уже не является единой силой, теперь скорее
можно наблюдать силовые поля с противоположно направленными токами, в
группах держав заметно не только движение друг против друга, но и внутри
групп и т. д. и т. д. Уже для инсценировки простой газетной заметки далеко
не достаточно драматической техники Геббеля и Ибсена. Это отнюдь не
триумфальная, а печальная констатация истины. Объяснить сегодняшний
персонаж, сегодняшнее событие чертами и мотивами, которые годились во
времена наших отцов, невозможно. Мы помогали себе (временно) тем, что вообще
не исследовали мотивов (например, "В чаще городов", "Поход на восточный
полюс"), чтобы по крайней мере не приводить мотивов неверных, и показывали
события просто как феномены. По-видимому, некоторое время нам придется
изображать персонажи без характерных черт, тоже временно.
Все это, то есть все эти вопросы, касается, разумеется, лишь серьезных
усилий по совершенствованию _большой_ драмы, которую сегодня далеко не
тщательно отделяют от посредственной развлекательной драмы.
Сориентировавшись в какой-то мере в темах, мы можем перейти к
отношениям, которые сегодня стали неслыханно сложными и упростить которые
можно только с помощью формы. Однако достичь этой формы можно лишь полнейшим
изменением целенаправленности искусства. Только новая цель рождает новое
искусство.
Эта новая цель - педагогика.
31 марта 1929 г.
ПУТЬ К БОЛЬШОМУ СОВРЕМЕННОМУ ТЕАТРУ
1. НЕДОВЕРЧИВОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
Если рассмотреть путь, который мог бы привести от нынешнего театра к
действительно большому и действительно современному театру, он кажется таким
долгим и трудным, что людей, собравшихся пойти по нему, хочется спросить не
столько о состояний их головы, сколько о том, каковы у них мышцы ног. Прежде
всего нужно выяснить, вполне ли они убеждены в длительности этого пути.
Сразу обнаружится, что лишь немногие доросли до понимания этого насущнейшего
из вопросов. Ибо буржуазия, грубо определяющая театр своими
производственными отношениями, не видит больше долгого пути, она ничего не
ожидает от предприятий, рассчитанных на слишком долгий срок. У этого класса,
который явно не без злобности, но и наверняка не только по злобе приносит в
жертву огромные человеческие силы, чтобы сохранить свое ненадежное статус
кво (только чтобы постоянно улучшать свои знаменитые машины, только для
того, чтобы они в один прекрасный день, после какого-нибудь очередного
изобретения, не превратились в железный лом, этот класс должен постоянно
заниматься накопительством, что ведет к ужаснейшим и со временем совершенно
невозможным жертвоприношениям человеческого материала)- у этого класса,
вынужденного постоянно зашивать прорехи, нет уже больше возможности
составлять или хотя бы лишь обсуждать принципиально новые планы.
Соответственно своей экономической системе вариантов, буржуазия и в своей
надстройке предпочитает лишь новые варианты. Из-за этого "новое" приобрело
весьма своеобразные и, конечно, весьма сомнительные черты. За новое сходят
просто-напросто варианты старого и, что хуже всего, только большее
количество вариантов. Такая точка зрения позволяет сразу перейти к повестке
дня. В этой форме - в качестве варианта - пожирается, однако, все, и это
самое вредное последствие для идеологической надстройки данного состояния
общества: такая легкая перевариваемость не является признаком здоровой
конституции, а доказывает, что тело уже не может прибавить в весе. Весело и
страшно читать в нашей печати скверные отзывы о последней, вероятно,
демонстрации буржуазной силы сопротивления - о дейтонском обезьяньем
процессе; эти люди смеются еще над трудностью, которую несколько более
здоровый народ усматривает в потрясении одной из своих жизненных основ.
Равнодушно и без всяких предчувствий принимают сами они все открытия,
которые преобразуют мир; выводы делать уже не им. Однако чего нам
беспокоиться об этом пресыщенном и потерявшем аппетит теле: оно все равно
погибнет. Нас прежде всего беспокоит та беда, что оно уже не контролирует
нашей работы или, вернее, контролирует ее неверно. Как ни трудно в своих
работах освободиться от всей буржуазной идеологии, - что может быть
достигнуто лишь постоянным контролированием базиса, - еще труднее не
пострадать от тех искажений, которым она подвергает наши уже готовые работы.
Мир преобразовывался тогда, когда представители чего-то нового страстно
стремились сделать выводы. Не нужно ли уничтожить их, раз выводов больше
делать нельзя? Возможность работать идеологически зависит сегодня от
понимания того, что спрос на наши работы, каков бы он ни был, ничего уже не
значит, что путь к _осуществлению_ наших работ необычайно, даже необозримо
долог и что это осуществление должно быть _организовано_.
В среде обнищавших - традиций нет, есть только действие и
противодействие, то есть существуют только реакции. Маятник прыгает то туда,
то сюда. Кажется, всем руководит оппозиция; своим существованием она обязана
пресыщению. Классика и романтизм, импрессионизм и экспрессионизм - это
реакции.
Но если речь идет о действительном, революционном продолжении дела, то
традиция необходима. Находящиеся на марше классы и направления должны
попытаться привести в порядок свою историю. Им нечего ждать от
дифференциаций, им угрожает то мнимое богатство нюансов, которое могут себе
позволить господствующие классы и направления, когда уже не обладают ничем
другим.
Когда мы, например, из многих тенденций драматической литературы
последнего столетия (1830-1930) выбираем тенденцию к эпическому изображению,
мы делаем это в поисках традиции. Действительно, перенеся на сцену большие
буржуазные (французские и русские) романы (правда, как обычно, без выводов в
области формы), натурализм привил драме некоторые эпические элементы, и
притом против своей воли. Упреки, обращенные как раз против этого
("недраматично", "несценично", "нет напряжения" и т. д.), быстро привели к
тому, что натурализм отказался от своих собственных тенденций и предал их.
(Их не было жаль, хотя мы обязаны им пьесой "Ткачи", которая по своей теме
заслуживает все же особого внимания.) Как раз эти упреки нам следовало бы
постараться получить и действительно заслужить.
Форма нового коллективистского театра может быть только эпической.
Все это не означает, что тут имеются образцы для подражания. А эта
фраза в свою очередь не значит, будто мы отклоняем их по какой-либо другой
причине, чем их малая ценность, потому, например, что мы стыдимся каких-либо
образцов. Напротив, мы должны заботиться и об образцах. Только их трудно
отыскать, а в нашем временном и пространственном окружении их наверняка не
найти.
Надо уяснить себе, что презренный страх этой эпохи показаться
неоригинальной связан с ее жалким понятием о собственности. Как раз
оригинальности нюансов высокоразвитого капитализма не станет оспаривать ни
один человек, как-никак благодарный за то, что "обычно" человечество все же
другое. Да и "нюансы" эти, кажется, пишут лишь для того, чтобы избежать
плагиата. И чем больше похожи друг на друга те, кто не справился с
механистической тенденцией своего времени, ничего ей не противопоставив и не
предоставив, тем больше они стараются отличиться друг от друга.
Действительно, у всех у них без исключения нет образцов, среди их предков
нет даже человека. Мы, не задающиеся целью фиксировать трогательные черты
одиночки, выдавленные непонятным механизмом, мы, запечатлевающие тип,
противостоящий этому механизму и действующий одновременно с ним, не
заинтересованы в собственной оригинальности. И в части фор.мы нам прежде
всего нужны образцы.
Для обоснования этого сошлемся на "азиатский" образец.
Находясь в незримой борьбе с образом мышления нашего читателя, мы
вынуждены постоянно разрушать те представления, которые вызываем у него
определенными словами и понятиями. Полный перечень всего того, о чем не
может быть речи в связи с "азиатским образцом театра", выдал бы наше
безнадежно изолированное положение: пишущему ныне почти невозможно
удовлетворительно контролировать ассоциации читателя. Очень трудно уже
разрушить тот помпезный и экзотический фасад, который обычно возникает перед
"духовным" взором не только _среднего_ читателя при слове "азиатский". При
этом понятие "экзотический" в эпоху неограниченного империализма уже
преодолено: наши купцы давно уже воспринимают японские торговые дома не
такими, как наши авторы книг о путешествиях и режиссеры, то есть в виде
таинственных закоулков со створчатыми дверями и гонгом. Итак, да будет
известно, что и для нас "экзотика" этой "среды" не более привлекательна, чем
для наших экспортных фирм. И - во избежание еще одного из многих возможных
недоразумений - здесь речь идет не о том, что можно почерпнуть из целого
ряда дешевых книг, не об "Азии, в которой нужно прожить тридцать лет, чтобы
понять, что ничего понять невозможно". Имеется в виду ни в коем случае не
"эта великая Азия", которая "столь велика и недостижима и так бесконечно
выше нас", что мы должны отказаться от нее, как от святости Франциска
Ассизского; видите, мы не хотим, чтобы нам что-нибудь ложно приписывали. Вы
увидите, если мы сами припишем азиатскому театру что-нибудь ложно, то нам
это будет куда безразличнее. И хотя нам ничего не известно об этом театре,
кроме нескольких фотографий постановок японских драм, нескольких сообщений,
скажем, о том, что эти пьесы рассчитаны драматургами на двенадцать часов,
что перед сценой ревности поднимаются желтые, а перед сценой внезапного
гнева зеленые флаги, кроме "фельетонного" описания токийского зрительного
зала, в котором пьют чай и курят, все же мы должны подчеркнуть, что это
очень важный образец.
Фрагменты
СОВЕТСКИЙ ТЕАТР И ПРОЛЕТАРСКИЙ ТЕАТР
Чтение немецких театральных рецензий о Мейерхольде производит весьма
угнетающее впечатление. Историческое место мейерхольдовского эксперимента
среди опытов по созданию большого, более рационального театра представляется
коллекционерам впечатлений неинтересным. Таким безразлично, насколько
великолепно здесь поставлены на свое место все понятия, безразлично, что
здесь существует настоящая теория общественной функции театра. Они
совершенно не хотят обсуждать результаты многих дискуссий: они упрямо стоят
на своем "переживании".
Пожалуй, больше всего раздражал показ англичан в Китае. В пьесе "Рычи,
Китай!" русские-де проявляют слишком мало интереса к возможной любезности
англичан в частной жизни! Как будто в пьесе о кровавых злодеяниях короля
Аттилы необходимо особенно останавливаться на том, каким он был приятным
ребенком.
Апрель 1930 г.
Фрагменты
ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ
1. ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДИАЛЕКТИКА
Согласно распространенной в настоящее время точке зрения - это точка
зрения большинства людей, профессионально оценивающих театр и драматургию -
в театре нужно сохранять наивность; предполагается, что такой подход
возможен. Если театр владеет своим ремеслом, от зрителя-де требуется лишь
одно - прийти в театр (а так как критикам за это платят, они всегда
приходят). Вообще-то говоря, новый театр не мог бы особенно возражать против
наивного отношения зрителя к нему, если бы такое отношение было возможно.
Далее мы покажем, что такое отношение невозможно, и объясним, почему именно.
Ну, а если оно невозможно, тогда приходится потребовать от зрителя, чтобы он
пошел по другому (более трудному) пути и перед тем, как прийти в театр,
кое-чему поучился. Он должен быть заранее введен "в курс дела", подготовлен,
"обучен". Сама по себе эта подготовка достаточно трудна. Так, например,
далее придется говорить о "диалектике", не объясняя того, что же такое
диалектика; поскольку диалектика (по крайней мере идеалистическая
диалектика) составляет часть не только пролетарского, но и буржуазного
образования, автор не без ехидства предполагает знакомство читателя с нею.
Речь также пойдет далее не столько о подробном истолковании современной
драматургии, как драматургии диалектической (хотя и этот вопрос ранее никем
не освещался), и даже не столько о диалектике ее собственного развития (что
могло бы составить задачу подлинной истории литературы), сколько о
простейшей попытке показать, какое революционизирующее воздействие оказывает
диалектика всюду, куда она проникает, о попытке охарактеризовать ее роль как
наилучшего могильщика буржуазных идей и установлений.
Это важное положение позволяет нам посвятить несколько серьезных
страниц той области, которая обычно не требует такого подхода и едва ли
оправдывает его, а именно - театру и драматургии.
Итак, с одной стороны, мы имеем такое производство драматургии, которое
по своей природе сильнейшим образом затрагивает конкретно существующий театр
- его здание, его сцену, его людей, испытывая потребность совершить в этом
театре, включая и зрителя, полный переворот (а такая потребность является
самой неодолимой из существующих). С другой стороны, имеется такой театр,
который требует всего лишь товара, сырья, чтобы превратить его при помощи
того _аппарата, которым он сам является_, в новый товар. С одной стороны,
производство, которое, никоим образом не игнорируя традиций, включило в себя
достаточно количественных улучшений, чтобы приняться теперь за решительное
качественное улучшение всего в целом, производство, которое достаточно
решительно следовало за все ускоряющимися преобразованиями
социально-политической базы (или шло навстречу этим преобразованиям), чтобы
иметь теперь право сделать из этого все _выводы_. А с другой стороны, -
кучка балаганных зазывал, которые ополчаются против произведений, ведущих к
неприятным выводам и требующих трудных объяснений, борясь с ними при помощи
устарелого и более ни на что не годного идеализма, от которого они еще
требуют, чтобы он был последовательным. То, чего эти люди (по чьему
поручению они действуют?) ожидают, когда они ждут нового, явилось бы всего
лишь вариантом старого; означало бы лишь снабжение их аппарата сырьем для
дальнейшего использования этого аппарата; то, с чем они воюют, - это то
новое, (преодоленным) вариантом которого является их старое. Они ждут
появления новой драмы, потому что их старая драма так же не подходит им, как
идеология прежней драмы не подходит к их практике. И поскольку старая драма,
"обновления" которой они требуют, была драмой буржуазной, а они суть буржуа,
они надеются, что новая драма возродится, как драма буржуазная. Но те
великие бюргеры, которые создали великую буржуазную драму, создавали свои
произведения отнюдь не для тех мелких бюргеров, которых сами породили, -
следовательно, новой буржуазной драме не суждено появиться.
То, что мы назвали диалектической драматургией, безусловно является
таковой лишь наполовину; она незаконченна и несовершенна, она нуждается в
конкретном осуществлении и не достигает его, ибо другая половина этого
двучлена - драматургия, необходимая для осуществления целого, безусловно
буржуазная (никак не "пролетарская") по происхождению, а может быть, и по
материалу и содержанию, но отнюдь не буржуазная по своему назначению и
возможности использования. В буржуазном обществе ее применяют столь же мало,
сколь мало применяют там великую материалистическую диалектику в области
физики, истории, психологии и экономики.
_Основная мысль: применение революционной диалектики приводит к
марксизму_.
Грубый и плоский реализм, который никогда не мог вскрыть глубокую
взаимосвязь явлений, становился особенно непереносимым, когда он стремился к
трагическому, потому что он при этом отнюдь не изображал, хотя и думал, что
делает это, вечную и неизменную природу.
Этот стиль называли натурализмом, потому что человеческую натуру он
изображал натурально, то есть неопосредствованно, так, как она сама себя
проявляла (во внешнем звучании). Так называемое "человеческое" играло при
этом большую роль {Именно в то десятилетие, когда театр всего решительнее
обращался к пролетариату, самые большие дела на сцене делали с
"человеческим". Это "человеческое" выжималось из человека мучением. Вслед за
физической эксплуатацией бедности шла психологическая. Лицедеям, которые
умели самым натуральным образом изобразить муки эксплуатируемых, выбрасывали
в награду жалованье, вдвое превышающее оклад министра, и чем гуще
эксплуататоры заполняли зал, где происходила эта демонстрация их жертв, тем
больше поднималось их общественное реноме. К отвращению, вызванному запахом
нищеты, примешивалось умиление, вызванное сострадательностью писателя. Из
всех человеческих побуждений осталась только боль. Это была каннибальская
драматургия.}, оно-де было тем, что всех "объединяет" (такого объединения
казалось достаточным). Изображение "среды как судьбы" вызывало сострадание -
чувство, которое "некто" испытывает, когда не имеет возможности помочь, но
по крайней мере мысленно "со-страдает". Среда же рассматривалась как
природа, то есть как нечто неизменное и неизбежное.
Однако _драматическая_ форма драмы при этом частично разрушалась - что
было важным элементом прогресса в быстро исчезнувшем новаторстве, потому что
эти драматурги находились под воздействием великого французского
буржуазно-цивилизаторского романа, но главным образом просто потому, что
здесь начала повелевать сама действительность.
Чтобы заставить заговорить реальную действительность, нужно было
избрать эпическую форму, а это немедленно навлекло на драматургов упрек, что
они-де не драматурги, а замаскированные романисты. Можно сказать, что вместе
с исчезновением "недраматической" формы снова исчез {"Звучал в долине,
умолкал в горах".} и определенный реалистический материал, или, наоборот:
сами драматурги уничтожили собственные попытки.
Прежде чем это движение, которое имело отношение к литературе лишь в
той степени, в которой его пьесы создавались людьми литературно одаренными,
породило значительные вещи, освоило для театра новый жизненный материал, его
зачинатели сами отказались от своих категорических тезисов и посвятили
остаток своей жизни тому, чтобы привести в порядок собственную эстетическую
систему. Но вместе с "драматической" формой был поколеблен и индивидуум,
являвшийся прежде центром драматических произведений. Так как писатели - в
этом смысле отчасти под влиянием буржуазной импрессионистической живописи -
рассматривали "естественные объекты" не в потоке изменения и не как
самодействующие, то есть смотрели на них недиалектически, видели в них куски
"природы", мертвые предметы, то они переносили жизнь в изображение
атмосферы, ожидали воздействия от того, что заключено "между" словами
(причем сниженными), давали зрителю вместо знания - впечатление, превращая
"натуру" в объект наслаждения (чем и была порождена законченно бюргерская
_гастрономическая критика_ типа критики какого-нибудь Альфреда Керра и т.
п.) и создавая в известном смысле слова грубую каннибальскую драматургию
{Быть может, мы, более молодые, просто лишены каких-то качеств, которые бы
позволили нам понять эту жажду переживаний, свойственную обреченной
буржуазии, это болезненное стремление к тому, чтобы наслаждаться чужими
переживаниями, чтобы извлекать боль из страданий матерей. Для нас театр не
склад с эрзацами неиспытанных переживаний.}. Чтобы оживить фотографию,
которая не производила образного воздействия, чтобы привнести в произведение
"воздух" и повысить ценность пьесы, призвали на помощь психологию.
Мелкотравчатым фигурам придавалась неслыханно привлекательная внутренняя
жизнь. _Индивидуум - это нераздельное_, распадаясь на свои составные части,
породило _психологию_, которая пустилась в путь по следам этих частей, но не
смогла снова собрать из них единую личность. Так вместе с разрушением
"драматического" разрушалась и личность.
4. ПУТЬ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ
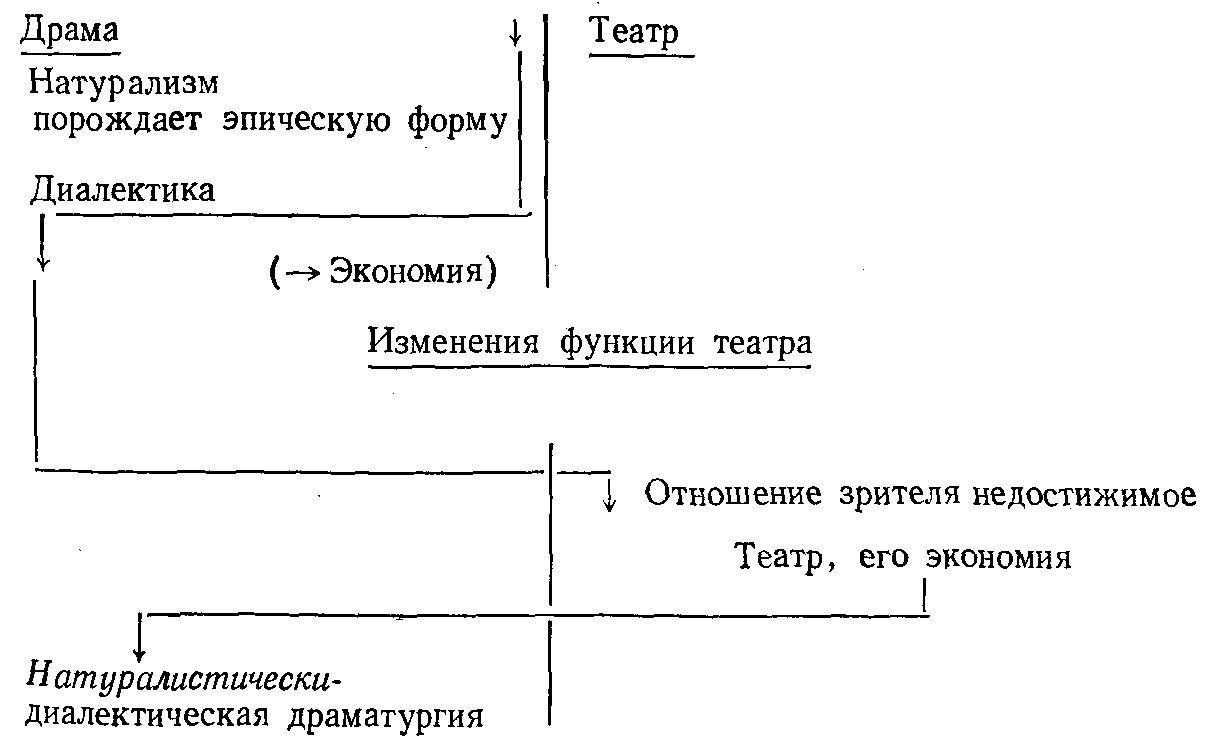 Чтобы подвести итоги: натуралистическая драматургия позаимствовала у
французского романа жизненный материал и одновременно эпическую форму.
Современная же драматургия позаимствовала лишь последнюю (наиболее слабую
сторону натуралистической драматургии!), переняв ее как чисто формальный
принцип и игнорируя жизненный материал. Вместе с этой эпической формой
изображения она восприняла и тот элемент поучения, который уже содержался в
натуралистической драматургии, драматургии переживания, но новая драматургия
впервые придала ему самостоятельное значение лишь тогда, когда после ряда
чисто конструктивных попыток в пустоте она применила эту форму для
изображения реальной действительности, что открыло ей диалектику этой
действительности (и помогло осознать свою собственную диалектику). Но опыты
в безвоздушном пространстве были не только окольным путем к цели. Они
помогли открыть роль всей системы жестов. Система жестов и была для нее той
диалектикой, которая заключена в драматургии и театре.
Разумеется, это всего лишь схема; она связно изображает ход
идеологического процесса, совершенно опуская то обстоятельство, что новые
формулировки никоим образом не рождались просто из старых (скажем, путем
признания ошибочности старых), а значит, без учета новых "внешних", то есть
социально-политических моментов.
Послевоенное поколение возобновило свою работу с этой ранее достигнутой
позиции. Оно начало вводить диалектическую точку зрения.
Утвердив значение действительности, оно полностью ввело диалектику в ее
права. Утверждение действительности означало утверждение ее тенденций. Но
утверждение ее тенденций включало в себя отрицание ее существующего облика.
Утверждая войну, нельзя было отрицать мировую революцию. Если первая была
необходимостью, то только из-за второй. Если империалистический капитализм
проводит чудовищную проверку колоссальнейшей концентрации гигантских
коллективов, то, значит, она является генеральной репетицией мировой
революции! Если он вызывает переселение народов, то оно, видимо, имеет целью
великое переселение народов по вертикали в последней классовой битве!
Война показала роль, которую будет играть индивидуум в будущем.
Отдельный человек, как таковой, может сыграть действенную роль лишь как
представитель многих. "Масса индивидуумов" утратила свою неделимость потому,
что была распределена по коллективам. Отдельный человек постоянно включался
в коллективы, а то, что начиналось вслед за этим, было процессом, целью
которого он сам ни в коей мере не был, процессом, на ход которого он не мог
повлиять, процессом, который не оканчивался с его смертью.
Материальное величие эпохи, ее колоссальные технические достижения,
могущественные предприятия ее денежных магнатов, даже мировая война, как
гигантское "сражение материальных ресурсов", но прежде всего размах шансов
на удачу для отдельной личности - вот явления, осознание которых стало
краеугольным камнем этой молодой драматургии, полностью идеалистической и
полностью капиталистической. Она стремилась показывать мир, как он есть, и
признавать его таким, как он существует; а подлинная беспощадность этого
мира должна была беспощадно изображаться как его величие: его богом должен
был стать "бог вещей, каковы они на самом деле". Эта попытка создать новую
идеологию, непосредственно опирающуюся на факты, была направлена против
буржуазии, распознанный образ мысли которой (признанный мелким) казался
находящимся в резком противоречии с ее образом действий (который принимался
за великий). При такой постановке проблемы она сводилась всего лишь к
проблеме поколений.
Задача состояла в том, чтобы доказать разумность действительного. Так в
этой драматургии возникла в высшей степени странная действительность. С
одной стороны, она сознавала преимущественно исторический характер своей
задачи. Она видела перед собой великую эпоху и великие образы и изготовляла
документальные изображения того и другого. При этом она воспринимала все как
движущееся в потоке ("Так мы строим большие дома на острове Манхаттан").
Ваал и Александр из "Похода на восточный полюс" рассматривались исторически.
Это значит, что не только сам Ваал изображался, как историческая личность, в
его изменениях, в его "потреблении", его "производстве" и прежде всего в его
действии на окружающих, - его существование в литературе в качестве вполне
определенного литературного феномена также воспринималось как исторический
факт. Он подвергался историческому "рассмотрению", которое имеет причины и
следствия. То, что Ваал делал, и то, что он говорил, было материалом о нем,
материалом, свидетельствующим против него; его мышление и его бытие казались
идентичными, а его жизненный путь был так представлен на сцене, чтобы
интерес к нему ослабевал вместе с тем интересом, который он вызывал у своих
собратьев по сцене. (При постановке этой пьесы в Берлине художник Неер
сказал: "Для последних сцен я не буду городить ничего сложного. В таком
состоянии этот парень уже не может вызывать особенного интереса. Хватит с
него и пары досок". И это было абсолютно верно! А для начальных картин он
поставил на сцену. несколько высоких стен, изобразив на них те персонажи,
которые впоследствии должны были вступить в общение с Ваалом - его "жертвы",
и сказал при этом: "Вот так-то! Придется ему обойтись этим. Здесь
господствует бог вещей, каковы они на самом деле".)
Но действительность, создаваемая подобным образом, лишь очень неполно
охватывала внешнюю действительность. Реальные события были лишь скудными
намеками на процессы, происходящие в душах. И все это игралось между голыми
балками, которые изображали лишь детали того, что они должны были
обозначать. В сцене, ремарка которой гласила: "В годы 19.. - 19.. мы
видим...", декорация Неера состояла всего лишь из по-детски нарисованной
ландкарты, точнее из намека на ландкарту, так как она не изображала никакой
определенной местности, - зато вентилятор приводил ее в колебание.
В спектакле давалось лишь примитивное изображение "поворотов"
человеческой судьбы, а все то, что привлекалось из реальных событий, 'было
всего лишь наглядным пособием. Зато много было всяких надписей... Так же
обстояло дело и в "Походе на восточный полюс", где несколько скудных событий
буржуазной жизни должны были передать действия и высказывания великого
образа...
Правда, не следует забывать, что в тот момент, когда театр снова стал
местом размышлений, да еще (притом размышлений дерзких, из него немедленно
выдохлась вонь отвратительной торжественности, созданной в театре
натурализмом и экспрессионизмом, и возникла известная веселость, если
угодно, даже бесшабашность, которая отчасти основывалась на признании того
обстоятельства, что театр вовсе не играет в области мысли той серьезной
роли, которую он себе присваивал.
Диалектическая драматургия начала с попыток преимущественно в области
формы, а не в области содержания. Она избегала психологии и изображения
индивидуальности, а _состояния_ превращала в _процессы_, делая это в
подчеркнуто эпической манере. Типичные образы, которые изображались на сцене
как можно более остраненно, как можно более объективно (так, чтобы с ними
нельзя было сопереживать), выявлялись лишь в их отношении к другим типичным
образам. Их поступки демонстрировались не как нечто само собой разумеющееся,
а как нечто поражающее: это должно было привлечь внимание зрителя к
взаимосвязи событий, к процессам, происходящим внутри определенных групп.
Необходимой предпосылкой для этого считался почти научный подход зрителя,
который интересуется происходящим, но не включается в него. (Драматурги
полагали, что они дают возможность такого подхода.) В итоге это движение
поставило себе целью изменение всего театра, в том числе и зрителя. Оно
потребовало _изменения функции театра_, как общественного установления,
никак не меньше!
Следует помнить, что речь шла лишь о _наступлении в области техники_ и
никоим образом не о каких-либо политических акциях. Все оставалось еще в
сфере буржуазного искусства, в том числе и выбор материала. Объективно
драматурги видели свою цель в том, чтобы подвергнуть типическое поведение
людей этой эпохи новым методам исследования, поначалу все еще целиком
оставаясь в рамках существующего общественного устройства, которое
принималось как данное и не подлежащее дальнейшему обсуждению. Эта новая
драматургия ограничивалась задачей изображения "поворотов человеческой
судьбы". Старая (драматическая) драматургия не давала возможности изображать
мир таким, каким его воспринимают сегодня уже многие. Ход одной человеческой
ж.изни, типичный для многих, или типичное столкновение между людьми не могли
быть показаны при помощи ранее существовавших форм драмы. Новая драматургия
постепенно перешла к эпической форме (в чем ей, между прочим, помогли
произведения одного из романистов, а именно Деблина). Так как она
рассматривала все "в потоке", она особенно подчеркивала _документальный
характер_ этого способа изображения. Зритель должен был входить в театр с
такой же внутренней установкой, с какой он привык посещать другие
современные мероприятия. Эта установка была, как уже говорилось, своего рода
научным подходом. В планетарии и во дворце спорта человек придерживается
этого подхода, спокойно взирая на события, все взвешивая и контролируя; это
тот самый подход, который позволил нашим техникам и ученым совершить их
великие открытия. Только в театре этот интерес должны были вызывать судьбы
людей и их поведение. Предполагалось, что современный зритель не хочет
безвольно поддаваться какому бы то ни было внушению, не хочет впадать в
состояние того или иного аффекта, не хочет терять рассудка.
Он не желает ни опеки над собой, ни насилия, он хочет лишь одного -
чтобы ему был предоставлен человеческий материал, чтобы он сам мог
организовать его. Поэтому он также любит смотреть на людей, которые
находятся в не столь уж легко объяснимых ситуациях, поэтому он не нуждается
ни в логических обоснованиях, ни в психологических мотивировках старого
театра. Разумеется, тот человек, в котором нет ничего от исследователя,
который ищет всего лишь удовольствия, будет считать подобные пьесы неясными,
и это именно потому, что они изображают неясность человеческих
взаимоотношений. Человеческие взаимоотношения в нашу эпоху неясны. Театр и
должен найти ту форму, которая позволяет изобразить эту неясность в наиболее
классической форме, то есть эпически спокойную форму.
Чтобы подвести итоги: натуралистическая драматургия позаимствовала у
французского романа жизненный материал и одновременно эпическую форму.
Современная же драматургия позаимствовала лишь последнюю (наиболее слабую
сторону натуралистической драматургии!), переняв ее как чисто формальный
принцип и игнорируя жизненный материал. Вместе с этой эпической формой
изображения она восприняла и тот элемент поучения, который уже содержался в
натуралистической драматургии, драматургии переживания, но новая драматургия
впервые придала ему самостоятельное значение лишь тогда, когда после ряда
чисто конструктивных попыток в пустоте она применила эту форму для
изображения реальной действительности, что открыло ей диалектику этой
действительности (и помогло осознать свою собственную диалектику). Но опыты
в безвоздушном пространстве были не только окольным путем к цели. Они
помогли открыть роль всей системы жестов. Система жестов и была для нее той
диалектикой, которая заключена в драматургии и театре.
Разумеется, это всего лишь схема; она связно изображает ход
идеологического процесса, совершенно опуская то обстоятельство, что новые
формулировки никоим образом не рождались просто из старых (скажем, путем
признания ошибочности старых), а значит, без учета новых "внешних", то есть
социально-политических моментов.
Послевоенное поколение возобновило свою работу с этой ранее достигнутой
позиции. Оно начало вводить диалектическую точку зрения.
Утвердив значение действительности, оно полностью ввело диалектику в ее
права. Утверждение действительности означало утверждение ее тенденций. Но
утверждение ее тенденций включало в себя отрицание ее существующего облика.
Утверждая войну, нельзя было отрицать мировую революцию. Если первая была
необходимостью, то только из-за второй. Если империалистический капитализм
проводит чудовищную проверку колоссальнейшей концентрации гигантских
коллективов, то, значит, она является генеральной репетицией мировой
революции! Если он вызывает переселение народов, то оно, видимо, имеет целью
великое переселение народов по вертикали в последней классовой битве!
Война показала роль, которую будет играть индивидуум в будущем.
Отдельный человек, как таковой, может сыграть действенную роль лишь как
представитель многих. "Масса индивидуумов" утратила свою неделимость потому,
что была распределена по коллективам. Отдельный человек постоянно включался
в коллективы, а то, что начиналось вслед за этим, было процессом, целью
которого он сам ни в коей мере не был, процессом, на ход которого он не мог
повлиять, процессом, который не оканчивался с его смертью.
Материальное величие эпохи, ее колоссальные технические достижения,
могущественные предприятия ее денежных магнатов, даже мировая война, как
гигантское "сражение материальных ресурсов", но прежде всего размах шансов
на удачу для отдельной личности - вот явления, осознание которых стало
краеугольным камнем этой молодой драматургии, полностью идеалистической и
полностью капиталистической. Она стремилась показывать мир, как он есть, и
признавать его таким, как он существует; а подлинная беспощадность этого
мира должна была беспощадно изображаться как его величие: его богом должен
был стать "бог вещей, каковы они на самом деле". Эта попытка создать новую
идеологию, непосредственно опирающуюся на факты, была направлена против
буржуазии, распознанный образ мысли которой (признанный мелким) казался
находящимся в резком противоречии с ее образом действий (который принимался
за великий). При такой постановке проблемы она сводилась всего лишь к
проблеме поколений.
Задача состояла в том, чтобы доказать разумность действительного. Так в
этой драматургии возникла в высшей степени странная действительность. С
одной стороны, она сознавала преимущественно исторический характер своей
задачи. Она видела перед собой великую эпоху и великие образы и изготовляла
документальные изображения того и другого. При этом она воспринимала все как
движущееся в потоке ("Так мы строим большие дома на острове Манхаттан").
Ваал и Александр из "Похода на восточный полюс" рассматривались исторически.
Это значит, что не только сам Ваал изображался, как историческая личность, в
его изменениях, в его "потреблении", его "производстве" и прежде всего в его
действии на окружающих, - его существование в литературе в качестве вполне
определенного литературного феномена также воспринималось как исторический
факт. Он подвергался историческому "рассмотрению", которое имеет причины и
следствия. То, что Ваал делал, и то, что он говорил, было материалом о нем,
материалом, свидетельствующим против него; его мышление и его бытие казались
идентичными, а его жизненный путь был так представлен на сцене, чтобы
интерес к нему ослабевал вместе с тем интересом, который он вызывал у своих
собратьев по сцене. (При постановке этой пьесы в Берлине художник Неер
сказал: "Для последних сцен я не буду городить ничего сложного. В таком
состоянии этот парень уже не может вызывать особенного интереса. Хватит с
него и пары досок". И это было абсолютно верно! А для начальных картин он
поставил на сцену. несколько высоких стен, изобразив на них те персонажи,
которые впоследствии должны были вступить в общение с Ваалом - его "жертвы",
и сказал при этом: "Вот так-то! Придется ему обойтись этим. Здесь
господствует бог вещей, каковы они на самом деле".)
Но действительность, создаваемая подобным образом, лишь очень неполно
охватывала внешнюю действительность. Реальные события были лишь скудными
намеками на процессы, происходящие в душах. И все это игралось между голыми
балками, которые изображали лишь детали того, что они должны были
обозначать. В сцене, ремарка которой гласила: "В годы 19.. - 19.. мы
видим...", декорация Неера состояла всего лишь из по-детски нарисованной
ландкарты, точнее из намека на ландкарту, так как она не изображала никакой
определенной местности, - зато вентилятор приводил ее в колебание.
В спектакле давалось лишь примитивное изображение "поворотов"
человеческой судьбы, а все то, что привлекалось из реальных событий, 'было
всего лишь наглядным пособием. Зато много было всяких надписей... Так же
обстояло дело и в "Походе на восточный полюс", где несколько скудных событий
буржуазной жизни должны были передать действия и высказывания великого
образа...
Правда, не следует забывать, что в тот момент, когда театр снова стал
местом размышлений, да еще (притом размышлений дерзких, из него немедленно
выдохлась вонь отвратительной торжественности, созданной в театре
натурализмом и экспрессионизмом, и возникла известная веселость, если
угодно, даже бесшабашность, которая отчасти основывалась на признании того
обстоятельства, что театр вовсе не играет в области мысли той серьезной
роли, которую он себе присваивал.
Диалектическая драматургия начала с попыток преимущественно в области
формы, а не в области содержания. Она избегала психологии и изображения
индивидуальности, а _состояния_ превращала в _процессы_, делая это в
подчеркнуто эпической манере. Типичные образы, которые изображались на сцене
как можно более остраненно, как можно более объективно (так, чтобы с ними
нельзя было сопереживать), выявлялись лишь в их отношении к другим типичным
образам. Их поступки демонстрировались не как нечто само собой разумеющееся,
а как нечто поражающее: это должно было привлечь внимание зрителя к
взаимосвязи событий, к процессам, происходящим внутри определенных групп.
Необходимой предпосылкой для этого считался почти научный подход зрителя,
который интересуется происходящим, но не включается в него. (Драматурги
полагали, что они дают возможность такого подхода.) В итоге это движение
поставило себе целью изменение всего театра, в том числе и зрителя. Оно
потребовало _изменения функции театра_, как общественного установления,
никак не меньше!
Следует помнить, что речь шла лишь о _наступлении в области техники_ и
никоим образом не о каких-либо политических акциях. Все оставалось еще в
сфере буржуазного искусства, в том числе и выбор материала. Объективно
драматурги видели свою цель в том, чтобы подвергнуть типическое поведение
людей этой эпохи новым методам исследования, поначалу все еще целиком
оставаясь в рамках существующего общественного устройства, которое
принималось как данное и не подлежащее дальнейшему обсуждению. Эта новая
драматургия ограничивалась задачей изображения "поворотов человеческой
судьбы". Старая (драматическая) драматургия не давала возможности изображать
мир таким, каким его воспринимают сегодня уже многие. Ход одной человеческой
ж.изни, типичный для многих, или типичное столкновение между людьми не могли
быть показаны при помощи ранее существовавших форм драмы. Новая драматургия
постепенно перешла к эпической форме (в чем ей, между прочим, помогли
произведения одного из романистов, а именно Деблина). Так как она
рассматривала все "в потоке", она особенно подчеркивала _документальный
характер_ этого способа изображения. Зритель должен был входить в театр с
такой же внутренней установкой, с какой он привык посещать другие
современные мероприятия. Эта установка была, как уже говорилось, своего рода
научным подходом. В планетарии и во дворце спорта человек придерживается
этого подхода, спокойно взирая на события, все взвешивая и контролируя; это
тот самый подход, который позволил нашим техникам и ученым совершить их
великие открытия. Только в театре этот интерес должны были вызывать судьбы
людей и их поведение. Предполагалось, что современный зритель не хочет
безвольно поддаваться какому бы то ни было внушению, не хочет впадать в
состояние того или иного аффекта, не хочет терять рассудка.
Он не желает ни опеки над собой, ни насилия, он хочет лишь одного -
чтобы ему был предоставлен человеческий материал, чтобы он сам мог
организовать его. Поэтому он также любит смотреть на людей, которые
находятся в не столь уж легко объяснимых ситуациях, поэтому он не нуждается
ни в логических обоснованиях, ни в психологических мотивировках старого
театра. Разумеется, тот человек, в котором нет ничего от исследователя,
который ищет всего лишь удовольствия, будет считать подобные пьесы неясными,
и это именно потому, что они изображают неясность человеческих
взаимоотношений. Человеческие взаимоотношения в нашу эпоху неясны. Театр и
должен найти ту форму, которая позволяет изобразить эту неясность в наиболее
классической форме, то есть эпически спокойную форму.
7. ТЕАТР КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ
8. ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕАТРА
Театр должен быть пересмотрен в целом - не только тексты, не только
актеры или даже весь характер постановки, эта перестройка должна вовлечь
зрителя, должна изменить его позицию.
Этой перемене в подходе зрителя соответствует то, как изображается
человеческое поведение на сцене; мимический материал подчиняется
_обстоятельствам_. Индивидуум перестает быть центром спектакля. Отдельный
человек не порождает никаких отношений, значит, на сцене должны появляться
группы людей, внутри которых или по отношению к которым отдельный человек
занимает определенную позицию; их-то и изучает зритель, притом _зритель как
масса_. Значит, отдельный человек и в качестве зрителя перестает быть
центром театра. Он уже больше не частное лицо, которое "удостаивает" театр
своим посещением, позволяя, чтобы актеры что-то разыгрывали перед ним,
потребляя работу театра; он уже больше не потребитель, нет, он сам должен
производить. Спектакль без него, как активного участника, теперь лишь
половина спектакля (если бы он был законченным без него, он считался бы
теперь несовершенным). Зритель, вовлеченный в театральное действо, сам
приобщается к театру. Таким образом, главное происходит теперь не "в нем",
но "с ним"; современный театр преобразовал деловое предприятие,
существовавшее за счет продажи ежевечернего развлечения, в коллектив
покупателей, то есть произвел всего лишь количественную работу. Следующий
шаг, - _правда, этот шаг_ направлен _против основного характера самого
предприятия_, - означал бы качественное изменение этого коллектива: исчезла
бы его случайность. Теперь можно было бы выдвинуть требование, чтобы
_зритель (как масса)_ был _приобщен к литературе_, то есть специально обучен
перед "посещением" театра, специально проинформирован. Здесь уже не каждый
забежавший в зал зритель сможет лишь на основании потраченных им денег
"понять" происходящее и стать его "потребителем". Оно перестало быть
товаром, доступным каждому, кто его пожелает. Сам материал уже объявлен
общим достоянием, он "национализирован". Это необходимая предпосылка для
изучения; теперь решающей становится формальная сторона, то есть способ
использования, она усваивается в форме работы, а именно работы по изучению.
Дойдя до этого пункта, мы понимаем, почему _обработка существующего
материала_ обозначает облегчение работы, которая должна быть совершена. То
обстоятельство, что в этой фазе содержатся почти все элементы, которые ранее
существовали в прежних фазах и, будучи подчеркнутыми, характеризовали эти
фазы, могло бы побудить того, кто выводит новое из старого вместо того,
чтобы выводить старое из нового, смотреть на эту работу, как на чисто
эклектическую; это потому, что он не учитывает решающего фактора, состоящего
в изменении самих функций театра.
Здесь выявление всей системы жестов, содержащейся в уже известном
материале, может помочь и производителю и потребителю правильно определить
то поведение, которое и является главным, даже если оно приходит в
противоречие с данным материалом. Ясно, что эта функция театра зависит от
почти полной общности жизненных интересов всех участников. Неоспоримый
примат театра по отношению к драматургии, революционный прогресс техники сам
по себе, как примат средств производства перед самим производством (для
понимания этого необходимо понимание законов революционной политэкономии),
является препятствием для того большого изменения функций театра, которое
лишь он - этот примат - делает возможным.
Зрители, к которым обращен призыв проявить не безвольный (основанный на
магии, на внушении) подход, а занять оценивающую позицию, немедленно
занимали отнюдь не некую общую, стоящую над интересами всех позицию, как
того хотела новая драматургия, а политическую позицию. Более того, сами
представления перестали казаться простой "выдумкой" нескольких драматургов,
они производили впечатление чего-то выражающего молчаливое требование
коллектива. Если изменение функций театра благодаря этому начинало казаться
возможным, хотя и не в том смысле, в каком этого ожидала новая драматургия,
оно становилось тем более невозможным из-за непредусмотренного характера
этой возможности. Театр, как нечто предметное, сам становился как предмет
преградой на пути этого изменения своих функций.
9. ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА
Буржуазный театр создал технические предпосылки для полного изменения
функций театра тем, что он охватывал все более широкую публику, привлекая ее
в качестве потребителей на фоне неизбежно расширяющегося рынка, а тем самым
разрушил ту салонную клику, которая ранее господствовала в театре.
Его классовый характер помешал ему сделать необходимые выводы. Так,
например, он уже давно выражает практически полный атеизм, но не может
решиться стать его открытым идеологическим выразителем.
Если бы выяснилось, что театр, как скопление определенных средств
производства, не может быть ни преодолен, ни обойден, а факт, исходящий из
этого конкретного обстоятельства, заставил бы выдвинуть вопрос об изменении
этого общественного установления, а затем и новый (неразрешимый) вопрос об
изменении всего того общественного устройства, которое является предпосылкой
его существования, - то тогда, и притом не независимо от всего этого, а в
ходе этих размышлений и сознательно направленных на это усилий, новая
драматургия пришла бы в непредусмотренное энергичное столкновение с
_действительностью_. Рассмотрение вопросов политэкономии подействовало бы на
нее, как совлечение покровов с изображений в Саисе. Она находилась в
оцепенении, застыла, как соляной столб. Погруженная в глубокое раздумье, она
смотрела на попытки Пискатора, которые как раз начались в это время и
которые, как она скоро поняла, можно было причислить к ее собственным
опытам: ведь они были гораздо более драматургическими, чем собственно
театральными, они были направлены на саму драму, они были драматическими в
том новом смысле, который затрагивал театр, как целое. С того времени была
открыта субъективность возможной объективности; объективность была понята,
как партийность. То, что здесь выявилось как тенденция, было тенденцией
самой материи (то же, что бросалось в глаза как тенденция, в худшем случае
было лишь временной конструкцией).
Фрагменты
О НЕАРИСТОТЕЛЕВСКОЙ ДРАМЕ
ТЕАТР УДОВОЛЬСТВИЯ ИЛИ ТЕАТР ПОУЧЕНИЯ?
Когда несколько лет назад речь заходила о современном театре, называли
театры московский, нью-йоркский и берлинский. Кроме них называли еще, быть
может, ту или иную постановку Жуве в Париже, Кочрана в Лондоне или спектакль
"Гадибук" в театре "Габима", который, собственно говоря, тоже можно отнести
к русскому театру, потому что режиссером спектакля был Вахтангов. Однако,
имея в виду современный театр в целом, называли лишь три театральные
столицы.
Русский, американский и немецкий театры очень сильно отличались друг от
друга, но между ними существовало и сходство: они были современными, то есть
вводили новшества в технику постановки я актерской игры. В некотором смысле
у них проявлялось и сходство в стиле, - вероятно, потому, что техника
международна (не только та область техники, которая необходима
непосредственно для сцены, но и та, которая оказывает влияние на сцену, -
например, кино), а также потому, что театры эти расположены в крупных
развитых городах больших индустриальных стран. В последнее время среди
театров капиталистических стран ведущее место занял как будто берлинский
театр. Черты, характерные для современного театра, нашли в нем на
определенной ступени его развития яркое и пока наиболее зрелое выражение.
Последним этапом берлинского театра, который, как уже говорили,
воплотил тенденции развития современного театра в наиболее отчетливой форме,
был театр эпический. Все, что называли "современной пьесой", или "сценой
Пискатора", или "поучительной пьесой", относится к театру эпическому.
Термин "эпический театр" казался многим внутренне противоречивым, так
как, согласно Аристотелю, было принято считать, что эпическая и
драматическая формы в корне отличны друг от друга. Различие видели; отнюдь
не в том, что одна из форм обращена к живым зрителям, а другая пользуется
посредничеством книги; такие эпические произведения, как поэмы Гомера или,
песни средневековых певцов, были одновременно и театральным зрелищем, а
драмы вроде "Фауста" Гете или "Манфреда" Байрона, как известно, наиболее
действенны именно как книги для чтения. Различие между драматической и
эпической формой уже со времен Аристотеля видели в различии структуры, в
различии построения, закономерности которого изучаются в двух разных
областях эстетики. Построение это зависело от различных способов, которыми
произведение подавалось публике: в одном случае, посредством сцены, в другом
- посредством книги; однако независимо от этого существовали еще
"драматическое начало" в эпических произведениях и "эпическое начало" в
произведениях драматических. В прошлом веке в буржуазном романе развилось
немало драматических элементов: например, концентрированность сюжета, а
также взаимозависимость отдельных частей. Драматическое начало
характеризовалось известной страстностью изложения, резким выделением
сталкивающихся, противоборствующих сил. Эпический автор Деблин дал
превосходное определение эпосу, сказав, что, в отличие от драматического
произведения, произведение эпическое можно, условно говоря, разрезать на
куски, причем каждый кусок сохранит свою жизнеспособность.
Здесь не место вдаваться в рассуждения о том, в силу каких именно
причин противоречия между эпическим и драматическим, которые казались
непреодолимыми, утратили свою безусловность. Достаточно указать на то, что
уже благодаря техническим достижениям оказалось возможным ввести в
драматическое представление повествовательные элементы. Использование
экрана, механизмов и кино усовершенствовало оборудование сцены, и все это
произошло в историческую эпоху, когда важнейшие события в человеческом
обществе уже нельзя было представить с той простотой, как это делалось
прежде; в эпоху, когда люди материализовали движущие силы или подчиняли
действующих лиц силам невидимым, метафизическим.
Для того чтобы события общественной жизни стали понятны, необходимо
было широко показать зрителю общественную среду во всей ее значительности.
Разумеется, прежняя драма тоже показывала общественную среду, но там
среда не являлась самостоятельной стихией; целиком подчиняясь главному герою
драмы, она была представлена лишь через реакцию на нее главного героя. Для
зрителя это было все равно, что наблюдать бурю, видя не ее самое, а суда,
бороздящие воды, л паруса, кренящиеся под напором ветра. Теперь же в
эпическом театре общественная среда должна была выступить как элемент
самостоятельный.
Сцена стала повествовать. Теперь уже рассказчик не исчезал с
исчезновением четвертой стены. Фон тоже принимал теперь активное участие в
представляемых событиях, взывая с помощью титров к аналогичным событиям,
опровергая или подтверждая высказывания действующих лиц документами,
демонстрируемыми на экране; подкрепляя отвлеченные рассуждения конкретными,
чувственно ощутимыми цифрами; усиливая пластически выразительные, но
незначительные события изречениями и фактами. Актеры тоже перевоплощались не
полностью - они сохраняли известную дистанцию между собой и изображаемым
персонажем, более того, вызывали в зрителе критическое отношение к
персонажу.
Отныне зрителю уже нельзя посредством простого вживания в душевный мир
действующих лиц отдаваться своим эмоциональным переживаниям без всякой
критики (и, значит, без всяких практических результатов). Все темы и события
спектакля подвергаются очуждению. Такому очуждению, которое необходимо,
чтобы понять их. А когда люди имели дело с "само собой разумеющимся", они
просто отказывались от всякого понимания.
"Обыденное" получило элементы, бросающиеся в глаза. И только так могли
стать очевидны законы, причины, следствия. Поступки людей следовало показать
такими, но в то же время следовало показать, что они могут быть и совеем
другими.
То были большие изменения.
Созерцая переживания героя, зритель драматического театра говорит: "Да,
это я тоже уже переживал. И я таков. Это естественно. Так будет всегда. Горе
этого человека потрясает меня, потому что у него нет выхода. Это великое
искусство: здесь все само собой разумеется. Я плачу вместе с теми, кто
плачет, я смеюсь вместе с теми, кто смеется".
Зритель эпического театра говорит: "Этого я бы не подумал. Так делать
нельзя. Это в высшей степени удивительно, почти неправдоподобно. Этому надо
положить конец. Горе этого человека потрясает меня, потому что у него
все-таки есть выход. Это великое искусство: здесь нет ничего само собой
разумеющегося. Я смеюсь над теми, кто плачет, я плачу над теми, кто
смеется".
Сцена стала поучать.
Нефть, инфляция, война, социальная борьба, семья, религия, пшеница,
торговля убойным скотом - все это стало предметом театрального
представления. Хоры разъясняли зрителю непонятное ему соотношение сил.
Киномонтаж показывал ему события >во всем мире. Экран демонстрировал
статистический материал. Поступки людей подвергались критике вследствие
того, что на передний план выступили их скрытые причины. Показывали поступки
правильные и неправильные. Показывали людей, которые знают, что делают, и
людей, которые не знают этого. Театр стал полем деятельности философов -
таких философов, которые стремились не только объяснить мир, но и изменить
его. На сцене появилась философия; таким образом, на сцене появилось
поучение. А куда же девалось развлечение? Неужели нас снова посадили за
школьную парту, снова обращаются с нами, как с неграмотными? Неужели нам
снова надо сдавать экзамены, получать аттестаты?
Согласно общепринятому мнению, между понятиями "учиться" и
"развлекаться" - огромное различие. Первое, быть может, и полезно, но
приятно только второе. Итак, нам нужно защитить эпический театр от
подозрения, будто бы это в высшей степени неприятное, безрадостное
умственное напряжение.
Собственно говоря, мы можем сказать только одно: отнюдь не обязательно
противопоставлять учение развлечению. Противоположность между ними существог
вала не всегда и не всегда будет существовать.
Несомненно, учение, связанное со школой, с подготовкой к профессии,
предполагает немалые трудности. Однако следует обдумать и то, при каких
обстоятельствах и во имя какой идеи оно осуществляется.
В сущности, это покупка. Знание - всего лишь " товар. Его покупают для
того, чтобы потом перепродать. Все, кто вышел из школьного возраста, должны
продолжать свое учение, так сказать, втайне от других; ибо человек,
признающийся в том, что ему еще надо учиться дополнительно, как бы
обесценивает себя в глазах других - оказывается, у него не хватает познаний!
Кроме того, польза от учения весьма ограничена факторами, которые не зависят
от воли учащегося. Существует безработица, от которой не могут уберечь
никакие знания. Гораздо чаще приобретение знаний требует усилий от тех, кому
дальнейшее продвижение уже не стоит никаких усилий. Мало таких познаний,
которые обеспечивают человеку власть, но немало познаний, которые
обеспечиваются властью.
Для различных слоев народа учение играет весьма различную роль. Есть
слои, которые не могут представить себе изменение общественных условий; эти
условия кажутся им достаточно хорошими. Как бы ни обстояло дело с нефтью,
они будут извлекать из нее свои доходы. И еще: они чувствуют себя людьми на
возрасте. Впереди у них не так уж много лет. Зачем же им еще тратить время
на учение? Они уже произнесли свое последнее слово. Но есть и такие слои,
которые еще не вкусили от пирога, которые не довольны условиями жизни, у
которых огромная практическая заинтересованность в учении: они во что бы то
ни стало хотят разбираться во всем, они знают, что без учения пропадут. Эти
люди - самые лучшие и самые жадные ученики. Подобные различия существуют
также между народами и странами.
Значит, стремление к знанию зависит от многих обстоятельств, и все же
существует радостное, захватывающее учение, учение, которое приносит счастье
борьбы. Если бы не было такого увлекательного учения, тогда театр по самой
природе своей был бы лишен способности учить.
Театр остается театром, даже будучи поучительным, а если он к тому же
хороший, тогда он служит и развлечению.
Но что общего у науки с искусством? Мы отлично знаем, что наука может
быть развлекательной, однако не все, что развлекает, может быть представлено
на сцене.
Когда я указывал на ту неоценимую службу, которую современная наука
(если правильно ее использовать) может сослужить искусству, в особенности
театру, я нередко слышал в ответ: искусство и наука - две высокоценные, но
совершенно различные области человеческой деятельности. Разумеется, это
общее рассуждение совершенно правильно, как и большинство общих рассуждений.
Искусство и наука воздействуют совершенно различным образом - это ясно. И
все же должен признаться, как бы дурно это ни звучало, что я, как художник,
не могу обойтись в своем творчестве без некоторых наук. Это утверждение
может возбудить во многих людях сомнение в моих художественных способностях.
Они привыкли видеть в поэтах удивительные, чуть ли не сверхъестественные
существа, которые с истинно божественной прозорливостью познают явления, для
познания коих всем другим нужно затратить множество усилий и труда. Конечно,
неприятно признаваться в том, что не принадлежишь к сонму осененных
благодатью. Но признаться в этом необходимо. Необходимо также опровергнуть и
мнение о том, будто научные усилия, в которых я признался, - лишь
простительные побочные занятия, за которые садишься вечером, после рабочего
дня. Ведь всем известно, что и Гете занимался естествознанием, и Шиллер -
историей, только принято добродушно считать, что это своего рода причуды
гения. Я не хочу с порога обвинять их обоих в том, что названные науки им
были нужны дли поэтического творчества, и, таким образом, как бы прятаться у
них за спиной; но про себя должен сказать, что мне науки нужны. И признаюсь,
я косо поглядываю на людей, о которых мне известно, что они не стоят на
уровне современных научных знаний, то есть, что они "поют как <птицы певчие,
как на ветке соловей", или так, как представляют себе соловьиное пение. Я не
хочу этим сказать, что отвергаю звучное стихотворение о вкусе камбалы или об
удовольствиях лодочной прогулки только потому, что автор его не изучал
гастрономию или навигацию. Однако я полагаю, что великие и сложные мировые
события не могут быть до конца поняты теми, кто не привлекает для познания
мира всех необходимых вспомогательных средств.
Предположим, нужно изобразить великие страсти или события, оказывающие
влияние на судьбы народов. Подобной страстью в наше время считают, например,
стремление к власти. Предположим, поэт, "почувствовав" это стремление, хочет
изобразить человека, стремящегося к власти. Как же он изобразит тот в высшей
степени сложный механизм, посредством которого в наше время можно завоевать
власть? Если его герой - политик, то как делается политика? Если он
коммерсант, то как делается коммерция? К тому же есть и такие писатели, в
произведениях которых напряженный интерес вызывает не столько устремление к
власти отдельных людей, сколько именно коммерция и политика! Как этим
авторам приобрести необходимые познания? Едва ли накопят они достаточные
познания, если будут только бродить и созерцать мир широко открытыми
глазами; впрочем, уже и это значительно лучше, чем если они просто будут
закрывать глаза в сладостном безумии. Основать такую газету, как "Фелькишер
беобахтер", или такую компанию, как "Стандарт ойл", - Дело весьма сложное, и
эти вещи нельзя просто навязать читателю безо всяких объяснений. Для
драматурга важной областью является психология. Принято считать, что если и
не каждый обыкновенный человек, то поэт, во всяком случае, способен без
специального изучения проникнуть в причины, побуждающие человека к убийству,
- поэт, "познавая самого себя", должен суметь дать картину душевного
состояния убийцы. Предполагается, что в таких случаях достаточно заглянуть к
себе в душу, да к тому же ведь существует еще и воображение. По ряду причин
я уже не могу питать сладкую надежду на такое удобное и легкое решение
вопроса. Не могу и в себе самом обнаружить все те побудительные причины,
которые, как явствует из газетных отчетов и научных исследований, удается
установить у людей. Как и судья при вынесении приговора, я не могу без
дополнительных изысканий составить себе исчерпывающую картину душевного
состояния убийцы. Современная психология - от психоанализа до бихевиоризма -
дает мне познания, помогающие совсем по-иному истолковать данный случай, в
особенности если я еще приму во внимание данные социологии, а также не
позабуду о политэкономии и истории. Могут сказать: но это же очень сложно. Я
вынужден ответить: конечно, это сложно. Быть может, мои оппоненты позволят
себя убедить и согласятся со мной в одном: имеется немало весьма примитивной
литературы. И все же они с большой озабоченностью спросят: не станет ли
после этого вечер в театре пугающе сложным и скучным? Отвечу: нет.
Сколько бы в произведении искусства ни заключалось научного знания, оно
должно быть полностью преобразовано в искусство. Усвоение его как раз и дает
ту радость, которая возбуждается произведением искусства. Во всяком случае,
если оно дает не такое наслаждение, какое приносит человеку научное
познание, все же известная склонность к глубокому проникновению в сущность
вещей, мечта о познании мира необходима, чтобы получить радость от
современного произведения искусства в нашу эпоху великих открытий и
изобретений.
4. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭПИЧЕСКИЙ ТЕАТР "ШКОЛОЙ НРАВСТВЕННОСТИ"?
Согласно Фридриху Шиллеру, театр должен быть школой нравственности.
Когда Шиллер выдвинул это требование, ему едва ли приходило в голову, что
он, проповедуя со сцены нормы нравственности, отпугнет публику от театра. В
его времена публика не возражала против нравственной проповеди. Лишь позднее
Фридрих Ницше напал на Шиллера, назвав его зекингенским трубачом
нравственности. Заниматься моралью казалось для Ницше унылым делом. Шиллер
же видел здесь нечто доставляющее удовлетворение. Он не знал ничего более
увлекательного и приятного, чем проповедь идеалов. Буржуазия в то время
занималась тем, что создавала идеи для нации. Устраивать свое жилище,
хвалить собственную шляпу, платить по счетам - это в самом деле занятие не
очень-то веселое, и именно так Фридрих Ницше столетие спустя смотрел на
вещи. Этому Фридриху было не по душе говорить о морали, а потому и не по
душе ему был тот, первый Фридрих.
Против эпического театра многие тоже возражали: он, дескать, слишком
нравственен. Однако в эпическом театре нравственная проповедь отходила на
второй план. Театр стремился не столько проповедовать нравственность,
сколько изучать ее. Правда, сначала шло изучение, а затем и неизбежный итог:
мораль всей истории. Мы, разумеется, не можем утверждать, что занялись
изучением только из чистого желания углубиться в науку, без иного, 'более
ощутимого повода, и что результаты нашего изучения нас совершенно ошеломили.
Несомненно, в окружающем нас мире были некоторые мучительные
'несоответствия, трудно переносимые обстоятельства, и к тому же такие
обстоятельства, которые трудно было переносить не только из соображений
нравственности. Голод, холод и угнетение трудно переносить не только из
моральных соображений. Да и цель наших исследований заключается отнюдь не в
том, чтобы возбудить моральные размышления по поводу известных социальных
обстоятельств (хотя такие размышления возбудить нетрудно, правда, не у всех
слушателей - редко, например, возникают подобные размышления у тех
слушателей, которые извлекают выгоду из существующих обстоятельств!); цель
наших исследований заключалась в том, чтобы найти средства устранения
названных трудно переносимых социальных обстоятельств. Мы вели речь не во
имя нравственности, но во имя страдающих. Это, безусловно, совершенно разные
вещи, ибо нередко, имея в виду страдающих, философы произносят нравственные
проповеди о том, что страдающие должны примириться со своим положением.
Такие моралисты считают, что люди существуют для нравственности, а не
нравственность для людей.
Так или иначе, из сказанного можно сделать вывод, в какой степени и в
каком смысле эпический театр является школой нравственности.
5. ВСЮДУ ЛИ МОЖНО СОЗДАТЬ ЭПИЧЕСКИЙ ТЕАТР?
В стилистическом отношении эпический театр не являет собой чего-либо
особенно нового. Характерное для него подчеркивание момента актерской игры и
то, что он является театром представления, роднит его с древнейшим азиатским
театром. Тенденции к поучению были свойственны средневековым мистериям,
равно как классическому испанскому театру и театру иезуитов.
Театральные формы соответствовали определенным тенденциям прошлых эпох
и ушли в прошлое вместе с этими эпохами. Современный эпический театр тоже
связан с определенными тенденциями. Его нельзя создавать повсюду.
Большинство великих наций в наши дни не склонно решать свои проблемы на
подмостках. Лондон, Париж, Токио и Р-им содержат театры для совсем иных
целей. До сих пор условия для возникновения эпического поучительного театра
существовали лишь в очень немногих местах и весьма недолго. В Берлине фашизм
решительно остановил развитие такого театра.
Кроме определенного технического уровня эпический театр требует наличия
могучего движения в области общественной жизни, цель которого - возбудить
заинтересованность в свободном обсуждении жизненных вопросов, для того чтобы
в дальнейшем эти вопросы разрешить; движения, которое может защитить эту
заинтересованность против всех враждебных тенденций.
Эпический театр - самый широкий и далеко идущий опыт создания большого
современного театра, и этот театр должен преодолеть те грандиозные
препятствия в области политики, философии, науки, искусства, которые стоят
на пути всех живых сил.
НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ
В первые годы после войны и революции театр в Германии переживал
большой подъем. В тот период у нас было больше, чем когда-либо прежде,
больших артистов и немало яростно соперничавших друг с другом режиссеров.
Тогда мы располагали возможностью ставить почти все пьесы мировой
драматургии самых различных эпох, от "Эдипа" до "Дело есть дело" и от
"Мелового круга" до "Фрекен Юлии", и все эти пьесы действительно ставились.
Однако техническая оснащенность театра и возможности драматургии были столь
ограничены, что не позволяли отобразить на сцене, во всяком случае широко,
крупнейшие явления современности: бурное развитие гигантской индустрии,
классовые битвы, войну, мировую торговлю, борьбу с болезнями и так далее.
Разумеется, театр показывал и биржу, и окопы, и больницы, но все это было
лишь эффектным фоном для какой-нибудь сентиментальной истории из
иллюстрированного журнала, которая могла произойти в любое другое время,
хотя в великие эпохи театра она наверняка была бы признана недостойной
увидеть свет рампы. Создать театр, способный отображать крупнейшие события
современности, удалось далеко не сразу и не без труда.
Прежде всего выяснилось, что театр по своей технической оснащенности
остался на том уровне, какого он достиг примерно к 1830 году. Он не был даже
электрифицирован. Пискатор - несомненно один из самых выдающихся деятелей
театра всех времен - за какие-то несколько лет ввел целый ряд коренных
новшеств. Он установил в театре экран. Декорация ожила и сама стала
элементом действия. Появилась возможность воспроизводить на заднике разные
документы, статистические данные и синхронные события. К примеру, когда на
сцене разгорается битва биржевиков из-за албанской нефти, на заднике видны
военные суда, уходящие в море, чтобы вынудить нефтяные промыслы прекратить
работу. Это был колоссальный прогресс.
Другим новшеством было создание подвижной сцены. Теперь можно было
приводить в движение широкие полосы сценической площадки. Таким образом был
поставлен "Бравый солдат Швейк" и показан его знаменитый поход в Будейовицы.
При постановке пьесы "Берлинский купец" сцена была снабжена подъемной
площадкой, что позволило помещать отдельные участки сцены на разных уровнях.
Новые средства дали возможность органически включить в спектакль
элементы музыки и графики, до сих пор остававшиеся недоступными для театра.
Крупнейшие композиторы стали писать музыку для театра, а великий график
Георг Гросс создал великолепные произведения искусства, которые
проецировались затем на экран.
Декорации к пьесам и постановкам Брехта были созданы в основном
Каспаром Неером.
Не меньшие изменения претерпела и драматургия. Была выработана новая
техника построения пьес. Пьесы стали писать небольшие коллективы людей
различных специальностей, в том числе историки и социологи. В серии из семи
брошюр - в "Опытах" - была фрагментарно изложена теория неаристотелевской
драматургии. К пьесам такой неаристотелевской драматургии относятся "Святая
Иоанна скотобоен", "Что тот солдат, что этот", "Круглоголовые и
остроголовые" и ряд других. Одновременно началось обучение целого поколения
молодых актеров новому, эпическому стилю игры.
Мимическими приемами театр во многом обязан немому кино. Некоторые
элементы мимики и жеста снова вошли в арсенал театрального искусства.
Чаплин, начавший свою карьеру клоуном, был свободен от груза театральных
традиций, и он по-новому изобразил человека и его поведение.
Такое развитие театра и драматургии, а также применение некоторых очень
сложных технических приемов привело в конечном счете к более простому
изображению великих процессов. Не следует думать, что переплетение интересов
на хлебном рынке в Чикаго или в военном министерстве на берлинской
Бендлерштрассе менее сложно, чем процессы, происходящие в атоме, - а
известно, какие сложные методы необходимы для того, чтобы хоть как-то
описать эти процессы. Конечно, и в век науки методы театра, в том числе
самого современного, несравненно менее точны, чем методы физики, но и театр
должен рассказывать об окружающем мире так, чтобы зритель мог во всем
разобраться. Когда Брехт накопил достаточный опыт, ему удалось минимальными
средствами передать некоторые значительные и сложные процессы современности.
Пользуясь самыми скупыми изобразительными средствами, он сумел поставить
"Мать" - эту биографию, неразрывно сплетенную с историей. В это же время
известные результаты дала и целая серия экспериментов, которые, хотя в них
использовались средства театра, для своей постановки не нуждались в
настоящей сцене. Речь идет о педагогических экспериментах, то есть об
учебной пьесе.
В течение ряда лет Брехт вместе с небольшой группой помощников, уже вне
театра, слишком косного из-за необходимости ежевечерне торговать
развлечениями, пытался создать новый вид театрального представления, которое
могло бы оказать влияние на духовное формирование самих участников. В своей
работе он прибегал к помощи различных сценических средств и имел дело с
различными слоями общества. Речь идет о театральных представлениях, которые
устраивались скорее для участников, чем для зрителей. Это было искусство
прежде всего для его "производителей" и уже затем для "потребителя".
Например, Брехт написал несколько поучительных пьес для школ и крохотную
оперу "Говорящий "да", которую смогли поставить школьники.
Музыку к этим пьесам, соответствующую специфической задаче каждой из
них, написал Курт Вейль. Учебной была и пьеса Брехта "Полет Линдбергов",
которая требовала совместной работы школы и радио. По радио передавались
оркестровое сопровождение и партии солистов, а школьники целыми классами
пели хоры. Музыку к этой пьесе написали Хиндемит и Вейль. Она была показана
в 1929 году в Баден-Бадене на музыкальном фестивале. Опера "Баденская
поучительная пьеса", поставленная в 1930 году, была написана для мужского и
женского хора, но в ней предусмотрены также кинокадры и клоунада.
Композитором был Хиндемит. Еще одним, двенадцатым по счету, экспериментом
явилась пьеса "Мероприятие". В ее постановке приняли участие несколько
крупных артистов, а объединенный хор берлинских рабочих насчитывал почти
четыреста человек.
(Критика "Поэтики" Аристотеля)
Термин "неаристотелевская драматургия" нуждается в пояснении.
Аристотелевской драматургией, в отличие от которой противостоящая ей именует
себя неаристотелевской, называется всякая драматургия, на которую,
распространяется аристотелевское определение трагедии, данное им в основном
положении его "Поэтики". Известное требование трех единств мы не считаем
этим основным положением, да и сам Аристотель, как установили новейшие
исследования, вовсе не делает на нем особого акцента. Нам кажется, что
величайший общественный интерес представляет аристотелевское определение
цели трагедии, а именно катарсис, очищение зрителя от страха и сострадания
путем подражания действиям, возбуждающим страх и сострадание. Это очищение
происходит благодаря своеобразному психическому акту вживания зрителя в
судьбы и переживания лиц, воспроизводимых на сцене актером. Мы называем
драматургию аристотелевской, если это вживание в образ порождено самой
драматургией, независимо от того, достигнуто ли оно с помощью вышеупомянутых
правил "Поэтики" или без них. Своеобразный психический акт вживания в образ
в разные эпохи происходит совершенно по-разному.
Пока Аристотель (в четвертой главе "Поэтики") рассуждает о радости,
которую приносит предельно точное слияние с образом, и основным для этого
считает изучение действительности, мы согласны с ним. Но уже в шестой главе
он высказывается более определенно и ограничивает для трагедии сферу
подражания действительности. Подражать следует лишь действиям, вызывающим
страх и сострадание, и, что особенно ограничивает возможности трагедии, -
само подражание, по мысли Аристотеля, должно преследовать единственную цель:
уничтожение страха и сострадания. Становится очевидным, что подражание
актеров своим героям должно вызвать подражание актерам со стороны зрителей;
зритель воспринимает художественное произведение посредством вживания в
образ актера и уже через образ актера - в образ героя пьесы.
Мы, конечно, не считаем, что восприятие зрителем художественного
произведения, его сопереживание в понимании Аристотеля, происходило во
времена Аристотеля так же, как это имеет место сейчас, в эпоху
высокоразвитого капитализма. Но как бы мы ни понимали катарсис,
происходивший в те далекие времена при совершенно чуждых нам
обстоятельствах, мы вправе предположить, что у греков в основе катарсиса
лежал какой-то вид вживания. Трезвое, критическое, отталкивающееся от
реальных жизненных трудностей восприятие зрителя не является основой для
катарсиса.
4. ВРЕМЕННОЕ ЛИ ЯВЛЕНИЕ ОТКАЗ ОТ ВЖИВАНИЯ?
Нетрудно предположить, что отказ от вживания, на который наша
драматургия вынуждена была пойти, является абсолютно временным актом,
который объясняется трудным положением драматургии эпохи высокоразвитого
капитализма: ведь современной драматургии приходится изображать реальную
жизнь перед зрителем, ведущим острейшую классовую борьбу, при этом она,
драматургия, не имеет права ни на йоту смягчать жестокость этой борьбы.
Временный отказ от вживания сам по себе еще не говорит против него, по край-
ней мере, на наш взгляд. Однако маловероятно, чтобы вживание, так же как
религия, одной из форм которой оно является, завоевало прежнее положение.
Своим упадком вживание несомненно обязано общему упадку и загниванию
капиталистического строя, и пережить этот последний вживанию не дано,
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР И ИЛЛЮЗИЯ
В 1826 году Гете пишет о "несовершенстве английского театра" Шекспира.
Он говорит: "Здесь и в помине нет того требования естественности, к которому
мы постепенно привыкли благодаря улучшению театральной техники, искусства
перспективы и гардероба". Он спрашивает: "Кто согласится нынче на что-либо
подобное? При таких условиях драмы Шекспира были очень занятными сказками,
но сказками, распределенными между несколькими рассказчиками, которые, чтобы
произвести большее впечатление, надевали характерные маски, двигались по
мере надобности туда и сюда, приходили и уходили, предоставляя зрителю
воображать, что перед ним не пустая сцена, а рай или, если угодно, дворец".
С тех пор как это было написано, техника наших театров улучшалась в
течение ста лет, и "требование естественности" привело к такому
иллюзионизму, что мы, люди позднего времени, скорее согласились бы смотреть
на пустой сцене какого-нибудь Шекспира, чем автора, который не требует, да и
не будит воображения. Во времена Гете улучшение техники ради создания
иллюзии особых опасений не вызывало, ибо техника эта находилась еще в
"младенчестве начал" и была настолько несовершенна, что сам театр все еще
оставался реальностью, а воображение и выдумка все еще могли делать из
природы искусство. Места зрелищ были еще театрализованными выставками, где
постановщики художественно и поэтично воспроизводили тот или иной антураж.
Театр буржуазной классики находился в той счастливой промежуточной
стадии развития в сторону натуралистического иллюзионизма, когда техника
могла дать как раз столько элементов иллюзии, чтобы обеспечить более
совершенное воспроизведение природы, но еще не столько, чтобы зритель забыл,
что он вообще находится в театре, то есть когда искусство состояло в том,
чтобы создать видимость безыскусственности. Без электрической лампочки
световые эффекты были еще примитивны; если скверный вкус требовал красок
заката, то скверная техника делала это очарование неполным. Подлинный костюм
мейнингенцев, обычно пышный, хотя не всегда красивый, все же уравновешивался
неестественной речью. Короче говоря, по крайней мере в тех случаях, когда
иллюзии не получалось, театр еще показывал себя театром.
Восстановление реальности театра как такового является ныне
предпосылкой реалистического отражения социального бытия. При слишком
сильной иллюзии в отношении антуража и при "магнетической" манере игры,
манере, создающей иллюзию, будто ты оказался свидетелем случайного,
"взаправдашнего" события, происходящего вот сейчас, сию минуту, все
приобретает такую естественность, что ты уже не даешь воли своим суждениям,
своей фантазии, своим реакциям, а покоряешься зрелищу, сопереживаешь его и
делаешься объектом "природы". Иллюзия театра должна быть частичной, чтобы в
ней всегда можно было распознать иллюзию. Реальность, при всей ее полноте,
должна быть изменена уже и художественным ее воспроизведением, чтобы понять,
что ее можно и нужно изменить. Отсюда нынешнее наше требование
естественности: мы хотим изменить природу нашего социального бытия.
НЕБОЛЬШОЙ СПИСОК НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ И БАНАЛЬНЫХ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА.
Это искусственная, абстрактная, интеллектуалистская теория, не имеющая
ничего общего с действительной жизнью
В действительности она возникла из многолетней практики и неразрывно
связана с ней. Пьесы, служащие практическим подтверждением этой теории, шли
во многих городах Германии, а одна из них - "Трехгрошовая опера" - была
поставлена во всех крупных городах мира. Цитаты из "Трехгрошовой оперы"
служили заголовками для политических передовиц, были использованы
знаменитыми адвокатами в их речах на суде. Некоторые пьесы были запрещены
полицией, а одна получила высшую для драматургии премию - премию Клейста,
сама теория эпического театра обсуждалась на университетских семинарах и т.
д. Исполнялись эти пьесы как самодеятельными рабочими кружками, так и
крупнейшими профессиональными актерами. Существовал также специальный театр
на Шиффбауэрдамме, где играли такие артисты, как Елена Вайгель, Неер, Лорре
и другие, которые и выработали основные принципы. К этому надо добавить оба
театра Эрвина Пискатора, также внесшие свою лепту в разработку отдельных
принципов.
Нечего выдумывать всякие теории, надо писать драмы. Все остальное не
соответствует марксизму
Налицо примитивное смешение понятий идеологии и теории. При этом чаще
всего гордо ссылаются на те высказывания Маркса или Энгельса, которые сами
относятся к сфере теории. В другой области Ленин определил это как "ползучий
эмпиризм".
Эпический театр отметает все эмоции. Но ведь нельзя отделять разум от
чувства
Эпический театр не отметает эмоции, а исследует их и не ограничивается
их "сотворением". В разъединении разума и чувства повинен театр золотой
середины, практически вовсе отметающий разум. Его поборники при малейшей
попытке привнести в практику театра элементы разума поднимают крик, будто мы
собираемся искоренить чувства.
Идеи Брехта не новы. Это только так пишется:
"Новые идеи Брехта"
Обычно так говорят те, кто нападает на мои идеи отнюдь не потому, что
они стары, а у них самих есть идеи поновей. Чаще всего такие высказывания
принадлежат людям, ратующим за старые идеи и заинтересованным в том, чтобы и
чужие идеи тоже были не новее. В действительности поборники эпического
театра постоянно стремятся подтвердить некоторые из своих принципов
примерами из истории театра и делают все, чтобы снять налет мнимой новизны,
который позволил бы обвинить их в следовании моде. Принцип эпического театра
имеет мало общего с эстетикой немецких философов первой половины прошлого
столетия. Однако даже эта эстетика (Канта и Гегеля), как указывал и сам_
Маркс, обычно стоит на голову выше эстетических взглядов "марксистов",
которые на деле не знают и не понимают эстетики Канта и Гегеля, не говоря
уже об учении Маркса.
Мы, американцы (французы, датчане, швейцарцы и т. д.), должны создать свою
эстетику, основываясь на наших американских (французских, датских,
швейцарских и т. д.) драмах
Швейцарской драматургии не существует, французская существовала в
прошлом, американская и датская воспринимаются жителями Европы как чисто
европейская. Эпический театр долгое время называли "антинемецким",
национал-социалисты считали его просто выродившимся театром. С другой
стороны, капитализм - это нечто удивительно интернациональное, и, по общему
мнению, он привел к удивительной нивелировке в образе жизни народов разных
стран. О том, как можно учиться на чужих ошибках, см. книгу Ленина "Детская
болезнь "левизны" в коммунизме".
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Вот уже на протяжении по меньшей мере двух человеческих поколений
серьезный европейский театр переживает эпоху экспериментирования. Различные
эксперименты не дали пока никакого однозначного отчетливого результата,
эпоху эту еще ни в коем случае нельзя считать завершенной. По-моему,
эксперименты ведутся по двум линиям, которые порой пересекаются, но могут
быть рассмотрены порознь. Обе эти линии развития определяются двумя
функциями - _развлечения_ и _поучения_, то есть театр производил
эксперименты, которые должны были усилить его развлекательную сторону, и
эксперименты, повышавшие его познавательную ценность.
Что касается развлекательности, то в таком "динамическом", торопящемся
жить мире, как наш, прелести ее быстро приедаются. Возрастающему отупению
зрителя нужно постоянно противодействовать новыми эффектами. Чтобы развлечь
своего рассеянного зрителя, театр должен прежде всего заставить его сосредо-
точиться. Он должен вырвать его из шумной среды и подчинить своей власти.
Театр имеет дело со зрителем, который утомлен, опустошен рационализированным
дневным трудом, возбужден всякого рода социальными трениями. Этот зритель
убежал из своего собственного маленького мирка, он сидит в зале как беглец.
Он - беглец, но одновременно и клиент. Он может прибежать не только сюда, но
и куда-нибудь еще. Конкуренция одного театра с другим и театра с кино тоже
заставляет предпринимать все новые и новые усилия, чтобы казаться всегда
новым.
Глядя, на эксперименты Антуана, Брама, Станиславского, Гордона Крэга,
Рейнгардта, Йесснера, Мейерхольда, Вахтангова и Пискатора, мы видим, что они
поразительно обогатили выразительные средства театра. Его способность
развлекать безусловно возросла. Например, искусство ансамбля породило
необычайно чуткий и эластичный театральный организм. Социальную среду можно
обрисовать в мельчайших подробностях. Вахтангов и Мейерхольд позаимствовали
у азиатского театра определенные танцевальные формы и создали целую
хореографию для драмы. Мейерхольд осуществил радикальный конструктивизм, а
Рейнгардт использовал в качестве сцены так называемые естественные площадки:
он ставил "Каждого человека" и "Фауста" в общественных местах. Театры на
открытом воздухе ставили "Сон в летнюю ночь" прямо в лесу, а в Советском
Союзе попытались повторить штурм Зимнего дворца с участием крейсера
"Аврора". Барьер между сценой и зрителем оказался сорванным. В
рейнгардтовской постановке "Дантона" в Большом драматическом театре актеры
сидели в зрительном зале, а в Москве Охлопков посадил зрителей на сцену.
Рейнгардт использовал цветочную тропу китайского театра и вышел на цирковую
арену, чтобы играть прямо на манеже. Режиссура массовых сцен была
усовершенствована Станиславским, Рейнгардтом и йесснером, причем последний
своими лестничными конструкциями возвратил сцене ее третье измерение. Были
изобретены вращающаяся сцена и купольный горизонт, был открыт свет.
Прожектор принес богатые возможности освещения. Целая световая клавиатура
позволила словно волшебством вызывать "рембрандтовский" колорит. Некоторые
световые эффекты можно было бы назвать в истории театра "рейнгардтовскими",
подобно тому как в истории медицины определенная операция на сердце названа
"тренделенбургской". Появилось новое проекционное устройство, основанное на
принципе рассеивания, и существует новая шумовая режиссура. В актерском
искусстве были стерты грани между кабаре и театром, между ревю и театром.
Были проведены эксперименты с масками, котурнами и пантомимами.
Предпринимались далеко заводящие эксперименты со старым классическим
репертуаром. Снова и снова перекраивался и перелицовывался Шекспир. У
классиков отняли уже столько характерных черт, что они не сохранили почти ни
одной. Мы видели Гамлета в смокинге, а Цезаря в мундире, и по крайней мере
смокинг и мундир от этого выиграли и стали респектабельнее. Вы видите, что
эксперименты очень не равноценны, и самые броские из них не всегда
оказываются самыми ценными, но и наименее ценные не лишены ценности начисто.
Например, Гамлет в смокинге - это в отношении Шекспира едва ли большее
кощунство, чем обычный Гамлет в шелковых чулках. И то и другое остается
исключительно в рамках костюмной пьесы.
В общем, можно сказать, что эксперименты по повышению развлекательности
театра отнюдь не оказались безрезультатными. Прежде всего они привели к
усовершенствованию машинерии. К тому же они, как сказано, еще не кончились.
Более того, они еще не стали всеобщим достоянием, как то свойственно
экспериментам других институтов. Новая операция, осуществленная в Нью-Йорке,
очень скоро может быть проведена в Токио. С современной техникой сцены этого
не происходит. Явная робость художников все еще не позволяет им
непринужденно перенимать и разрабатывать результаты экспериментов других
художников. Подражание считается в искусстве бранным словом. В этом одна из
причин, по которым технический прогресс далеко не таков, каким он мог бы
быть. В целом театр далеко еще не доведен до уровня современной техники. В
большинстве случаев он все еще беспомощно довольствуется примитивным
устройством для вращения сцены, микрофоном и приспособлением из нескольких
автомобильных фар. Эксперименты в области актерского искусства также мало
используются. Лишь теперь тот или иной актер в Нью-Йорке начинает
интересоваться методами школы Станиславского.
Как же обстоит дело с другой, второй функцией, которой наделила театр
эстетика, - с поучением? И здесь экспериментируют, и есть определенные
результаты. Драматургия Ибсена, Толстого, Стриндберга, Горького, Чехова,
Гауптмана, Шоу, Кайзера и О'Нила является драматургией экспериментальной.
Это большие опыты по воплощению современности на театре {Разумеется, в
опытах по этой линии выдающуюся роль сыграли большие театры. У Чехова был
свой Станиславский, у Ибсена - Брам и т. д. Однако инициатива в вопросе
усиления познавательной роли театра принадлежала явно драматургии.}.
Мы располагаем социально-критической, "бытовой" драматургией, идущей от
Ибсена к Нурдалю Григу, символической драматургией, ведущей от Стриндберга к
Перу Лагерквисту. У нас есть драматургия, похожая на мою "Трехгрошовую
оперу", типа притчи с разрушительным вторжением в идеологию; есть у нас и
самобытные формы драмы, разработанные такими поэтами, как Оден и Кьель
Абелль, и содержащие - если рассмотреть их чисто технологически - элементы
ревю. Порой театру удавалось сообщить некоторые импульсы социальным
движениям (таким, как эмансипация женщин, защита законности, борьба за
гигиену и даже освободительное движение пролетариата). Надо, однако,
сказать, что проникновение театра в социальную жизнь было не особенно
глубоким. Это была действительно, как отмечалось критикой, более или менее
поверхностная симптоматология социальных явлений. Подлинные общественные
закономерности не вскрывались. К тому же эксперименты IB области драматургии
в конце концов привели к почти полному разрушению фабулы и образа человека.
Поставив себя на службу социально-реформистским устремлениям, театр лишился
многих своих художественных средств воздействия. Не без основания, хотя
часто с весьма сомнительными аргументами, жалуются на опошление
художественного вкуса и притупление чувства стиля. Действительно, в
результате разнообразных экспериментов в наших театрах получилось какое-то
вавилонское столпотворение стилей. На одной и той же сцене, в одном и том же
спектакле играют актеры совершенно различной техники. В фантастических
декорациях играют натуралистически. Сценическое слово оказалось в самом
печальном состоянии: ямб читается как будничная речь, рыночный жаргон
ритмизируется и т. д. и т. д. Настолько же беспомощным оказывается
современный актер по отношению к жестикуляции. Жестикуляция должна быть
индивидуальной, а оказывается всего лишь произвольной; она должна быть
естественной, а оказывается всего лишь случайной. Один и тот же актер
пользуется жестикуляцией, пригодной для цирка, и мимикой, разглядеть которую
из первого ряда партера можно только в бинокль. Итак, распродажа стилей всех
эпох, совершенно недобросовестная конкуренция всех возможных и невозможных
эффектов! Поистине, сказать, что нет никаких успехов, нельзя, но и сказать,
что они обошлись даром, тоже невозможно.
Теперь я подхожу к той фазе экспериментального театра, в которой все
упоминавшиеся выше усилия достигли своего самого высокого уровня и тем самым
кризиса. На этой фазе все как положительные, так и отрицательные явления
этого большого процесса проступили наиболее отчетливо. Итак, усиление
развлекательности наряду с развитием техники иллюзии, повышение
познавательной ценности и упадок художественного вкуса.
Самую радикальную попытку придать театру поучительность сделал
Пискатор. Я участвовал во всех его экспериментах, и среди них не было ни
одного, который бы не преследовал цели повысить поучительную ценность
театра. Речь шла о том, чтобы он непосредственно овладел большими
комплексами современных тем, таких, как 'борьба за нефть, война, революция,
правосудие, расовая проблема и т. д. Из этого вытекала необходимость полной
перестройки сцены. Здесь невозможно перечислить все открытия и новшества,
использовавшиеся Пискатором, которые он применял наряду почти со всеми
новейшими достижениями техники, чтобы вывести на сцену большие современные
темы. Вы, вероятно, знаете о некоторых из этих новшеств, например, о кино,
которое превращало застывший задник в нового участника действия наподобие
греческого хора; о ленте транспортера, заставлявшей двигаться планшет сцены,
благодаря чему можно было в эпической манере показать, например, как идет на
войну бравый солдат Швейк. Эти находки до сих пор не использованы
интернациональным театром. Электрическое оборудование сцены сегодня почти
забыто, вся хитроумная машинерия покрылась ржавчиной, и все поросло травой.
В чем причины?
Необходимо назвать политические причины краха этого в высшей степени
политического театра. Усиление политической познавательности столкнулось с
(Возраставшей политической реакцией. Мы же сегодня ограничимся рассмотрением
развития кризиса театра в области эстетики.
Сначала эксперименты Пискатора вызвали в театре полнейший хаос. Если
они превращали сцену в машинный зал, то зрительный зал превращался в зал
собраний. Для Пискатора театр был парламентом, а публика - законодательной
корпорацией. Перед этим парламентом наглядно ставились большие общественные
вопросы, настоятельно требовавшие решения. Вместо речи депутата по поводу
тех или иных невыносимых социальных условий выступала художественная копия
этих условий. Сцена задавалась честолюбивой целью - привести свой парламент,
публику, в такое состояние, чтобы на основании преподнесенных ему образов,
статистических данных, лозунгов он мог принять политические решения. Театр
Пискатора не брезговал аплодисментами, но гораздо больше желал дискуссий. Он
стремился не только доставить своему зрителю какое-то переживание, но и
добиться от зрителя практического решения, активно вторгнуться в жизнь. Для
этого все средства были хороши. Необычайно усложнилась техника сцены. У.
заведующего постановочной частью в театре Пискатора режиссерский план
отличался от плана рейнгардтовского так же, как партитура оперы Стравинского
отличается от партии певца, аккомпанирующего себе на лютне. Машинерия,
установленная на сцене Ноллендорф-театра, была настолько тяжела, что пол
сцены пришлось подкрепить железными и цементными стойками, а под ее сводом
было подвешено столько машин, что однажды он прогнулся. Эстетические
соображения были целиком и полностью подчинены политическим. Долой
написанные декорации, если их можно заменить фильмом, заснятым на месте
события и обладающим достоверностью документа. Даешь размалеванный картон,
если художник, например Георг Гросс, может сказать что-то важное парламенту
публики. Пискатор был готов даже в какой-то мере отказаться от актеров.
Когда германский кайзер через пятерых адвокатов заявил протест против
желания Пискатора поручить воплощение его персоны актеру, Пискатор только
спросил, не пожелает ли сам кайзер выступить у него; он предложил ему, так
сказать, ангажемент. Короче говоря, цель была настолько важной и большой,
что любые средства казались уместными. Созданию спектакля целиком
соответствовало и создание пьес. Над ними коллективно трудился целый штаб
драматургов, работа которых подкреплялась и контролировалась штабом
специалистов, историков, экономистов и статистиков.
Эксперименты Пискатора взорвали почти всю рутину. Они преобразующе
вторглись в творческий метод драматургов, в исполнительский стиль актеров, в
работу театрального художника. _Они стремились к совершенно новой
общественной функции театра вообще_.
Революционная буржуазная эстетика, основанная великими просветителями
_Дидро_ и _Лессингом_, определяет театр как место развлечения и поучения.
Эпоха Просвещения, способствовавшая значительному подъему европейского
театра, не знала никакого противоречия между развлечением и поучением.
Чистая развлекательность, даже в предметах чисто трагических, казалась
всяким Дидро совершенно пустой и недостойной, если она ничего не давала
зрителю, а поучительные элементы, разумеется в художественной форме, отнюдь
не казались им помехой развлечению, а делали, на их взгляд, развлечение
более глубоким.
Если же мы рассмотрим театр нашего времени, то найдем, что оба
конструктивных элемента драмы и театра, развлечение и поучение, все больше и
больше вступают в острый конфликт. Сегодня между ними уже существует
противоположность.
Уже натурализм с его "онаучиванием искусства", обеспечившим ему
социальное влияние, несомненно нанес ущерб художественной силе театра,
особенно фантазии, тяготению к игре и собственно поэтическому началу.
Элементы назидательности явно вредили элементам художественным.
Экспрессионизм послевоенной эпохи воплотил мир как волю и субъективное
представление и привел к своеобразному солипсизму. Он был ответом театра на
великий общественный кризис, подобно тому как махизм был ответом на него в
философии. Он был бунтом искусства против жизни, и мир существовал для него
только как причудливое видение, как порождение испуганного ума.
Экспрессионизм, весьма обогативший средства театральной выразительности и
принесший до сих пор еще не использованный эстетический урожай, показал
полную свою неспособность объяснить мир как объект человеческой практики.
Познавательная ценность театра свелась к нулю.
Назидательные элементы в спектаклях Пискатора или в постановке
"Трехгрошовой оперы" были, так сказать, вмонтированы; они не вытекали
органически из целого, а противоречили ему; они прерывали течение спектакля
л событий, они срывали вживание, они были холодными душами для
сочувствовавших. Я надеюсь, что морализирующие части "Трехгрошовой оперы" и
поучающие сонги в какой-то мере и развлекательны, но нисколько не
сомневаюсь, что развлечение это иное, нежели в игровых сценах. Характер этой
пьесы двойствен, поучение и развлечение в ней еще находятся на тропе войны.
У Пискатора на ней находились актер и машинерия.
Мы не будем здесь разбирать тот факт, что при подобного рода зрелищах
публика разбивалась по меньшей мере на две враждебные социальные группы, так
что единого художественного восприятия не было; это факт политический.
Удовольствие от учения зависит от положения данного класса. Художественный
вкус зависит от политической позиции, благодаря чему ее можно спровоцировать
и принять. Но даже имея в виду только ту часть публики, которая политически
идет за спектаклем, мы увидим, как обостряется конфликт между силой
развлечения и ценностью поучения. Это совершенно новый способ учиться,
который уже не вяжется со старым способом развлекаться. На дальнейшей стадии
экспериментов всякое усиление познавательности тотчас приводило к ослаблению
развлекательности. ("Это уже не театр, а народный университет".) С другой
стороны, воздействие на нервы зрителя эмоциональной игрой всегда угрожало
познавательной ценности спектакля. (В интересах поучения часто плохих
актеров приходилось предпочитать хорошим.) Другими словами, чем больше
бывали задеты нервы публики, тем меньше она оказывалась в состоянии
воспринимать поучение. Это означает, что чем больше подвигали публику на
соучастие, сочувствие, сопереживание, тем меньше замечала она взаимосвязей,
тем меньше училась, а чем больше преподносилось поучений, тем меньше
доставлялось ей художественного наслаждения.
Это был кризис. На протяжении полувека эксперименты, совершавшиеся
почти во всех цивилизованных странах, завоевали театру совершенно новый круг
тем и проблем, превратив его в фактор большого социального значения. Однако
они привели театр к такому состоянию, при котором дальнейшее развитие
познавательного, социального (политического) восприятия должно было
разрушить восприятие художественное. С другой стороны, без дальнейшего
развития познавательного восприятия все менее достижимым становился
художественный эффект. Развился такой технический аппарат и такой стиль
исполнения, который скорее мог создать иллюзию, чем передать опыт, скорее
опьянить, чем возвысить, скорее заморочить голову, чем просветить.
Чего стоила конструктивистская сцена, если она не была конструктивна
социально; чего стоят прекраснейшие осветительные устройства, если они
освещают лишь искаженные и ребяческие изображения мира; чего стоит
суггестивное актерское искусство, если оно служит лишь превращению X в Y?
Что толку в наборе волшебных средств, если они ничего, кроме искусственных
заменителей настоящих переживаний, дать не могут? Зачем без конца освещать
проблемы, которые всегда оставались неразрешенными? Щекотать не только
нервы, но и разум? Останавливаться на этом нельзя было.
Дальнейшее развитие наталкивало на слияние обеих функций: развлечения и
поучения.
Если все эти усилия претендовали на социальный смысл, то они в конечном
итоге должны были подвести театр к такому состоянию, чтобы он с помощью
художественных средств мог набросать образ мира, создать модели
человеческого общежития, которые позволили бы зрителю понять его социальную
среду и освоить ее разумом и чувствами.
Сегодняшний человек мало знает о закономерностях, управляющих его
жизнью. Как существо общественное, он реагирует в большинстве случаев
чувствами, но такая эмоциональная реакция расплывчата, не точна, не
эффективна. Источники его чувств и страстей столь же захламлены и
загрязнены, как и источники его знаний. Живя в быстро меняющемся мире и сам
быстро меняясь, сегодняшний человек не обладает картиной этого мира, которая
бы соответствовала действительности и на основании которой он мог бы
действовать с видами на успех. Его представления о человеческом общежитии
искажены, неточны и противоречивы; его образ мира, человеческого мира,
таков, что его можно было бы назвать непригодным для использования, то есть
с таким образом мира человек освоить этот мир не сможет, Человеку
неизвестно, от кого он зависит, он не умеет вторгаться в социальную межнику,
а это необходимо, чтобы добиться желаемого эффекта. Знание природы вещей,
необычайно и столь изобретательно расширенное и углубленное, без знания
природы человека, человеческого общества во всей его совокупности не в
состоянии превратить овладение природой в источник человеческого счастья.
Оно куда скорее станет источником несчастья. Поэтому великие изобретения и
открытия становились лишь все более страшной угрозой человечеству, и сегодня
почти каждое новое изобретение лишь поначалу принимается с торжествующим
криком, а потом он переходит в вопль страха.
До войны я пережил у радиоприемника поистине историческую сцену:
институт физика Нильса Бора в Копенгагене давал интервью в связи с
ошеломляющим открытием в области расщепления атома. Физики сообщали, что
открыт новый, неслыханный источник энергии. Когда корреспондент спросил,
возможно ли уже практическое использование опыта, ему ответили: нет, пока
еще нет. И тогда корреспондент с чувством величайшего облегчения сказал:
"Слава богу! Я в самом деле думаю, что человечество абсолютно не созрело еще
для обладания таким источником энергии!" Было очевидно, что он тотчас
подумал о военной промышленности. Физик Альберт Эйнштейн не заходит
настолько далеко, но все же заходит достаточно далеко, когда в нескольких
фразах, предназначенных для будущих поколений как информация о нашем времени
(капсула с этим текстом будет зарыта в землю в дни всемирной выставки в
Нью-Йорке), пишет следующее: "Наше время богато изобретательными умами,
открытия которых могли бы значительно облегчить нашу жизнь. С помощью силы
машин мы пересекаем моря, а также используем ее для освобождения людей от
всякой утомительной мускульной работы. Мы научились летать и способны с
помощью электрических волн распространять наши сообщения и новости по всему
свету. Однако производство и распределение товаров совершенно не
организовано, отчего каждый живет под страхом исключения из экономического
круговорота. Кроме того, люди, живущие в разных странах, через неравномерные
промежутки времени убивают друг друга, так что каждый, кто размышляет о
будущем, вынужден жить в страхе. Это происходит оттого, что интеллект и
характер масс несравненно ниже интеллекта и характера тех немногих, которые
производят ценности для общества".
Итак, тот факт, что освоение природы, в котором мы ушли далеко, не
приносит людям счастья, Эйнштейн объясняет тем, что люди в общем не научены
применять с пользой открытия и изобретения {Здесь нет необходимости подробно
критиковать технократическую точку зрения великого ученого. Разумеется,
самую большую пользу обществу приносят массы, а немногие изобретательные умы
весьма беспомощны перед экономическим кругооборотом товаров. В данном случае
нас удовлетворяет, что Эйнштейн и прямо и косвенно констатирует незнание
интересов общества.}. Они слишком мало знают о своей собственной природе.
То, что люди слишком мало знают о себе, виною тому, что их знания о природе
не приносят им пользы. Действительно, страшное угнетение и эксплуатация
человека человеком, кровопролитные войны и всякого рода "мирные" унижения
стали уже на всей планете чем-то чуть ли не естественным; однако по
отношению к этим естественным явлениям человек, к сожалению, вовсе не так
изобретателен и деятелен, как в отношении других явлений природы.
Бесчисленному множеству людей, например, большие войны представляются чем-то
вроде землетрясений, то есть стихийных бедствий, но в то время как с
землетрясениями люди справляются, они не могут справиться с самими собой.
Понятно, сколь много можно было бы выиграть, если бы, например, театр да и
вообще искусство были в состоянии дать практически полезную картину мира.
Искусство, которое сумело бы это совершить, глубоко вторглось бы в
общественное развитие; оно перестало бы сообщать всего лишь более или менее
смутные импульсы и открыло бы чувствующему и мыслящему человеку мир,
человеческий мир для практической деятельности.
Однако проблема эта оказалась во всех отношениях не простой. Уже самое
поверхностное исследование показывает, что искусству для выполнения его
задачи - возбуждения эмоций, создания определенных переживаний - совершенно
не нужны правдивые образы мира, точные картины столкновений между людьми.
Оно достигает эффекта и с помощью несовершенных, обманчивых или устаревших
образов мира. С помощью художественного внушения, которое оно умеет
использовать, искусство придает самым вздорным утверждениям о человеческих
отношениях видимость истины. Чем оно сильнее, тем меньше поддаются контролю
картины, им созданные. Логику заменяет воодушевление, доводы - красноречие.
Правда, эстетика требует определенного правдоподобия изображаемых событий,
ибо в противном случае произведение не окажет или почти не окажет
воздействия. Но при этом речь идет о чисто эстетическом правдоподобии, о так
называемой логике искусства. Поэту разрешено иметь собственный мир, у этого
мира собственные закономерности. Если те или иные элементы искажены, то
искажены должны быть и другие элементы, и принцип искаженности нужно
проводить довольно последовательно, чтобы спасти целое.
Искусство добивается этой привилегии - создавать собственный мир,
который может и не совпадать с другим миром, - благодаря одному
своеобразному феномену: основанному на внушении вживанию зрителя в артиста,
а через него в персонажей и события на сцене. Вот этот принцип вживания мы и
рассмотрим.
Вживание - вот краеугольный камень господствующей эстетики. Уже в
великолепной эстетике Аристотеля описывается, как катарсис, то есть душевное
очищение зрителя, достигается с помощью _мимезиса_. Актер подражает героям
(Эдипу или Прометею) и делает это с такой убедительностью, с такой силой
перевоплощения, что зритель подражает в этом актеру и таким образом начинает
обладать переживаниями героя. Гегель, создавший, насколько мне известно,
последнюю великую эстетику, указывает на способность человека испытывать при
виде вымышленной действительности такие же чувства, как и при виде
действительности подлинной. И вот я хочу сообщить вам, что ряд опытов по
созданию практически полезной картины мира средствами театра привел к
ошеломляющему вопросу: не следует ли для этого в большей или меньшей степени
отказаться от вживания?
Если человечество со всеми его отношениями, действиями, нравами и
институтами не рассматривать как нечто незыблемое, неизменяемое и если
занять по отношению к нему ту же позицию, Которую вот уже несколько веков
люди с таким успехом занимают по отношению к природе, - критическую,
рассчитывающую на перемены, нацеленную на овладение природой, - тогда
вживание применять нельзя. Вжиться в изменчивых людей, в устранимые
обстоятельства, в излечимую боль и т. д. невозможно. До тех пор пока в груди
короля Лира горит звезда его судьбы, шока он воспринимается неизменяемым, а
действия его изображаются обусловленными самой природой, совершенно
неизбежными, предопределенными роком, мы можем в Лира вживаться. Любая
дискуссия о его поведении так же невозможна, как для человека X века
невозможна была дискуссия о расщеплении атома.
Если между сценой и публикой устанавливался контакт на основе вживания,
зритель был способен увидеть ровно столько, сколько видел герой, в которого
он вжился. И по отношению к определенным ситуациям на сцене он мог
испытывать такие чувства, которые разрешало "настроение" на сцене.
Впечатления, чувства и мысли зрителя определялись впечатлениями, чувствами,
мыслями действовавших на сцене лиц. Сцена вряд ли могла вызывать иные
чувства, допускать иные впечатления, сообщать иные мысли, кроме тех, которые
она гипнотически представляла. Гнев Лира на его дочерей заражал и зрителя,
то есть, глядя на сцену, зритель мог испытывать только гнев, а не, скажем,
удивление или беспокойство, то есть другие чувства. Следовательно, о
справедливости гнева Лира судить было нельзя, как нельзя было предсказать
возможных его последствий. О нем нельзя было дискутировать, его можно было
только разделять. Таким образом, общественные явления выступали вечными,
естественными, неизменными и неисторическими феноменами и дискуссии не
подлежали. Употребляя слово "дискуссия", я подразумеваю под этим не
бесстрастное обсуждение какой-либо темы, а чистый процесс мышления. Речь шла
не о том, чтобы сделать зрителя просто-напросто равнодушным к гневу Лира.
Избавиться надо было лишь от непосредственного заражения этим гневом.
Например: гнев Лира разделяет его верный слуга Кент. Кент избивает слугу
неблагодарной дочери, который по ее приказу отказывается исполнить желание
Лира. А должен ли зритель нашего времени разделять этот гнев Лира и,
внутренне участвуя в избиении слуги, выполняющего приказ, одобрять это
избиение? Вопрос был вот в чем: как сыграть эту сцену, чтобы зритель,
наоборот, разгневался на гнев Лира? Только такой гнев, который вывел бы
зрителя из состояния вживания и ощутить который можно вообще только тогда,
когда зритель разрушит гипнотические чары сцены, может быть в наше время
социально оправдан. Именно об этом говорил великолепные вещи Толстой.
Вживание - это великое средство искусства эпохи, в которую человек -
величина переменная, а среда - постоянная. Вжиться можно только в того
человека, в груди которого горит звезда его судьбы, не похожей на нашу.
Нетрудно понять, что отказ от вживания был бы для театра великим
переломом, вероятно, самым большим из всех мыслимых экспериментов.
Люди ходят в театр для того, чтобы их захватили, зачаровали,
взволновали, возвысили, возмутили, увлекли, освободили, рассеяли, спасли,
возбудили, перенесли в другое время, наделили иллюзиями. Все это настолько
само собой разумеется, что искусство и определяется тем, что оно
освобождает, захватывает, возвышает и т. д. Оно перестает быть искусством,
если не делает всего этого.
Следовательно, вопрос стоит так: можно ли вообще наслаждаться
искусством без вживания или хотя бы на иной основе, чем вживание?
Что же могло бы служить этой новой основой?
Чем можно было бы заменить _страх_ и _сострадание_, эту классическую
пару, необходимую для получения аристотелевского катарсиса? Если отказаться
от гипноза, то к чему можно было бы апеллировать? Какую позицию должен
занять зритель в новых театрах, если ему отказать в мечтательно-пассивной
позиции, покорности судьбе? Зрителя нельзя уже уводить из его мира в мир
искусства, нельзя уже похищать, как ребенка; напротив, его нужно ввести в
его же реальный мир с ясной головой. Возможно ли страх перед судьбой
заменить, например, жаждой знания, а сострадание - готовностью оказать
помощь? Нельзя ли таким путем создать новый контакт между сценой и зрителем,
не может ли это стать новой основой для наслаждения искусством? Я не могу
описывать здесь ту новую технику построения драмы, построения сцены и
актерской игры, опыты с которой мы ставили. Принцип заключается в том, чтобы
вместо вживания ввести _очуждение_.
Что такое очуждение?
Произвести очуждение события или характера - значит прежде всего просто
лишить событие или характер всего, что само собой разумеется, знакомо,
очевидно, и вызвать по поводу этого события удивление и любопытство. Возьмем
снова гнев Лира на неблагодарность его дочерей. Используя технику вживания,
актер может представить этот гнев так, что зрителю он покажется самой
естественной вещью в мире, и зритель не сможет даже представить себе, как
это Лир способен был не разгневаться; зритель будет вполне солидарен с Лиром
и, полностью вжившись в него, также впадет в гнев. С помощью же техники
очуждения актер изобразит гнев Лира так, что зритель сможет ему удивиться и
представить себе другие реакции Лира, а не только его гнев. Поведение Лира
будет очуждено, то есть оно будет изображено самобытным, бросающимся в
глаза, примечательным, как общественное явление, которое отнюдь не
разумеется само собой. Такой гнев человечен, но не общечеловечен; есть люди,
которые его не испытают. Не у всех людей и не во все времена испытанное
Лиром должно вызывать гнев. Пусть гнев - вечно возможная человеческая
реакция, но данный гнев, выражающийся данным образом и вызванный данными
причинами, обусловлен определенной эпохой. Следовательно, очуждать - это
значит историзировать, изображать события и персонажи как нечто
историческое, преходящее. Разумеется, то же самое может произойти и с
современниками: их поведение тоже можно представить как обусловленное
эпохой, историческое, преходящее.
Что этим достигается? Этим достигается то, что зритель уже не видит на
сцене людей не подверженными никаким влияниям и переменам, беспомощными
перед судьбой. Он видит: данный человек таков, потому что таковы
обстоятельства. А обстоятельства таковы потому, что таков человек. Однако
этого человека можно представить себе и не таким, каков он есть, а другим,
каким он мог бы стать, и обстоятельства тоже можно представить себе иными,
чем они есть. В результате зритель обретает в театре новую позицию. По
отношению к картинам человеческой жизни он обретает теперь такую же позицию,
какую человек нашего века занимает по отношению к природе. Он и в театре
будет воспринимать мир с позиции великого преобразователя, который может
вмешиваться в процессы природы и процессы общественные, который не только
воспринимает мир, но и совершенствует его. Театр уже не пытается опьянить
зрителя, наделить его иллюзиями, заставить забыть собственный мир, примирить
с собственной судьбой. Теперь театр открывает ему мир для активных действий.
Техника очуждения разрабатывалась в Германии в новой серии
экспериментов. В берлинском театре на Шиффбауэрдамме предпринимались попытки
создать новый стиль исполнения. В этом участвовали наиболее одаренные актеры
молодого поколения. Речь идет о Вайгель, Петере Лорре, Оскаре Гомолке, Неере
и Буше. Опыты нельзя было проводить так методично, как (правда, в другом
направлении) в труппах Станиславского, Мейерхольда и Вахтангова (не было
государственной поддержки), но зато они проводились на более широком поле,
не только в профессиональном театре. Артисты участвовали в опытах, которые
ставились в школах, рабочих хорах, любительских кружках и т. д. С самого
начала вместе с профессионалами воспитывались и любители. Опыты привели к
большому упрощению аппарата, стиля исполнения и тематики.
Речь шла исключительно о продолжении прежних экспериментов, особенно
экспериментов театра Пискатора. Уже в последних опытах Пискатора
последовательное усовершенствование технического аппарата привело в итоге к
тому, что освоенная наконец машинерия сделала возможной прекрасную простоту
актерской игры. Так называемый _эпический_ стиль исполнения, выработанный
нами в театре на Шиффбауэрдамме, сравнительно быстро раскрыл свои
артистические качества, и _неаристотелевская драматургия_я занялась большими
социальными темами в больших масштабах. Теперь открылись возможности
превращения искусственных танцевальных и групповых элементов
мейерхольдовской школы в художественные, а натуралистических элементов школы
Станиславского в реалистические. Сценическое слово было объединено с
жестикуляцией, а повседневная речь и декламация стихов обрели свою форму на
основе так называемого _жестового принципа_. Было полностью
революционизировано оформление сцены. Вольное использование пискаторовских
принципов позволило создать поучающую и в то же время красивую сцену.
Оказалось возможным ликвидировать как символизм, так и иллюзионизм, а
_нееровский принцип_ построения декораций по выявленным на репетициях
потребностям позволил театральному художнику извлекать для себя выгоду из
игры актеров и влиять на нее. Драматург мог предпринимать свои опыты в
постоянном контакте с актером и художником, испытывая их влияние и влияя на
них. Одновременно художник и композитор вернули себе самостоятельность и
могли поставить на службу теме свои собственные художественные средства:
синтетическое произведение искусства выступило перед зрителями в отдельных
своих элементах.
_Классический репертуар_ с самого начала являлся базой для мйогих
опытов. Художественные средства очуждения открыли широкий доступ к живым
ценностям драматургов других эпох. Благодаря очуждению появилась возможность
поставить старые пьесы, развлекая и поучая, без разрушительной актуализации
и без музейного отношения к ним.
На современном любительском театре (рабочем, студенческом, детском)
особенно плодотворно оказывается освобождение его от необходимости
пользоваться гипнозом. Стало возможно провести границу между игрой любителей
и профессионалов, не покушаясь на основные функции театральной игры.
На этой новой основе можно было соединить такие разные манеры игры,
как, например, труппы Вахтангова и Охлопкова и рабочих трупп.
Разнообразнейшие эксперименты последнего пятидесятилетия получили, кажется,
базу для их реализации.
Однако описать эти эксперименты не так-то просто, а поэтому я здесь
просто ограничусь утверждением, что мы надеемся действительно осуществить
наслаждение искусством на основе очуждения. Это не так уж и удивительно,
поскольку - с точки зрения чисто технической - театры предшествующих эпох
уже достигали художественного воздействия с помощью эффекта очуждения,
например, китайский театр, классический испанский театр, народный театр
эпохи Брейгеля и елизаветинский театр.
Является ли этот новый стиль исполнения _искомым_ новым стилем;
является ли он законченной, доступной обозрению техникой, окончательным
результатом всех экспериментов? Ответ: нет. Это _один_ из путей, по которому
пошли _мы_. Опыты следует продолжать. Проблема эта стоит перед всем
искусством, и проблема гигантская. Решение, к которому мы стремились, лишь
_одно_ из возможных решений проблемы, которая сводится к следующему: как
сделать театр одновременно и развлекательным и поучающим? Как отторгнуть его
от торговли духовным дурманом и из очага иллюзий превратить в очаг опыта?
Каким путем несвободный, невежественный, жаждущий свободы и знаний человек
нашего века, мучимый, героический, унижаемый, изобретательный, изменяющийся
и изменяющий мир человек нашего ужасного и великого века сможет обрести свой
театр, который поможет ему усовершенствовать себя и мир?
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ АКТЕРСКОЙ ИГРЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ТАК
НАЗЫВАЕМЫЙ "ЭФФЕКТ ОЧУЖДЕНИЯ"
Ниже делается попытка описать технику актерской игры, которая была
использована в некоторых театрах [1] {Цифры в квадратных скобках обозначают
ссылки на примечания к тексту, сделанные Б. Брехтом в "Приложении"; см. стр.
108. (Прим. ред.)}, чтобы представить зрителю "очужденно" те события,
которые ему надлежит показать. Цель техники "эффекта очуждения" - внушить
зрителю аналитическое, критическое отношение к изображаемым событиям.
Средства - художественные.
Предпосылкой применения "эффекта очуждения" для названной цели является
освобождение сцены и зрительного зала от всего "магического", уничтожение
всяких "гипнотических полей". Поэтому мы отказались от попытки создавать на
сцене атмосферу того или иного места действия (комната вечером, осенняя
дорога) [2], а также от попытки вызвать определенное настроение
ритмизованной речью; мы не "подогревали" публику безудержным темпераментом
актеров, не "завораживали" ее псевдоестественной игрой; короче говоря, мы не
стремились к тому, чтобы публика впала в транс, не стремились внушить ей
иллюзию, будто она присутствует при естественном, не заученном заранее
действии. Как читатель увидит ниже, стремление публики впасть в подобную
иллюзию должно быть нейтрализовано определенными художественными средствами
[3].
Предпосылкой для возникновения "очуждения" является следующее: все то,
что актеру нужно показать, он должен сопровождать отчетливой демонстрацией
показа. Представление о некоей четвертой стене, которая якобы отделяет сцену
от публики, вследствие чего возникает иллюзия, будто события на сцене
происходят в действительности, без присутствия публики, - это представление,
разумеется, следует отбросить. При таких обстоятельствах актер в принципе
может обращаться непосредственно к публике [4].
Контакт между публикой и сценой обычно устанавливается на почве
_перевоплощения_. Актер целиком сосредоточивает свои силы на стремлении
осуществить этот, психологический акт и, можно сказать, видит в
перевоплощении основную цель своего искусства [5]. Уже из наших вводных
замечаний следует, что техника, которая вызывает "очуждение", диаметрально
противоположна технике, обусловливающей перевоплощение. Техника "очуждения"
дает актеру возможность не допустить акта перевоплощения.
Однако, стремясь представить определенных лиц и показать их поведение,
актеру не следует полностью отказываться от средств перевоплощения. Он
использует эти средства лишь в той степени, в какой всякий человек, лишенный
актерских способностей и актерского честолюбия, использовал бы их, чтобы
представить другого человека, то есть его поведение. Показ поведения других
людей происходит ежедневно при бесчисленных обстоятельствах (свидетели
несчастного случая показывают вновь подошедшим поведение потерпевшего,
шутники имитируют смешную походку приятеля и т. п.), причем лица,
показывающие других, не пытаются навязать своим зрителям какую бы то ни было
иллюзию. И все же они в известной степени перевоплощаются в изображаемых
лиц, усваивая их манеру поведения.
Как сказано, наш актер тоже использует этот психологический акт. Однако
в противоположность обычному методу игры, когда акт перевоплощения
осуществляется во время самого представления с целью побудить и зрителя
перевоплотиться, наш актер будет осуществлять акт перевоплощения лишь на
предварительной стадии, во время репетиционной работы над ролью.
Чтобы избежать слишком "импульсивного", беспрепятственного и
некритического представления лиц и событии, можно проводить больше, чем это
обычно принято, репетиций за столом. Актеру нельзя слишком рано "вживаться в
образ", он должен как можно дольше оставаться читателем (не превращаясь в
чтеца). Важным приемом является _запоминание первых впечатлений_.
Актер должен читать свою роль, сохраняя по отношению к ней удивление и
стремление возражать. Он должен положить на чашу весов не только ход
событий, о которых он читает, но и поступки своего персонажа, о которых он
узнает, и все своеобразие этих поступков; он не имеет права считать их
заранее данными, такими, которые "не могли бы быть иными", которые
"полностью вытекают из характера персонажа". Прежде чем запомнить слова
роли, он должен запомнить, чему он удивлялся и по поводу чего возражал.
Именно эти моменты должны быть отражены в его исполнении.
Когда актер выходит на сцену, он, показывая, что делает, должен во всех
важных местах заставить зрителя заметить, понять, почувствовать то, чего он
не делает; то есть он играет так, чтобы возможно яснее была видна
альтернатива, так, чтобы игра его намекала на другие возможности,
представляла лишь один из допустимых вариантов. Например, он говорит: "Ты за
это поплатишься" - и не говорит: "Я тебя прощаю". Он ненавидит своих детей,
а это значит, что он их _не_ любит. Он идет вперед налево, а не назад
направо. В том, что он делает, должно содержаться и отменяться то, чего он
не делает. Таким образом, всякая фраза, всякий жест означают решение;
персонаж остается под контролем зрителя, подвергается испытанию. Техническое
выражение для этого приема: _фиксирование "не - а"_.
Актер не допускает на сцене полного перевоплощения в изображаемый им
персонаж. Он не Лир, не Гарпагон, не Швейк, он этих людей показывает. Он
передает их высказывания со всей возможной естественностью, он изображает их
манеру поведения, насколько это ему позволяет его знание людей, но он отнюдь
не пытается внушить себе (а тем самым и другим), что он целиком
перевоплотился. Актеры поймут, чт_о_ именно имеется здесь в виду, если в
качестве примера игры без полного перевоплощения привести игру режиссера или
другого актера, который показывает какое-нибудь особо трудное место роли.
Поскольку речь не идет о его собственной роли, постольку он и не
перевоплощается полностью, он подчеркивает техническую сторону игры и
сохраняет при этом позицию советующего [6].
Если актер отказался от полного перевоплощения, то текст свой он
произносит не как импровизацию, а как цитату [7]. Ясно, что в эту цитату он
должен вкладывать все необходимые оттенки, всю конкретную человеческую
пластичность; также и жест, который он показывает зрителю и который теперь
представляет собой копию [8], должен в полной мере обладать жизненностью
человеческого жеста.
При методе игры с неполным перевоплощением способствовать "очуждению"
высказываний и поступков представляемого персонажа могут три вспомогательных
средства:
_1. Перевод в третье лицо.
2. Перевод в прошедшее время.
3. Чтение роли вместе с ремарками и комментариями_.
Использование формы третьего лица и прошедшего времени дает актеру
возможность соблюдать необходимую дистанцию между собою и персонажем. Кроме
того, актер сочиняет ремарки и комментарии к своему тексту и на репетиции их
произносит. ("Он встал и говорил сердито, потому что был голоден...", или:
"Он впервые слышал об этом и не знал, правда ли это...", или: "Он улыбнулся
и слишком беззаботно сказал...".) Произнесение ремарок в третьем лице
приводит к тому, что обе интонации сталкиваются друг с другом, причем вторая
(собственно, текст) подвергается очуждению. Кроме того, "очуждается" и
исполнение благодаря тому, что оно фактически осуществляется уже после того,
как было предвосхищено и охарактеризовано словами. Использование прошедшего
времени отодвигает говорящего на такую точку, с которой он может
оглядываться назад, на произносимую им реплику. При этом реплика тоже
"очуждается", в то время как точка зрения говорящего отнюдь не нереальна,
ибо в противоположность слушателю, актер ведь читал пьесу до конца и потому,
зная развязку, может с позиции последствий лучше судить о реплике, чем
слушатель, который знает меньше актера и которому данная реплика более
чужда.
Благодаря такому комбинированному методу текст "очуждается" на
репетициях и в целом остается "очужденным" и после, во время спектакля [9].
Необходимость и возможность варьирования самой манеры произнесения текста
следует из непосредственного обращения актера к публике, в зависимости от
большей или меньшей значимости той или иной реплики. Примером может служить
выступление свидетелей :на суде. Подчеркивание персонажами достоверности их
утверждений должно быть выражено особыми художественными средствами. Если
актер обращается прямо к публике, то это должно быть настоящим, в полном
смысле слова, обращением и не может быть "репликой в сторону" или монологом
старого театра. Чтобы извлечь из стиха полный "эффект очуждения", актер
поступит правильно, если сначала будет передавать содержание стихов
обыкновенной прозой, сопровождая ее, по возможности, жестикуляцией,
предназначенной для стихотворного текста. Смелая и красивая архитектоника
речевых форм "очуждает" текст. (Прозу можно "очуждать", произнося ее на
диалекте, родном для данного актера.)
О жесте речь пойдет ниже, однако здесь следует сказать, что все
эмоциональное должно быть выражено внешними приемами, то есть
соответствующими жестами. Актер должен найти внешнее, наглядное выражение
для переживания своего персонажа, по возможности такую манеру поведения,
которая выдает происходящие в нем движения души. Соответствующая эмоция
должна быть выделена, она должна стать самостоятельной, чтобы ее можно было
представить крупным планом. Особое изящество, сила, обаяние жеста
способствуют "очуждению".
Большого мастерства в использовании жеста достигло китайское
сценическое искусство. Китайский актер добивается "эффекта очуждения" тем,
что сам, открыто для зрителя, наблюдает за своими движениями [10].
То, чего достиг актер в смысле жеста, произнесения стиха и т. д.,
должно быть отработано, на всем этом должна лежать печать завершенности.
Должно возникнуть впечатление легкости, как результат преодоления
трудностей. Актер должен дать зрителю возможность без труда воспринять его,
актера, собственное мастерство, свободное преодоление им технических
затруднений. Актер в совершенной форме представляет зрителю событие так, как
оно, по его мнению, происходило в действительности или могло произойти. Он
не скрывает, что заучил его, подобно тому как акробат не скрывает
тренированности своих движений, он подчеркивает, что это его, актера,
высказывание, его мнение, его версия данного события [11].
Ввиду того что актер не отождествляет себя с персонажем, которого
изображает, он может избрать по отношению к этому персонажу определенную
позицию, выразить свое мнение по его поводу и побудить к критике зрителя,
который тоже уже не должен перевоплощаться [12].
Позиция, на которую он становится, является социально-критической
позицией. Толкуя события и характеризуя персонажи, актер выделяет те черты,
которые представляют общественный интерес. Так его игра становится
коллоквиумом (по поводу общественных условий) с публикой, к которой он
обращается. Он дает зрителям возможность в зависимости от их классовой
принадлежности оправдать или отвергнуть эти общественные условия [13].
Целью "эффекта очуждения" является: представить в "очужденном" виде
"социальный жест", лежащий в основе всех событий. Под "социальным жестом" мы
разумеем выражение в мимике и жесте социальных отношений, которые существуют
между людьми определенной эпохи [14].
Формулировка общественного значения события, которая дает обществу ключ
к пониманию, облегчается титрами к отдельным сценам [15]. Эти заголовки
должны носить исторический характер.
Здесь мы подходим к техническому приему, имеющему решающее значение, -
к _историзации_.
Актер должен изображать всякое событие как историческое. Историческое
событие - это событие преходящее, неповторимое, связанное с определенной
эпохой. В ходе его складываются взаимоотношения людей, и эти взаимоотношения
носят не просто общечеловеческий, вечный характер, они отличаются
специфичностью, и они подвергаются критике с точки зрения последующей эпохи.
Непрерывное развитие отчуждает нас от поступков людей, живших до нас.
Историк сохраняет дистанцию по отношению к событиям и позициям людей в
прошлом; такую же дистанцию должен сохранять и актер - и к событиям и к
отношениям современных ему людей. Эти события и этих людей он должен
представить нам "очужденно".
События и люди повседневной жизни, непосредственного окружения кажутся
нам чем-то естественным, потому что они привычны для нас. "Очуждение" их
имеет целью сделать их для нас броскими. Наука тщательно разработала технику
сомнения, недоверия к явлениям бытовым, "само собой разумеющимся", никогда
не возбуждавшим сомнений; нет никаких причин, чтобы искусство не усвоило
этой бесконечно полезной позиции. Такая позиция в науке явилась следствием
роста творческих сил человека, и в искусстве она должна возникнуть на той же
основе.
Что касается эмоциональной области, то опыты использования "эффекта
очуждения" в немецких спектаклях "эпического театра" показали, что и этот
метод актерской игры возбуждает эмоции, хотя и эмоции другого рода, нежели
вызываемые обычным театром. Критическая позиция зрителя - это позиция,
безусловно, эстетическая. "Эффект очуждения" кажется в описании менее
естественным, чем в живом воплощении. Разумеется, такой метод игры не имеет
ничего общего с ходовой "стилизацией". Главным 'преимуществом "эпического
театра" с его "эффектом очуждения" (единственная цель которого - так
показать мир, чтобы вызвать желание изменить его) является как раз его
естественность, его земной характер, его юмор и его отказ от всякой мистики,
которая испокон веков свойственна обычному театру.
[1] "Жизнь Эдуарда II Английского" по Марло ("Мюнхенер каммершпиле").
"Барабанный бой в ночи" ("Дойчес театр", Берлин). "Трехгрошовая опера"
(театр на Шиффбауэрдамме, Берлин). "Пионеры из Ингольштадта" (театр на
Шиффбауэрдамме, Берлин). "Расцвет и падение города Махагони", опера (театр
"Курфюрстендам" Ауфрихта, Берлин). "Что тот солдат, что этот"
("Штатстеатер", Берлин). "Мероприятие" ("Гросес шаушпильхауз", Берлин).
"Приключения бравого солдата Швейка" (театр Пискатора "Ноллендорф").
"Круглоголовые и остроголовые" ("Риддерзален", Копенгаген). "Винтовки Тересы
Каррар" (Копенгаген, Париж). "Страх и нищета Третьей империи" (Париж).
[2] Если в эпическом театре объектом представления становится
определенная атмосфера, потому что она объясняет те или иные действия
персонажей, то эта атмосфера должна подвергнуться "очуждению".
[3] Примеры механических средств: очень яркое освещение сцены (ввиду
того, что сумрак на сцене в сочетании с полной темнотой в зрительном зале
скрывает от зрителя его соседа, скрывает его самого от соседа и, таким
образом, в большей степени лишает зрителя спокойной трезвости), а также
_видимость источников освещения_.
[4] _Обращение актера к публике_. Обращение актера к публике должно
быть самым свободным и непосредственным. Просто ему нужно кое-что сообщить и
представить людям, и позиция просто сообщающего и представляющего должна
стать теперь основой всех его действий. В данном случае нет еще никакой
разницы, где он это рассказывает и показывает публике, - на улице, в комнате
или на сцене, на этих подмостках, специально сооруженных и приспособленных
для сообщений и представлений. Что из того, что на нем особый костюм и что
лицо его измазано гримом? Почему это так, он может с одинаковым успехом
объяснить как до игры, так и после. Но не должно возникать впечатления,
будто задолго до этого достигнута договоренность, согласно которой в
определенный час некие события должны здесь происходить так, словно они
происходят без предварительной подготовки, "естественным" образом;
договоренность, которая включает и условие о том, что никакой договоренности
якобы не было. Человек появляется перед залом и публично показывает какие-то
события, а вместе с тем и _самый показ_. Актер будет изображать другого
человека, но не так, не в такой степени, чтобы казалось, что он и есть тот,
другой человек, он не будет стремиться к тому, чтобы он сам, актер, был при
этом забыт. Его личность остается такой же обычной личностью, непохожей на
других, с присущими ей чертами, которая именно этим похожа на всех тех, кто
смотрит на данного актера.
[5] Ср. следующие высказывания известного датского актера Пауля
Реумерта:
"...Когда я чувствую, что _умираю_, когда я действительно это чувствую,
тогда это чувствуют и все другие; когда я делаю вид, что сжимаю в руке
кинжал и весь исполнен единственного желания - убить этого ребенка, все
содрогаются... Все это - проблема работы мысли, вызываемой чувствами, или,
если угодно, наоборот: чувство, могущественное, как одержимость, которое
превращается в мысль. Если это преобразование удается, тогда оно
заразительнее всего на свете и тогда все внешнее абсолютно безразлично..."
Ср. также высказывание Рапопорта в "Работе актера" ("Тиэтр уоркшоп",
октябрь, 1936):
"Для того чтобы найти в себе серьезное отношение к окружающей вас на
сцене неправде как к правде, вы должны это отношение оправдать. Найти
оправдание вы должны при помощи своей творческой фантазии.
...Возьмите любой предмет, скажем, шапку, положите ее на стол или на
пол и постарайтесь отнестись к ней как крысе, как бы поверить сценически в
то, что это уже не шапка, а крыса. Чтобы найти серьезное отношение к шапке
как к крысе, оправдайте три помощи вашей творческой фантазии, что это крыса,
какой величины, какого цвета, чем можно сделать в своем воображении шапку
похожей на крысу" {И. Рапопорт, Работа актера, "Искусство", М.-Л., 1939.
(Прим. ред.)}.
Можно подумать, что это учебник колдовства, однако это учебник
актерского искусства якобы по системе Станиславского. Позволительно
спросить: неужели метод, обучающий человека внушать публике, что она видит
крыс там, где таковых нет, неужели такой метод в самом деле приспособлен для
распространения истины? Можно без всякого актерского искусства, лишь
применив достаточное количество алкоголя, чуть ли не каждого человека
довести до того, что он везде будет видеть если не крыс, то, во всяком
случае, белых мышей.
[6] Одно из отличных упражнений: актер обучает своей роли других
актеров (ученика, актера другого пола, партнера, комика и т. п.). Режиссер
закрепляет в это время для него его поведение, поведение обучающего,
демонстратора. Кроме того, для актера только полезно, если он видит, как его
роль играет другой, и особенно поучительным для него будет исполнение его
роли комическим актером.
[7] _Цитирование_. Обращаясь непосредственно и свободно к зрителю,
актер дает своему персонажу возможность говорить и двигаться, он
рассказывает. Автор не должен стремиться к тому, чтобы зрители забыли, что
текст возникает не как импровизация, что он заучен наизусть и представляет
собой нечто неизменное; никакой роли актер не играет, ведь все равно никто
не считает, что он рассказывает о самом себе; ясно, что он рассказывает о
других. Он вел бы себя точно так же, если бы просто говорил по памяти. Он
цитирует то или иное действующее лицо, он является свидетелем на суде. Никто
не мешает ему обращать внимание публики на то, что высказывает с полной
непосредственностью персонаж, в поведении его есть известное противоречие
(если иметь в виду, кто стоит на сцене и говорит): актер говорит в
прошедшем, персонаж - в настоящем.
Есть еще и второе противоречие, более важное. Никто не мешает актеру
наделить персонаж именно теми чувствами, которые у того должны быть; и сам
он при этом не остается холодным, он тоже проявляет свои чувства, но совсем
не обязательно, чтобы это были те же чувства, которыми живет его персонаж.
Предположим, персонаж говорит нечто такое, что считает истинным. Актер же
может выразить и должен уметь выразить, что это - вовсе не истинно, или что
высказывание такой истины будет иметь роковые последствия, или что-либо
иное.
[8] Актеру "эпического театра" необходимо собирать материала больше,
чем это делалось до сих пор. Ему теперь не надо представлять себя королем,
ученым, могильщиком и т. д., но он должен представлять именно королей,
ученых, могильщиков; значит, ему надо вникать в действительность. В то же
время ему необходимо учиться имитировать, что в настоящее время отвергается
в школах актерского искусства, потому что имитация якобы "губит
самобытность".
[9] Создавая спектакль, театр может разными средствами добиться
"эффекта очуждения": Во время мюнхенского представления "Жизни Эдуарда II
Английского" отдельным сценам были впервые предпосланы заголовки,
оповещавшие зрителя о содержании. В берлинской постановке "Трехгрошовой
оперы" во время пения на экран проецировались названия песенок. В берлинской
постановке "Что тот солдат, что этот" на большие экраны проецировались
фигуры актеров.
[10] Эту обобщающую, собирательную игру лучше всего наблюдать во время
репетиций, которые непосредственно предшествуют спектаклю. На этих
репетициях актеры только "обозначают", только намечают мизансцены, только
дают намек на жест, только устанавливают интонации. Такие репетиции (их
нередко устраивают при замене исполнителя дублером, чтобы ориентировать
нового актера) имеют целью всего лишь взаимопонимание; значит, нужно еще
представить себе обращение к публике, однако не такое, которое носит
характер внушения. Следует понимать различие между игрой внушающей
(суггестивной) и убеждающей, пластической!
[11] В своей работе "О выражении ощущений у человека и животных" Дарвин
жалуется: изучение конкретных форм затруднено тем, что "когда мы оказываемся
свидетелями какого-либо глубокого переживания, наше сочувствие возбуждается
с такой силой, что мы забываем вести тщательное наблюдение или это
становится для нас почти невозможным". Здесь-то и должен начать свою
деятельность художник; состояние самого глубокого волнения он должен уметь
представить так, чтобы "свидетель", зритель, сохранил способность наблюдать.
[12] Свобода в обращении актера к своей публике заключается еще и в
том, что он не обращается с ней как с некоей единой массой. Он не сплавляет
ее в тигле эмоций в какой-то бесформенный слиток. Он не обращается ко всем
одинаково, он сохраняет разделения, существующие в публике, более того: он
усугубляет их. В публике у него есть друзья и враги, по отношению к одним он
дружелюбен, к другим - враждебен. Он становится на чью-либо сторону - не
всегда на сторону изображаемого им персонажа; но если он не за него, то он
против него, (По крайней мере это основная позиция актера, она тоже должна
меняться, должна быть различной по отношению к различным высказываниям
персонажа. Возможны и такие положения, когда все остается неразрешенным,
когда актер воздерживается от высказывания окончательных суждений, однако он
обязан и это отчетливо выразить в своей игре.)
[13] Когда король Лир (действие I, сцена I) в сцене раздела своего
королевства между дочерьми разрывает географическую карту, то акт разделения
таким образом "очуждается". Внимание зрителя сосредоточивается не только на
королевстве - Лир, обращаясь так недвусмысленно с государством, будто с
частной собственностью, проливает некоторый свет на основы феодальной
идеологии. В "Юлии Цезаре" тираноубийство Брута "очуждается" тем, что Брут,
произнося монолог, обвиняющий Цезаря в тиранстве, сам жестоко обращается с
рабом, который его обслуживает. Елена Вайгель в роли Марии Стюарт неожиданно
использовала распятие, висевшее у нее на груди, кокетливо обмахиваясь им,
как веером.
[14] "_Эффект очуждения" как явление повседневной жизни_. "Эффект
очуждения" - явление бытовое, встречающееся постоянно в повседневной жизни;
с его помощью люди обычно доводят разные явления до собственного сознания
или до сознания других; в той или иной форме его используют во время
обучения и на деловых конференциях. "Эффект очуждения" состоит в том, что
вещь, которую нужно довести до сознания, на которую требуется обратить
внимание, из привычной, известной, лежащей перед нашими глазами,
превращается в особенную, бросающуюся в глаза, неожиданную. Само собой
разумеющееся в известной степени становится непонятным, но это делается лишь
для того, чтобы потом оно стало более понятным. Чтобы знакомое стало
познанным, оно должно выйти за пределы незаметного; нужно порвать с
привычным представлением о том, будто данная вещь не нуждается в объяснении.
Как бы она ни была обычна, скромна, общеизвестна, теперь на ней будет лежать
печать необычности. Мы применяем простейший "эффект очуждения", когда
спрашиваем кого-либо: "Ты когда-нибудь рассматривал внимательно свои часы?"
Спрашивающий меня знает, что я часто смотрю на них, но вопросом своим он
разрушает привычное для меня, а потому и ничего уже мне не говорящее
представление о часах. Я часто смотрел на них, чтобы установить время, но
когда меня настойчиво, в упор спрашивают, то я понимаю, что не смотрел на
свои часы взглядом, исполненным удивления, и что они во многих отношениях
механизм удивительный. Точно так же обстоит дело и с простейшим "эффектом
очуждения", когда деловое совещание открывается словами: "Думали ли вы
когда-нибудь о том, что делается с отходами, изо дня в день стекающими из
вашей фабрики вниз по реке?" Эти отходы до сих пор весьма заметно стекали по
реке: их сбрасывали в воду, используя для этой цели и машины и людей; река
от них -кажется совершенно зеленой; их уносило водой, и они были очень
заметны, но именно как отходы. То были отходы производства, но теперь они
сами должны стать производственным сырьем, и взгляд с интересом
останавливается на них. Вопрос придал взгляду на отходы "очужденный"
характер, в этом и была его задача. Простейшие фразы, в которых
употребляется "эффект очуждения", - это фразы с "не - а" (он сказал не
"войдите", а "проходите дальше"; он не радовался, а сердился), то есть
существовало некое ожидание, подсказанное опытом, однако наступило
разочарование. Следовало думать, что... но, оказывается, этого не следовало
думать. Существовала не одна возможность, а две, и приводятся обе; сначала
"очуждается" одна - вторая, а потом и первая. Чтобы мужчина увидел в своей
матери жену некоего мужчины, необходимо "очуждение"; оно, например,
наступает тогда, когда появляется отчим. Когда ученик видит, как его учителя
притесняет судебный исполнитель, возникает "очуждение"; учитель вырван из
привычной связи, где он кажется "большим", и теперь ученик видит его в
других обстоятельствах, где он кажется "маленьким". "Очуждение" автомобиля
может возникнуть в том случае, если мы, давно уже пользующиеся современной
машиной, вдруг сядем в старую фордовскую модель; тогда мы неожиданно снова
услышим взрывы: да ведь это двигатель внутреннего сгорания! Мы снова
начинаем удивляться, что такая повозка, да и вообще какая бы то ни было
повозка, может передвигаться без помощи лошади - словом, мы начинаем
понимать автомобиль как нечто чуждое, новое, как конструктивное достижение,
то есть как нечто неестественное. Таким образом, в -понятие "природа", куда,
несомненно, входит и автомобиль, неожиданно включается понятие
"неестественного"; теперь оказывается, что природа прямо-таки переполнена
неестественными вещами.
Слово "действительно" тоже может служить для целей "очуждения". ("Его
действительно не было дома; он так сказал, но мы не поверили и посмотрели";
или так: "Мы бы не поверили, что его "ет дома, но это действительно так".)
Слово "собственно" тоже служит "очуждению". ("Я, собственно, не согласен".)
Определение эскимоса - "автомобиль - это бескрылый, ползающий по земле
самолет" - тоже "очуждает" автомобиль.
Предшествующее рассуждение привело к тому, что самый "эффект очуждения"
оказался в известном смысле "очужденным"; мы хотели довести до сознания
читателя обыкновенную, повседневно встречающуюся в быту операцию, осветив ее
как нечто особенное. Но мы достигли успеха только в отношении тех, кто
"действительно" понял, что эффект этот достигается "не" всяким
представлением, "а" лишь представлением особого рода: он, "собственно
говоря", нечто обычное.
[15] Примеры таких титров: "Маклер Сулливан Слифт показывает Иоанне
д'Арк, как дурны бедняки"; "Речь Пирпоята Маулера о бессмертии капитализма и
религии" ("Святая Иоанна скотобоен"); "Новый Анабазис: Бравый солдат Швейк
шагает по направлению к своей части, но не доходит до нее"; "Осуждение
тираноубийства солдатом Швейком" ("Приключения бравого солдата Швейка").
Эти титры появляются и перед более длинными сценами. Приведу как пример
дополнительного деления сцены, идущей пятнадцать и более минут, титры,
использованные во второй сцене пьесы "Мать".
Очуждение как понимание (понимание - непонимание-понимание), отрицание
отрицания.
Накопление неясностей, пока (не наступает полная ясность (переход
количества в качество).
Частное в общем (случай в своей исключительности, неповторимости, при
этом он типичен).
Момент развития (переход одних чувств в другие чувства противоположного
свойства, критика и вживание в образ в неразрывном единстве).
Противоречивость (данный человек в данных обстоятельствах, данные
последствия данного действия!).
Одно понимается через другое (сцена, вначале самостоятельная по смыслу,
благодаря ее связи с другими сценами обнаруживает и другой смысл).
Скачок (saltus naturae, эпическое развитие со скачками).
Единство противоположностей (в едином ищут противоречия, мать и сын - в
"Матери" - внешне едины, но они борются друг с другом из-за денег).
Практическая применимость знаний (единство теории и практики).
1. О МЕТОДЕ ПОСТЕПЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗА
Актер не должен злоупотреблять фантазией. Переходя от реплики к
реплике, постепенно примериваясь к изображаемому персонажу, выискивая в
каждой сцене, в каждой фразе, которую он должен произносить или выслушивать
по ходу действия, все, что соответствует или, противоречит характеру этого
персонажа, актер строит образ. Этот постепенный процесс изучения актер
должен прочно запечатлеть в памяти, чтобы в результате он мог показать
зрителю весь сложный путь развития образа. Постепенность важна не только для
показа тех изменений, которые претерпевает образ в различных ситуациях
пьесы, но и для более полного раскрытия этого образа перед зрителем, чтобы
сохранить крохотные, но существенные неожиданности, уготованные зрителю и
заставляющие его непрерывно делать для себя открытия и менять свой взгляд на
вещи. Чтобы помочь в этом зрителю, актеру необходимо хорошо запомнить все те
открытия в характере персонажа, которые он сделал, готовя свою роль. Такой
постепенный процесс лучше, чем дедуктивный, производный, при котором актер,
исходя из беглого, основанного на мимолетном просматривании роли, общего
представления об изображаемом персонаже, уже потом ищет в "материале" пьесы
основы для создания образа. В результате многое из "материала" остается
неиспользованным, многое искажается и потому не дает должного эффекта. Такой
способ знакомства с человеком никак нельзя рекомендовать. Поступая так,
актер не дает зрителю ни малейшего представления о том, как сам он,
исполнитель, пришел к пониманию образа. Вместо того чтобы меняться на глазах
у зрителя, он показывает лишь конечный результат изменения, предстает как
существо, не подвергшееся и, следовательно, как бы не подверженное никаким
воздействиям, как некий обобщенный, абсолютный, абстрактный человек. То
суждение, которое можно вынести об этом персонаже, ничего в нем не меняет.
Однако такие суждения совершенно бесполезны, и их нельзя допускать. Да в
этом случае дело обычно и не доходит до суждений, а лишь до эмоций. Поступая
так, актеры, вместо точных данных и полезного представления о персонаже,
оставляют какое-то расплывчатое, "увеличительное" воспоминание о нем, так
называемый миф. Они дают копию вместо оригинала, они дают воспоминание,
вместо того чтобы стать таковым. Чтобы заполнить живым содержанием такую
раздутую, неестественно громадную форму, обычно недостаточно ни средств
"материала", ни средств исполнителя, и широко задуманное зрелище выливается
в обыкновенную халтуру. И тем не менее актеры от природы больше склонны к
этому дедуктивному методу, особенно потому, что они очень рано, иногда уже
на первой репетиции, могут играть актера, точнее, тот тип актера, который им
представляется наиболее достойным подражания и который они особенно хотят
играть - даже больше, чем данную конкретную роль. В таких количествах
фантазия уже приносит вред. Но при индуктивном, постепенном методе она
необходима. Переходя от реплики к реплике, актер, готовящий роль, все время
обращается к фантазии, которая вновь и вновь выводит перед его внутренним
взором все более определенные и четкие, почти законченные контуры персонажа,
который в такой-то и такой-то ситуации мог бы (произнести такую-то и
такую-то фразу. Но все построения (решения), подсказанные забегающей вперед
и потому подчас опрометчивой фантазией, должны быть самым серьезным и
объективным образом приведены в соответствие с ситуациями и репликами,
которые следуют дальше по ходу действия и которые могут внести в них
существенные коррективы. И насколько неправильно поступает актер
дедуктивного направления, слишком рано ориентируясь на некий основной тип,
настолько разумно действует актер направления индуктивного, опираясь на
отдельные "черты". Вся подготовительная работа, сочетающая в себе и фантазию
и анализ фактов, направлена на то, чтобы создать конкретный, живой образ,
показать его в развитии.
2. МОЖЕТ ЛИ АКТЕР ПОСТЕПЕННЫМ РАСКРЫТИЕМ ОБРАЗА УВЛЕЧЬ ЗРИТЕЛЯ?
Метод постепенного раскрытия образа может показаться мелочным. Актера
может тревожить мысль, что таким путем ему никогда не удастся "увлечь"
зрителя. Не лишат ли те усилия, которые он затрачивает и результат которых
ему даже рекомендуется подчеркнуть в самом образе, не лишат ли они этот
образ бесконечно важной видимости отсутствия всяких усилий? Эта тревога идет
от неправильного понимания процесса "увлечения". Для того чтобы увлечь,
необходимо, чтобы тот, кого надо увлечь, упорствовал, не поддавался
увлечению. Успех увлекающего зависит от его способности увлекать и от
твердости, упорства того, кого он хочет увлечь. Ту трезвость, которую он
хочет превратить в опьянение, он должен прежде создать. Высота подъема
заметна по отношению к той плоскости, от которой происходит подъем. Увлекая,
нужно увлекательно показать увлекаемому самый процесс увлечения. Это нужно
ему по меньшей мере в такой же степени, как самое состояние увлеченности. С
другой стороны, увлекающий должен создать впечатление надежности,
достоверности, потому что зритель, забывающий в этот момент все на свете,
рассчитывает, что на него можно положиться.
Изучать роль лучше всего постепенно. Но под каким углом зрения, для
кого, для какой цели необходимо изучение и построение образа?
Когда актер, готовя роль, пытается с минимальной мерой душевного
участия передать поведение персонажа в наиболее удобной для себя манере,
сосредоточив основные усилия на поисках выразительных жестов, он благодаря
своей готовности к неожиданностям выявляет в отдельных мелких черточках
типическое и в то же время специфическое в своем герое. (Готовность к
неожиданностям - это техника, причем очень важная для актера, и ею можно
овладеть. Поскольку основная задача актера состоит в том, чтобы сделать
некоторые вещи поразительными, он должен прежде всего сам поражаться этим
вещам.) Тщательно и с интересом (все это манеры, которым можно обучиться,
они естественны и необходимы, как движения, которые делает столяр у
верстака), причем с интересом даже тогда, когда он ищет в сфере
трагического, актер пытается прежде всего объединить черты, противоречащие
друг другу. Его задача состоит в том, чтобы совместить все эти черты,
привести их в равновесие в характере какого-то определенного, отличного и
удобоотличаемого от других действующих лиц персонажа, но ему не позволено
ради более удобного соединения этих черт игнорировать отдельные, отчетливо
заметные черты, то есть исходить из некоего кажущегося ему главным
представления о целом. Именно "непригодные", противоречащие другим черты он
должен использовать для создания образа. И как цельная уже и еще полная
противоречий личность, он, хотя и подчинен действию и позволяет, так
сказать, все с собой делать, но все же не растворяется в действии целиком.
Более того, он задерживает ход действия почти в такой же степени, как
продвигает его, он идет вместе с действием, то застывая, то плетясь за ним,
то даже заставляя тащить себя. Потому что отдельные черты в его поведении
взяты не только из данной пьесы, из "мира поэта"; актер (перенося
определенную черту из "мира поэта" в другой, а именно реальный, знакомый
ему, актеру, мир) придает этой черте особое, выходящее за рамки пьесы и не
совсем растворяющееся в ней значение.
Но под каким углом зрения, для кого, для какой цели актер совершает
такой постепенный отбор черт? Он выбирает их так, чтобы знание этих черт
облегчало ему проникновение в образ. Следовательно, извне, с точки зрения
внешнего мира, окружающих, с точки зрения общества. Стало быть, актер
ориентируется на объективное поведение персонажа, на те его поступки,
которые заметны всем. Но есть еще другая, противоречащая первой возможность
поведения персонажа, о которой мы уже говорили и которая также обусловлена
классовым положением и обстоятельствами (для показа этой возможности
применяется техника альтернативы, намека на другие варианты), но которая у
данного персонажа не реализуется: актер должен сделать ее видимой. Итак,
"черты" - это в известной мере шахматные ходы фигур, а не просто черты
характера (реакция на раздражение), абсолютные и ни от чего не зависящие.
Там, где речь идет о чертах характера, необходимо показать их как результат
воздействия окружающей среды. Черты имеют общественные причины и
общественные следствия. Только построенные из таких черт образы будут
реальными, и актер сможет показать их связь с окружающим миром.
4. РАЗЛИЧИЕ, ПОКАЗАННОЕ РАДИ РАЗЛИЧИЯ
Мы уже говорили, что актер не может строить образ только на основании
того, как ведет себя изображаемый персонаж в пьесе. Совсем недостаточно
разработать образ лишь настолько, насколько это необходимо по ходу действия
данной пьесы. В нем должно быть еще что-то конкретное, неповторимое,
позволяющее догадываться, что в определенных социальных условиях это лицо
может действовать и по-другому. Или же, показывая, что персонаж действует
так, а не иначе, актер должен дать понять, что именно это действие может
быть совершено людьми совсем другими, не похожими на данное конкретное лицо,
то есть он добивается, чтобы можно было сказать: вообще-то так действуют
совсем другие люди. Вместе с тем актер не должен преувеличивать это отличие
его персонажа от других.
Вывод "До чего же все-таки различны люди!" - весьма однобокий вывод.
Сделать его необходимо, когда пытаются отрицать, что для того, чтобы
побудить людей к чему-то или дать им побудить к чему-то себя, нужно
учитывать особенности каждого. Но этот однобокий вывод иногда преподносится
как истина в последней инстанции, а тем самым отрицается, что поведение
людей можно заранее предсказать. Как раз изучив их конкретные различия,
можно наперед сказать, как они себя поведут, и различия их должны быть
истолкованы именно ради этого предсказания. Совершенно неправильно придавать
мысли "Как различны люди!" оттенок невозможности такого предсказания и
воображать, будто подобные выводы обогащают человека. Те, кто напирает на
этот вывод, находят удовлетворение в многообразии, в не поддающейся никаким
влияниям силе человека, утверждая, что он может развиваться в самых
невероятных направлениях; совершенно беспомощные перед этим плодотворным
многообразием, они тешат себя и других (по сути, не ударяя палец о палец)
причастностью к этому плодотворному многообразию. Они мельчат человека,
чтобы возвеличить человечество. Но это глупый самообман. Потому что в
действительности они извиняют тем самым свою собственную подверженность
всяким влияниям и полное неумение влиять на других и застывают в изумлении
сами перед собой. Как будто человечество не состоит из них самих!
Таким образом, актер должен не фетишизировать мысль о различии людей, а
сразу же стараться приблизить вопрос к разрешению: так в чем же конкретно
состоит это различие?
При историческом подходе к человеку обнаруживается, что человек таит в
себе нечто двойственное, незавершенное. Он предстает не в одном, а в
нескольких обличьях; он хотя и такой, какой он есть, ибо несет в себе черты
своей эпохи, но, будучи сыном этой эпохи, он в то же время и другой, если
перенести его в иной век, если его формирует другое время. Если он сегодня
такой, значит вчера он был другим. Он приобрел то, что в биологии называется
пластичностью. В нем сосредоточено многое, что развивалось и может
развиваться дальше. Он уже изменился, стало быть, может меняться и впредь.
Если же он не может больше изменяться, по крайней мере коренным образом, то
и это завершает его облик. Но в действительности о таком состоянии
неизменяемости можно говорить только в том случае, если рассматриваются
большие общественные формации.
Итак, актеру необходимо придать своему голосу обилие обертонов. Его
историзированный человек говорит как бы со многими отголосками, которые
нужно представить себе одновременными, но с изменениями в содержании.
Если, таким образом, характер персонажа показан исторически, как нечто
связанное с определенной эпохой и потому преходящее, если этот персонаж,
отвечая, дает только один из многих ответов, которые должны резонировать, а
другие ответы, которых он сейчас не дает, он мог бы дать при других
обстоятельствах, то разве такой образ не означает любого человека? В
зависимости от эпохи или классовой принадлежности каждый отвечает
по-разному; если человек жил в другое время или еще не так долго или где-то
в тени, то он непременно ответит по-другому, но так же определенно, как
ответил бы всякий в этом положении и в этот период: как же тут не спросить,
нет ли еще других различий в ответе? Где он сам, живой, неповторимый, тот,
который не вполне равен себе подобным, находящимся в таком же положении?
Сомнений нет, такое неповторимое я должно быть представлено. Тот, чьи
реакции мы здесь видим, может показать не только свое я (актера) и ты
(зрителя), но в других обстоятельствах. Его изображение как человека
определенного класса и определенной эпохи невозможно без изображения его как
особого живого существа внутри своего класса и эпохи. Возьмем религиозность
какого-то человека, например рабочего. Крупная промышленность в гигантских
масштабах расправляется с религиозными представлениями рабочих; но каждый
отдельный рабочий в таких вопросах ведет себя очень по-разному. Мы должны
попытаться объяснить его позицию, если она отличается от общей позиции,
различиями общественного характера, но это может остаться сугубо
теоретическим рассуждением, то есть при определенных обстоятельствах у нас
может не быть общественных мер, которые сумели бы изменить его позицию и
приблизить ее к общей, классовой. На практике (общественная трактовка) в
таких случаях мы сталкиваемся с чем-то неподвижным, с амальгамой, которая не
поддается нашим инструментам, с чем-то, что нам приходится тащить с собой в
наше изображение, что составляет часть этого человека. Обертоны к его
ответам будут исходить уже не от него самого в другой ситуации или в другое
время, а от других, непохожих на него людей.
ОТНОШЕНИЕ АКТЕРА К ПУБЛИКЕ
Отношение актера к публике должно быть совершенно свободным и
непосредственным. Он просто хочет что-то сообщить и представить ей, и
позиция просто сообщающего и представляющего должна теперь стать основой
всех его действий. Тут безразлично, где он сообщает и показывает: на улице,
в комнате или на сцене, этой специально отмеренной для сообщений и
представлений площадке. Ничего не значит, что он уже в специальном костюме и
в гриме; причины этого он может с равным успехом объяснить и до
представления и после него. Лишь бы не возникло впечатления, будто уже давно
существовала договоренность, что в назначенный час здесь должны произойти
некие события, причем произойти так, словно они действительно происходят
именно сейчас, без подготовки, "естественным образом"; договоренность,
включающая в себя и условие о том, что якобы не было никакой договоренности.
Просто кто-то выходит и что-то откровенно показывает публике, в том числе и
самый показ. Актер будет изображать другого человека, но не так, не в такой
степени, как будто он и есть этот человек, не с намерением заставить зрителя
забыть при этом о нем, актере. Личность актера остается такой же обычной,
непохожей на других, личностью, со всеми своими чертами, именно этим он
похож на тех, кто сидит в зале. Это необходимо сказать, потому что это вовсе
не является чем-то обычным. Актер, как правило, не привык непосредственно,
даже подчеркнуто прямо обращаться к зрителю с тем, что он делает, смотреть
на зрителя прежде, чем он начнет свое представление. Это непосредственное
общение, это "Смотри-ка, что теперь делает тот, кого я перед тобой
изображаю", это "Ты видел?", "Что ты об этом думаешь?", использованное
художником в самых разнообразных оттенках, поможет отбросить все
примитивное, застывшее; оно необходимо, оно является основой эффекта
очуждения, и никаким другим способом добиться этого эффекта нельзя.
Почему актер должен давать зрителю возможность эмоций, если он может
дать ему возможность познания?
От актера можно, конечно, требовать, чтобы, испытывая грусть, он
заставлял грустить зрителя, но в этом случае актер развяжет лишь фантазию
зрителя, вместо того чтобы добавить что-то к его знаниям, а последнее
важнее. Могут сказать, что тот, кто что-то переживает, тем самым уже
умножает свои знания, но это как раз и нехорошо: пусть зритель лучше
научится пренебрегать своими чувствами и узнает чувства других! Даже свои
собственные чувства он узнает лучше, если их ему представят как чувства
других! Для этого актеру необходимо быть техничным, он обязан показать, что
существует и другая возможность поведения (определенного лица в определенных
обстоятельствах), не совпадающая с тем, что он в данный момент изображает.
Таким образом, актер должен сразу показать то, что видит в нем каждый
из выступающих вместе с ним на сцене, то есть тот, кто не отождествляет себя
с ним. Так, например, если актер хочет изобразить испуг, то ему лучше
показать попытку преодолеть или скрыть этот испуг. Актер, который действует
таким образом, общается со зрителем, вместо того чтобы только "быть".
Создавая образ, актер должен прежде всего знать отношения между данным
персонажем и другими людьми.
Это очень важно, потому что в любой группе людей отдельный человек
оценивается по тому, как он проявит себя по отношению к этой группе и что
сделает для нее, и может только по лицу другого увидеть, какие чувства он в
нем пробуждает. Недостаточно только быть. Характер человека определяется его
функцией.
Актерское искусство, преследующее эту цель, больше связано со всей
совокупностью действий, чем с отдельными приемами. Таким образом, и слова
должны быть подчинены совокупности действий.
Если ты показываешь: "Это так", то покажи таким образом, чтобы зритель
спросил: "Неужели это так?"
ДИАЛОГ ОБ АКТРИСЕ ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА
Актер. Я читал ваши сочинения об эпическом театре. Когда я посмотрел
вашу маленькую пьесу о гражданской войне в Испании, где главную роль играла
самая выдающаяся актриса, представляющая эту новую манеру игры, я, честно
говоря, удивился. Удивился, что это настоящий театр.
Я. В самом деле?
Актер. Вам кажется странным, что после чтения ваших сочинений об этой
новой манере игры я ожидал увидеть нечто весьма сухое, абстрактное, короче
говоря - поучительное?
Я. Меня это не очень удивляет. Ведь учиться нынче не в моде.
Актер. Возможно, вам неприятно это слышать, но я приготовился увидеть
нечто, не имеющее ничего общего с театром, не только потому, что вы требуете
от театра поучительности, но и потому, что мне казалось, будто вы отнимаете
у театра то, что делает его театром.
Я. А именно?
Актер. Иллюзию. Напряжение. Возможность ощутить себя участником того,
что происходит на сцене.
Я. А вы чувствовали напряжение?
Актер. Да.
Я. И ощущали себя участником действия?
Актер. Очень мало. Вернее, совсем не ощущал.
Я. И иллюзии у вас не было?
Актер. В сущности, нет. Нет.
Я. И все-таки вы считаете, что это был театр?
Актер. Да, я так считаю. Это меня и удивило. Но подождите
торжествовать. Это был театр, но это не было что-то совершенно новое, чего я
ожидал после ваших статей.
Я. Таким совершенно новым это было бы, наверное, если бы вообще не было
театром, не правда ли?
Актер. Я только говорю, что то, чего вы требуете, совсем не трудно
сделать. Кроме исполнительницы главной роли, Вайгель, играли одни любители,
простые рабочие, которые никогда раньше не выходили на сцену, а Вайгель -
большая актриса, которая, совершенно очевидно, сформировалась в обычном,
отрицаемом вами старом театре.
Я. Согласен. Новая манера игры создает настоящий театр. Она позволяет
любителям при определенных обстоятельствах играть в театре, если они еще не
успели изучить манеру игры старого театра, и позволяет играть в театре
артистам, если они уже успели забыть манеру игры старого театра.
Актер. Ого. Я считаю, что Вайгель обладает более чем достаточной
техникой.
Я. Мне кажется, она показала не только технику, но и отношение простой
женщины, рыбачки, к генералам?
Актер. Конечно, она показала и это. Но и технику тоже. Я считаю, что
она не была рыбачкой, она только играла ее.
Я. Но ведь она и на самом деле не рыбачка. Она в самом деле только
играла ее. Это же факт.
Актер. Конечно, она актриса. Но если она играет рыбачку, она должна
заставить зрителей забыть об этом. Она показала все, что примечательно в
рыбачке, но а то же время и подчеркнула, что все это она только изображает.
Я. Понимаю, она не создала иллюзии, что она и есть рыбачка.
Актер. Она слишком хорошо знает, что характерно для рыбачки, что в ней
примечательно. И все видели, что она это знает. Она даже старалась
специально показать, что она это знает. А настоящая рыбачка ведь не знает,
конечно же, не знает, что в ней примечательного. Но если вы видите на сцене
женщину, которая все это знает, то она уже не рыбачка.
Я. А актриса, я понимаю.
Актер. Не хватало только, чтобы в каких-то определенных местах она
поглядывала на публику, словно спрашивая: "Ну, видите, какая я?" Убежден,
она выработала целую технику, чтобы все время поддерживать в публике это
чувство, чувство, что она не та, кого изображает.
Я. Могли бы вы охарактеризовать эту технику?
Актер. Если бы она перед каждой фразой думала: "Тогда рыбачка сказала",
то фраза звучала бы примерно так, как она звучала у нее. Я имею в виду, что
она совершенно отчетливо произносила слова другой женщины, то есть не свои.
Я. Это верно. А почему вы вкладываете ей в уста это "Тогда она
сказала"? И почему в прошедшем времени?
Актер. Потому что она столь же явно играла что-то, что произошло в
прошлом, то есть у зрителя не было иллюзии, что все это происходит именно
сейчас и он непосредственно при этом присутствует.
Я. Но ведь зритель и в самом деле при этом не присутствует. Он и в
самом деле не в Испании, а в театре.
Актер. Но в театр ходят ради иллюзии, ради того, чтобы почувствовать,
что ты в Испании, раз действие происходит там. Иначе зачем ходить в театр?
Я. Это утверждение или вопрос? Я полагаю, что можно найти и другие
причины, чтобы пойти в театр, кроме желания почувствовать себя в Испании.
Актер. Если хочешь быть здесь, в Копенгагене, незачем идти в театр и
смотреть пьесу, действие которой происходит в Испании.
Я. Вы можете с таким же успехом сказать, что если хочешь быть в
Копенгагене, незачем идти в театр и смотреть пьесу, действие которой
разыгрывается в Копенгагене, не так ли?
Актер. Если не испытываешь в театре чего-то такого, чего нельзя
испытать дома, то, право же, незачем туда идти.
Фрагмент
МАСТЕРА ПОКАЗЫВАЮТ СМЕНУ ВЕЩЕЙ И ЯВЛЕНИЙ
Мастера показывают вещи и явления, показывая их смену, чередование.
Нищета становится заметна как проявление упадка или отсталости. Когда в
убогой, жалкой обстановке еще сохраняется или, наоборот, появляется что-то
хорошее, это уже свидетельство нищеты. Смена отдельных картин должна быть
разработана с особой тщательностью. Если поле засыпал песок, то между
сценой, где еще нет песка, и сценой, где уже не видно поля, должна быть
сцена, где над песком еще высится дерево.
Актер. Ты сказал, что актер должен показать смену вещей и явлений. Что
это значит?
Зритель. Это значит, что зритель - тоже историк.
Актер. Стало быть, ты говоришь об исторических пьесах?
Зритель. Я знаю, что пьесы, действие которых происходит в прошлом, вы
называете историческими пьесами. Но вы редко играете их для зрителей,
которые являются историками.
Актер. Не объяснишь ли ты мне, что ты понимаешь под словом "историк"?
Не собирателей же древностей или ученых? Историк в театре - это, наверняка,
что-то совсем другое?
Зритель. Историка интересует смена явлений.
Актер. А как для него играть?
Зритель. Надо показать, что было раньше другим, не таким, как сегодня,
и выявить причину этого. Но надо показать также, как прошлое стало
настоящим. То есть если вы изображаете королей XVI века, то вы должны
показать, что такие характеры, такие личности сегодня вряд ли встречаются, а
если встречаются, то вызывают удивление.
Актер. Значит, мы не должны показывать то неизменное, что есть в
человеке?
Зритель. Все человеческое проявляется в изменениях. Если это
человеческое отделить от его всегда разных проявлений, то возникает
безразличие по отношению к форме, в которой мы, люди, живем, и тем самым
одобрение той, которую мы в данный момент видим.
Актер. Например?
Зритель. В первой сцене "Короля Лира" старый монарх делит свое царство
между тремя дочерьми. Я видел в театре, как он мечом разрубал свою корону
натри части. Мне это не понравилось. Было бы лучше, если бы он разорвал
карту своей страны на три куска и вручил бы их своим дочерям. Тогда было бы
видно, каково приходится стране при таком властителе. Все происшедшее
казалось бы очужденным. Зритель задумался бы над тем, что делить между
своими наследниками домашнюю утварь или царства - это вовсе не одно и то же.
Перед ним возникло бы чужое, давно минувшее, отжившее время, на фоне
которого особенно отчетливо обрисовалось бы сегодняшнее. В той же пьесе
верный слуга свергнутого короля прибивает неверного. Этим он, по мысли
поэта, выражает свою верность. Но актер, который изображал избитого, должен
был бы играть не шутливо, а всерьез. Если бы он уполз с переломленным
хребтом, то сцена предстала бы в очужденном виде, как это и должно быть.
Актер. А как быть с пьесами, действие которых происходит в наше время?
Зритель. Самое главное как раз в том и заключается, что именно эти
современные пьесы необходимо играть исторически.
Актер. Итак, что должно происходить, когда мы изображаем
мелкобуржуазную семью нашего столетия?
Зритель. Поведение этой семьи в целом совсем не такое, каким бы оно
было в прежние времена, и можно представить себе, что когда-то оно
опять-таки будет совсем другим. Таким образом, необходимо показать то
специфическое, что характерно для нашего времени: то, что изменилось по
сравнению с прошлым, и привычки, которые еще противятся изменениям или уже
начинают понемногу изменяться. Отдельный человек также имеет свою историю,
которая связана с изменениями в окружающей жизни. То, что с ним происходит,
может иметь историческое значение. Иными словами, нужно только показывать
то, что имеет историческое значение.
Актер. А сам человек - не становится ли он при этом слишком
незначительным?
Зритель. Напротив. Он возвеличивается, когда делаются явными все
перемены, происшедшие в нем и благодаря ему. И зритель принимает его ничуть
не менее серьезно, чем наполеонов прежних времен. Когда смотришь сцену
"Капиталист обрекает такого-то рабочего на голодную смерть", то это по
своему значению нисколько не уступает сцене "Поражение Наполеона при
Ватерлоо". Такими же выразительными должны быть жесты актеров в этой сцене,
так же тщательно должен быть выбран фон.
Актер. Значит, изображая кого-то, я все время должен показывать: вот
таким был человек в тот период своей жизни, а вот таким - в этот, вот так он
говорит сейчас, а так имел обыкновение выражаться в то время. И при этом я
должен подчеркивать, что так обычно говорили или действовали люди его класса
или что человек, которого я изображаю, своим поведением или какой-то манерой
речи отличается от людей своего класса.
Зритель. Совершенно верно. Когда вы просматриваете свою роль, то прежде
всего найдите в ней основные моменты исторического характера. Но не
забывайте, что история - это история борьбы классов и что, стало быть, то,
что вы выделяете в пьесе, должно быть общественно важным.
Актер. Значит, зритель - это историк общества?
Зритель. Да.
ПРОГРЕССИВНОСТЬ СИСТЕМЫ СТАНИСЛАВСКОГО
Во всех исследованиях театрального искусства давно уже считается само
собой разумеющимся, естественным и вообще не подлежащим исследованию, что
театральное представление становится достоянием зрителя благодаря вживанию.
Театральное представление считается просто не удавшимся, поскольку
совершенно не воспринимается зрителем, если он не получил возможности
вжиться в одного или нескольких персонажей пьесы и в окружающую этот
персонаж или эти персонажи среду. Все существующие учения о технике актера
или режиссера, в том числе и последняя совершенно стройная система
театральной игры русского режиссера и актера Станиславского, состоят почти
сплошь из предложений, как добиться вживания зрителя, его идентификации с
персонажами пьесы. Система Станиславского является прогрессом уже потому,
что она - система. Предлагаемая ею манера игры добивается вживания зрителя
систематически, то есть вживание перестает зависеть от случая, каприза или
таланта. Ансамблевая игра поднимается на высокий уровень, поскольку на
основе такой игры и маленькие роли и более слабые актеры могут содействовать
полному вживанию зрителя. Этот прогресс особенно заметен, когда происходит
вживание в такие образы пьесы, которые прежде "не играли никакой роли" в
театре, в образы пролетариев. Не случайно, например, в Америке системой
Станиславского начинают заниматься именно левые театры. Такая манера игры
позволяет, по их мнению, достичь недостижимого ранее вживания в пролетария.
При таком положении вещей несколько затруднительно отстаивать мнение,
что после ряда разъяснений и экспериментов новейшей драматургии все больше
приходится более или менее радикально отказываться от вживания.
КУЛЬТОВЫЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМЫ СТАНИСЛАВСКОГО
Изучая систему Станиславского и его учеников, видишь, что вынуждение
вживания было сопряжено с немалыми трудностями: добиваться соответствующего
психического акта было все трудней и трудней. Нужно было изобретать
хитроумную педагогику, чтобы актер не "выпадал из роли" и ничто не мешало
контакту между ним и зрителем, основанному на внушении. Станиславский
относился к этим помехам очень наивно, только как к чисто отрицательным,
преходящим явлениям, которые непременно будут устранены. Искусство явно все
больше превращалось в искусство добиваться вживания. Мысль о том, что
трудности идут от уже не устранимых изменений в сознании современного
человека, не появлялась, и ожидать ее можно было тем меньше, чем больше
предпринималось весьма перспективных на вид усилий, которые должны были
гарантировать вживание. На эти трудности можно было бы реагировать иначе, а
именно - поставить вопрос, желательно ли еще полное вживание.
Этот вопрос поставила теория эпического театра. Она всерьез отнеслась к
трудностям, объяснила их происхождение общественными изменениями
исторического характера и попыталась найти такую манеру игры, которая могла
бы отказаться от полного вживания. Контакт между актером и зрителем должен
был возникнуть на иной основе, чем внушение. Зрителя следовало освободить от
гипноза, а с актера снять бремя полного перевоплощения в изображаемый им
персонаж. В игру актера нужно было как-то ввести некоторую отдаленность от
изображаемого им персонажа. Актер должен был получить возможность
критиковать его. Наряду с данным поведением действующего лица нужно было
показать и возможность другого поведения, делая, таким образом, возможными
выбор и, следовательно, критику.
Процесс этот не мог не быть болезненным. Рухнуло гигантское
нагромождение понятий и предрассудков, и оно, по меньшей мере как мусор,
продолжало лежать на пути.
Трезвое рассмотрение словаря системы Станиславского обнаружило ее
мистический, культовый характер. Здесь человеческая душа оказывалась
примерно в таком же положении, как в любой религиозной системе; здесь было
"священнодействие" искусства, была "община". Зрителей "зачаровывали". В
"слове" было что-то мистически абсолютное. Актер был "слугой искусства",
правда - фетишем, и притом общим, туманным, непрактичным. Здесь были
"импульсивные" жесты, которые требовали "оправдания". Совершавшиеся ошибки
были, по сути дела, грехами, а зрители получали "переживание", как ученики
Иисуса в троицын день.
Сомневаться в серьезности и честности этой школы не приходится. Это
вершина буржуазного театра. Но именно из-за своей серьезности она довела все
свои ошибки до крайности. Этот театр, безусловно, находился в оппозиции
господствующим классам своего времени, он представлял идеалы молодой
буржуазной интеллигенции; правда, юридически политической формой этих
идеалов, и притом до весьма позднего времени, была буржуазная демократия.
Новые усилия по переходу к другим манерам игры были энергичны, но,
конечно, примитивны, а именно они требовали особой меры мастерства и знаний.
Прежде всего они могли доверять только тем мощным общим интересам, которые
лежали в основе этих усилий. Особенно поучительны были некоторые
поставленные в Германии спектакли эпического стиля, где
высококвалифицированные артисты выступали с любителями, правда, у которых
были особые, внетеатральные интересы, то есть с политически
заинтересованными рабочими. Если артисты предотвращали полное вживание
зрителя средствами своей эпической техники, то рабочие делали то же самое не
только в силу своей технической неспособности добиться вживания, но главным
образом благодаря тому, что их интерес к изображаемым событиям был так
очевиден, а зритель так отчетливо чувствовал, что на него хотят повлиять.
Это порождало поразительное единство стиля игры, которого при столь
разнородных элементах обычно не достигали еще никогда.
СТАНИСЛАВСКИЙ - ВАХТАНГОВ - МЕЙЕРХОЛЬД
Буржуазный театр достиг своего предела. Прогрессивность метода
Станиславского:
1. В том, что это метод.
2. Более интимное знание людей, личное.
3. Можно показать противоречивую психику (покончено с моральными
категориями "добрый" и "злой").
4. Учтены влияния окружающей среды.
5. Терпимость.
6. Естественность исполнения.
Прогрессивность метода Вахтангова:
1. Театр - это театр.
2. "Как" вместо "что".
3. Больше композиции.
4. Больше изобретательности и фантазии.
Прогрессивность метода Мейерхольда:
1. Преодоление личного.
2. Акцентирование артистичности.
3. Движение в его механике.
4. Окружающая среда абстрактна.
Точка соприкосновения - Вахтангов, вобравший в себя методы двух других
как противоречия, но и самый игровой. По сравнению с ним Мейерхольд
напряжен, а Станиславский вял; один - имитация, другой - абстракция жизни.
Но когда у Вахтангова актер говорит: "Я не смеюсь, а показываю смех", то на
показанном им все же ничему не научишься. Если рассматривать диалектически,
то Вахтангов - это скорее комплекс Станиславский - Мейерхольд _до_ взрыва,
чем синтез после взрыва.
О ФОРМУЛИРОВКЕ "ПОЛНОЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ"
Эта формулировка нуждается в объяснении. Усилия актера перевоплотиться
в персонаж пьесы вплоть до утраты собственного "я", в последний раз
обоснованные теоретически и в упражнениях Станиславским, служат возможно
более полной идентификации зрителя с персонажем или с его антагонистом. Само
собой разумеется, Станиславскому тоже известно, что говорить о
цивилизованном театре можно только тогда, когда эта идентификация не
является полной: зритель не перестает сознавать, что он в театре. Иллюзия,
которой он наслаждается, осознается им как таковая {Если этого не знает
Станиславский, то знает его ученик Вахтангов, который положению
Станиславского: "Зритель должен забыть, что он в театре", противопоставляет
положение: "Зритель будет сидеть в театре, и ни на минутку не забудет, что
он в театре". Такие противоречивые мнения могут быть в пределах одного и
того же художественного направления.}. Идеология трагедии живет этим
желанным противоречием. (Зритель должен без реального риска изведать взлеты
и падения, он должен хоть в театре принять участие в мыслях, настроениях и
поступках высокопоставленных особ, хоть в театре дать волю своим страстям и
так далее.) Однако и другая манера игры, не стремящаяся к идентификации
зрителя с актером (и называемая нами "эпической"), также не заинтересована в
_полном_ исключении идентификации. Чтобы отличать эти две манеры игры друг
от друга, "чистые" категории метафизики не нужны. Но так как установить
различие все-таки требуется, то заключается оно вот в чем: при обычной
манере игры пренебрегают постоянно сохраняющейся сдержанностью зрителя по
отношению к перевоплощению, а при эпической манере игры пренебрегают
сохраняющимся моментом перевоплощения. Формулировка "полное" показывает
_тенденцию_ критикуемой обычной манеры игры.
НЕПОЛНОЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ - ЭТО РЕГРЕСС МНИМЫЙ
Здесь, в неполном перевоплощении в персонаж пьесы, есть своего рода
регресс. Ведь именно способность к полному перевоплощению считается
признаком таланта актера: не удается оно - и все проваливается. Оно не
удается детям, когда они играют в театр, и любителям. Что-то ненастоящее
чувствуется в их игре сразу же. Разница между театром и действительностью
ощущается тогда болезненно остро. Актер не отдается целиком, он что-то
оставляет себе. Даже актер, который совершенно сознательно не
перевоплощается до конца, и тот вызывает подозрение, что это ему просто не
вполне удается. Зритель, который сам "в жизни" вынужден иногда
актерствовать, вспоминает свои неудачные попытки сыграть сострадание или
гнев, их не испытывая. Разумеется, "чересчур" мешает полному перевоплощению
в той же мере, что и "слишком мало": отчетливо проявленное намерение оказать
воздействие - это помеха. По крайней мере три момента уничтожают желаемую
иллюзию, когда полное перевоплощение не удается или не предусматривается.
Тогда бросается в глаза, что событие совершается сейчас не впервые (оно лишь
повторяется), что с самим актером не происходит сейчас того, что с
изображаемым персонажем (актер всего лишь референт), что воздействие
достигается не естественным образом (его добиваются искусственно). Чтобы
продвинуться дальше, нам необходимо признать полное перевоплощение
положительным, искусным актом, трудным делом, благодаря которому достигается
возможность идентификации зрителя с персонажем пьесы. С исторической точки
зрения это было новым приближением к человеку, более интимным проникновением
в его природу. И если мы от этого состояния уходим, то уходим отнюдь не
полностью; отнюдь не зачеркивая целую эпоху как неправильную и вовсе не
отказываясь от ее арсенала художественных средств.
Вероятно, было бы несправедливо приписывать нашему театру просто
религиозную функцию. Однако он держится на той же общественной базе, что и
религиозность. Известно, что в примитивных религиях содержались важные
элементы освоения мира, что религии эти обладали разработанной техникой
магии. В великие эпохи искусства в художественных произведениях также
сталкиваешься с тенденциями к освоению мира. Но освоение это является,
конечно, всегда привилегией определенных классов, даже если оно ограничено
очень неразвитыми, по сравнению с нашими, производительными силами.
Социальной функцией религий все больше становится воспитание безволия
верующих. Соответственно в это же превращается и социальная функция театра.
Если для проверки того или иного метода необходимо рассмотреть его
результаты, то для изучения чужого метода лучше всего ввести его в
собственный труд. Надо взять какую-нибудь свою работу, и даже в том случае,
если она давно сделана, часто бывает полезно изучить чужие методы, ибо
нередко только тогда осознаешь то, что ты делаешь или сделал. Затем нужно
осторожно проверить незнакомое: не пригодится ли оно для решения предстоящих
задач, и только потом (потом, хотя весь процесс освоения будет
неравномерным) можно, продолжая работу, проверить, нельзя ли с помощью новых
художественных средств и взглядов решать совершенно новые задачи.
Прежде чем ты освоишь образ пьесы или в нем растворишься, существует
первая фаза: ты знакомишься с ним и не понимаешь его. Это происходит при
чтении пьесы и на первых аранжировочных репетициях; именно тогда ты упорно
отыскиваешь противоречия, отклонения от типического, безобразное в
прекрасном, прекрасное в безобразном. На этой первой фазе твой главный жест
- покачивание головой; ты трясешь ею, как трясут дерево, чтобы с него упали
на землю плоды, которые нужно собирать.
Вторая фаза - это вживание, поиск правды образа в субъективном смысле;
ты позволяешь ему делать то, что он захочет, как он захочет; к черту
критику, пусть общество платит за то, что требуется твоему персонажу. Однако
это не прыжок вниз головой. Ты заставляешь свой персонаж реагировать на
другие персонажи, на окружающую среду, на особую фабулу простейшим, то есть
самым естественным образом. Это накопление происходит медленно, пока все же
не приближается к скачку, когда ты вторгаешься в конечный вариант образа, с
которым и соединяешься.
И вот наступает третья фаза, когда на образ, которым отныне
"являешься", ты смотришь извне, с позиций общества, и должен вспомнить
недоверие и удивление первой фазы. И после этой третьей фазы - фазы
ответственности перед обществом - ты отдаешь свой образ обществу.
Вероятно, следует добавить, что при практической репетиционной работе
не все проходит в точности по намеченной схеме. Развитие образа совершается
неравномерно, фазы часто меняются местами: в чем-то уже достигнута третья
фаза, а в другом - вторая и даже первая вызывают еще большие трудности.
Видимо, теория физических действий является самым значительным вкладом
Станиславского в новый театр. Он разработал ее под влиянием советской жизни
и ее материалистических тенденций. Вместе с судорожными усилиями, ценой
которых актер создавал физический рисунок роли, стали излишними и некоторые
методы, облегчавшие эту муку.
Метод "физических действий" не составляет для нас в "Берлинском
ансамбле" трудности. Будучи убежден, что чувства и настроения установятся
потом, Б. постоянно требует, чтобы на первых репетициях актер показывал
главным образом фабулу, событие, свое занятие. Он всеми средствами борется
против дурной привычки многих актеров использовать фабулу только, так
сказать, в качестве незначительной предпосылки для акробатики чувств,
подобно тому как гимнаст использует брусья для доказательства своей
ловкости. Особенно когда мы слышим высказывания Станиславского последних лет
его жизни, у нас складывается впечатление, что Б. примыкает к ним, вероятно,
совершенно бессознательно, просто в поисках реалистической игры.
В. Говорят, Станиславский часто кричал актеру во время репетиции из
зрительного зала: "Не верю!" Вы тоже часто не верите актерам?
Б. Бывает, но не слишком часто. В большинстве случаев только начинающим
и рутинерам. Чаще случается, что я не верю событию, то есть части фабулы. А
кроме того, это значило бы утомлять и себя и актеров. И если уж так трудно
отыскать правду или, вернее было бы сказать, так легко ей повредить, то еще
труднее отыскать общественно полезную правду, а она-то нам и необходима.
Зачем публике самая распрекрасная правда, если она не знает, как за нее
взяться? Может быть, и правда, что муж, бьющий жену, либо теряет, либо
приобретает ее, но стоит ли нам поэтому избивать своих жен, чтобы их
приобрести или потерять? Долгое время публику кормили такими истинами,
которые не намного дороже лжи и значительно дешевле фантастических выдумок.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В. Станиславский говорит о правдивости чувств отдельного актера.
Б. Знаю. Но, если я не ошибаюсь, и он не верит, будто актер, внимание
которого было обращено на фальшь его чувств (вернее, чувств его образа),
может сделать их правдивыми одной лишь работой как таковой.
В. А что же необходимо для этого?
Б. Он должен лучше выяснить взаимодействие между собой, своим образом
си другими образами. Если он отыщет правду этого процесса, ему будет
относительно легко понять и правдиво воспроизвести чувства своего образа.
Возьмем массовые сцены из спектакля "Процесс Жанны д'Арк" в постановке
"Берлинского ансамбля".
При разработке отдельных персонажей толпы, наблюдающей, как привозят
еретичку, как ее сжигают и так далее, можно было бы сделать еще несколько
шагов вперед. Отдельные персонажи уже связаны между собой; например,
крестьянская семья с рыбачкой (они знакомы по рынку, где их прилавки стоят
друг против друга) или рыбачка с врачом Дюфуром (он большой любитель рыбы).
Но оттенки можно обогатить. Один человек может быть знаком с другим и
поклониться ему, а с кем-то он, хотя и знаком, не поздоровается. Другой
может быть очень простужен, но все же он явился, потому что _обязан_ увидеть
такое зрелище; третий пришел, чтобы себя показать. И так далее и так далее.
Короче говоря, мы могли бы значительно увеличить и усовершенствовать ту
самую анкету о времяпрепровождении и биографии персонажей, которую
Станиславский составляет и для массовых сцен. Но, идя по этому пути, можно
дойти до предела, когда группа на сцене перестает быть pars pro toto,
представляющую собой массу, а превратится в вырванную из толпы, настоящую,
то есть случайную кучку людей с типичными и нетипичными, но в любом случае
не показательными мнениями и отзывами о великой героине сопротивления. Тогда
бы в театре увидели группу людей, какую можно встретить в жизни, но тогда
зритель узнал бы не больше и чувствовал бы не сильнее, чем в жизни. Такое
исполнение оказалось бы натуралистическим. Это не было бы похоже на
исполнение Московского Художественного театра, но отклонять метод анкеты
лишь потому, что он может привести к натуралистическим решениям, нельзя. На-
против, этот метод нужно изучить и использовать, ибо самое существенное
можно извлечь лишь из той массы существенного и несущественного, какой нам
предстает Жизнь. Чаще всего наши театры прибегают к стилизации, не
вглядевшись в действительность, которую предстоит отразить, и в результате
получаются формалистические спектакли, искажающие действительность и
низводящие формы художественные до кухонных форм, с помощью которых можно
формировать любое тесто на один и тот же манер. Тогда крестьяне становятся
отражениями не настоящих крестьян, а театральных пейзан.
В связи с подготовкой конференции, посвященной Станиславскому, Б.
пригласил к себе домой режиссеров, работников литературной части и
нескольких актеров. Он разложил на столе литературу о Станиславском и
спросил актеров, что им о нем известно.
Xурвиц. Я читала его "Секрет успеха актера"; книга вышла только в
Швейцарии и там получила это неверное, по-моему, название. Многое мне
показалось тогда несколько экзальтированным, но я нашла и такие места,
которые сразу же показались мне очень важными, и кое-чем я пользовалась
годами. Станиславский говорит, что нужно находить совершенно конкретные
представления для изображения чувств, напрягая для этого воображение. И
делается это совершенно самостоятельным путем. Но ведь вы, Брехт, против
вживания?
Б. Я? Нет. Я за него на определенной фазе репетиций. К нему нужно
только еще кое-что добавить, а именно: отношение к образу, в который вы
вживаетесь, его общественную оценку. Вчера я предложил вам, Гешоннек,
вжиться в образ кулака. Мне казалось, что вы играли только критику образа, а
не сам образ. И Вайгель, когда она сегодня села у кафельной печки и мерзла
изо всех сил, наверно, тоже вжилась в образ.
Данеггер. Можно мне записать это и при случае сказать, когда об этом
зайдет речь? Вы ведь знаете, вас упрекают в том, что вы совершенно отрицаете
вживание и вообще не терпите на сцене цельного человека.
Б. Пожалуйста. Но тогда прибавьте к этому, что вживание кажется мне
недостаточным для постановки, исключая, пожалуй, натуралистические пьесы, в
которых создается полная иллюзия натуры.
Данеггер. Но Станиславский довольствовался вживанием или, более того,
требовал полного вживания и для реалистического спектакля.
Б. Из публикаций, которые мне были доступны, такого впечатления у меня
не создалось. Он беспрерывно твердит о том, что называет сверхзадачей пьесы,
и требует все подчинять идее. Мне кажется, Станиславский часто подчеркивал
необходимость вживания только потому, что видел презренную привычку
некоторых актеров играть на публику, дурачить ее и так далее, вместо того
чтобы сосредоточиться на воплощении образа, который нужно сыграть, и на том,
что Станиславский так строго и нетерпеливо называет правдой.
Гешоннек. Да на спектакле полного вживания никогда и не происходит.
Подсознательно всегда думаешь о публике. Это как минимум.
Вайгель. Ведь играешь для зрителей человека, который отличен от тебя.
Таков факт, и почему мы не должны сознавать его? Что же касается слов
Гешоннека "это как минимум", то как я могу в роли Кураж, например, в финале,
когда мои спекуляции стоили мне жизни последнего моего ребенка, сказать
фразу: "Надо опять торговлю налаживать", если не буду лично потрясена тем,
что человек, которого я играю, не обладает способностью извлекать уроки?
Б. Наконец, вот еще что. Если бы дело обстояло по-другому, то как мог
бы я сказать вам, Гешоннек, чтобы в заключительной картине "Кацграбена" вы
играли кулака совсем огрубленным, почти как карикатуру, как того хочет
писатель?
ЧЕМУ НАРЯДУ С ПРОЧИМ МОЖНО ПОУЧИТЬСЯ У ТЕАТРА СТАНИСЛАВСКОГО?
1. _Поэтическая суть пьесы_
Даже натуралистические пьесы, которые должен был ставить театр
Станиславского в соответствии со вкусом того времени, приобретали в его
постановках поэтические черты; он никогда не впадал в плоский репортаж. У
нас же, в Германии, даже классические пьесы часто лишаются всякого блеска!
2. _Чувство ответственности по отношению к обществу_
Станиславский учил актеров общественной значимости игры на театре.
Искусство не было для него самоцелью, но он знал, что на театре никакой цели
нельзя достичь без искусства.
3. _Ансамбль звезд_
В театре Станиславского были одни звезды - большие и маленькие. Он
показал, что игра одного актера может достичь наибольшего эффекта только в
игре всего ансамбля.
4. _Важность ведущей линии и деталей_
Московский Художественный театр вносил в каждую пьесу богатую мыслями
концепцию и массу тонко разработанных деталей. Одно ничего не стоит без
другого.
5. _Обязательство быть правдивым_
Станиславский учил, что актер должен подробнейшим образом изучать
самого себя и людей, которых он хочет воплотить на сцене, и что одно
вытекает из другого. Не заслуживает внимания публики то, что не почерпнуто
актером из наблюдений или не подкреплено наблюдениями.
6. _Созвучность естественности и стиля_
В театре Станиславского прекрасная естественность соединялась со
значительностью. Как реалист, он никогда не пугался изображения
безобразного, но изображал его очаровательно.
7. _Воплощение противоречивой действительности_
Станиславский понимал сложность и дифференцированность общественной
жизни и умел их воспроизводить, не теряясь в них. Во всех его постановках
вскрывается самая суть.
8. _Самое важное - люди_
Станиславский был убежденным гуманистом и как таковой вел свой театр по
пути социализма.
9. _Значение дальнейшего развития искусства_
Московский Художественный театр никогда не почивал на лаврах. Для
каждой постановки Станиславский развивал новые художественные средства. Из
его театра выходили такие значительные художники, как Вахтангов, которые со
своей стороны развивали искусство своего учителя совершенно независимо от
него.
"МАЛЫЙ ОРГАНОН" И СИСТЕМА СТАНИСЛАВСКОГО
П. На конференции о Станиславском Вайгель назвала несколько сходных
моментов в ваших требованиях к актеру и требованиях Станиславского. А в чем
вы видите различия?
Б. Различия начинаются на довольно высокой ступени реалистического
воплощения образа актером. Речь идет о том, чем должно быть занято сознание
актера во время игры, что оно должно сохранить, что должно в нем
происходить. Как мне представляется, Станиславский дает ряд способов, с
помощью которых актер выключает собственное сознание и заменяет его
сознанием воплощаемого им человека. По крайней мере так понимается система
теми, кто нападает на "Малый органон". В "Малом органоне" описывается такая
манера игры, при которой полного растворения в роли не происходит, и
излагаются причины, почему до этого доводить не следует.
П. Правильно ли, по-вашему, понимают Станиславского?
Б. Откровенно говоря, я не могу об этом судить. Произведений
Станиславского опубликовано мало, а за четыре десятилетия его работы на
театре его учение претерпело значительные изменения, судя по нескольким
переведенным у нас книгам его учеников. По крайней мере важная составная
часть его теории, то, что он называет "сверхзадачей", указывает,
по-видимому, на то, что он сознавал ту проблему, которой занимается "Малый
органон". Ведь актер и в самом деле оказывается на сцене и артистом и
персонажем пьесы одновременно, а это противоречие должно отражаться в его
сознании: оно, собственно, и оживляет образ. Это поймет любой диалектик.
Выполняя сверхзадачу, актер и у Станиславского опять-таки объективно
представляет отношение общества к данному персонажу.
П. Но как можно было дойти до такого упрощения системы, когда
утверждают, будто Станиславский верит в мистическое перевоплощение на сцене?
Б. А как можно было дойти до такого упрощения "Малого органона", когда
утверждают, будто он требует на сцене бледных созданий, рожденных в реторте,
схематических порождений мозга? Ведь каждый может убедиться, что Пунтила и
Кураж на сцене "Берлинского ансамбля" - это полнокровные, полные жизни люди?
В отношении Станиславского неверное впечатление возникло, вероятно, потому,
что он застал такое актерское искусство, которое с великих вершин скатилось
до штампов, особенно у средних актеров. Поэтому он был вынужден подчеркивать
все то, что вело к созданию полнокровных, противоречивых, реальных образов.
П. А как обстоит дело с "Малым органоном"?
Б. Он пытается добиться партийности в воплощении человека на сцене. Но,
разумеется, человека полнокровного, противоречивого, реального.
П. Значит, вы считаете различие незначительным?
Б. Ни в коем случае. Все, что я до сих пор утверждал, имеет целью лишь
препятствовать вульгаризации проблемы и показать, на какой высокой стадии
реалистического воплощения появляются эти противоречия. Выработка
противоречивого характера исполнения в "Малом органоне" требует от актера
довольно-таки нового подхода к роли. Физические действия, если
воспользоваться термином Станиславского, служат уже не только
реалистическому построению роли; они становятся главным ориентиром роли - в
виде фабулы. Это нужно очень тщательно продумать, речь идет об очень важном
шаге. Правда, такую перестройку вряд ли можно произвести и даже просто
начать, пока полагают, будто достаточно лишь сделать выбор между
полнокровным и обескровленным театром. Об этом не думают те, кто стремится к
реалистическому театру.
П. Недавно вы назвали те черты вашего метода работы, которые совпадают
с методом Станиславского. А как обстоит дело с теми, которые не совпадают?
Б. Относительно легче назвать черты совпадающие, чем Не совпадающие,
поскольку обе системы (будем в дальнейшем оба метода именовать так, чтобы в
каждом из них можно было установить внутреннюю связь между отдельными
элементами) имеют, собственно говоря, разные исходные точки и затрагивают
различные вопросы. Их нельзя, как многоугольники, просто "накладывать" одну
на другую, чтобы обнаружить, чем они отличаются друг от друга.
П. Разве ваша "система" не касается метода работы актера?
Б. Не главным образом, не как исходной точки. Станиславский, ставя
спектакль, главным образом актер, а я, когда ставлю спектакль, главным
образом драматург.
П. Но ведь Станиславский тоже подчиняет актера драматургу?
Б. Верно. Но он идет от актера. Для него он изобретает этюды и
упражнения, ему он помогает при создании правдивых человеческих образов. С
другой стороны, вы можете и от меня услышать, что все зависит от актера, но
я целиком исхожу из пьесы, из ее потребностей и требований.
П. Итак, у театра две различные системы, с различными, но
пересекающимися кругами задач?
Б. Да.
П. Могли бы, по-вашему мнению, эти системы дополнять друг друга?
Б. Я полагаю, да; но до тех пор, пока мы не познакомимся с системой
Станиславского ближе, я предпочитаю выражаться осторожно. По-моему, эта
система нуждается, во всяком случае, еще в одной, которая обслуживает круг
задач моей. Чисто теоретически ее, вероятно, можно вывести из системы
Станиславского. Разумеется, я не знаю, будет ли созданная таким образом
система походить на мою.
П. Может быть, вы лучше проинформируете о том, выиграет ли что-нибудь
актер, работающий по вашему методу, от освоения метода Станиславского?
Б. Полагаю, что да.
П. Но ему, вероятно, понадобится и что-то другое, чего он не сможет
почерпнуть из системы Станиславского в готовом виде?
Б. Возможно.
П. Возьмем такой вопрос, как _партийное отношение - оправдание_.
Б. С точки зрения драматурга, это противоречие диалектического рода.
Как драматургу, мне нужна способность актера к полному вживанию и полному
перевоплощению, которую Станиславский впервые разбирает систематически; -но,
кроме того и прежде всего, мне нужно дистанцирование от образа, которое,
будучи представителем общества (его прогрессивной части), должен разработать
актер.
П. Как это выражается в обеих системах?
Б. У Станиславского есть, если я правильно понимаю, сверхзадача. У меня
вживание...
П. ...которое учит вызывать Станиславский...
Б. ...встречается на другой фазе репетиций.
П. Значит, вашу систему, исходя из системы Станиславского, можно было
бы описать как систему, касающуюся сверхзадачи?
Б. Пожалуй.
ХУДОЖНИК И КОМПОЗИТОР В ЭПИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
ОБ ОФОРМЛЕНИИ СЦЕНЫ В НЕАРИСТОТЕЛЕВСКОМ ТЕАТРЕ
1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАДАЧА ОФОРМИТЕЛЯ И ДЕКОРАЦИЯ В ГЛУБИНЕ СЦЕНЫ
В драматургии неаристотелевской (то есть основанной не на принципе
вживания в роль), которая стремится показать жизнь человеческого общества
через упправляющие ею законы, для несхожих во многом видов драм
(исторического, биографического, иносказательного) все же разработаны
некоторые общие методы оформления сцены. Общность этих методов основывается
на отрицании всеми этими видами драм полного вживания в роль и тем самым на
отрицании такого оформления сцены, которое создавало бы исчерпывающую
иллюзию. Среда, рассматриваемая любой другой драматургией лишь как "внешний
мир", для неаристотелевской драматургии играет более важную и совсем иную
роль. Внешний мир уже не является только обрамлением. Наши познания о
"взаимосвязи между природой и человеком" как о явлении общественном,
исторически изменяющемся, совершающемся в процессе труда, определяют
характер отображения нами внешней среды. Воздействие человека на природу
постоянно усиливается. А это должно найти свое отражение в оформлении сцены.
Кроме того, каждая постановка в каждом отдельном виде драматургии ставит
абсолютно новую, совершенно конкретную общественную задачу, в решении
которой должен принять участие и оформитель, тщательно продумывая и
анализируя все оформление постановки с точки зрения его целесообразности и
действенности. Показывая московским работникам умственного и физического
труда колхозное строительство в пьесе "Разбег", Охлопков преследовал иную
общественную задачу, требующую иного оформления сцены, чем изображение
демагогического аппарата национал-социалистов в пьесе "Круглоголовые и
остроголовые" (Брехт, Кнутсон), поставленной в Копенгагене в 1936 году, или
же изображение военного саботажа мелких буржуа в пьесе "Приключения бравого
солдата Швейка" (Пискатор, Брехт, Гросс), показанной в Берлине в 1929 году
перед публикой совершенно другого классового состава. Так как для каждой
новой пьесы необходимо полностью перестраивать сцену, то есть каждый раз
конструировать декорации на всю глубину сцены, то справедливо ввести понятие
"строитель сцены", которое вообще-то применяют к тому, кто строит сцену как
таковую, то есть подмостки, на которые ставится декорация, обычно неизменные
от спектакля к спектаклю. Строителю сцены приходится, смотря по
обстоятельствам, заменять пол транспортером, задник - экраном, боковые
кулисы - орхестрой. Ему приходится превращать потолок в движущуюся платформу
и даже думать о переносе игровой площадки в середину зрительного зала. Его
задача - показать мир.
Строитель сцены ничего не должен ставить на раз и навсегда закрепленное
место, но и не должен беспричинно менять или передвигать что-либо, ибо он
дает отображение мира, а мир изменяется согласно законам, открытым далеко не
полностью. Однако развитие мира видит не один строитель сцены, но и те, кто
следит из зала за его изображениями, и важно не только видение мира самим
строителем сцены, но и то, насколько оно помогает зрителю разобраться в этом
мире. А значит, строителю сцены нужно помнить о критическом взгляде зрителя,
и если зритель таковым не обладает, то задача строителя сцены - наделить им
зрителя. Ибо строитель сцены всегда должен помнить о том, какое это великое
дело - показывать людям мир, в котором им приходится жить.
2. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, АКТЕРЫ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ СЦЕНЫ
Если относительно общественной задачи постановки строитель сцены
придерживается одного мнения с режиссером, драматургом, композитором и
актером, помогает каждому из них и использует в своей работе их поддержку,
то из-за этого работа его вовсе не должна целиком растворяться в "едином
художественном произведении", в сплаве всех художественных элементов
постановки. При тесной взаимосвязи с другими формами искусства он благодаря
разграничению элементов, так же как и другие художники, в известном смысле
сохраняет в своей сфере творческую самостоятельность. Взаимодействие
искусств становится тогда живым; противоречивость составных элементов не
сглаживается. Строитель сцены, владея особыми изобразительными средствами,
располагает определенной свободой в своем понимании авторского текста.
Представление может прерываться демонстрацией графических изображений или
кинофильмов {См. вполне самостоятельные рисунки Георга Гросса,
спроецированные на экран в "Приключениях бравого солдата Швейка", и рисунки
Каспара Неера для "Расцвета и падения города Махагони".}.
О строителе сцены можно сказать, что он работает в согласии с
остальными творцами спектакля, если, к примеру, музыкальные инструменты {В
"Трехгрошовой опере" Неер водрузил посреди сцены ярмарочный орган. Макс
Горелик в нью-йоркской постановке пьесы "Мать" занял половину сцены двумя
роялями.} и актеры становятся для него составными элементами оформления
сцены. В известном, смысле актеры для строителя сцены - самые важные
элементы декорации. Далеко не достаточно выбрать лишь место для актера. Если
все оформление сцены состоит из одного дерева и трех человек или из одного
человека и одного дерева и еще двух человек, то дерево как таковое еще не
является оформлением сцены, вернее говоря, ни в коем случае не должно быть
им. Расстановка актеров - это один из элементов оформления сцены и,
следовательно, главная задача строителя сцены. Если строитель сцены
испытывает трудности в своей работе с актерами, то он попадает в положение
художника, пишущего на исторические темы, который запечатлевает на полотне
лишь мебель и реквизит, после чего другой художник приписывает к стульям
людей, а к повисшим в воздухе мечам - руки.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ (ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД)
Обычно размещение декораций на сцене производится до начала репетиций,
"чтоб начать их было можно", при этом основное внимание уделяется тому, что-
бы декоративное оформление было выполнено живо, создавало у зрителей
определенное настроение, передавало местный колорит, а на события, которые
должны разыграться на сцене, обращают так же мало внимания, как на выбор
почтовой открытки с видом во время путешествия. В лучшем случае это
позволяет создать выигрышный фон для игры актеров, но не для какой-то
конкретной группы актеров, а для актеров вообще. Если же декорации и
создаются для конкретной группы актеров, то они предназначены лишь для
первой сцены, которая играется в данном сценическом "пространстве". Даже
если режиссер еще до начала репетиций точно определил расстановку и
перемещения актеров, - кстати, это метод весьма неудачный, - он обычно
поддается искушению сохранить выбранное для первой сцены "пространство" и
для всех остальных сцен, ибо с такой расстановкой связано, либо ему кажется,
что связано, определенное режиссерское решение. Такой режиссер
подсознательно исходит также из того, что с человеком в повседневной жизни
может многое стрястись и в одной и той же комнате: не переделывает же он
специально свою квартиру, прежде чем устроить, скажем, сцену ревности.
Поступая так, режиссер лишает себя всех преимуществ многодневной совместной
работы самых различных людей и с самого начала получает застывшее, не гибкое
сценическое пространство, которое уже не могут изменить никакие перемещения
актера по ходу игры. Название "сценическая картина", употребляемое в
немецком языке для описанных выше декораций, выбрано очень метко, так как
оно раскрывает все недостатки таких сценических построений. Не говоря уже о
том, что в зрительном зaле найдутся лишь считанные места, откуда сценическая
картина будет открываться во всей своей полноте, а со всех других мест она
предстает перед зрителем в более или менее деформированном виде, игровая
площадка, скомпонованная как картина, не обладает ни пластичностью, ни
пространственной протяженностью, хотя и претендует на них. Хорошая
сценическая площадка получает свое завершение в процессе игровых перемещений
актеров. Значит, лучше всего, если декорация будет достроена в ходе
репетиций. К такому методу никак не могут привыкнуть наши театральные
декораторы, считающие себя художниками и утверждающие, что обладают своим
"видением", которое будто бы необходимо воплотить, причем они редко
считаются с актерами, так как их "сценические картины" и без актеров
смотрятся якобы так же хорошо или даже еще лучше.
Хороший строитель сцены продвигается в своей работе медленно, он
экспериментирует. Ему очень помогают творческие наметки, основанные на
доскональном изучении пьесы, на взаимополезных обсуждениях со всеми
остальными членами театрального коллектива, причем особую ценность имеет
обсуждение особой общественной задачи, раскрыть которую призвана данная
постановка. При этом собственные представления строителя сцены о постановке
должны отличаться широтой и гибкостью. Он постоянно проверяет их по
результатам актерских репетиций. Намерения и пожелания актеров для него ключ
к творческим открытиям. На репетициях он изучает, сколь велики возможности
актера, и в нужный момент приходит им на помощь. Чтобы добиться желаемого
эффекта, хромающему человеку для передвижения по сцене требуется больше
места, какой-нибудь случай издали воспринимается как комический, а вблизи -
как трагический и т. д. С другой стороны, и актеры помогают строителю сцены.
Если строителю сцены необходимо сделать роскошный стул, то он будет казаться
дорогим, если актер церемонно внесет его и поставит с величайшими
предосторожностями. Если это кресло судьи, то особого эффекта можно
достигнуть, посадив, к примеру, судью маленького роста в огромное кресло, в
котором он буквально утонет. Строитель сцены в состоянии обойтись
значительно более скупыми средствами, если определенные элементы оформления
войдут составной частью в игру актеров; в свою очередь актеры с помощью
строителя сцены в состоянии избежать многих трудностей.
В зависимости от общего декоративного оформления, выбранного строителем
сцены, нередко как-то меняется смысл реплик, а игра актеров обогащается
новыми жестами.
Когда, например, в шестой сцене первого акта "Макбета" король и его
свита восхищаются замком Макбета, а зритель видит довольно убогое строение,
то в этих словах звучит не только доверчивость короля, но и доброта и
вежливость, и сильнее подчеркивается недальновидность короля, неспособного
разгадать мучительные сомнения своего военачальника.
Часто актерам бывает приятно работать по эскизам, изображающим какое-то
важное событие. Это приносит им пользу потому, что позволяет перенять
определенные позы, а также потому, что это событие, получая художественное
воплощение, приобретает особую значимость и неповторимость, так сказать,
"становится знаменитым". Это событие приняло определенную форму, и теперь
можно подвергнуть ее критическому анализу. Известную пользу могут принести
также эскизы, которые актеры набрасывают сами.
Так работает хороший строитель сцены - то следуя за актерами, то
обгоняя их, но неизменно в тесном контакте с ними. Игровую площадку он
оформляет лишь постепенно, экспериментируя так же, как и актеры, и всегда
ища что-то новое. Ширма и стул - это уже очень много. И уже очень трудно
хорошо поставить ширму и стул. Они должны стоять не только удобно для
актера, но и гармонично по отношению друг к другу и при этом должны "играть"
сами по себе.
Большинству строителей сцены свойствен недостаток, который художники
называют грязной палитрой. Это означает, что уже на палитре все краски
перемешались. Такие люди забыли, что такое нормальный свет и что такое
основные цвета. Поэтому вместо того, чтобы оттенить все контрасты, они их
смазывают и раскрашивают воздух. Художники знают, как это много, когда рядом
с группой людей на бельевой веревке висит голубая скатерть, и как мало к
этому можно добавить.
Иногда бывает очень трудно выделить основные признаки. Они должны
удовлетворять требованию функциональности.
Как мало мы задумываемся над функцией вещей, показывает следующий
пример. В пьесе "Круглоголовые и остроголовые" надо было показать две
крестьянские семьи за работой. В качестве орудия труда мы выбрали колодец.
Хотя в пьесе один из крестьян бросает реплику:
"Тянем, аж лена пошла изо рта, -
У арендатора нет лошадей.
Сам себе лошадь ты - и ни черта..." -
и хотя в ней много говорится о бедственном положении безлошадных
крестьян, ни драматургу, ни режиссеру, ни строителю сцены, ни зрителю не
пришло в голову, что когда достаешь воду из колодца, лошадь вообще не нужна.
Куда разумнее было бы показать самую примитивную сельскохозяйственную
машину, которую вместо лошадей обслуживали бы люди. А всякий такой просчет
влечет за собой довольно серьезные последствия. В данном случае работа
выглядит "естественной", неизбежной, фатальной. Хочешь, не хочешь, а
выполнять ее надо, вопрос лишь в том, кто ее должен делать. И зритель при
этом думает о людях, а никак не о лошадях. В результате тяжкий труд не
воспринимается как лишний, чем-то заменимый, внимание зрителя не
приковывается к источнику зла.
Важное значение имеет и выбор материала для оформления сцены {Применяя
определенные материалы, можно вызвать у зрителя определенные ассоциации.
Например, в иносказательной пьесе "Круглоголовые и остроголовые" ширмы на
заднике, казавшиеся сделанными из пергамента, ассоциировались у зрителя со
старинными книгами. Так как смысл этой пьесы мог встретить довольно холодный
прием у буржуазного зрителя, то было полезно придать ей авторитетность
старых, прославленных параболических пьес. Московский Еврейский театр, ставя
"Короля Лира", использовал как элемент декорации деревянное сооружение,
похожее на раскрывающуюся дарохранительницу, что вызывало ассоциацию со
средневековой Библией. При постановке в театре Пискатора одной китайской
пьесы Джон Хартфилд ввел в оформление большие рулоны бумажных знамен и
сделал это успешнее, чем когда применил для пьесы Махоли Надя об инфляции
конструкцию из никеля и стекла, что породило нежелательную ассоциацию с
хирургическими инструментами.}. Материалы следует выбирать обычные, не
добиваясь при этом чрезмерного их разнообразия. Искусство не должно
добиваться определенной имитации всеми средствами. Материалы должны
воздействовать на зрителя сами по себе.
Над ними нельзя совершать насилия. Нельзя требовать от них
"перевоплощений", чтобы, скажем, картон казался полотном, дерево -железом и
так далее. Канаты, железные рамы, хорошо обработанное дерево, полотно и так
далее, удачно смонтированные, обнаруживают свою самобытную красоту.
Строитель сцены обязан, впрочем, учитывать и_ то, какое действие его
игровая площадка будет оказывать на самих актеров. Декорации и предметы
реквизита могут быть двухсторонними, однако не только та сторона, которая
видна зрителю, но и другая, обращенная к актерам, также должна иметь
эстетически удовлетворительный вид. Эти декорации отнюдь не должны создавать
у играющего иллюзию, будто он находится в реальном мире, а призваны
подтвердить ему, что это настоящий театр. Верные пропорции, красивый
материал, оформление, выполненное с большим вкусом, умело подобранный
реквизит ко многому обязывают актера. Совсем не безразлично, как маска
выглядит изнутри, является ли она произведением искусства или нет.
Ничто не должно быть для строителя сцены установленным раз и навсегда -
ни место действия, ни привычное использование сценической площадки. Лишь в
этом случае он подлинный строитель сцены.
Только следуя в своей работе за развертыванием действия, строитель
сцены может определить, поспевает ли он в своем оформлении за автором или
опережает его. Строитель сцены поступает правильно, когда _оформляет
спектакль с помощью подвижных элементов_ - не только потому, что это удобно
актерам и ему самому, но и по той причине, что так он в состоянии, постоянно
экспериментируя, вносить в декорации чисто технические улучшения. Он
сооружает сцену из отдельных, самостоятельных и подвижных частей. Дверная
рама должна стать таким же неотъемлемым "участником" репетиции, как сам
актер, который всячески обыгрывает ее по ходу действия. Только в этом случае
дверная рама будет показана со всех сторон, обретет собственную сценическую
жизнь и значимость, а это позволит показать ее в целом ряде комбинаций с
другими элементами декорации. Она, дверная рама, играет одну или сразу
несколько ролей, так же как и любой другой актер. Ее, этой дверной рамы,
право и обязанность - поражать, удивлять зрителя. Она может быть и
статистом, и главным исполнителем. Кстати, крепления разборной оконной рамы,
будь то канаты или штатив, не следует прятать; они должны придавать
декорации большую строгость линий. Это же относится к лампам и музыкальным
инструментам. Участки сцены, где расставлены различный реквизит и подвижные
элементы, также лучше всего показать отчетливо, с тем чтобы они рельефно
выделялись.
Разумеется, такая компоновка сцены требует от актеров соответствующей
превосходной игры. Если же декорации достигают известной изысканности и
законченности, а игра далека от столь высокого уровня, тогда страдает весь
спектакль. Это происходит и в том случае, когда в работе оформителя
отчетливо видна мысль, а в игре актеров ее нет. Тогда уж лучше плохое
оформление сцены.
ПРИЗНАКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Наши _подвижные элементы_ мало-помалу приобрели _признаки_ общественных
процессов, когда мы дали их в качестве орудия актерам, изображающим эти
общественные процессы; при создании этих подвижных элементов мы принимали в
расчет все общественные факторы, которые могли обусловить и объяснить
поведение наших героев.
Наше изображение места дает зрителю больше, чем если бы он увидел
подлинное место действия, потому что наше изображение содержит те признаки
общественных процессов, которых недостает подлинному месту, во всяком
случае, там эти признаки не проявляются столь отчетливо. С другой стороны,
наше изображение дает зрителю меньше, чем если бы он сам увидел подлинное
место, ибо мы отказываемся от _видимости_.
Для жилищ пролетариев характерны теснота, духота, они мало пригодны для
отдыха и в них всегда гнездятся болезни; для всего этого надо отыскать
характерные признаки. Легко понять, что такого рода поиски таят в себе
некоторые трудности. Входящий в такое жилище посетитель не сразу
обнаруживает наиболее существенные признаки. Они становятся заметны, лишь
если долго пробудешь там или даже останешься жить. Во всяком случае, они
далеко не всегда проявляются отчетливо.
В то время как капитализм со столь очевидным успехом превратил леса и
холмы в предметы купли-продажи и втянул их в крупную игру общественных сил,
его художники все еще придавали даже предметам, явно являвшимся продуктами
деятельности общества, естественный характер, иначе говоря, изображали дома,
стулья и даже церкви как частицу природы. К размерам жилища относились как к
размерам естественной известняковой пещеры, размытой морским прибоем. Девять
из десяти пней были уже просто-напросто отходами древесины, не
использованными в производственном процессе, остатками срубленных деревьев,
а стулья по-прежнему рассматривались лишь как места для сидения, словно
обыкновенные пни. Конечно, взятый сам по себе стул едва ли является ярким
признаком для выявления определенных человеческих отношений и общественных
процессов, но, составляя вместе с другими предметами обстановку жилья, он
уже становится точным признаком определенного действия общественных сил,
вещественным свидетельством эксплуатации и социального угнетения.
Материальный результат труда утрачивает связь с производственным
процессом, скрывая следы своей общественной природы. В чистом виде он служит
оправданию не только самого производства, но и способа производства,
понимаемого как механический акт. Раз нужен стул, нужен и капитализм.
Своеобразие классовой борьбы в ее "недраматических" фазах, когда ее
острота затушевана, вызывает необходимость добиться на сцене такого
изображения, которое помогло бы обнажить длительно и скрыто действующие
факторы. Представьте себе, что люди снимают квартиру, возможно, им грозит
выселение, и нужно, чтобы зритель увидел, долговые книги, в которых
записано, за какую мебель уплачено ко дню свадьбы и сколько еще осталось
уплатить к моменту локаута.
Женщину, которая садится на стул, чтобы взять на колени ребенка, едва
ли можно изобразить как женщину, которая садится на предмет стоимостью в
пять марок, если он новый и является продуктом товарного производства,
основанного на эксплуатации. Но как бы ни были неуместны попытки особо
выделить признаки такого происхождения и роли обычного стула, ими все же
нельзя пренебрегать. Эти признаки снова могут приобрести активное значение,
если, к примеру, хозяину нужно продать этот стул или же он разбивает его на
куски. Кто хоть раз видел, с каким жестом отчаянья женщина, привыкшая
считать каждую копейку, собирает стул, который сломал в гневе ее муж, бросив
его, например, в нее самое, тот сразу поймет, о чем идет речь.
Улица есть результат взаимодействия общественных факторов
(строительство, транспорт, торговля, людское жилье). Ее признаки - также
признаки этих факторов. Мы вольны в наших постановках к признакам реальной
улицы (признакам определенных общественных явлений) добавить признаки
общественных явлений, которых нельзя увидеть на реальной улице, но которые
позволяют зрителю представить себе происходящие там общественные процессы.
(К примеру, можно указать цены на квартиры или привести статистику
смертности.)
Эти штрихи становятся признаками определенных мест (фабричных дворов,
комнат), и тем самым они одновременно становятся признаками определенных
общественных явлений (производства товаров, жилищных условий).
Нам нет необходимости менять взгляд на вещи, чтобы задаться вопросом,
какова сама улица; она должна присутствовать на сцене и тогда, когда сама по
себе не играет никакой роли. Желая непосредственно помочь игре наших
исполнителей, мы воздвигали разные декорации, но в своей совокупности они не
должны изображать реальную улицу. Зачем нам нужна улица? Она нужна нам
постольку, поскольку на улице наши герои не вели бы себя иначе.
Мы выиграли сценическое пространство, дав людей в движении, мы их
социально обозначили (наши герои действовали как бы внутри общественных
процессов). Наши подвижные элементы все больше и больше становились
признаками общественных процессов.
Экспериментируя с размером и видом дверной рамы, мы изменяли ее в
зависимости от изменения актеров. Эта рама уже сама по себе может воссоздать
определенную обстановку иди же благодаря ей эта обстановка воссоздается
актером. Больший или меньший размер двери еще мало о чем говорит, ибо бывают
богатые квартиры с маленькими дверьми и бедные жилища с большой входной
дверью. Лишь в сочетании с другими признаками размер двери о чем-то нам
говорит. Качество дерева, хорошее оно или плохое, дорогих сортов или
дешевых, на расстоянии трудно определить, но зато можно ясно увидеть его
окраску. Дверь может вести и в квартиру знатных особ, но постепенно
разорившихся и социально деградировавших. Эта дверь хотя и будет из
драгоценного дерева, но ее выдаст окраска, которая к тому времени либо
облупится и потрескается, либо будет подновлена дешево и безвкусно. Или, к
примеру, замок; в домах, где нечего украсть, он будет самым простым, и так
далее и так далее.
НЕБОЛЬШОЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МОЕМУ ДРУГУ МАКСУ ГОРЕЛИКУ
У современного драматурга (или театрального художника) значительно
более сложные отношения со своим зрителем, чем у торговца с его
покупателями. Но даже покупатель не есть явление раз навсегда данное,
неизменное, полностью изученное, и потому он отнюдь не всегда бывает прав по
отношению к торговцу. Определенные вкусы и привычки могут быть привиты
покупателю искусственно, иной раз их надо лишь обнаружить. Фермер никогда не
подозревал, что ему нужна или может понадобиться машина Форда. В этом
столетии бурное экономическое и социальное развитие быстро и до основания
меняет и самого зрителя, непрестанно требуя от него новых типов мышления,
чувств и поведения. Кроме того, Hannibal ante portes - у ворот театра стоит
новый класс.
Обострившаяся классовая борьба рождает в нашем зрителе настолько разные
интересы, что он больше не в состоянии воспринимать искусство одинаково и
спонтанно. Поэтому художник не может рассматривать стихийный успех как
истинный критерий ценности своего произведения. Но и угнетенный класс он не
может безоговорочно признать судьей последней инстанции, ибо вкус и инстинкт
этого класса подавлены.
В такое время художнику приходится делать то, что нравится ему самому,
в надежде, что он сам и является идеальным зрителем. До тех пор пока
художник прилагает все усилия к тому, чтобы бороться вместе с угнетенными,
стремится познать и отстаивать их интересы и творить для них, вынужденное
одиночество еще не замыкает его в башне из слоновой кости. Но в наше время
лучше уж башня из слоновой кости, чем голливудская вилла.
Серьезную путаницу порождает стремление подать некоторые истины в виде
подслащенных пилюль; оно равносильно стремлению (представить торговлю
наркотиками более нравственной под тем предлогом, что вместе с наркотиком
потребителю преподносится истина: но, во-первых, он может ее не заметить, а
во-вторых, очнувшись от дурмана, мгновенно ее забудет.
Способы, какими достигаются на Бродвее или в Голливуде напряженность и
определенный эмоциональный эффект, возможно, и искусны, однако служат они
лишь тому, чтобы побороть ужасную скуку, которую вызывает у любого зрителя
бесконечное повторение лжи и глупости. Эта "техника" применяется и
совершенствуется с единственной целью - пробудить у зрителя интерес к вещам
и идеям, которые отнюдь не служат его интересам.
Театр паразитирующей буржуазии оказывает определенное нервное
воздействие, которое никак нельзя сравнить с чувствами, пробуждаемыми
искусством в эпохи расцвета. Этот театр порождает иллюзию, будто
воспроизводит случаи из действительной жизни, чтобы сильнее подхлестнуть
примитивные инстинкты, вызвать туманно-сентиментальные настроения у зрителя
душевно искалеченного, которому вместо недостающих ему духовных переживаний
предлагают жалкий суррогат. Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что
этот результат может быть достигнут и путем искаженного отображения
подлинной жизни. Многие художники даже убеждены, что соответствующего духу
времени "эстетического переживания" можно добиться только с помощью подобных
искаженных отображений действительности.
В противовес этому следует понять, что у людей существует естественный
интерес к определенным событиям, лежащий совершенно вне сферы искусства.
Этот естественный интерес может быть использован искусством. Существует и
спонтанный интерес к самому искусству, иначе говоря, к способности
отображать действительную жизнь, причем фантастически, индивидуально и
произвольно, то есть в манере данного художника. Напряженный интерес к
действительности и к тому, как передал ее художник, существует сам по себе,
и его не надо вызывать искусственно.
Защищать традиционный театр можно, лишь отстаивая явно реакционное
положение "театр есть театр" или "драма есть драма". При этом понятие драмы
ограничивают пришедшей в упадок драмой паразитической буржуазии. Молния
Юпитера в маленьких ручках Л. Б. Майера. Возьмите "конфликт" в
елизаветинской драматургии, сложный, изменяющийся, большей частью безличный,
всегда неразрешимый, и поглядите, во что он превратился сейчас как в
современной драме, так и в современных постановках елизаветинских драм.
Сравните роль вживания в образ тогда и сейчас! Какое противоречивое,
прерывистое сложное действие в шекспировском театре! То, что нам выдают
сегодня за "вечные законы драмы", это весьма современные законы, изданные Л.
Б. Майером и "Гилд-Тиэтр".
Путаница по поводу неаристотелевской драмы возникла из-за смешения
"научной драмы" с "драмой века науки". Пограничные столбы между искусством и
наукой не всегда остаются на месте, задачи искусства могут быть взяты на
себя наукой, и наоборот, и все же эпический театр остается театром, иными
словами, театр остается театром, становясь эпическим.
Только враги современной драмы, поборники ее "вечных законов" могут
утверждать, что современный театр, отвергая вживание в роль, тем самым
отказывается от эмоций. В действительности современный театр отверг лишь
подержанный, устаревший субъективный мир чувств и прокладывает пути новым
многогранным социально-продуктивным эмоциям нашего века.
О современном театре следует судить не по тому, насколько он
удовлетворяет привычные запросы зрителей, а по тому, как он их изменяет. У
театра следует спрашивать не о том, придерживается ли он "вечных законов
драмы", а в состоянии ли он художественно справиться с законами, по которым
совершаются великие социальные события нашего столетия. И заботить театр
должно не то, что интересует зрителя при покупке билета, иначе говоря, не
то, чего он ждет от театра, а интересуется ли этот зритель реальными
проблемами мира.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЗЫКИ В ЭПИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
В эпическом театре музыка применялась при постановке следующих пьес
(речь идет только о моих собственных): "Барабанный бой в ночи", "Жизнь
асоциального Ваала", "Жизнь Эдуарда II Английского", "Махагони",
"Трехгрошовая опера", "Мать", "Круглоголовые и остроголовые".
В первых пьесах музыка использовалась в ее самых популярных формах; это
были песни или марши, причем эти музыкальные номера почти всегда как-то
мотивировались натуралистически. И тем не менее введение музыки в драму
произвело переворот в традиционных формах: драма стала менее тяжеловесной,
как бы более элегантной; театральные зрелища приблизились к эстрадным
представлениям. Музыка пошатнула в драме устои, с одной стороны,
импрессионизма с его узостью, серостью и монотонностью, с другой -
экспрессионизма с его маниакальной односторонностью уже тем, что внесла
разнообразие. В то же время благодаря музыке возродилось то, что давно уже
казалось похороненным, а именно "поэтический" театр. Музыку к этим первым
постановкам я писал еще сам. Пять лет спустя для второй постановки комедии
"Что тот солдат, что этот" в Берлинском Государственном театре драмы ее
написал уже Курт Вейль. Тогда-то музыка к пьесе и стала произведением
искусства (самостоятельной ценностью). В этой комедии есть элементы
клоунады, и Вейль вмонтировал туда серенаду, исполнявшуюся во время
демонстрации диапозитивов Каспара Неера, а также военный марш и песню,
куплеты которой исполнялись во время перемены декораций при открытом
занавесе. А тем временем стала складываться теория разъединения элементов
драмы.
Самой большой удачей эпического театра была постановка "Трехгрошовой
оперы" в 1928 году. В ней впервые музыка использовалась по-новому. Самое
яркое новшество заключалось в том, что музыкальные номера четко выделялись
из всего действия. Это подчеркивалось даже внешне - небольшой оркестр
помещался у всех на виду, прямо на сцене. Во время исполнения сонгов
менялось освещение - свет падал на оркестр, а на задник проецировались
названия отдельных номеров, например "Песня о тщете человеческих усилий" или
"Песенка, с помощью которой Полли дает понять родителям, что она
действительно вышла замуж за бандита Макхита", - и актеры выходили для
исполнения музыкального номера на авансцену. Там были дуэты, терцеты,
сольные номера и финальные хоры. Те музыкальные номера, которые по своему
строю напоминали балладу, по содержанию были философско-морализаторскими. В
пьесе показывалось близкое родство духовного мира почтенных буржуа и
бандитов с большой дороги. Показывалось, в том числе и средствами музыки,
что эти бандиты разделяют ощущения, эмоции и. предрассудки среднего буржуа и
театрального зрителя. Например, нужно было доказать, что приятно живется
лишь тому, кто богат, если даже ему и приходится отказаться от "высших"
принципов. В одном из любовных дуэтов говорилось, что ни внешние
обстоятельства, ни социальное происхождение, ни имущественное положение не
должны бы влиять на выбор супруга! В одном из терцетов выражалось сожаление
по поводу того, что ненадежность житейских обстоятельств на нашей планете
мешает человеку уступить своей природной склонности к добру и честной жизни.
Самая нежная и задушевная любовная песня пьесы описывала постоянство и
нерушимость сердечных уз сутенера и его невесты. Возлюбленные умиленно
воспевали свое уютное гнездышко - публичный дом. Таким образом, музыка,
именно благодаря тому, что взывала лишь к чувствам слушателей и не
брезговала ни одним из обычных возбуждающих наркотиков, содействовала
разоблачению буржуазной морали. Она играла роль доносчицы, подстрекательницы
и сплетницы, роющейся в чужом грязном белье. Эти сонги приобрели большую
популярность, некоторые заимствованные из них строчки фигурировали в
передовых статьях и речах. Их разучивали под аккомпанемент фортепьяно или с
пластинок, - словом, так, как обычно заучивают арии из оперетт.
Сонг такого рода возник, когда я предложил Вейлю просто написать новую
музыку к нескольким уже имевшимся сонгам для музыкального фестиваля 1927
года в Баден-Бадене, где должны были исполняться одноактные оперы. Вейль до
тех пор писал довольно сложные, главным образом психологизированные вещи, и,
согласившись положить на музыку более или менее банальные тексты сонгов, он
мужественно порвал с предрассудками, которых придерживалось большинство
серьезных композиторов. Использование современной музыки в сонгах принесло
несомненный успех. В чем же заключалась принципиальная новизна самой этой
музыки, если отвлечься от необычного ее использования?
В центре внимания эпического театра находятся взаимоотношения людей,
имеющие общественно-историческое значение (типичность). Он выдвигает на
передний план сцены, в которых взаимоотношения людей показаны так, что
становятся очевидны социальные законы, управляющие ими. При этом необходимо
находить практичные определения соответствующих процессов, то есть такие,
пользуясь которыми можно активно воздействовать на эти процессы.
Следовательно, цели эпического театра сугубо практические. Он показывает
изменяемость человеческих взаимоотношений, зависимость человека от
определенных политических и экономических условий и в то же время его
способность к изменению их. Например: сцена, в которой один нанимает троих
для какой-то незаконной операции ("Что тот солдат, что этот"), в эпическом
театре должна прозвучать так, чтобы взаимоотношения этих четырех можно было
бы представить себе и иначе, то есть либо представить себе такие
политические и экономические условия, при которых эти люди заговорили бы
иначе, либо такое отношение этих людей к данным условиям, которое также
заставило бы их заговорить иначе. Короче говоря, зрителю предоставляется
возможность оценить человеческие взаимоотношения с общественной точки
зрения, и сцена приобретает социально-исторический смысл. Следовательно,
зритель должен быть в состоянии сравнивать между собой различные нормы
человеческого поведения. С точки зрения эстетики это значит, что особое
значение приобретает общественный смысл действий актеров. Актеры должны
научиться доносить до зрителя социальный подтекст сценического действия.
(Само собой разумеется, что речь идет о сценическом рисунке роли, имеющем
социальную значимость, а не просто об актерской технике.) Принцип
индивидуальной выразительности актерской игры как бы заменяется принципом
общественной выразительности. Это равнозначно настоящему перевороту в
драматургии. Искусство драмы и в наше время все еще следует рецептам
Аристотеля и стремится к так называемому катарсису (духовному очищению
зрителя). В аристотелевской драматургии развитие действия ставит героя в
такие положения, в которых обнажаются сокровенные глубины его души. Все
изображаемые на сцене события преследуют одну и ту же цель: ввергнуть героя
в конфликт с самим собой. Пусть это звучит кощунственно, но мне кажется
полезным сравнить все это с бурлесками на Бродвее, где публика, вопя свое
"Take it off", заставляет девушек, постепенно обнажаясь, выставлять свое
тело напоказ. Индивидуум, обнажающий сокровенные глубины своей души,
выдается, конечно, за "человека вообще". Дескать, каждый (в том числе и
зритель) тоже неминуемо подчинился бы давлению изображенных на сцене
обстоятельств, так что практически при постановке "Эдипа" зрительный зал
якобы оказывается битком набит маленькими Эдипами, а при постановке
"Императора Джонса" - императорами Джонсами. Неаристотелевская драматургия
не стала бы изображаемым на сцене событиям придавать обобщающее значение
неотвратимой судьбы, а человека представлять беспомощной, - несмотря на
красоту и значительность слов и поступков, - игрушкой в ее руках, наоборот,
она присмотрелась бы поближе к этой "судьбе" и разоблачила бы ее как дело
рук человеческих.
Все эти рассуждения могли бы показаться выходящими за рамки анализа
нескольких маленьких сонгов, если бы эти сонги не были (правда, еще очень
маленькими) ростками нового современного театра или не характеризовали бы
роли музыки в этом театре. Общественную значимость музыки этих сонгов вряд
ли удастся обрисовать иначе, как путем выяснения общественной значимости
всех нововведений. Практически общественно значимая музыка - это такая
музыка, которая дает возможность актеру выявить основной общественный
подтекст всей совокупности сценических действий. Так называемая "дешевая"
музыка - особенно на эстраде и в оперетте - уже довольно давно приобрела
черты общественной значимости. "Серьезная" музыка, напротив, все еще
цепляется за лиризм и блюдет индивидуалистическое самовыражение личности.
Опера "Расцвет и падение города Махагони" продемонстрировала применение
новых принципов в довольно значительном объеме. Пользуюсь случаем заметить,
что музыка Вейля к этой опере, на мой взгляд, не представляет собой образца
общественно значимой музыки в чистом виде, но в ней много общественно
значимых партий - во всяком случае, достаточно, чтобы являть собой серьезную
угрозу для оперы обычного типа, которую в ее нынешнем виде можно назвать
чисто кулинарной оперой. А в опере "Махагони" кулинаризм стал темой, причины
чего я подробно изложил в "Примечаниях к опере". Там разъясняется также,
почему обновление оперы в условиях капиталистической действительности
невозможно. Любые нововведения приводят здесь лишь к разрушению оперы как
таковой. Попытки композиторов, например, Хиндемита и Стравинского, обновить
оперу неизбежно разбиваются о механизм оперных театров. Опера, драматический
театр, пресса и другие мощные механизмы идеологического воздействия проводят
свою линию, так сказать, инкогнито. В то время как они уже с давних пор
используют людей умственного труда (в данном случае - музыкантов, писателей,
критиков и т. д.), - причастных к их доходам, а значит, в экономическом
смысле и к их власти, в социальном же отношении уже пролетаризировавшихся, -
лишь для того, чтобы насыщать чрево массовых зрелищ, то есть используют их
умственный труд в своих интересах и направляют его по своему руслу, сами-то
люди умственного труда по-прежнему тешат себя иллюзией, что весь этот
механизм функционирует лишь благодаря плодам их умственной деятельности и
представляет собой производное явление, не оказывающее никакого влияния на
их труд, а, наоборот, лишь испытывающее на себе его влияние. Это непонимание
своего положения, господствующее в среде музыкантов, писателей и критиков,
имеет серьезные последствия, на которые слишком редко обращают внимание.
Ибо, полагая, что владеют механизмом, который на самом деле владеет ими, они
защищают механизм, уже вышедший из-под их контроля, - чему они никак не
хотят поверить, - переставший быть орудием для производителей и ставший
орудием против производителей, то есть против самой их продукции (поскольку
оно обнаруживает собственные, новые, не угодные или враждебные механизму
тенденции). Творцы становятся поставщиками. Ценность их творений
определяется ценой, которую за них можно получить. Поэтому стало
общепринятым рассматривать каждое произведение искусства с точки зрения его
пригодности для механизма, а не наоборот - механизм с точки зрения его
пригодности для данного произведения. Если говорят: то или иное произведение
прекрасно, то имеется в виду (хоть и не говорится): прекрасно годится для
механизма. Но сам-то этот механизм определяется существующим общественным
строем и принимает только то, что укрепляет его позиции в этом строе. Можно
дискутировать о любом нововведении, не угрожающем общественной функции этого
механизма также и в позднекапиталистический период, а именно -
позднекапиталистическому развлекательству. Не подлежат дискуссии лишь такие
нововведения, которые направлены на изменение функций механизма, то есть
изменяющие его положение в обществе, ну хотя бы ставящие его на одну доску с
учебными заведениями или крупными органами гласности. Общество пропускает
через механизм лишь то, что нужно для воспроизводства себя самого. Поэтому
оно примет лишь такое "нововведение", которое нацелено на обновление, но не
на изменение существующего строя, - хорош ли он или плох, Люди искусства
обычно и не помышляют о том, чтобы изменить механизм, ибо полагают, что он
находится в их власти и лишь перерабатывает плоды их свободного творчества,
а следовательно, сам по себе изменяется вместе с их творчеством. Но их
творчество отнюдь не свободно: механизм выполняет свою функцию с ними или
без них, театры работают каждый вечер, газеты выходят столько-то раз в день,
и они принимают только то, что им нужно; а нужно им просто определенное
количество материала {Но сами-то производители целиком и полностью зависят
от механизма и в экономическом и в социальном смысле, он монополизирует их
деятельность, и плоды труда писателей, композиторов и критиков все больше
становятся лишь сырьем: готовую продукцию выпускает уже механизм.}.
Какую опасность представляет собой механизм, показала постановка
"Матери" на нью-йоркской сцене. Театр "Юниен" по своему политическому
направлению существенно отличался от театров, ставивших оперу "Махагони". И
тем не менее механизм оказался верен себе и своей функции одурманивания
публики. В результате этого не только сама пьеса, но и музыка к ней были
искажены, и воспитательный смысл ее в значительной степени был утерян. В
-"Матери", более чем в какой-либо другой пьесе эпического театра, музыка
сознательно использовалась для того, чтобы заставить зрителя осмысливать
происходящее на сцене, как о том говорилось выше. Музыку Эйслера никак не
назовешь простой. Она довольно сложна, я никогда не слышал более серьезной
музыки. Но она удивительным образом способствовала упрощению сложнейших
политических проблем, решение которых для пролетариата жизненно необходимо.
Общественная значимость музыки к небольшой сценке, опровергающей обвинения в
том, что коммунизм означает всеобщий хаос, сводится к тому, что она мягко,
ненавязчиво заставляет внимать голосу разума. В сценке "Хвала ученью",
связывающей проблему захвата власти пролетариатом с проблемой приобретения
им необходимых знаний, музыка придает действию героическое и в то же время
непринужденно жизнерадостное звучание. Точно так же и заключительный хор
"Хвала диалектике", который с легкостью мог бы быть воспринят сугубо
эмоционально, как песнь торжества, благодаря музыке удерживается в сфере
рационального. (Часто приходится сталкиваться с ошибочным утверждением, что
эта - эпическая - манера исполнения начисто отказывается от эмоционального
воздействия; на самом деле природа вызываемых ею эмоций лишь более ясна, они
возникают не в сфере подсознательного и не имеют ничего общего с дурманом.)
Кто полагает, что массам, поднявшимся на борьбу с разнузданным
насилием, угнетением и эксплуатацией, чужда серьезная и вместе с тем
приятная и рациональная музыка как средство пропаганды социальных идей, тот
не понял одной очень важной стороны этой борьбы. Однако ясно, что
воздействие такой музыки в значительной степени зависит от того, как она
исполняется. Если уж и исполнители не овладеют ее социальным смыслом, то
нечего надеяться, что она сможет выполнить свою функцию - вызвать у
зрительской массы определенное единое отношение к действию. Чтобы наши
рабочие театры могли справиться с поставленными перед ними задачами и
Исчерпать открывающиеся перед ними возможности, потребуется огромная
воспитательная работа и серьезная учеба. Зрители этих театров также должны с
их помощью многому научиться. Нужно добиться того, чтобы механизм рабочего
театра, в отличие от буржуазной театральной машины, не выступал в роли
распространителя наркотического дурмана.
К пьесе "Круглоголовые и остроголовые", которая, в отличие от "Матери",
обращается к "более широкой" публике и в большей степени учитывает чисто
развлекательные потребности зрителей, Эйслер написал музыку в форме сонгов.
И эту музыку тоже можно в известном смысле назвать философской. Она также
избегает наркотического воздействия, главным образом благодаря тому, что
решение музыкальных проблем связывает с ясным и четким подчеркиванием
политического и философского смысла стихов.
Из сказанного, вероятно, ясно, насколько трудны задачи, которые ставит
перед музыкой эпический театр.
В настоящее время "прогрессивные" композиторы все еще пишут музыку для
концертных залов. Одного взгляда на публику этих залов достаточно, чтобы
понять, насколько безнадежной была бы попытка использовать в политических
или философских целях музыку, оказывающую такое воздействие. Ряды заполнены
людьми, ввергнутыми в состояние своеобразного опьянения, совершенно
пассивными, ушедшими в себя, обнаруживающими все признаки сильного
отравления. Неподвижный, пустой взгляд показывает, что эти люди, безвольные
и беспомощные, находятся целиком во власти стихии своих эмоций. Пот,
струящийся то их лицам, свидетельствует о том, какого напряжения стоят им
эти эксцессы. Даже самый примитивный гангстерский фильм в большей степени
апеллирует к рассудку своих зрителей. Здесь же музыка выступает как "фатум".
Чрезвычайно сложный, абсолютно непостижимый фатум этой эпохи жесточайшей,
сознательной эксплуатации человека человеком. У этой музыки чисто кулинарные
устремления. Она совращает слушателя на путь наслаждения, иссушающего своей
бесплодностью. И никакими ухищрениями не убедить меня в том, что ее
общественная функция иная, чем у бурлесков Бродвея.
Нельзя не заметить, что в среде серьезных композиторов и музыкантов
ныне уже зарождается движение, направленное против этой вредоносной
общественной функции. Эксперименты, предпринимаемые в сфере музыки,
приобретают постепенно значительный размах; и не только в подходе к своему
материалу, но и в деле привлечения новых слоев потребителей новейшая музыка
неустанно ищет новые пути. Тем не менее остается целый ряд задач, которые
она еще не в силах решить и над решением которых даже не задумывается.
Например, совершенно канул в прошлое жанр музыкального эпоса. Мы совершенно
не знаем, как исполнялись когда-то "Одиссея" и "Песнь о Нибелунгах". Наши
музыканты не умеют уже" писать музыку для вокального исполнения крупных
эпических произведений. Обучающая музыка тоже предана забвению, а ведь было
время, когда музыка применялась даже для лечения болезней! Наши композиторы
в основном предоставляют трактирщикам изучать производимое их музыкой
воздействие. Одним из немногих результатов подобных исследований, с которыми
мне довелось познакомиться за последние десять лет, было замечание некоего
парижского ресторатора по поводу того, как под воздействием различных видов
музыки меняются заказы посетителей. Он полагал, что ему удалось установить,
какие напитки заказывают при исполнении музыки тех или иных композиторов. В
самом деле, театр много выиграл бы, если бы композиторы умели писать музыку,
оказывающую на зрителя в какой-то степени точно определяемое воздействие.
Это очень облегчило бы задачу актеров; особенно желательно было бы,
например, чтобы актеры могли строить рисунок роли в направлении,
противоположном настроению, созданному музыкой. (Для пробной работы над
пьесами возвышенного стиля имеется даже вполне достаточно готовых
музыкальных произведений.) В немом кино было предпринято несколько попыток
использовать музыку для создания вполне определенных настроений. Я слышал
интересную музыку Хиндемита и прежде всего Эйслера. Эйслер писал музыку даже
к самым обычным развлекательным фильмам, причем очень серьезную музыку.
Но звуковое кино, этот процветающий поставщик захватившего весь мир
наркотического дурмана, вряд ли станет продолжать эксперименты такого рода.
По моему мнению, наряду с эпическим театром поучительные пьесы также
открывают перспективы для современной музыки. К некоторым пьесам этого типа
Вейль, Хиндемит и Эйслер написали исключительно интересную музыку. (Вейль и
Хиндемит совместно - музыку к радиопостановке для школьников "Полет
Линдбергов"; Вейль - к школьной опере "Говорящие "да"; Хиндемит - к
"Баденской поучительной пьесе о согласии"; Эйслер - к "Мероприятию".)
К сказанному нужно добавить, что создание запоминающейся и доступной
для понимания музыки зависит отнюдь не только от доброй воли, но в первую
очередь от умения и знаний, а знания можно приобрести только при постоянном
общении с народными массами и другими коллегами по профессии, но не в
кабинетном уединении.
"МАЛЫЙ ОРГАНОН" ДЛЯ ТЕАТРА
"МАЛЫЙ ОРГАНОН" ДЛЯ ТЕАТРА
В этой работе ставится вопрос, как следовало бы сформулировать
эстетическую теорию, основанную на вполне определенном методе ряда
театральных постановок, уже действительно осуществляющихся на протяжении
нескольких десятилетий. В отдельных теоретических высказываниях,
полемических выступлениях и чисто технических указаниях, которые
публиковались в виде примечаний к пьесам автора этих строк, проблемы
эстетики затрагивались только мимоходом, им не придавалось особого значения.
Определенный вид сценического искусства расширял и ограничивал свое
общественное назначение, отбирая и совершенствуя свои художественные
средства. Этот вид искусства раскрывался и утверждался в эстетической теории
либо тем, что отбрасывал предписания господствующей морали или
господствующих вкусов, либо тем, что использовал их в своих интересах - в
зависимости от боевой ситуации. Так, например, в защиту наших стремлений к
общественно-политическим тенденциям приводились примеры
общественно-политической тенденциозности общепризнанных произведений
искусства, которая оказывалась незаметной именно потому, что это были
общепризнанные тенденции. Нами отмечалось как признак упадка, что в
современной продукции искусства выхолащивается все, что достойно познания, а
те торговые предприятия, которые продают вечерние развлечения, опустились до
уровня буржуазных заведений, торгующих наркотиками. При виде лживого
изображения общественной жизни на театральных подмостках, в том числе и на
тех, где господствовал так называемый натурализм, мы поднимали голос, требуя
научной точности изображения, а наблюдая безвкусные упражнения гурманов,
готовящих "лакомства для глаз и души", мы во весь голос требовали той
красоты, которая присуща логике таблицы умножения. Наш театр с презрением
отверг культ прекрасного, который подразумевал неприязнь к учению и
пренебрежение пользой, тем более что культ этот уже не создавал ничего
прекрасного. Возникло стремление создать театр эпохи науки, и когда тем, кто
вынашивал эти планы, становилось уже трудно отбиваться от газетно-журнальных
эстетов с помощью понятий, заимствованных или украденных из цейхгауза
эстетики, тогда они просто грозили "превратить средства удовольствия в
средство обучения и перестроить известные учреждения из развлекательных
зрелищ в органы гласности" ("Примечания к опере"), то есть покинуть тем
самым царство удовольствия. Эстетика - наследство развращенного
паразитирующего класса - находилась в таком жалком состоянии, что театр мог
приобрести уважение и свободу действий, лишь отказавшись от своего имени.
Однако и театр эпохи науки, который мы осуществляли, был все же театром, а
не наукой. Накопление новшеств проходило в таких условиях, когда не было
практических возможностей эти новшества показать, - в годы нацизма, во время
войны. Именно поэтому теперь необходимо попытаться проверить, какое место
занимает этот вид сценического искусства в эстетике, или, во всяком случае,
хотя бы наметить очертания его эстетической теории. Ведь было бы слишком
трудно представить себе, например, теорию сценического очуждения вне
определенной эстетики.
Сегодня возможно создать даже эстетику точных наук. Уже Галилей говорил
об изяществе определенных формул и об остроумии опытов. Эйнштейн приписывает
чувству прекрасного еще и склонность к изобретательству, а исследователь в
области атомной физики Р. Оппенгеймер хвалит ту позицию ученого, которой
"присуща красота и соответствие месту, занимаемому на земле человеком".
Итак, - вероятно, ко всеобщему сожалению, - мы отказываемся от нашего
намерения покинуть царство удовольствий и, к еще большему всеобщему
сожалению, объявляем наше новое намерение - обосноваться в этом царстве.
Будем же рассматривать театр как место для развлечения, то есть так, как это
положено в эстетике, но исследуем, какие именно развлечения нам по душе!
"Театр" - это воспроизведение в живых картинах действительных или
вымышленных событий, в которых развертываются взаимоотношения людей, -
воспроизведение, рассчитанное на то, чтобы развлекать. Во всяком случае,
именно это мы будем в дальнейшем подразумевать всякий раз, говоря о театре -
как о старом, так и о новом.
Чтобы охватить область еще более широкую, сюда можно было бы добавить и
отношения между людьми и богами, но, поскольку для нас важно определение
только самого основного, можно обойтись и без богов. Если бы мы даже и
предприняли такое расширение, все же сохранило бы силу определение, согласно
которому наиболее общая задача учреждения, именуемого "театр", - это
доставлять удовольствие. И это самая благородная задача "театра" из всех,
какие нам удалось установить.
С давних времен задача театра, как и всех других искусств, заключается
в том, чтобы развлекать людей. Это всегда придает ему особое достоинство;
ему не требуется никаких иных удостоверений, кроме доставленного
удовольствия, но зато оно обязательно. И если бы театр превратили, например,
в рынок морали, это отнюдь не было бы для него повышением в ранге. Напротив,
скорее пришлось бы беспокоиться о том, как бы такое превращение не принизило
театр. А именно это и произошло бы, если бы из морали не удалось извлечь
удовольствие, притом именно удовольствие непосредственно чувственного
восприятия, отчего, впрочем, и сама мораль только выигрывает. Не следует
приписывать театру также поучительности - во всяком случае, театр не учит
ничему практически более полезному, чем то, как получать телесное или
духовное наслаждение. Театр должен иметь право оставаться излишеством, что,
впрочем, означает, что и живем мы для изобилия. Право же, менее всего
требуется защищать удовольствие.
Таким образом, ту задачу, которую древние, согласно Аристотелю,
возлагали на свои трагедии, не следует считать ни более возвышенной, ни
более низменной, чем она есть в действительности. Она заключается в том,
чтобы развлекать людей. Когда говорят: театр вырос из культовых обрядов, это
означает только то, что он стал театром именно потому, что вырос, то есть
перестал быть культовым. Он получил в наследство от мистерий отнюдь не их
культово-религиозную задачу, а только их назначение - доставлять
удовольствие. Аристотель называл катарсисом очищение посредством страха и
сострадания либо очищение от страха и сострадания; это очищение само по себе
не являлось удовольствием, но оно вызывало удовольствие. Требовать или
ожидать от театра большего, чем он может дать, значит только принижать его
истинные задачи.
Даже пытаясь различить высокие и низменные формы удовольствия, вы мало
чего достигнете перед лицом неумолимой правды искусства, которое хочет
проникать и на высоты и в низины и хочет, чтобы ему не мешали, если только
оно доставляет этим удовольствие людям.
Однако действительно имеются слабые (простые) и сильные (сложные) виды
удовольствия, доставляемого театром. Последние, то есть сложные, с которыми
мы имеем дело в великой драматургии, достигают все более высокого
напряжения, подобно самому интимному телесному сближению в любви; они
многообразны, богаче впечатлениями, противоречивее и плодотворнее.
В каждую историческую эпоху были свои виды удовольствия, и они
различались между собой в зависимости от различий в общественной жизни
людей. Управляемый тиранами демос эллинского цирка необходимо было
развлекать по-иному, чем придворных феодального князя или Людовика XIV.
Театр должен был создавать иные изображения общественной жизни людей; иной
была не только жизнь сама по себе, но и ее изображение.
В зависимости от того, чем и как именно можно и нужно было развлекать
людей в конкретных условиях общественной жизни, следовало менять пропорции
образов, по-иному строить коллизии. Чтобы доставить удовольствие, приходится
совершенно по-разному рассказывать. Например, эллинам - о власти
божественных законов, всем нарушителям которых - даже невольным - грозит
неотвратимая кара; французам - о том изящном самоопределении, которого
требует от сильных мира сего свод придворных законов долга и чести;
англичанам елизаветинских времен - о самосозерцании непокорного и свободного
нового индивидуума.
Всегда нужно иметь в виду, что удовольствие, доставляемое самыми
различными изображениями, никогда не зависело от степени сходства
изображаемого с изображенным. Неправильность и даже явное неправдоподобие
почти или совсем не мешали, если только неправильность обладала определенным
смысловым единством, а неправдоподобие - однородностью. Достаточно было
одной лишь иллюзии, которая возникает из необходимости развивать именно
данную фабулу, иллюзии, которую могут создавать любые поэтические и
театральные средства. Мы сами охотно отвлекаемся от такого рода
несоответствий, когда, любуясь, например, душевным очищением героев Софокла,
или самопожертвованием в драмах Расина, или неистовством безумцев Шекспира,
стараемся усвоить прекрасные и великие чувства главных героев этих историй.
Ведь среди тех разнородных изображений значительных событий,
изображений, созданных еще в эллинские времена и развлекавших, зрителей,
несмотря на всяческие неправильности и неправдоподобия, и доныне сохранилось
поразительно большое число таких, которые продолжают развлекать и нас.
Отмечая в себе способность наслаждаться изображениями, созданными в
самые разные эпохи, способность, которая вряд ли была доступна детям этих
могучих эпох, не следует ли нам предположить, что и мы все еще не открыли
специфических удовольствий нашей собственной эпохи - того, что составляет
специфику ее развлечений?
Наслаждение, которое доставляет театр нам, вероятно, слабее того, что
испытывали древние, хотя формы их общественной жизни и нашей все же еще
достаточно сходны для того, чтобы мы вообще были способны получить какое-то
наслаждение от театра. Мы осваивали древние произведения с помощью
сравнительно нового вида восприятия, а именно вживания; но так мы мало что
можем от них получить. И поэтому наша потребность в наслаждении большей
частью питается из иных источников, чем те, которые так щедро служили нашим
предшественникам. И тогда мы обращаемся к красотам языка, к изящному
развитию фабулы, к таким частностям, которые вызывают у нас уже вовсе новые,
своеобразные представления, - короче, мы пользуемся дополнительными,
побочными элементами древних творений. А это как раз те поэтические и
сценические средства, которые скрывают неправдоподобие сюжета. Наши театры
уже не могут или не хотят внятно пересказывать эти древние сказки, или даже
более новые - шекспировские, - то есть не могут или не хотят правдоподобно
представлять их фабулы. Но вспомним, ведь фабула - это, по Аристотелю, душа
драмы. Все более и более раздражает нас примитивность и беспечность в
изображении общественной жизни людей, притом не только в древних
произведениях, но и в современных, если их создают по старым рецептам. Вся
система доставляемых нам удовольствий становится несовременной.
Неправдоподобие в изображении взаимодействий и взаимоотношений между
людьми ослабляет удовольствие, получаемое нами в театре. Причина этого: мы
относимся к изображаемому иначе, чем наши предшественники.
Дело в том, что, когда мы ищем для себя развлечений, дающих то
непосредственное удовольствие, какое мог бы доставить нам театр, изображая
общественную жизнь людей, мы не должны забывать о том, что мы - дети эпохи
науки. Наука совершенно по-новому определяет нашу общественную жизнь и,
следовательно, нашу жизнь вообще, - иначе, чем когда бы то ни было.
Несколько сот лет назад отдельные люди, жившие в разных странах, но тем
не менее согласовывавшие свою деятельность, провели ряд опытов, с помощью
которых они надеялись раскрыть тайны природы. Сами эти люди принадлежали к
тому классу ремесленников, который сложился тогда в достаточно уже окрепших
городах, но изобретения свои они передавали другим людям, которые
практически использовали их, заботясь при этом о новых науках лишь
постольку, поскольку рассчитывали получить от них личную выгоду. И вот
ремесла, которые в течение тысячелетий оставались почти неизменными, начали
вдруг необычно интенсивно развиваться сразу во многих местах, связанных
конкуренцией. Большие массы людей, собранные в этих местах и по-новому
организованные, представляли собой огромную производительную силу. А вскоре
человечество открыло в себе такие силы, о масштабах которых оно ранее не
смело даже мечтать.
Получилось так, словно человечество только теперь сознательно и
единодушно принялось делать звезду, на которой оно ютится, пригодной для
жизни. Многие из составных частей этой звезды - уголь, вода, нефть -
превратились в сокровища. Водяной пар заставили служить средством
передвижения; несколько маленьких искр и дрожание лягушечьих лапок помогли
обнаружить такие силы природы, которые создавали свет и несли звуки через
целые материки... По-новому смотрел человек вокруг себя, приглядываясь ко
всему, с тем чтобы обратить себе на пользу то, что он видел уже давно, но
никогда раньше не использовал. Окружающая его среда преображалась все больше
с каждым десятилетием, потом с каждым годом, а потом уже почти с каждым
днем. Я пишу эти строки на машинке, которой в то время, когда я родился, еще
не существовало. Я перемещаюсь благодаря новым средствам передвижения с
такой скоростью, которой мой дед и вообразить себе не мог, - в те времена
вообще не знали таких скоростей. И я поднимаюсь в воздух, что не было
доступно моему отцу. Я успел поговорить со своим отцом с другого континента,
но взрыв в Хиросиме, запечатленный движущимся изображением, я увидел уже
вместе с моим сыном.
Новые научные методы мышления и мировосприятия все еще не проникли в
широкие массы. Причина этого кроется в том, что, хотя науки очень успешно
развиваются в области освоения и покорения природы, тот класс, который
обязан им своим господствующим положением, - буржуазия, - препятствует
научной разработке другой области, все еще погруженной во мрак, а именно -
области взаимоотношений людей в ходе освоения и покорения природы. Великое
дело, от успеха которого зависели все, осуществлено; однако те новые научные
методы мышления, которые позволили покорить природу, не применяются для
того, чтобы выяснить взаимоотношения людей, осуществляющих это покорение.
Новое видение природы не помогло еще по-новому увидеть общество.
И правда, распознать взаимоотношения людей в настоящее время стало
действительно труднее, чем когда-либо. То огромное общее дело, в котором они
участвуют, все больше и больше разделяет их. Рост производства вызывает рост
нищеты и бедствий, эксплуатация природы приносит выгоду лишь немногим - тем,
кто эксплуатирует людей. То, что могло служить общему прогрессу,
обеспечивает лишь преуспевание одиночек, и все большая часть производства
используется, чтобы выпускать средства разрушения для "великих" войн. И в
дни этих войн матери всех народов, прижимая к себе детей, с ужасом смотрят
на небо, ожидая появления смертоносных изобретений науки.
Сегодня люди бессильны противостоять своим собственным творениям так
же, как в древности были бессильны противостоять стихийным бедствиям.
Буржуазия, обязанная науке своим возвышением, которое она превратила в
господство, использует науку лишь в своих корыстных интересах и ясно отдает
себе отчет в том, что научное исследование буржуазного производства означало
бы конец господству буржуазии. Поэтому новая наука, которая изучает
человеческое общество и первоосновы которой закладывались лет сто назад,
была окончательно обоснована в борьбе порабощенных против поработителей. С
тех пор элементы научного духа проникли и в низы, в новый класс, в класс
рабочих, чья жизнь связана с производством. И с его позиций видно, что
великие катастрофы современности являются делом рук господствующего класса.
Однако задачи науки и искусства совпадают в том, что и наука и
искусство призваны облегчить жизнь человека; наука занимается источниками
его существования, а искусство - источниками его развлечения. В грядущем
искусство будет находить источники развлечения уже непосредственно в области
по-новому творческого, производительного труда, который может значительно
улучшить условия нашего существования и, став наконец свободным, сам по себе
сможет быть величайшим из всех удовольствий.
Если мы хотим отдаться этой великой страсти производительного труда, то
как же должны выглядеть наши изображения общественного бытия людей? Какое
именно отношение к природе и обществу является настолько плодотворным, чтобы
мы, дети эпохи науки, могли воспринимать его в театре как удовольствие?
Такое отношение может быть только критическим. Критическое отношение к
реке заключается в том, что исправляют ее русло, к плодовому дереву - в том,
что ему делают прививку, к передвижению в пространстве - в том, что создают
новые средства наземного и воздушного транспорта, к обществу - в том, что
его преобразовывают. Наше изображение общественного бытия человека мы
создаем для речников, садоводов, конструкторов самолетов и преобразователей
общества, которых мы приглашаем в свои театры и просим не забывать о своих
радостных интересах, когда мы раскрываем мир перед их умами и сердцами с
тем, чтобы они переделывали этот мир по своему усмотрению.
Однако театр может занять такую свободную позицию только в том случае,
если он сам включается в наиболее стремительные потоки общественной жизни,
если он сам присоединяется к тем, кто с наибольшим нетерпением стремится к
значительным изменениям. Помимо всего прочего, уже одно только желание
развивать наше искусство в соответствии с современностью должно увлечь наш
театр эпохи науки на окраины, чтобы там он распахнул двери перед широкими
массами, перед теми, кто создает много, а живет трудно; им должен
предоставить театр полезное развлечение, посвященное великим проблемам,
которые так важны для них. Возможно, им будет нелегко оплачивать наше
искусство, возможно, они не сразу поймут этот новый вид развлечения, и нам,
вероятно, придется многому поучиться, чтобы понять, что именно им нужно и в
каком виде, но мы можем быть уверены, что привлечем их интерес. Эти люди,
которые, кажется, так далеки от естественных наук, далеки от них лишь
потому, что их удаляют от них искусственно. И для того чтобы освоить
естественные науки, им надо сначала самим развить новую науку об обществе и
применить ее на деле. Именно поэтому они-то и являются подлинными детьми
эпохи науки. И театр эпохи науки не сможет двигаться вперед, если они не
подтолкнут его. Театр, который находит источник развлечения в труде, должен
сделать труд своей темой и особенно ревностно стремиться к этому именно
теперь, когда почти всюду один человек мешает другому проявлять себя в
общественной жизни, то есть обеспечивать себе существование, развлекаться и
развлекать. Театр должен активно включиться в действительность для того,
чтобы иметь право и возможность создавать наиболее действенное отражение
этой действительности.
Только при этом условии театр сможет максимально приблизиться к тому,
чтобы стать средоточием просвещения и органом гласности. Театр не может
оперировать научным материалом, который непригоден для развлечения, но зато
он волен развлекаться поучениями и исследованиями. Театр подает как игру
картины жизни, предназначенные для того, чтобы влиять на общество, и перед
строителями этого общества проходят события прошлого и настоящего,
представленные театром таким образом, чтобы те чувства, размышления и
побуждения, которые извлекают из современных и исторических событий самые
страстные, самые мудрые и самые деятельные из нас, могли стать услаждающим
развлечением. Строители общества получат удовольствие от мудрости, с какой
решаются проблемы, от гнева, в который с пользой может перерасти жалость к
угнетенным, от уважения к человечности, то есть к человеколюбию, - словом,
от всего того, что доставляет наслаждение также и тем, кто создает
постановки.
И это позволяет театру предоставить зрителю возможность насладиться
современной моралью, которая определяется производительной деятельностью.
Делая критику - этот великий метод производительной деятельности - предметом
развлечения, театр не имеет никаких обязательных моральных задач, но зато
очень много возможностей. Даже антиобщественные силы, если они значительно и
живо представлены на сцене, могут стать предметом развлечения. Эти силы
часто обнаруживают и разум и многообразные способности, действующие, однако,
разрушительно. Ведь даже наводнение может доставить удовольствие видом
свободного и величавого потока, если только люди уже с ним справились, если
стихия покорилась людям.
Но для того чтобы осуществить это, мы не можем оставить современный
театр таким, каков он есть. Войдем в одно из театральных зданий и посмотрим,
как там воздействуют на зрителя. Оглядевшись по сторонам, можно заметить
фигуры, почти застывшие в довольно странном состоянии. Кажется, что их
мускулы напряжены в необычайном усилии или, наоборот, находятся в полном
изнеможении. Они едва замечают друг друга, они собрались вместе, но словно
бы спят и к тому же видят кошмарные сны. В народе говорят, что так бывает,
если заснешь лежа на спине. Правда, глаза у них открыты, но они не смотрят,
а таращатся, и не слушают, а вслушиваются. Они смотрят на сцену так, словно
они заколдованы. Это выражение возникло в средние века, в эпоху ведьм и
господства церковников. Ведь и смотреть и слушать - значит действовать,
подчас и то и другое оказывается увлекательной деятельностью, но эти люди,
кажется, уже не способны ни к какой деятельности, напротив, с ними самими
делают что-то другие. Такое состояние отрешенности, в котором зрители
кажутся одержимыми неопределенными, но сильными ощущениями, становится тем
глубже, чем лучше работают актеры. А так как нам это состояние не нравится,
то хочется, чтобы актеры были как можно хуже.
А сам изображаемый на сцене мир, клочья которого служат для возбуждения
этих настроений и переживаний, создается такими скудными и убогими
средствами (малая толика картона, немного мимики и крохи текста), что
приходится только восхищаться работниками театра, которые умеют с помощью
столь жалких отбросов действительности воздействовать на чувства своих
зрителей куда сильнее, чем смогла бы воздействовать сама действительность.
Во всяком случае, не следует ни в чем винить работников театра, так как
те развлечения, за создание которых они получают деньги и славу, не могут
быть созданы с помощью более достоверных изображений действительности. А
свои недостоверные изображения они не могут преподносить каким-либо иным,
менее магическим способом. Мы видим их способность изображать людей;
особенно удаются им злодеи и второстепенные персонажи - тут у артистов
особенно ощутимо конкретное знание людей. Но главных героев приходится
изображать в более общих чертах, чтобы зрителю было легче отождествлять себя
с ними. Во всяком случае, все элементы должны быть взяты из какой-либо
ограниченной области, чтобы каждый сразу мог оказать: да, это так и есть,
потому что зритель хочет испытать совершенно определенные эмоции,
уподобиться ребенку, который, сидя на деревянной лошади карусели, испытывает
чувство гордости и удовольствие оттого, что едет верхом, что у него есть
лошадь, оттого, что он проносится мимо других детей, чувство необычайного
приключения - будто за ним гонятся или он догоняет кого-то, и т. п. Для того
чтобы ребенок все это пережил, не имеет большого значения ни сходство
деревянного коня с настоящей лошадью, ни то, что он движется все время по
одному и тому же небольшому кругу. Так и зрители - они приходят в театр
только затем, чтобы иметь возможность сменить мир противоречий на мир
гармонии и мир, который им не очень знаком, - на мир, в котором можно
помечтать.
Таким мы застаем театр, где хотим осуществлять свои замыслы. До сих пор
этот театр отлично умел превращать наших друзей, исполненных надежд, тех,
кого мы называем детьми эпохи науки, в запуганную, доверчивую,
"зачарованную" толпу.
Правда, в последние примерно пятьдесят лет им стали показывать
несколько (более верные изображения общественной жизни, а также персонажей,
восстающих против определенных пороков общества или даже против всего
общественного строя в целом. Интерес к этому зрителей был настолько силен,
что они некоторое время терпеливо мирились с необычайным обеднением языка,
фабулы и духовного кругозора, - свежее дыхание научной мысли заставило почти
забыть о привычном очаровании всего этого. Но эти жертвы не оправдали себя.
Усовершенствования изображений действительно повредили одному источнику
Удовольствия и не принесли пользы другому. Область человеческих отношений
стала видимой, но не ясной. Чувства, возбуждавшиеся старыми (магическими)
средствами, оставались старыми и сами по себе.
Потому что и после этого театр все еще оставался местом развлечения для
класса, который ограничивал научную мысль областью естествознания, не рискуя
допустить ее в область человеческих отношений. Но и та ничтожная часть
театральной публики, которую составляли пролетарии, неуверенно поддержанные
немногочисленными интеллигентами - отщепенцами своего класса, - тоже еще
нуждалась в старом, развлекающем искусстве, облегчавшем их привычную,
повседневную жизнь.
И все же мы продвигаемся вперед! Хоть так, хоть этак! Мы явно ввязались
в борьбу, что ж, будем бороться! Разве мы не видим, что неверие движет горы?
Разве недостаточно того, что мы уже знаем, что нас чего-то лишают? Перед
тем-то и тем-то опущен занавес: так поднимем же его!
Тот театр, который мы теперь застаем, показывает структуру общества
(изображаемого на сцене) как нечто независимое от общества (в зрительном
зале). Вот Эдип, нарушивший некоторые из принципов, служивших устоями
общества его времени, - он должен быть наказан; об этом заботятся боги, а
они не подлежат критике. Одинокие титаны Шекспира, у каждого из которых в
груди созвездие, определяющее его судьбу, неукротимы в своих тщетных,
смертоносных стремлениях, в своей безумной одержимости. Они сами приводят
себя к гибели, так что к моменту их крушения уже не смерть, а жизнь
становится отвратительной, и катастрофа не подлежит критике. Везде, во всем
- человеческие жертвы! Это же варварские увеселения! Мы знаем, что у
варваров есть искусство. Что ж, создадим свое искусство, иного рода!
Долго ли еще придется нашим душам под покровом темноты, покидая нашу
"неуклюжую" плоть, устремляться к сказочным воплощениям на подмостках, чтобы
участвовать в их возвышенных взлетах, которые "иначе" нам недоступны? Разве
это можно считать освобождением, если мы в конце всех пьес, благополучном
только в духе времени (торжество провидения, восстановление порядка),
спокойно наблюдаем расправу, столь же сказочную, как и сами эти воплощения,
караемые за возвышенные свои взлеты как за низменные грехи? Мы вползаем в
"Эдипа", потому что там все еще действуют священные запреты и незнание их не
избавляет от кары. Или, скажем, мы проникаем в "Отелло", потому что ревность
доставляет и нам, что ни говори, немало волнений, и все зависит от права
собственности. Или в "Валленштейне", который требует от нас свободного и
честного участия в конкуренции - ведь иначе она попросту прекратится. Такое
же состояние привычной одержимости возбуждают и пьесы вроде "Привидений" и
"Ткачей", хотя в них все же проявляется общество, хотя бы как "среда", и в
большей мере влияет на возникающие проблемы. Но так как нам навязываются
чувства, понятия и побуждения главных героев, то об обществе мы узнаем не
больше того, что можно сказать о "среде".
Нам нужен театр, не только позволяющий испытывать такие ощущения и
возбуждать такие мысли, которые допустимы при данных человеческих
отношениях, в данных исторических условиях, но также использующий и
порождающий такие мысли и ощущения, которые необходимы для изменения
исторических условий.
Эти условия необходимо охарактеризовать во всей их исторической
относительности, а значит, полностью порвать со свойственной нам привычкой
лишать различные общественные формы прошлого их отличительных особенностей,
в результате чего все они начинают в большей или меньшей степени походить на
современное нам общество. Получается, будто черты, присущие нашему обществу,
существовали извечно, но в таком случае оно тоже приобретает характер
чего-то вечного и неизменного. Мы же считаем, что специфические исторические
черты всегда существуют и постоянно изменяются, а следовательно, и наш
общественный строй тоже можно показать строем преходящим. (Этой цели,
конечно, не может служить тот местный колорит или фольклор, который
используется в наших театрах именно затем, чтобы подчеркнуть тождественность
поведения людей в различные эпохи. О необходимых для этого театральных
средствах мы скажем позднее.)
Бели мы заставляем наших персонажей действовать на сцене согласно
побуждениям, исторически совершенно определенным, различным для различных
эпох, то мы тем самым затрудняем вживание в них. Тогда зритель не может
просто почувствовать: "Вот и я действовал бы так же", он в лучшем случае
может сказать: "Вот если бы я жил при таких обстоятельствах..." И если мы
будем играть современные пьесы так же, как исторические, зрителю может
показаться, что обстоятельства, в которых он сам живет и действует, так же
необычайны; с этого и начинается критика.
Не следует, однако, представлять себе (и соответственно изображать)
"исторические условия" как некие темные (таинственные) силы; ведь они
создаются и поддерживаются людьми (и люди же их изменяют). Исторические
условия проявляются именно в том, что происходит на сцене.
Ну, а если исторически обусловленная личность отвечает в соответствии с
изображаемой эпохой и если бы в другие эпохи она отвечала по-другому, - не
значит ли это, что она тем самым оказывается человеком вообще? Да, в
зависимости от времени и классовой принадлежности ответы каждый раз должны
быть иными. Если бы данный человек жил в другую эпоху или не так долго, или
просто хуже, он несомненно отвечал бы в каждом случае по-иному, но тоже
вполне определенно и абсолютно так же, как всякий другой человек в его
положении и в его время. Не значит ли это, что могут быть еще и другие
ответы? Но где же оно, это живое и неповторимое существо, не похожее ни на
кого из себе подобных? Совершенно очевидно, что художественный образ должен
сделать его зримым, а произойдет это тогда, когда это противоречие станет
образом. Исторически достоверное изображение будет несколько эскизным;
вокруг более разработанного центрального образа будут лишь намечены все
прочие сюжетные линии. Или представим себе человека, произносящего
где-нибудь в долине речь, в которой он либо то и дело меняет свои суждения,
либо высказывает противоречивые утверждения так, что отголоски, эхо
изобличают противоречия.
Такие образы требуют особого метода игры, которая не препятствует
свободе и ясности мышления зрителя. Он должен быть в состоянии, так сказать,
непрерывно производить мысленные перестройки в конструкции, отключая
общественно-исторические движущие силы или заменяя их действием других сил.
Актуальным отношениям сообщается тем самым некоторая "неестественность",
вследствие чего актуальные движущие силы также теряют естественность и
неприступность.
Это можно сравнить с тем, как гидростроитель способен увидеть реку
одновременно и в ее действительном русле и в том воображаемом, по которому
она могла бы течь, если бы наклон плато или уровень воды были иными. И так
же, как он мысленно видит новый поток, так социалист мысленно слышит новые
речи батраков в деревнях, раскинутых вдоль этой реки. Вот так должен был бы
и наш зритель увидеть на сцене события из жизни этих батраков со всеми
подобающими случаю предположениями и отголосками.
Метод актерской игры, который в промежутке между первой и второй
мировыми войнами применялся в виде опыта в театре на Шиффбауэрдамме в
Берлине для создания подобных изображений, основывается на эффекте
очуждения. Осуждающее изображение заключается в том, что оно хотя и
позволяет узнать предмет, но в то же время представляет его как нечто
постороннее, чуждое. Античный и средневековый театры очуждали своих
персонажей, используя маски людей и животных; азиатский театр и сегодня еще
применяет музыкальные и пантомимические эффекты очуждения. Эти эффекты,
разумеется, препятствуют непосредственному эмоциональному вживанию в образы,
однако их техника скорее в большей, а не в меньшей степени основывается на
гипнотическом внушении, чем техника, которой добиваются эмоционального
вживания в образ. Общественные функции древних приемов очуждения были совсем
иными, чем у нас.
Древние приемы очуждения полностью исключают возможность посягательства
зрителей на то, что представлено, изображая его чем-то неизменным. Новым
методам не свойственна никакая нарочитая причудливость. Только ненаучному
взгляду кажется причудливым, диковинным то, что незнакомо. Новые приемы
очуждения должны только лишать видимости обычного, устоявшегося те явления и
события, которые определяются общественным строем, ибо эта видимость
обычного, устоявшегося предохраняет их сегодня от всяких посягательств.
То, что долго не подвергалось изменениям, кажется неизменным вообще. На
каждом шагу мы сталкиваемся с явлениями, казалось бы, настолько само собой
разумеющимися, что разбираться в них считается излишним. То, что люди
испытывают сообща в своей жизни, они принимают за жизненный опыт
человечества. Ребенок, живя среди стариков, от них и учится. Он принимает
все явления такими, какими они ему представлены. А если кто-нибудь дерзал
пожелать что-либо сверх ему данного, то это уже исключение, и если бы даже
он сам отождествлял "провидение" с тем, что сулит ему общество, - это
могучее сборище существ, ему подобных, - то он воспринимал бы это общество
как неделимое целое, которое представляет собой нечто большее, чем простую
сумму составляющих его частей, и воздействовать на которое невозможно. Но и
в таком случае эта недоступная воздействию сила оставалась бы для него
издавна достоверно знакомой, а разве можно не доверять тому, что уже давно
достоверно? Для того чтобы множество явно достоверных, известных явлений
представились человеку столь же явно сомнительными, ему необходимо развить в
себе тот очуждающий взгляд, которым великий Галилей наблюдал за
раскачиванием люстры. Оно удивило его как нечто совершенно неожиданное и
необъяснимое; благодаря этому он и пришел к открытию неведомых прежде
законов. Именно такой, столь же трудный, сколь и плодотворный, взгляд театр
должен пробуждать и развивать у своих зрителей, изображая общественную жизнь
людей. Необходимо поразить зрителей, а достичь этого можно с помощью
технических приемов очуждения того, что близко и хорошо знакомо зрителю.
Какая же техника актерской игры позволяет театру применять для создания
образов метод новой науки об обществе - метод диалектического материализма?
Этот метод, стремясь познать общество в развитии, рассматривает общество в
его внутренних противоречиях. Для этого метода все существует лишь
постольку, поскольку общество изменяется и тем самым вступает в противоречие
с самим собой. Это относится также и к тем чувствам, мыслям и поступкам, в
которых каждый раз проявляется та или иная форма общественного бытия людей.
Нашу эпоху, когда осуществляются такие многочисленные и разнообразные
изменения в природе, отличает стремление все понять, чтобы во все вмешаться.
В человеке, говорим мы, заложено многое, а стало быть, от него многого можно
ожидать. Человек не должен оставаться таким, каков он есть, и его нельзя
видеть только таким, каков он есть; его надо видеть и таким, каким он мог бы
стать. Мы должны исходить не только из того, каков он есть, но также из
того, каким он должен стать. Это не значит, однако, что мне надо просто
поставить себя на его место, наоборот, я должен поставить себя лицом к лицу
с ним, представляя при этом всех нас. Поэтому наш театр должен очуждать то,
что он показывает.
Для того чтобы достичь "эффекта очуждения", актер должен забыть все,
чему он учился тогда, когда стремился добиться своей игрой эмоционального
слияния публики с создаваемыми им образами. Не имея цели довести свою
публику до состояния транса, он и сам не должен впадать в транс. Его мышцы
не должны быть напряжены; ведь если, например, поворачивать голову, напрягая
шейные мышцы, то это движение "магически" влечет за собой движение взглядов
и даже голов зрителей и тем самым ослабляет любое размышление или ощущение,
которое должен был бы этот жест вызвать. Речь актера должна быть свободна от
поповской напевности и тех каденций, которые убаюкивают зрителя так, что он
перестает воспринимать смысл слов. Даже изображая одержимого, актер сам не
должен становиться одержимым, потому что тогда зрители не смогут понять, чем
же именно одержим изображаемый им персонаж.
Ни на одно мгновение нельзя допускать полного превращения актера в
изображаемый персонаж. Такой, например, отзыв: "Он не играл Лира, он сам был
Лиром", был бы для нашего актера уничтожающим. Он обязан только показывать
изображаемый персонаж, вернее, не только "жить в образе". Это, разумеется,
не означает, что если он изображает страстного человека, то сам должен
оставаться равнодушным. Однако его собственные ощущения не должны быть
обязательно тождественны ощущениям изображаемого им лица, чтобы и ощущения
публики не стали тождественны основным ощущениям персонажа. Зрителям должна
быть предоставлена полная свобода.
Поскольку актер появляется на сцене в двойной роли - и как Лафтон и как
Галилей (ведь Лафтон, создавая образ, не исчезает в создаваемом им образе
Галилея), такой метод исполнения назван "эпическим". Это означает лишь то,
что подлинный, живой процесс исполнения не будет впредь маскироваться: да,
на сцене находится именно Лафтон, который показывает, каким он представляет
себе Галилея. Восхищаясь его игрой, зрители, конечно, все равно не забыли бы
о Лафтоне, даже если бы он и ревностно добивался перевоплощения. Но тогда он
не донес бы до зрителей своих собственных мыслей и чувств, - они полностью
растворились бы в образе. Образ завладел бы его мыслями и чувствами, все
звучало бы на один лад, и этот образ он навязал бы и нам. Чтобы
предотвратить такую ошибку, актер должен и сам акт показа тоже осуществлять
как художественное зрелище. Вот один из вспомогательных сценических приемов,
которым можно воспользоваться: чтобы выделить показ персонажа как
самостоятельную часть нашего представления, мы можем сопроводить его особым
жестом. Пусть сам актер курит, но всякий раз, прежде чем показать очередное
действие вымышленного персонажа, откладывает сигару. Если при этом не будет
спешки, а непринужденность не покажется небрежностью, то именно такой актер
предоставит нам свободу самостоятельно мыслить и воспринимать его мысли.
Нужно внести в передачу образа актером, кроме того, еще одно изменение,
которое тоже "упрощает" представление. Актер не должен обманывать зрителей,
будто на сцене находится не он, а вымышленный персонаж; точно так же он не
должен обманывать зрителей, будто все происходящее на сцене происходит в
первый и в последний раз, а не разучено заранее. Шиллеровское разграничение,
по которому рапсод повествует только о том, что уже прошло, а мим действует
только в настоящем {Письмо Шиллера к Гете от 26 декабря 1797 г.}, теперь уже
не так правильно. В игре актера должно совершенно явственно сказываться, что
"ему уже в самом начале и в середине известен конец" и потому он должен
"оставаться совершенно свободным и спокойным". В живом изображении
повествует он о своем герое, причем осведомлен он обо всем куда лучше, чем
тот, кого он изображает. И все "сейчас" и "здесь" он применяет не как мнимые
представления, определенные сценической условностью, а как то, что отделяет
настоящее от прошлого и от иных мест, благодаря чему становится явной связь
между событиями.
Особенно важно это при изображении событий, в которых участвуют массы,
или при показе значительных изменений окружающего мира, как, например, войн
и революций. Тогда зрителю можно представить общее положение я общий ход
событий. Он может, например, слушая, как говорит одна женщина, мысленно
слышать и то, что она скажет ему через две недели и что говорят об этом
другие женщины где-то в другом месте. Это было бы возможно, если бы актриса
играла так, будто эта женщина уже прожила определенную эпоху до конца и
говорит, вспоминая, зная дальнейшее, говорит самое важное из того, что нужно
было сказать об этой эпохе в данный изображаемый момент, потому что важно в
этой эпохе лишь то, что оказалось важным впоследствии. Такое очуждение
личности как "именно данной личности" и "именно данной личности именно
сейчас" возможно лишь тогда, когда не создается иллюзии, будто актер - это и
есть персонаж, а то, что происходит на сцене, - это и есть изображаемое
событие.
Для этого пришлось отказаться и еще от одной иллюзии - будто каждый на
месте изображаемого героя действовал бы так же. Вместо "я делаю это" уже
получилось "я сделал это", а теперь нужно из "он сделал это" получить "он
сделал именно это и только это". Подгоняя поступки к характеру, а характер к
поступкам, идут на слишком большое упрощение; тут уж не покажешь тех
противоречий, которые в действительности существуют между поступками и
характерами людей. Нельзя демонстрировать законы развития общества на
"идеальных случаях", так как именно "неидеальность" (то есть
противоречивость) неотделима от развития и от того, что развивается. Нужно
только - но это уже безусловно, - создать как бы условия для
экспериментальных исследований, то есть такие, которые в каждом случае
допускают возможность и прямо противоположного эксперимента. Ведь все
общество представляется нами так, словно каждое его действие - это
эксперимент.
Если на репетициях "вживание" актера в образ и может быть использовано
(но в постановке его следует избегать), - то лишь как один из многих методов
наблюдения. Этот метод, столь неумеренно применяемый в современном театре,
полезен на репетициях, поскольку он помогает создавать тонкий рисунок
образа. Однако самым примитивным способом вживания в образ является тот,
когда актер просто спрашивает себя: а что бы я делал, если бы со мной
произошло то-то и то-то? Как бы я выглядел, если бы я сказал это или
поступил так? - вместо того чтобы спрашивать: как говорил это человек,
которого я слышал, видел ли я, как делал это тот, которого я видел? Из таких
наблюдений можно создать новый образ, с которым могло бы произойти не только
то, что представляют на сцене, но и многое другое. Единство образа
достигается именно тогда, когда его отдельные свойства изображают в их
противоречии.
Наблюдение - основной элемент сценического искусства. Актер наблюдает
других людей, и когда он подражает им всеми своими мышцами и нервами, это
для него одновременно и процесс мышления. Но при одном только подражании
можно показать в лучшем случае лишь то, что понадобится. А этого
недостаточно, так как все, что подлинник высказывает о себе, он произносит
слишком тихо. Чтобы от простого повторения прийти к образу, актер смотрит на
людей так, словно они разыгрывают перед ним свои роли, словно они
рекомендуют ему обдумать их действия.
Нельзя создавать образы, не имея о них определенных суждений и не
преследуя определенных целей. Не зная, нельзя показывать. Но как узнавать в
каждом случае, что именно достойно знания? Если актер не хочет быть ни
попугаем, ни обезьяной, он должен обладать современными знаниями, понимать
условия и закономерности общественного бытия, а для этого он должен
принимать непосредственное участие в борьбе классов. Кое-кому это может
показаться унизительным, так как для них искусство - если гонорар обеспечен
- категория высшего порядка. Однако решающие для человечества события
определяются борьбой, которая ведется на земле, а не в заоблачных высях, во
"внешнем" мире, а не в умах людей. Никто не может стоять над борьбой
классов, потому что никто не может стоять над людьми. Общество не может быть
представлено одним всеобщим рупором, пока оно расколото на классы, борющиеся
между собой. Поэтому для искусства беспартийность означает только
принадлежность к господствующей партии.
Поэтому выбор своей точки зрения является другой, - весьма значительной
частью искусства актера, и этот выбор должен быть совершен за пределами
театра. Как преобразование природы, так и преобразование общества является
освободительным процессом, и именно радость освобождения должен передавать
театр эпохи науки.
Пойдем дальше и рассмотрим еще, например, как с этой точки зрения актер
должен читать свою роль. Особенно важно при этом, чтобы он ее не слишком
быстро "схватывал". Пусть он даже сразу подберет самые естественные
интонации для своего текста и самую удобную манеру произносить его, все
равно он обязательно должен рассмотреть само содержание текста как нечто не
совсем естественное, должен подвергнуть его сомнению и сопоставить его со
своими взглядами по общим вопросам, а также предположить, какие возможны
иные высказывания на ту же тему; словом, он должен действовать как человек,
которому все это в диковинку. Это необходимо не только для того, чтобы он не
завершил создание образа слишком рано, еще до того, как он уже высказал все,
а главное, воспринял высказывания других персонажей, - потому что тогда
пришлось бы еще дополнительно начинять образ всякой всячиной. Прежде всего
это нужно, чтобы внести в создание образа четкое противопоставление "не -
а", от которого зависит очень многое, если нужно, чтобы зрители,
представляющие в театре общество, могли вынести из показа событий
определенное убеждение: на эти события можно повлиять. К тому же каждый
актер должен не ограничиваться восприятием только того, что доступно ему как
нечто "общечеловеческое", а стремиться к тому, что ему еще недоступно, к
особенному, специфическому. И все свои первые впечатления, трудности,
возражения и недоумения актер должен запомнить вместе с текстом, чтобы при
окончательном оформлении образа они не утратились, не "растворились", а,
напротив, сохранились и оставались приметными, так как и создаваемый образ я
все прочее должно не столько убеждать зрителей, сколько поражать их.
Обучение актера также должно идти совместно с обучением других актеров,
а его работа над ролью - совместно с их работой над своими ролями. Потому
что наименьшая общественная единица - это не один, а два человека. Ведь и в
жизни мы создаем себя во взаимодействии с другими.
Одним из скверных обычаев нашего театра является то, что ведущий актер,
"звезда", выделяется еще и потому, что заставляет всех других актеров
прислуживать себе: персонаж, изображаемый им, оказывается устрашающим или
мудрым потому, что исполнитель этой роли вынуждает своих партнеров
изображать персонажей, трепещущих от страха или почтительно внемлющих герою.
Хотя бы для того, чтобы предоставить это преимущество всем участникам и тем
самым содействовать раскрытию фабулы, актеры должны были бы на репетициях
иной раз Меняться друг с другом ролями, и тогда персонажи получали бы друг
от друга то, что каждому из них нужно. Полезно бывает для актера посмотреть
свою роль в исполнении дублера или в другой постановке. При исполнении
женской роли мужчиной (или наоборот) резче выступают черты пола, трагическая
роль, сыгранная комедийным актером, приобретает новый аспект. Участвуя в
разработке образов противников своего персонажа или хотя бы заменяя
исполнителей этих ролей, каждый актер обеспечивает себе прежде всего ту
решающую общественную точку зрения, руководствуясь которой он и показывает
создаваемый им образ. Барин лишь настолько барин, насколько ему позволяет
быть им его слуга.
К тому времени, когда данный образ попадает в среду других образов
пьесы, он уже претерпел бесчисленные обработки, и артист должен помнить все,
что он мог узнать о нем или предположить из текста роли. Но всего больше он
узнает о себе из того, как с ним будут обращаться другие персонажи пьесы.
Сферу, определяемую позициями, которые различные персонажи занимают по
отношению друг к другу, мы называем сферой сценически выразительного
поведения. Осанка, речь и мимика определяются тем или иным общественно
значимым поведением. Персонажи могут друг друга бранить, хвалить, поучать и
т. п. К позициям, которые занимает один человек по отношению к другому,
относятся и такие на первый взгляд сугубо личные проявления, как, например,
выражение физической боли или религиозности. Такая выразительность поведения
в большинстве случаев сложна и противоречива настолько, что ее уже нельзя
передать одним словом, и усиливая изображение, актер должен стараться ничего
не утратить, и, наоборот, усилить весь комплекс характерных особенностей
персонажа.
Актер овладевает образом, который он представляет, критически следуя за
всеми его проявлениями, а также за проявлениями противоборствующих ему всех
иных персонажей пьесы.
Чтобы понять суть сценически выразительного поведения, проследим
начальные сцены одной из моих новых пьес - "Жизни Галилея". Желая
рассмотреть, как именно происходит взаимное освещение различных проявлений
персонажа, допустим, что речь идет уже не о самом первом знакомстве с
пьесой. Действие начинается с утреннего умывания сорокашестилетнего героя.
То и дело он прерывает свое занятие, чтобы порыться в книгах и прочесть
мальчику Андреа Сарти лекцию о новой солнечной системе. Но разве ты, артист,
играющий сейчас эту сцену, не должен помнить о том, что в конце пьесы
семидесятивосьмилетний Галилей будет спокойно ужинать после того, как этот
же самый ученик навсегда покинет его? К тому времени он изменится куда
ужаснее, чем это могли бы сделать только годы. Он будет жрать с неудержимой
жадностью, не думая уже ни о чем другом; он постыднейшим образом откажется
от своего призвания учителя, словно от тяжкого бремени, а ведь некогда он
так небрежно глотал молоко и с такой жадностью спешил обучить мальчика. Но
разве он пьет молоко и впрямь небрежно? Разве в том наслаждении, которое он
испытывает и от молока и от умывания, нет определенной связи с его новыми
мыслями? Не забывай, что и в мышлении для него заключено сладострастие.
Хорошо это или дурно? Советую тебе изображать его действительно хорошим;
ведь во всей пьесе ты не обнаружишь ничего, что свидетельствовало бы о
вредности для общества такого рода мышления, да к тому же ты и сам, я
надеюсь, отважный сын эпохи науки. Но помни отчетливо: из-за этого
совершится еще много ужасного. Помни, что именно из-за таких особенностей
своего мышления этот человек, приветствующий новую эпоху, в конце концов
будет вынужден вступить с ней в поединок, эпоха же его с презрением
отвергнет, хотя и унаследует все его достояние. Что же касается лекции, тут
уж решай сам, действительно ли у него так переполнено сердце, что он не
может молчать и готов объяснять все каждому, хотя бы и ребенку, или именно
этот ребенок должен своей сообразительностью и любознательностью возбудить в
нем желание поделиться знаниями. А может быть, они оба не могут удержаться:
один - от вопросов, другой - от ответов. Такое братство тем более
примечательно, что позднее оно будет жестоко разрушено. Впрочем,
демонстрацию движения земли тебе придется проводить в спешке - ведь за это
тебе не платят, а с приходом незнакомого состоятельного ученика время
ученого уже приобретает цену золота. Хотя новый ученик и не любознателен,
заниматься с ним нужно - ведь Галилей беден и поэтому должен, горько
вздыхая, сделать выбор - предпочесть богатого разумному. Так как ему нечему
обучать новичка, он ухитряется сам у него поучиться - узнает о телескопе,
изобретенном в Голландии. Таким образом, он все же извлекает пользу из этой
помехи своим утренним занятиям. Приходит ректор университета. Ходатайство
Галилея о повышении жалованья отклонено: университет не хочет платить за
физические теории столько же, сколько он платит за богословские, и требует
от Галилея, который занимается таким в общем-то неприбыльным делом, как
исследования, чтобы он сделал что-нибудь практически полезное. Уже по тому,
как Галилей предлагает свой трактат, ты можешь убедиться, что он привык к
отказам и попрекам. Куратор замечает, что республика обеспечивает свободу
исследований, хотя и мало платит за них. Галилей возражает, что ему мало
толку от такой свободы, если нет свободного времени, которое может
обеспечить только хорошая оплата. Ты поступишь правильно, если не воспримешь
его нетерпение как этакое барство - ведь он же действительно беден, и этого
нельзя упускать из виду, потому что вскоре ты застигнешь его за
размышлениями, которые требуют известной мотивировки. Он - провозвестник
новой эпохи научных истин - прикидывает, как надуть республику и вытянуть у
нее деньги, предложив ей телескоп как свое изобретение. Ты с удивлением
обнаружишь, что в этом новом изобретении он видит только возможность добыть
деньги и исследует телескоп лишь затем, чтобы его присвоить. Но уже в
следующей сцене ты обнаружишь, что, продавая это чужое изобретение
Венецианской синьории и даже признося при этом недостойную лживую речь, он в
действительности уже почти забывает о деньгах, так как обнаружил, что
телескоп может иметь не только военное, но и астрономическое применение.
Таким образом, товар, который его вынудили произвести (теперь мы вправе
назвать это именно так), обнаружил высокое качество, полезное для тех самых
исследований, которые ученому пришлось прервать, чтобы произвести этот
товар. И когда он во время церемонии, явно польщенный незаслуженными
почестями, намеками говорит другу-ученому о своих чудесных открытиях
(кстати, не упускай из виду и того, как театрально он это делает), им
владеет значительно более глубокое волнение, чем то, которое возбуждалось
расчетами на вознаграждение. Но если его обман оказывается и не очень
значительным, все же он показывает, что этот человек способен пойти легким
путем и применять свой разум как для высоких, так и для низменных целей. Ему
предстоят трудные испытания, а разве любая уступка совести не облегчает
новой уступки?
Анализируя такого рода представления о жестах, артист осваивает образ
тем, что осваивает _фабулу_. Только исходя из нее, то есть из всего
конкретно определенного развития событий, артист может одним скачком достичь
такого окончательно завершенного представления об образе, в котором слиты
все отдельные черты этого образа. Если артист во всех конкретных случаях
действительно удивлялся противоречиям между различными проявлениями образа,
зная, что и публике придется этому удивляться, то фабула в целом
предоставляет ему возможность сочетать противоречия. Потому что вся фабула
как определенная связь событий имеет и в корне определенный смысл, то есть
она удовлетворяет лишь некоторые из многих возможных интересов.
_Фабула_ является в конечном счете самым главным, она - сердцевина,
стержень всякого спектакля, так как именно из того, что происходит _между_
людьми, получается все, о чем можно спорить, что можно критиковать и
видоизменять. И если данный своеобразный человек, которого изображает актер,
в конечном счете окажется таким, который может быть пригоден и для чего-то
значительно большего, чем все происходящее на сцене, то главным образом
именно потому, что участие этого своеобразного человека сделало изображаемое
действие особенно примечательным. Важнейшим моментом в театре является
_фабула_, охватывающая все внешне проявляющиеся события, содержащая те факты
и мгновенные порывы, которые должны доставлять удовольствие зрителям.
Каждое отдельное событие определяется своим основным жестом. _Ричард
Глостер добивается вдовы убитого им брата. С помощью мелового круга
устанавливается, кто из двух соперниц настоящая мать ребенка. Бог спорит с
дьяволом за душу доктора Фауста. Войцек покупает дешевый нож, чтобы зарезать
свою жену_, и т. п.
Группируя персонажи на сцене и приводя в движение эти группы,
необходимо добиваться красоты главным образом изяществом в разработке и в
раскрытии перед зрителем всей системы жестов.
Зрители вовсе не должны быть низвергнуты в драматическую фабулу, как в
реку, которая понесет их, швыряя то в одну, то в другую сторону. Поэтому
необходимо отдельные события драмы связывать между собою так, чтобы узлы
были очевидны; события не должны следовать одно за другим неприметно; нужно,
чтобы в промежутках между ними могло родиться суждение. (Если же интересна
затемненность, непроницаемость связей, то это нужно специально подчеркнуть
очуждением.) Таким образом, отдельные части фабулы нужно тщательно
согласовать между собой, придав каждой из них внутреннюю структуру, так
сказать, маленькой пьески внутри большой пьесы. Для этого лучше всего
прибегнуть к заголовкам, подобным тем, что даны в предыдущем пункте.
Заголовки должны содержать общественно значимую суть явления и вместе с тем
как-то определять желаемый метод и стиль исполнения, подражая, в зависимости
от этого, хронике, балладе, газете, бытописательному очерку. Простое
изображение, основанное на "эффекте очуждения", применяется чаще всего
тогда, когда показывают нравы и обычаи. Приход гостей, обращение с врагом,
свидание влюбленных, политическое или деловое совещание можно представлять
так, словно просто показываешь местные обычаи. В такой постановке
единственное в своем роде и неповторимое происшествие оказывается
своеобразно "очужденным", так как представляется как нечто обыденное,
повседневное, вошедшее в обычай. Уже сама по себе такая постановка вопроса
(действительно ли представленное явление или какая-то часть его стало
обычаем, традицией?) очуждает это явление. Поэтический стиль изображения
исторических событий можно изучать и в ярмарочных балаганах, в так
называемых панорамах. Так как "очуждение" может означать вместе с тем и
прославление, то некоторые события можно представить на сцене так, словно
они уже давно были общеизвестны во всех своих подробностях, то есть так,
будто приходится заботиться лишь о том, чтобы ни в чем не погрешить против
летописей. Короче: можно представить себе много жанров эпического искусства;
среди них есть и известные, и такие, которые еще предстоит открыть.
Что и как именно следует очуждать, зависит от трактовки общей
совокупности событий; при этом театр должен основательно учитывать запросы
своего времени. Возьмем для примера трактовку старой пьесы "Гамлет". В то
кровавое и мрачное время, когда я пишу эти строки, взирая на преступления
господствующего класса, когда все шире распространяется сомнение в
человеческом разуме, силой которого то и дело так страшно злоупотребляют,
этот сюжет, мне кажется, можно прочесть следующим образом. Это время частых
войн. Отец Гамлета, король Дании, одержал победу в захватнической войне и
убил короля Норвегии. Но пока сын норвежского короля Фортинбрас готовился к
новой войне, датского короля убил его собственный брат. Братья убитых
королей, ставшие теперь сами королями, избегают войны между собой, и ради
этого норвежским войскам предоставлено разрешение пройти через датские
владения, чтобы вести захватническую войну в Польше. Но юного Гамлета
призывает дух его воинственного отца отомстить убийце. Гамлет вначале
колебался, не решаясь воздать за одно кровавое дело другим кровавым делом;
он уже даже согласился отправиться в изгнание, однако на побережье Гамлет
встретил юного Фортинбраса, идущего со своими войсками в Польшу. Пораженный
этим примером воинственности, он возвращается назад и учиняет дикую резню,
убивая сразу дядю, мать и себя самого и тем самым оставляя Данию норвежцу. В
этих событиях мы видим, как молодой, но уже несколько обрюзгший человек
весьма неудачно пользуется новым знанием, приобретенным в Виттенбергском
университете. Это знание мешает ему в тех феодальных делах, к которым он
снова вернулся. В столкновениях с неразумной практикой его собственный разум
совершенно непрактичен. И Гамлет становится трагической жертвой этого
противоречия между своим резонерством и своими действиями. Именно такое
прочтение пьесы, которая допускает много разных прочтений, могло бы, на мой
взгляд, заинтересовать наших зрителей.
Потому что все примеры движения вперед, каждое новое открытие,
освобождающее творчество от власти природы, ведущее к преобразованию
общества, все новые попытки, предпринятые человечеством, чтобы улучшить свою
судьбу, независимо от того, изображает ли их литература удачными или
неудачными, доставляют нам чувство торжества и уверенности, радуют сознанием
возможности великих перемен. Именно это выражает Галилей словами: "По-моему,
земля очень благородна и достойна восхищения перед лицом множества своих
разнообразных перемен в непрерывной смене поколений".
Главной задачей театра является изложение фабулы и ее воплощение с
помощью соответствующих приемов очуждения. Отнюдь не все должен делать сам
актер, хотя, с другой стороны, ничто не должно делаться вне связи с актером.
_Фабулу_ излагает, выражает и представляет весь театр как целое, весь
коллектив - актеров, режиссеров, художников, костюмеров, музыкантов и
хореографов. Все они объединяют свои усилия в одном общем деле, не теряя,
однако, при этом своей самостоятельности.
Тот общий жест показа, которым всегда сопровождается на сцене выделение
особенно важного, подчеркивается музыкальными обращениями к зрителям в
песнях. Поэтому актеры должны не "неприметно переходить" к пению, а
подчеркнуто отделять его от остального действия, чему лучше всего помогут
некоторые специфические театральные средства, например перемена освещения
или титры. Музыка же со своей стороны должна во что бы то ни стало
сопротивляться полному ее поглощению, не допускать, чтобы ее низводили до
роли бездумной служанки. Она должна не "сопровождать", а пояснять действие.
И она не должна удовлетворяться "высказыванием" определенного настроения,
возникающего в связи с определенными событиями на сцене. Так, например,
_Эйслер_ отлично сумел осуществить связь событий, написав к сцене карнавала
(к процессии ремесленных цехов в "Галилее") торжественную и грозную музыку,
возвещающую тот мятежный поворот, который простой народ придал
астрономическим теориям ученого. То же и в "Кавказском меловом круге":
холодная, монотонная песня, которая описывает представленную на сцене
пантомиму - спасение ребенка служанкой, - раскрывает ужас того времени,
когда материнство становится самоубийственной слабостью. Таким образом, у
музыки есть много возможностей утвердить в театре свою полную
самостоятельность и дать свое решение темы. Однако она служит и чисто
развлекательным целям.
Подобно тому как музыкант обретает свободу, как только избавляет себя
от необходимости создавать настроение, облегчающее зрителям возможность
безудержно отдаваться событиям на сцене, точно так же обретает свободу и
театральный художник, если он не должен больше, оборудуя сценическую
площадку, добиваться иллюзии какого-то определенного помещения или
местности. Тогда достаточно и намеков. Однако они должны давать больше
исторически и общественно интересных сведений, чем их дала бы реальная
обстановка. В Московском еврейском театре сооружение, напоминавшее
средневековую дарохранительницу, служило "эффекту очуждения" "Короля Лира";
_Неер_ ставил "Галилея" на фоне проекций географических карт, документов и
картин Возрождения; в театре Пискатора в спектакле "Тай-Янь пробуждается"
_Хартфилд_ использовал фон из знамен с надписями, в которых отмечались
изменения в политической обстановке, иной раз вовсе неизвестные героям на
сцене.
Перед хореографией также вновь встали реалистические задачи. В
последнее время было распространено заблуждение, будто хореографии нечего
делать при изображении "людей, как они есть в действительности". Когда
искусство отражает жизнь, оно становится своего рода зеркалом. Искусство
перестает быть реалистическим не тогда, когда оно изменяет пропорции, а в
том случае, когда оно изменяет их настолько, что зрители потерпели бы
поражение, если бы практически руководствовались картинами, им созданными.
Конечно, необходимо, чтобы стилизация не уничтожала естественность, а
усиливала ее. Во всяком случае, театр, в котором все определяется сценически
выразительным поведением, не может обойтись без хореографии. Грация
движения, изящество композиции уже сами по себе очуждают, а мимические
находки превосходно помогают раскрытию фабулы.
Таким образом, все братские искусства, связанные с искусством актерской
игры, призываются не для того, чтобы создать некое "единое произведение
искусства", в котором все бы они растворились и затерялись; нет, все они
вместе с искусством актера должны решать общую задачу различными путями, и
их взаимодействие заключается в том, что все они взаимно очуждаются.
Здесь следует еще раз напомнить, что их задачей является развлечение
людей эпохи науки, к тому же развлечение эмоциональное и веселое. Об этом
нужно повторять постоянно, особенно нам, немцам, и такое напоминание не
будет излишним, потому что у нас все слишком легко превращается в нечто
бестелесное и необозримое, и мы начинаем говорить о мировоззрении уже после
того, как собственно материальный мир для нас утрачен. Даже сам материализм
у нас немногим отличается от "чистой" идеи. Наслаждения любви у нас
превращаются в супружеские обязанности, а под обучением мы понимаем не
радость познания, а тыканье во что-либо носом. В нашей деятельности нет
ничего от радостного взаимодействия с окружающим, и, говоря о своих
достижениях, мы указываем не на то, какое они нам доставили удовольствие, а
на то, сколько пота они нам стоили.
Следует сказать и о том, как передать зрителям все созданное на
репетициях. Необходимо, чтобы собственно игра основывалась на жесте вручения
чего-то законченного. Перед зрителем предстает то, чем мы обладали уже
множество раз, сохранив лишь это и отбросив все другое. Созданные нами
завершенные образы должны быть переданы зрителю с ясным сознанием всего
происходящего, так, чтобы их можно было и воспринимать также вполне
сознательно.
Дело в том, что изображения должны восприниматься как нечто вторичное.
Главное - это то, что изображается, - общественное бытие и удовольствие,
доставляемое совершенством изображений, должно перерастать в более высокое
удовольствие, доставляемое тем, что закономерности общественного бытия
раскрываются как преходящие, временные, несовершенные. Тем самым театр
позволяет своим зрителям выйти за пределы непосредственно наблюдаемых
событий, и этот выход плодотворен. Свои ужасные,, нескончаемые труды,
плодами которых он должен жить, зритель пусть воспринимает в своем театре
как развлечение, заодно с ужасами непрерывных своих изменений. Пусть здесь
он творит себя самым легким способом: ведь самый легкий способ существования
- в искусстве.
ДОБАВЛЕНИЯ К "МАЛОМУ ОРГАНОНУ"
Дело не только в том, что искусство обучает, доставляя в то же время
наслаждение. Противоречие между учением и наслаждением нужно четко уяснить
себе, ибо оно чрезвычайно важно в наш век, когда знания приобретаются для
того, чтобы перепродавать их по максимально высокой цене, и когда даже
высокая цена позволяет тем, кто ее платит, эксплуатировать других людей.
Лишь тогда, когда творческие способности каждого получат полный простор,
учение сможет превратиться в наслаждение и наслаждение - в учение.
Если мы теперь отказываемся от термина "эпический театр", то это не
значит, что мы отказываемся от тех возможностей осознанного наслаждения,
которые он по-прежнему предоставляет. Просто этот термин слишком узко и
расплывчато выражает специфику этого театра; ему нужны более точные
определения и более сложные задачи. Кроме того, пользуясь этим термином,
обычно совершенно упускали из виду специфику драматизированного зрелища как
такового, а зачастую с непростительной наивностью просто молча исходили из
нее, как из чего-то само собой разумеющегося, например в таком духе: "Само
собой, и в эпическом театре речь идет о событиях, происходящих
непосредственно на глазах у зрителя и обладающих всеми или многими
признаками "сиюминутности"! (Точно таким же образом мы подчас неосторожно и
наивно исходим при всех вообще нововведениях из того, что театр в любом
случае остается театром, - а не превращается, например, в демонстрацию
научных опытов!)
Термин "театр века науки" также недостаточно емок. В "Малом органоне"
для театра", пожалуй, достаточно подробно говорится о том, что надо понимать
под веком науки, но название это в обычном своем значении загрязнено
беспрестанным употреблением.
Удовольствие, получаемое от старых пьес, тем больше, чем чаще мы имеем
возможность наслаждаться новыми, более близкими нам по духу развлечениями.
Поэтому необходимо прививать вкус к истории, - который нам нужен и для новых
пьес, - доводя его до настоящей страсти {Наши театры, ставя старинные пьесы,
обычно стараются замазать различия, перекинуть мостики, приглушить специфику
эпохи. Но где же тогда удовольствие от проникновения в глубь веков, от
удаленности, необычности? А ведь это удовольствие одновременно и радость
узнавания близкого и знакомого!}.
В периоды бурных социальных сдвигов, животворных и смертоносных
одновременно, закат гибнущих классов совпадает с зарей грядущих. Это те
самые сумерки, когда сова Минервы пускается в свой полет.
Театр века науки в состоянии превратить диалектику в наслаждение.
Неожиданные повороты логически - плавно или скачкообразно - развивающегося
действия, изменчивость всех обстоятельств, остроумная противоречивость и так
далее - все это приносит наслаждение, источник которого - жизненность людей
и процессов, а потому наслаждение это стимулирует и жизнеспособность и
жизнерадостность.
Все виды искусств служат величайшему из искусств - искусству жить на
земле.
Нашему поколению полезно прислушаться к призыву избегать при
сценическом воплощении вживания в образы пьесы, как бы безапелляционно он ни
звучал. С какой бы убежденностью ни следовало оно этому совету, оно вряд ли
смогло бы выполнить его до конца, а так мы кратчайшим путем приходим к
поистине зияющему противоречию между переживанием и изображением, вживанием
в образ и исполнением роли, оправданием и осуждением, что и требуется. А тем
самым к ведущей роли критического начала.
Противоречие между игрой (исполнением роли) и переживанием (вживанием в
образ) неискушенные в специфике театрального искусства воспринимают как
выбор актером непременно одного из этих двух путей (или: "Малый органон"
требует-де лишь изображать, старая же школа - лишь переживать). В
действительности же речь идет, конечно, о двух взаимно противоположных, но
отнюдь не исключающих друг друга процессах, объединяемых в единое целое
работой актера над ролью (актерская игра - не просто механическая смесь того
и другого). Из борьбы и полярности этих противоположных подходов, как бы из
самых их глубин, возникает собственно сценическое, актерское воздействие
пьесы на публику. В возникших недоразумениях до некоторой степени повинна
манера изложения "Малого органона". Она часто вводит в заблуждение из-за
того, что главная сторона противоречия {См.: Мао Цзэ-дун, Избранные
произведения, т. II, М., Изд-во иностранной литературы, стр. 450.}
подчеркивается, пожалуй, чересчур нетерпимо и категорично.
И все же искусство обращено ко всем, оно и к тиграм выходит с песней на
устах. И нередко тигры начинают подпевать! Новые идеи, притягательные своей
очевидной плодотворностью, независимо от того, кому достанутся их плоды,
нередко просачиваются из подымающихся классов "наверх" и проникают в умы,
которые вообще-то ради сохранения своих привилегий должны были бы им
воспротивиться. Ибо принадлежность к какому-то классу вовсе не гарантирует
невосприимчивости к идеям, бесполезным для этого класса. Как представители
угнетенных классов могут подпасть под влияние идей своих угнетателей, точно
так же и представители угнетающего класса подпадают под влияние идей
угнетенных. Бывают периоды, когда классы борются за руководящую роль в
человеческом обществе, и стремление быть в первых рядах и двигаться вперед
овладевает всеми, кроме самых отсталых. Версальский двор рукоплескал Фигаро
не только за его язвительное остроумие.
_Сюжет_ представляет собой не просто какую-то цепь событий социальной
жизни, копирующую их реальную последовательность, а определенный замыслом
автора ряд процессов, в которых выражаются его мысли о человеческом
обществе. Таким образом, персонажи художественного произведения - не просто
двойники живых людей, а образы, очерченные в соответствии с идейным замыслом
автора.
Знание людей, почерпнутое актером из жизни или из книг, зачастую
вступает в противоречие с событиями и образами, созданными замыслом
драматурга, и это противоречие необходимо выявлять и доносить до зрителя при
исполнении роли. Актеры должны черпать одновременно из кладезя жизни и из
литературного источника, ибо в их работе, как и в труде драматурга,
действительность должна быть представлена щедро и остро, чтобы четко
выявилось то общее или то индивидуальное, что свойственно той или иной
пьесе.
Изучение роли должно в то же время охватывать и изучение сюжета, или,
вернее, должно начинаться с изучения сюжета. (Что происходит с героем? Как
он воспринимает происходящее? Как он поступает? С какими взглядами ему
приходится сталкиваться? И так далее.)
Для этого актеру придется мобилизовать все свое знание жизни и людей, и
вопросы, которыми он при этом задается, должны быть вопросами диалектика.
(Некоторыми вопросами задаются только диалектики.)
Например: актер должен играть Фауста. Любовь Фауста и Гретхен приводит
к трагедии. Возникает вопрос: произошло бы это, если бы Фауст женился на
Гретхен? Обычно этим вопросом не задаются. Он кажется чересчур банальным,
пошлым, мещанским. Фауст - олицетворение гения, высокого духа, стремящегося
познать бесконечное; как тут вообще можно спрашивать, почему он на ней не
женится? Но простые люди задают этот вопрос. Уже одно это должно заставить
актера задуматься над ним. А поразмыслив, он поймет, что это очень нужный,
очень полезный вопрос.
Конечно, сначала нужно разобраться в том, в какой обстановке
развиваются их любовные отношения, как они соотносятся с сюжетом в целом,
каково их значение для основной идеи произведения. Отказавшись от "высоких",
абстрактных, "чисто духовных" поисков смысла жизни, Фауст предается "чисто
чувственным" земным наслаждениям. При этом его отношения с Гретхен
приобретают трагическую окраску, иными словами, между ним и Гретхен
возникает конфликт, их любовь кончается разрывом, наслаждение оборачивается
страданием. Конфликт приводит к гибели Гретхен - тяжелый удар для Фауста.
Однако правильно показать этот конфликт можно, только поставив его в связь с
другим, куда более значительным конфликтом, проходящим красной нитью через
обе части трагедии. Фауст спасается от мучительного противоречия между
"чисто духовными" поползновениями и не удовлетворенными, да и не могущими
быть удовлетворенными "чисто чувственными" желаниями, - спасается при помощи
дьявола. В "чисто чувственной" сфере (любовная история) Фауст попадает в
коллизию с окружающей действительностью, олицетворенной в Гретхен, и губит
ее, чтобы спастись самому. Разрешение основного противоречия содержится лишь
в самом конце трагедии и проясняет значение и место более мелких
противоречий. Фаусту приходится отказаться от своей чисто потребительской,
паразитической концепции. В плодотворном труде на благо всего человечества
объединяются духовное и чувственное начала, и в созидании жизни заключается
ее смысл.
Возвращаясь к нашей любовной истории, мы видим, что женитьба на
Гретхен, несмотря на всю тривиальность подобной развязки, несовместимость ее
с гениальной личностью Фауста и линией его жизни, была бы относительно
лучшим, более разумным выходом из положения, ибо оказалась бы обычным для
того времени союзом, в котором возлюбленную ожидала бы не гибель, а духовное
развитие. Правда, при этом Фауст вряд ли остался бы самим собой, а, как
сразу становится ясно, измельчал .бы как личность, и т. д. и т. п.
Актер, смело ставящий вслед за простыми людьми этот вопрос, сможет
представить трагическую любовь к Гретхен как четко очерченную фазу развития
Фауста, в то время как в противном случае он лишь поможет показать, - как
это обычно и происходит, - что тот, кто хочет вознестись над людьми,
неизменно приносит им одни страдания, что вечный трагизм жизни заключается в
расплате за чувственные и духовные наслаждения, короче, воплотит насквозь
мещанскую и антигуманную мораль: "лес рубят - щепки летят".
Режиссеры буржуазного театра всегда стремятся к замазыванию
противоречий, к иллюзии гармонии, к идеализации. Человеческие отношения
изображаются как единственно возможные; действующие лица - как
индивидуальности в буквальном смысле слова, то есть неделимые от природы:
"отлитые из одного куска", они верны своему "я" в любых обстоятельствах и по
сути дела существуют вообще вне обстоятельств. А если они иногда и
показываются в развитии, то развитие это всегда бывает лишь постепенным,
отнюдь не скачкообразным, и ограничено вполне определенными рамками, за
которые ни в коем случае не выходит.
Все это не соответствует действительности, а следовательно, должно быть
отброшено реалистическим театром.
Подлинное, глубокое, активное применение эффекта очуждения
предполагает, что общество рассматривает себя как исторически обусловленную
и допускающую дальнейшее развитие формацию. Подлинное очуждение носит боевой
характер.
Что сцены сначала просто играют одну за другой, не слишком увязывая их
с последующими и даже с общим замыслом пьесы, основываясь лишь на своем
знании жизни, имеет большое значение для воплощения жизненно достоверного
сюжета. Тогда-то он и развивается в борьбе противоречий, каждая сцена в
отдельности сохраняет свое собственное звучание, все они вместе составляют и
исчерпывают богатство идейного содержания пьесы, а их совокупность, сюжет,
развивается с жизненной достоверностью, зигзагами и скачками, причем удается
избежать той пошлой идеализации, когда каждая реплика вытекает из
предыдущей, и подчинения отдельных звеньев пьесы, совершенно лишенных таким
образом самостоятельного значения и играющих чисто служебную роль, все
улаживающей концовке.
Приведем цитату из Ленина: "Условие познания всех процессов мира в их
"_самодвижении_", в их спонтанейном развитии, в их живой жизни, есть
познание их, как единства противоположностей" {В. И. Ленин, Философские
тетради, изд. 4, т. XXXVIII, стр. 358.}.
Независимо от того, как отвечают на вопрос, должен ли театр быть в
первую очередь средством познания действительности, факт остается фактом:
театр должен отображать действительность, и это отображение должно быть
правдивым. Если утверждение Ленина соответствует истине, то такое
отображение невозможно без знания диалектики - и без обучения диалектике
зрителя.
Могут возразить: как быть с искусством, действие которого основывается
на искаженном, фрагментарном, невежественном отображении мира? Как быть с
искусством дикарей, умалишенных и детей?
Вероятно, можно обладать такими обширными знаниями и способностью
удерживать их в памяти, чтобы даже из такого отображения извлекать
рациональное зерно, но нам кажется, что слишком уж субъективное отображение
действительности оказывало бы антиобщественное воздействие.
В ЗАЩИТУ "МАЛОГО ОРГАНОНА"
В отказе от чересчур темпераментного исполнения некоторые усматривают
угрозу действенности театра, связывая все это с закатом буржуазии.
Пролетариату требуется, дескать, наваристая пища, "полнокровная",
эмоционально захватывающая драма, в которой противоположности с треском
сталкиваются лбами, и т. д. и т. п. Как же, помнится, у бедняков предместья,
где прошло мое детство, селедка считалась сытной едой.
Я убедился, что многие из моих высказываний о театре истолковываются
неправильно. Одобрительные отзывы убеждают меня в этом больше всего. Читая
их, я чувствую себя в положении математика, которому пишут: "Я вполне
согласен с Вами в том, что дважды два пять!" Как мне кажется, некоторые из
моих высказываний неправильно истолковываются потому, что я не сформулировал
ряда важных положений, предполагая их известными.
Большинство этих высказываний, если не все, представляют собой
замечания к моим пьесам. Они написаны как руководство для правильной
постановки этих пьес, что придает высказываниям до известной степени сухой,
профессиональный характер - так скульптор писал бы о том, как лучше
выставить его работу: в каком зале, на каком постаменте и т. д. Бесстрастная
инструкция, и только. Корреспонденты, возможно, надеялись узнать у него
кое-что и о том, как создавалась скульптура и что вдохновляло ее автора.
Однако, прочитав такую инструкцию, они лишь с трудом смогли бы себе это
представить.
Возьмем, например, мои заметки о технике актерской игры. Конечно,
искусство без условностей не обходится, и весьма важно показать, "как это
делается". Особенно если искусство в течение полутора десятилетий находилось
во власти варваров, как это было у нас. Но отсюда не следует, что можно
изучить и освоить актерское мастерство холодно, "без души". Без души, чисто
механически, нельзя научиться даже правильной речи и правильному
произношению, что, кстати, крайне необходимо большинству наших актеров.
Так, например, актер должен говорить внятно и отчетливо, но задача
здесь заключается не только в правильной артикуляции гласных и согласных, но
также, и даже главным образом, в понимании смысла произносимого. Если актер,
овладевая речью, не научится одновременно доносить до зрителя смысл своих
реплик, то его артикуляция будет механической, а его "хорошее произношение"
реплик вообще лишит их смысла. Кроме того, отчетливость речи сама по себе
имеет множество различий и градаций. Она различна у различных классов
общества. Какой-либо крестьянин говорит внятно и отчетливо в отличие от
другого крестьянина, но эта отчетливость - иная, чем у внятно говорящего
инженера. Следовательно, актеру, который учится говорить со сцены, нужно
постоянно стремиться к тому, чтобы его речь была гибкой, эластичной. Он ни
на минуту не должен забывать о языке окружающих его людей.
Далее, встает вопрос о диалектах. И здесь техническую сторону дела
необходимо связывать с проблемами общего характера. Язык сцены основан у нас
на литературном немецком языке, но со временем он стал очень манерным,
малоподвижным и превратился в совершенно особую ветвь литературного языка,
уже не столь гибкую, как современная повседневная речь. Пусть на сцене
говорят "приподнято", иными словами, пусть театр создает свой собственный
язык, язык сцены. Но этот язык должен сохранять способность к развитию,
должен быть живым, разнообразным. Народ говорит на диалекте. На диалекте он
выражает свои самые сокровенные мысли. Как же могут наши актеры играть людей
из народа и говорить с народом, не обращаясь к диалекту так, чтобы звучание
его слышалось подчас и в языке сцены?
Другой пример: актер должен учиться экономно расходовать свой голос,
чтобы не охрипнуть. Но он должен, конечно, уметь играть и человека, который
от волнения хрипит или кричит. Следовательно, упражнения актера должны
содержать в себе элемент игры.
Формалистической и бессодержательной, неглубокой и неживой будет игра
наших актеров, если мы, обучая их, забудем хоть на минуту о том, что задача
театра - создавать образы живых людей.
Здесь я подхожу к вопросу, поставленному Вами: Вам кажется, что мое
требование к актеру не преображаться полностью в действующее лицо пьесы, а,
так сказать, оставаться рядом с ним и критически его оценивать, сделает игру
полностью условной и в большей или меньшей степени лишит ее жизненности,
человечности. Я думаю, что это не так. В том, что такое впечатление
возникло, повинна скорей всего моя манера писать: слишком многое кажется мне
само собой разумеющимся. Будь она неладна, эта манера! Конечно, на сцене
реалистического театра место лишь живым людям, людям во плоти и крови, со
всеми их противоречиями, страстями и поступками. Сцена - не гербарий и не
музей, где выставлены набитые чучела. Задача актера - создавать образы
живых, полнокровных людей. Если вам доведется посмотреть наши спектакли, то
вы увидите именно таких людей. И они живут на сцене не вопреки, а благодаря
нашим принципам.
Но иногда актер полностью растворяется в своей роли. В результате образ
становится настолько само собой разумеющимся, что его просто нельзя себе
иначе представить; остается принять его таким, каков он есть. Зрителю
предлагается нечто совершенно бесплодное - он должен "все понять и все
простить", как этого особенно настойчиво добивались натуралисты.
Мы, работники театра, стремимся изменить человеческую природу не
меньше, чем кто бы то ни было в нашем обществе, и должны поэтому найти
способы "показывать человека со стороны", показывать, что воздействие
общества способно изменить его. Это требует от актеров коренной перестройки,
ибо до последнего времени театральное искусство основывалось на том, что
человек, на беду обществу и к несчастью для самого себя, всегда остается
таким, каков он есть, "каким его создала природа", "человеком вообще" и т.
д. Актеру следует в мыслях и в чувствах выражать свое собственное отношение
к создаваемому образу и его поступкам. Необходимая перестройка актера - это
не бездушная и не механическая операция. Бездушному, механическому нет места
в искусстве, а эта перестройка является частью искусства и немыслима без
подлинного контакта с новым зрителем, без горячего стремления к
общечеловеческому прогрессу.
Таким образом, продуманные мизансцены наших спектаклей не представляют
собой явление "чисто эстетическое", рассчитанное на эффект, на формальные
красоты. Эти мизансцены являются частью театра 'большой тематики, театра
нового общества и порождены глубоким пониманием и страстным утверждением
новой системы человеческих взаимоотношений.
Я не могу заново переписать замечания к моим пьесам. Примите же пока
эти строки как дополнение к ним, как попытку разъяснить то, что я ошибочно
полагал само собой разумеющимся.
Впрочем, я должен еще остановиться на той сравнительно сдержанной
манере игры, которая заметна иногда в спектаклях "Берлинского ансамбля".
Такая сдержанность не имеет ничего общего ни с нарочитой объективностью -
ведь наши актеры выражают свое отношение к создаваемым ими образам, - ни с
холодным умствованием: в пылу боя разум никогда не остается безучастным
наблюдателем. Сдержанность эта объясняется только тем простым
обстоятельством, что наши спектакли избавлены от воздействия не в меру
пылкого темперамента. Для подлинного искусства сама тема является источником
вдохновения. Там, где зритель подчас склонен усматривать сдержанность,
проявляется лишь та суверенная внутренняя сила, без которой нет искусства.
Нижеследующие работы, развивавшие сорок пятый раздел "Малого органона"
для театра", ведут к предположению, что термин "эпический театр" слишком
формален для задуманного (и отчасти уже осуществляемого) театра. Для
предлагаемых размышлений эпический театр - исходная посылка, однако он сам
по себе еще не открывает творческих возможностей и способности к изменению,
которые заключены в обществе и представляют собой основные источники
эстетического наслаждения. Поэтому термин "эпический театр" должен быть
признан недостаточным, хотя мы и не можем предложить другой.
1. ИЗУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ СЦЕНЫ ТРАГЕДИИ ШЕКСПИРА "КОРИОЛАН"
Б. С чего начинается пьеса?
Р. Кучка плебеев вооружилась, чтобы убить народного врага Кая Марция,
патриция, который возражает против снижения цены на хлеб. Они говорят, что
нищета плебеев - это благоденствие патрициев.
Б. ?
Р. Я что-нибудь опустил?
Б. Упоминаются ли заслуги Марция?
Р. Да, и опровергаются.
П. Вы полагаете, что между плебеями полного единства нет? Но ведь они
очень энергично подчеркивают свою решимость?
В. Слишком. Когда люди так сильно подчеркивают свою решимость, это
значит, что они лишены решимости или были лишены ее в прошлом, причем в
очень_сильной степени.
П. В обычном театре эта решимость всегда носит комический характер;
плебеи выглядят смешно, в особенности потому, что у них неподходящее оружие
- колья, палки. Да они и сдаются сразу, - во всяком случае, после
красноречивого монолога патриция Агриппы.
Б. У Шекспира не так.
П. Но так - в буржуазном театре.
Б. Это верно.
Р. Положение осложняется. Вы ставите под сомнение решимость плебеев, но
не хотите признавать их комизма. При этом вы все же считаете, что они не
поддаются на демагогию патрициев. Чтобы им и тут не оказаться в комическом
положении?
Б. Если бы они поддались этой демагогии, я воспринимал бы ситуацию не
как комическую, а как трагическую. Такая сцена была бы возможна, - подобные
вещи бывают, но она была бы страшной. Мне кажется, вы недооцениваете того,
как трудно угнетенным объединиться. Их объединяет собственная нищета - когда
они понимают, кто ее виновник. "Наша нищета - это их благоденствие". В
прочих случаях нищета разъединяет их: ведь они вынуждены вырывать кусок
хлеба друг у друга изо рта. Подумайте, как трудно людям решиться на
восстание. Для них это опасная авантюра, им приходится открывать и
прокладывать новые пути; а ведь господствующий класс сумел обеспечить
господство не только себе, но и своим идеям. Для масс восстание - это
действие скорее противоестественное, чем естественное, и как бы ни было
мучительно положение, из которого их может вывести только восстание, мысль о
нем для них так же тягостна, как для ученого - новое представление о
вселенной. При таких обстоятельствах нередко случается, что против единения
выступают те, кто поумнее, тогда как за него оказываются лишь самые умные.
Р. Значит, плебеи так и не достигли никакого единения?
Б. Нет, достигли. Второй горожанин тоже присоединяется к мятежникам. Но
мы не должны скрывать ни от самих себя, ни от зрителя те противоречия,
которые были преодолены, отброшены, отменены после того, как голод заставил
плебеев выступить на борьбу с патрициями.
Р. Я утверждаю, что из текста этого вычитать нельзя, если не знать
дальнейших событий.
Б. Согласен. Чтобы прийти к такому выводу, нужно прочесть всю пьесу.
Нельзя понять начала, не зная конца. Позднее в пьесе это единство плебеев
снова развалится, - поэтому желательно показать вначале, что оно достигнуто
с трудом, а не является само собой разумеющейся предпосылкой.
Р. Как же это показать?
Б. Не знаю, об этом мы еще будем говорить. Пока что мы ведем анализ
текста. Дальше.
Р. Следующий эпизод - выступление патриция Агриппы, он притчей
доказывает, что плебеям нужно быть под властью патрициев.
Б. Слово "доказывает" вы произносите так, будто ставите его в кавычки.
Р. Меня притча не убеждает.
Б. Эта притча пользуется всемирной известностью. Или вы необъективны?
Р. Вот именно.
Б. Так.
Р. Агриппа начинает с утверждения, что подорожание хлеба вызвано не
патрициями, а богами.
П. В те времена такой аргумент был убедителен, - я имею в виду древний
Рим. Разве не следует в интересах произведения уважать идеологию
определенной эпохи?
Б. В данном случае об этом можно не говорить. Шекспировские плебеи
приводят в ответ веские доводы. Притчу они тоже опровергают весьма
энергично.
Р. Плебеи возмущаются ценами на хлеб и ростовщичеством, они против
военных тягот или их несправедливого распределения.
Б. Последнее - это расширительное толкование.
Р. Против войны я здесь ничего не вижу.
Б. В тексте ничего этого и нет.
Р. Выступает Марций и бранит вооруженных плебеев; он считает, что их
надо усмирять не речами, а мечом. Агриппа пытается сыграть роль посредника и
говорит, что плебеям нужны дешевые цены на хлеб. Марций издевается над ними.
Дескать, плебеи рассуждают о вещах, в которых не разбираются - ведь в
Капитолий они доступа не имеют и потому ничего не смыслят в государственных
делах. Марций гневно опровергает утверждение, будто у государства
достаточные запасы хлеба.
П. Вероятно, он говорит об этом как военный.
В. Во всяком случае, когда вспыхивает война, он подогревает плебеев
тем, что амбары вольсков набиты хлебом.
Р. Придя в ярость, Марций сообщает, что сенат согласился дать плебеям
избранных ими народных трибунов, - Агриппа удивлен этим решением. Входят
сенаторы во главе с консулом Коминием. Вольски рвутся на Рим. Марций рад
предстоящей борьбе с вождем вольсков Авфидием. Его назначают под начало
консула Коминия.
Б. Он соглашается?
Р. Да. Но, кажется, сенаторы не совсем были в этом уверены.
Б. Есть разногласия между сенатом и Марцием?
Р. Едва ли очень существенные.
Б. Но мы читаем пьесу до конца. Марций - человек не слишком
покладистый.
В. Интересно, что он, презирая плебеев, относится с уважением к
национальному врагу, патрицию Авфидию. У него высокое классовое сознание.
Б. Мы ничего не упустили?
Р. Вместе с сенаторами появились оба новых народных трибуна, Сициний и
Брут.
Б. Вы, кажется, их забыли, потому что никто их не приветствовал и даже
не здоровался с ними.
Р. На плебеев теперь уже вообще почти не обращают внимания. Один из
сенаторов грубо требует, чтобы они разошлись по домам. Марций как бы шутя
возражает ему - пусть они следуют за ним в Капитолий. Он называет их крысами
и натравливает их на хлеб вольсков. Потом в ремарке сказано только: "Плебеи
потихоньку скрываются".
П. Судя по пьесе, их восстание пришлось на неудачный момент.
Наступление неприятеля создало напряженное положение, и это укрепило власть
в руках патрициев.
Б. А то, что сенат пошел на уступку плебеям, назначив трибунов?
П. Это было сделано без особой необходимости.
Р. Оставшись наедине, трибуны выражают надежду, что война поглотит
Марция вместо того, чтобы возвысить его, или приведет его к конфликту с
сенатом.
П. Конец сцены, кажется, слабоват.
Б. Вы думаете, по вине Шекспира?
Р. Возможно.
Б. Отметим эту неудовлетворенность. Но вот предположение Шекспира, что
война ослабляет позицию плебеев, кажется мне удивительно реалистическим. Это
прекрасно.
Р. Сколько событий в одной короткой сцене. И как по сравнению с этим
бедны содержанием новейшие пьесы.
П. Замечательно, что "экспозиция" оказывается в то же время и
стремительным началом действия.
Р. А каков язык притчи! Каков юмор!
П. И как интересно, что он не оказывает влияний на плебеев.
В. А природное остроумие плебеев! Как оно проявляется в репликах вроде:
"Агриппа. Неужто горя вы хлебнуть хотите? Плебеи. Да мы и так уже им
захлебнулись".
Р. Какая кристальная ясность в бранных речах Марция. Что за исполинская
фигура! И ведь он вызывает восхищение действиями, которые кажутся мне
достойными только презрения.
Б. А все эти крупные и мелкие конфликты, одновременно выплеснувшиеся на
сцену: восстание голодных плебеев - и война с соседним народом, вольсками;
ненависть плебеев к народному врагу Марцию - и его патриотизм; назначение
народных трибунов - и назначение Марция на один из главных командных постов
в армии. Разве бывает что-нибудь похожее в буржуазном театре?
В. Обычно вся эта сцена трактуется как экспозиция героического
характера Марция. Его изображают патриотом, которому мешают своекорыстные
плебеи и трусливо уступчивый сенат. В оценке сената Шекспир следует скорее
Титу Ливию, чем Плутарху: он понимает, что сенат не без оснований "печален и
смущен, испытывая двойной страх - перед плебеями и перед неприятелем". При
этих обстоятельствах буржуазный театр держит сторону не плебеев, а
патрициев. Плебеев изображают смешными и жалкими (а не полными юмора и
терпящими жалкую нужду), и реплика Агриппы, в которой он называет "странным"
согласие сената назначить народных трибунов, используется скорее для
характеристики сената, чем для того, чтобы установить связь между
наступлением вольсков и уступками, которые сенат вынужден делать плебеям.
Восстанию плебеев, ясное дело, кладет конец притча о чреве и взбунтовавшихся
членах, которая, имея в виду современный пролетариат, вполне буржуазии по
вкусу...
Р. У Шекспира Агриппа говорит Марцию отнюдь не о том, что речь его
имела успех у плебеев, но лишь о том, что, хотя у плебеев не хватает разума
(чтобы понять его речь), у них вполне достаточно трусости, - каковое
обвинение, впрочем, непонятно.
Б. Отметим.
Р. Зачем?
Б. Для актера эта неясность может послужить причиной нечеткого
поведения.
Р. Во всяком случае, то, как Шекспир изображает плебеев и их трибунов,
до известной степени помогает нашим театрам показать, что "неразумная"
позиция народа делает трудности, встающие перед героем-аристократом,
непреодолимыми, и это оправдывает последующее развитие его "гордости" до
крайних проявлений.
Б. Так или иначе, спекуляция зерном, которую предпринимают патриции,
играет у Шекспира известную роль, равно как и желание тех же патрициев во
что бы то ни стало привлечь плебеев к воинской службе (У Тита Ливия патриции
говорят: "...в мирное время простой народ распускается"), а также
несправедливое закабаление плебеев патрициями. Таким образом, у Шекспира
восстание носит не просто неразумный характер.
В. Но Шекспир и в самом деле дает мало материала для реализации
интересного места у Плутарха: "Когда таким образом в городе было
восстановлено согласие, низшие классы тотчас взялись за оружие и со всей
готовностью подчинились властям, которые повели их на войну".
Б. Поскольку мы стремимся узнать о плебеях все, что возможно, мы с
большим интересом прочитаем это место.
П.
"Ибо здесь идет, быть может,
Речь о знаменитых предках".
Р. И в другом пункте Шекспир не оказал аристократам поддержки. Он не
дал Марцию воспользоваться следующим местом у Плутарха: "От неприятеля не
укрылось мятежное поведение черни: вольски вторглись в страну и опустошили
ее огнем и мечом".
Б. Подведем итог первоначальному анализу. Вот примерно что из него
следует и что мы должны выявить на сцене: конфликт между патрициями и
плебеями отходит на второй план (во всяком случае, до поры), потому что
всеопределяющее значение приобретает конфликт между римлянами и вольсками.
Римляне, видя город в опасности, улаживают свои внутренние противоречия,
назначая плебейских комиссаров (народных трибунов). Плебеи добились
назначения трибунов, но враг римского народа Марций, как профессиональный
военный, по случаю войны оказывается у руководства.
Б. Из краткого анализа, произведенного вчера, следует, что для
постановки перед нами встает несколько очень увлекательных трудностей.
В. Как, например, показать, что ради единства плебеям нужно было
преодолеть сопротивление? Лишь сомнительным подчеркиванием их решимости?
Р. При пересказе я не упомянул об отсутствии единства, потому что
воспринял реплики Второго горожанина как провокационные. Мне казалось, что
он подвергает испытанию стойкость Первого горожанина. Но, вероятно, так
играть эту сцену не следует. Скорее всего, он еще колеблется.
В. Можно придумать причину, по которой ему не хватает боевого порыва.
Можно представить себе, что он одет лучше других, что он зажиточней. В то
время как Агриппа произносит речь, он может улыбаться его шуткам и так
далее. Он может быть инвалидом войны.
Р. И проявляет слабость?
В. Слабость духа. Ребенок обжегся, а его все тянет к огню.
Б. Как насчет вооружения?
Р. Они должны быть плохо вооружены, иначе добились бы трибунов, не
дожидаясь вторжения вольсков, но им нельзя быть слабыми, иначе им не
выиграть ни войны под началом Марция, ни войны против Марция.
Б. Они выигрывают войну против Марция?
Р. В нашем спектакле - конечно.
П. Они должны ходить в жалких лохмотьях, но значит ли это, что у них
должен быть жалкий вид?
Б. Какова ситуация?
Р. Внезапный народный мятеж.
Б. Значит, надо полагать, что вооружение у них импровизированное, но
ведь они могут быть и неплохими импровизаторами. Ведь это они изготовляют
оружие для армии, - кто же еще? Они могут изготовить копья, насадить большие
ножи на палки от метел, превратить кочергу в секиру и т. п. Их
изобретательность может вызвать уважение, их появление - сразу же приобрести
угрожающий вид.
П. Мы все говорим о народе; а как насчет героя? Даже Р., излагая
содержание сцены, обошел его.
Р. Сперва показана гражданская война. Это само по себе настолько важно,
что не может быть всего лишь подготовкой и фоном для появления героя. Разве
я могу начать так: однажды утром Кай Марций отправился осматривать свои
сады, появился на рынке, повстречался с народом, вступил с ним в пререкания
и так далее? Меня еще занимает следующее: как одновременно показать, что
речь Агриппы не производит никакого эффекта и в то же время производит
эффект?
В. Я еще не решил для себя вопрос, который поставил П.: не следует ли
рассмотреть все события относительно героя? Во всяком случае, мне кажется,
что до появления героя следует показать то силовое поле, в котором он
действует.
Б. Шекспир дает нам такую возможность. Только, может быть, мы
перегрузили эту проблему, и она стала сложнее?
П. А ведь "Кориолан" написан так, чтобы зритель испытал эстетическое
наслаждение именно от встречи с героем.
Р. Пьеса написана по реалистическим законам и содержит достаточно
противоречивого материала. Марций борется вместе с народом; народ - это не
просто постамент его статуи.
Б. Обсуждая сюжет пьесы, вы, по-моему, с самого начала пришли к тому,
что зритель должен испытывать эстетическое наслаждение, видя трагедию
народа, который вступает в единоборство с героем. Почему не следовать этому
намерению?
П. Для этого Шекспир дает не слишком много оснований,
Б. Думаю, что вы неправы. Но никто не вынуждает нас ставить эту пьесу,
если она не доставляет нам эстетической радости.
П. С другой стороны, если мы хотим иметь в виду только интерес к герою,
мы можем трактовать этот эпизод и так, что речь Агриппы не производит
никакого эффекта.
В. У Шекспира это так. Плебеи воспринимают ее насмешливо, даже с
какой-то жалостью к оратору.
Р. Мне пришлось отметить, что Агриппа говорит об их трусости, но почему
он так говорит?
П. Шекспир этого не мотивирует.
Б. Обращаю ваше внимание на то, что в шекспировских изданиях ремарок
нет, а если они и встречаются, то, видимо, прибавлены позднее.
П. Что может сделать режиссер?
Б. Мы должны показать, что Агриппа пытается добиться единения патрициев
с плебеями при помощи идеологических доводов, чисто демагогическими
средствами, и что эта попытка не имеет успеха; единение осуществится немного
позднее, впрочем, довольно скоро, - как только начнется война. Настоящее
единение навязано внешними причинами, военной мощью вольсков. Я обдумал одну
возможность, и вот что я предлагаю: пусть Марций со своими воинами появится
несколько раньше, до того, как Агриппа произнесет: "Привет, достойный
Марций", и как его появления потребует ремарка, прибавленная, вероятно, в
связи с данной репликой. Плебеи видят, как позади оратора появились воины, и
тут они могут проявить признаки смущения и нерешительности. Внезапная
агрессивность Агриппы тоже станет понятной, - ведь и он сам только что
увидел Марция с его воинами.
В. Но вы вооружили плебеев лучше, чем прежде было принято, - как же они
теперь отступят перед легионерами Марция?
Б. Легионеры вооружены еще лучше. К тому же плебеи не отступают. Здесь
мы можем усилить шекспировский текст. Колебание толпы в конце речи связано с
изменением ситуации, которое вызвано появлением воинов за спиной оратора. И
как раз это колебание показывает нам, что идеология Агриппы опирается на
силу, на силу римского оружия.
В. Но тут вспыхнул мятеж, а для единства требуется нечто большее, -
требуется, чтобы началась война.
Р. Марций тоже не может действовать, как ему хочется. Он появляется с
воинами, но "мягкость сената"
230
связывает его. Сенат только что дал черни право на представительство в
сенате, назначив народных трибунов. Шекспир поступил необыкновенно искусно,
вложив известие о создании трибуната в уста Марция. Как относятся к этому
плебеи? Как они воспринимают свой успех?
В. Можем ли мы изменить Шекспира?
Б. Я думаю, что мы можем изменить Шекспира, если мы способны его
изменить. Но мы условились говорить сначала только об изменениях толкования
- с тем, чтобы наш аналитический метод мог быть использован и без
перестройки текста.
В. Нельзя ли сделать так, чтобы Первый горожанин и был тем Сицинием,
которого сенат назначил трибуном? Тогда он оказался бы главарем восстания и
узнал бы о своем назначении из уст Марция.
Б. Это очень глубокое изменение.
В. В тексте ничего не пришлось бы менять.
Б. Как сказать. Существует нечто вроде удельного веса персонажа в
сюжете. Одно изменение могло бы возбудить тот или иной интерес, который бы
остался впоследствии неудовлетворенным, и т. д.
Р. Преимущество было бы в том, что можно было бы создать сценически
выраженную связь между восстанием и назначением трибунов. Плебеи могли бы
поздравить и трибунов, и самих себя.
Б. Но нельзя недооценивать той роли, которую сыграло вторжение
вольсков, - оно является главной причиной уступки, на которую пошел сенат.
Теперь вам придется строить спектакль и все это учитывать.
В. Плебеи должны были бы вместе с Агриппой удивиться этой уступке.
Б. Мне не хотелось бы давать решения. Не знаю, можно ли это сыграть без
текста, средствами одной только пантомимы. Кроме того, наша толпа горожан -
если мы выделим из нее отдельного человека - может быть, уже не будет понята
зрителем как воплощение половины плебейского Рима, как часть, представляющая
целое. Но вы, я вижу, смотрите с удивлением и неуверенностью на пьесу в
целом и на запутанные события этого дня в Риме, - острый глаз мог бы
обнаружить в них немало существенного. И, разумеется, если вы найдете ключ к
пониманию всех этих событий, вы вручите его публике!
В. Можно попытаться.
Б. Да, это, во всяком случае, можно.
Р. Чтобы принять решение относительно первой сцены, нам придется
разобрать всю пьесу. Я смотрю, вы не слишком воодушевлены, Б.
Б. Смотрите в другую сторону. - Как принимается известие о том, что
началась война?
В. Марций рад войне, как позднее обрадуется Гинденбург - он видит в ней
очистительную баню.
Б. Осторожнее.
Р. Вы полагаете, что эта война - оборонительная?
П. Может быть, это имеет здесь другой смысл, и обычные наши критерии
здесь неприменимы. Такие войны вели к объединению Италии.
Р. Под властью Рима.
Б. Под властью демократического Рима.
В. Который избавился от своих Кориоланов.
Б. Рима народных трибунов.
П. Плутарх сообщает о событиях после смерти Марция следующее: "Сперва
между вольсками и эквами, их союзниками и друзьями, возник спор о том, кому
должно принадлежать верховное командование, причем дело дошло до ранений и
убийств. Выйдя навстречу наступавшим римлянам, они почти что уничтожили друг
друга. После этого они потерпели поражение от римлян в битве..."
Р. Словом, без Марция Рим был не слабее, а сильнее.
Б. Прежде чем приступать к изучению начала, полезно прочитать не только
пьесу до конца, но также жизнеописания Плутарха и Тита Ливия - для Шекспира
они послужили источниками. Когда я сказал "осторожнее", я имел в виду вот
что: нельзя осуждать войны без их внимательного изучения, и даже
недостаточно разделить их на захватнические и оборонительные. Они переходят
друг в друга. Только бесклассовое общество, достигнув высокого уровня
производства, обходится без войн. Одно мне кажется несомненным: Марция
следует показать патриотом. В смертельного врага patria он превращается под
влиянием великих потрясений, - тех самых потрясений, которые составляют
содержание трагедии.
Р. Как плебеи принимают известие о начале войны?
П. Мы сами должны это решить, текст не дает указаний. Б. При решении
этого вопроса у нашего поколения, на его беду, есть преимущество перед
многими другими. У нас есть только выбор - представить это известие как
вспышку молнии, уничтожающую все до того данные заверения, или как известие,
не возбуждающее особого волнения. Третьего нет: мы не можем показать, что
оно не возбуждает особого волнения, если не подчеркнем это специально и,
может быть, как нечто ужасное.
П. Нужно показать, что оно имеет большие последствия - хотя бы уже
потому, что оно полностью меняет ситуацию.
В. Значит, примем, что сначала это известие парализует всех.
Р. Марция тоже? Он ведь сразу заявляет, что рад войне.
Б. И все-таки мы не будем видеть в нем исключение - он тоже подпадает
под действие паралича. Свои знаменитые слова "Я рад, война очистит Рим от
гнили" он сможет произнести, когда опомнится.
В. А плебеи? У Шекспира просто нет текста, а превратить отсутствие
реплик в безмолвие толпы - нелегко. К тому же остаются и другие вопросы.
Приветствуют ли плебеи своих новых трибунов? Дают ли им эти трибуны
какие-нибудь советы? Меняется ли их отношение к Марцию?
Б. Сценическое решение будет следствием того, что все эти вопросы не
имеют решений, то есть все они должны быть поставлены. Плебеи должны
столпиться вокруг трибунов, чтобы их приветствовать, но до приветствия у них
дело не дойдет. Трибуны должны хотеть дать совет плебеям, но и они до этого
не дойдут. Плебеи не дойдут до того, чтобы изменить свое отношение к Марцию.
Новая ситуация должна все это поглотить. В столь огорчительной для нас
ремарке, "Citizens steal away", видно изменение, происшедшее с того момента,
как горожане впервые появились на сцене. ("Enter a company of miutinous
citizens with clubs, staves, and other weapons".) Ветер переменился, теперь
он уже неблагоприятен для мятежей, всем угрожает страшная опасность, и для
народа существует только эта негативно показанная опасность.
Р. В нашем анализе мы, по вашему совету, отметили здесь неясность.
Б. Вместе с восхищением шекспировским реализмом. У нас нет причин не
следовать Плутарху, который сообщает о "величайшей готовности" простого
народа участвовать в войне. Это - новое единство классов, возникшее на
дурной почве; мы должны его исследовать и показать на сцене.
В. Прежде всего в это новое единство входят народные трибуны, они
выделяются из толпы, но бесполезны и бесценны - так оттопыривается раненый
большой палец. Как создать единство из них и их непримиримого, да и
неспособного к примирению противника Марция, который теперь стал так
необходим, необходим всему Риму, - как создать это видимое единство обоих
классов, только что еще боровшихся друг с другом?
Б. Я думаю, мы не сдвинемся с места, если будем наивно ждать озарений.
Нам придется обратиться к классическим примерам решения таких запутанных
положений. В сочинении Мао Цзэ-дуна "О противоречии" я подчеркнул одно
место. Что там сказано?
Р. Что в любом противоречивом процессе всегда есть главное
противоречие, которое играет ведущую, определяющую роль, тогда как остальные
имеют второстепенное, подчиненное значение. - В качестве примера он приводит
готовность китайских коммунистов прекратить борьбу против реакционного
режима Чан Кай-ши в момент, когда в Китай вторглись японцы. Можно привести
еще один пример: когда Гитлер напал на Советский Союз, даже изгнанные белые
генералы и банкиры поспешили заявить о своей солидарности с Россией.
В. Разве второй пример не представляет нечто иное?
Б. Нечто иное, и все же нечто сходное. Давайте рассуждать дальше. Перед
нами - противоречивое единство патрициев и плебеев, которое вовлечено в
противоречие с соседним народом вольсков. Теперь последнее противоречие -
главное. Противоречие между патрициями и плебеями, являющееся выражением
классовой борьбы, отодвинуто на второй план появлением нового противоречия -
национальной войны против вольсков. Однако оно не исчезло. (Народные трибуны
"выделяются, как оттопыренные большие пальцы".) Назначение народных трибунов
- результат вспыхнувшей войны.
В. Как же теперь показать, что противоречие "патриции- плебеи"
перекрыто противоречием "римляне - вольски", и так показать, чтобы было
понятно превосходство патрицианского руководства над "овым руководством
плебеев?
Б. Холодным рассудком это решить трудно. Какова ситуация? Истощенные
стоят лицом к лицу с закованными в броню. Лица, побагровевшие от гнева,
снова заливаются краской. Новая беда заглушает прежнюю. Разъединенные
смотрят на свои руки, которые они подняли друг на друга. Достанет ли у них
сил, чтобы отбить общую опасность? Происшествия эти полны поэзии. Как мы их
представим?
В. Мы перемешаем группы, уничтожим границы между ними, создадим
переходы от одной группы к другой. Может быть, стоит воспользоваться
эпизодом, когда Марций кричит на патриция Тита Ларция, опирающегося на
костыли: "Как, ты ослаб? Ты остаешься дома". У Плутарха в связи с восстанием
плебеев говорится: "Людей, лишенных всяких средств, волочили в тюрьму и
сажали за решетку, даже если тела их были покрыты рубцами, - следами ран,
полученных в битвах за отечество. Они одерживали победы над неприятелем, но
ростовщики не питали к ним ни малейшего сострадания". Мы уже раньше
говорили, что среди плебеев мог бы быть такой калека. Наивный патриотизм,
который так часто встречается у простых людей и которым нередко так
бессовестно злоупотребляют, мог бы толкнуть его на то, чтобы подойти к
Марцию, хотя последний и принадлежит к классу, причинившему ему столько зла.
Оба инвалида, вспоминая последнюю войну, могли бы обняться и вместе уйти,
переваливаясь на костылях.
Б. Так была бы удачно выражена мысль о том, что это эпоха непрерывных
войн.
В. Кстати, не опасаетесь ли вы, что такой калека мог бы лишить нашу
толпу значения pars pro toto?
Б. Вряд ли. Он представлял бы ветеранов. - В остальном мы можем
продолжить нашу мысль о вооружении. Пусть консул и главнокомандующий
Ком'иний с презрительной усмешкой осматривает импровизированное оружие,
изготовленное плебеями для гражданской войны, и возвращает его владельцам -
для использования на другой войне, патриотической.
П. А как быть с Марцием и трибунами?
Б. Это очень важная проблема. Между ними не должно быть никакого
братания. Вновь сформировавшееся единство не абсолютно. Оно дает трещины в
местах соединений.
В. Пусть Марций снисходительно и не без презрения пригласит плебеев
следовать за ним на Капитолий, и пусть трибуны поощряют калеку,
приветствующего Тита Ларция, но Марций и. трибуны не будут глядеть друг на
друга, они повернутся друг к другу спиной.
Р. Словом, обе стороны проявят свой патриотизм, но противоречия будут
по-прежнему очевидны.
Б. И должно быть ясно, что вождь - Марций. Война - это пока еще его
дело, в первую очередь его; не плебеев - именно его.
Р. Учет дальнейшего развития событий, понимание противоречий и их
тождества несомненно помогли нам разобраться в этой части сюжета. А как быть
с характером героя? Ведь его основы следует заложить именно здесь, в начале
трагедии.
Б. Это одна из тех ролей, которые следует разрабатывать не с начальной
сцены, а с последующих. Для Кориолана я бы назвал одну из военных сцен, если
бы у нас в Германии после двух идиотских войн не было бы так трудно
представить военные подвиги как великие деяния.
П. Вы хотите, чтобы Марция играл Буш, великий народный актер, который
сам - боец. Вы так решили потому, что вам нужен актер, который не придаст
герою чрезмерной привлекательности?
Б. Но все же сделает его достаточно привлекательным. Если мы хотим,
чтобы зритель получил эстетическое наслаждение от трагической судьбы героя,
мы должны представить в его распоряжение мозг и личность Буша. Буш перенесет
свои собственные достоинства на героя, он сможет его понять - и то, как он
велик, и то, как дорого он обходится народу.
П. Вы знаете о сомнениях Буша. Он говорит, что он и не богатырь и не
аристократ.
Б. Насчет аристократизма он, мне кажется, ошибается. А чтобы повергнуть
неприятеля в ужас, ему физической силы не надо. Не следует забывать об одном
"внешнем" условии: половину римского плебса у нас представляют всего пять
или семь актеров, а всю римскую армию - человек девять (и не потому, что
актеров не хватает), - как же мы могли бы выставить Кориолана весом в два
центнера?
В. Обычно вы сторонник того, чтобы персонаж развивался шаг за шагом.
Почему для Кориолана вы изменили вашему принципу?
Б. Может быть, потому, что у него нет настоящего развития. Его
превращение из самого типичного римлянина в величайшего врага Рима
совершается именно потому, что он остается неизменным.
П. "Кориолан" называли трагедией гордости.
Р. Когда мы первый раз прочитали пьесу, мы увидели, что как для
Кориолана, так и для Рима трагизм в том, что Кориолан убежден в собственной
незаменимости.
П. Не потому ли мы так думаем, что только такое толкование пьесы
придает ей актуальность, - подобную проблему мы видим и у себя, а конфликты,
порожденные ею, воспринимаем как трагические?
Б. Это верно.
В. Многое будет зависеть от того, представим ли мы самого Кориолана и
то, что случается с ним и вокруг него, так, чтобы видно было, что Кориолан
проникнут этим убеждением. Его полезность должна быть выше всех сомнений,
Б. Вот одна деталь из многих: там, где речь пойдет о гордости
Кориолана, мы будем искать, как и когда он проявляет смирение - это будет по
Станиславскому, который от актера, игравшего скупца, требовал, чтобы тот
показал ему, как и когда скупец способен на великодушие.
В. Вы имеете в виду ту сцену, когда Кориолан принимает командование?
Б. Пожалуй. Для начала ограничимся этим.
П. Чему же зрителя научит сцена, поставленная таким образом?
Б. Тому, что позиции угнетенного класса могут быть усилены угрозой
войны и ослаблены войной, если она уже вспыхнула.
Р. Тому, что безвыходность может объединить, а появление выхода
разъединить угнетенный класс, - таким выходом может оказаться война.
П. Что различия в доходах могут разъединить угнетенный класс.
Р. Что в глазах воинов и даже калек, изувеченных войной, минувшая война
окружена сиянием легенды, и что их можно увлечь героикой новых войн.
В. Что самые красноречивые речи не могут устранить реальные
противоречия, а способны только на время их завуалировать.
Р. Что "гордые" господа не слишком горды, когда нужно склониться перед
себе подобными.
П. Что и класс угнетателей не отличается полным единством.
Б. И так далее.
Р. Вы полагаете, что все это, равно как остальное, можно вычитать из
пьесы?
Б. Вычитать из нее - и вчитать в нее.
П. Мы собираемся играть эту пьесу именно ради таких истин?
Б. Не только. Мы хотим получить удовольствие сами и доставить
удовольствие другим, разыграв эпизод из просветленной истории. И пережив
диалектику.
П. А это не слишком тонкая штука, доступная лишь немногим знатокам?
Б. Нет. Даже в ярмарочных панорамах и народных балладах простые люди,
которые далеко не просты, любят истории о возвышении и падении сильных мира
сего, о вечной смене, о хитрости угнетенных, о возможностях человека. И они
ищут правды, того, что "за этим кроется".
2. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ТОРОПЛИВОСТЬ
В пьесе Островского "Воспитанница" есть эпизод чаепития, во время
которого "благодетельница" помещица как бы мимоходом решает судьбу своей
воспитанницы. Было бы естественно показать и само чаепитие мимоходом, но мы
решили дать немую церемонию, благодаря которой чаепитие приобрело большую
торжественность. Челядь должна была бесконечно медленно и старательно
приготавливать чай, возиться с самоваром, стелить скатерть и т. д. Старый
дворецкий следил за тем, как девки накрывают на стол. Некоторое время спустя
он - по указанию режиссера - должен был сделать широкое, лишенное
торопливости, движение рукой, подгоняющее девок. Этот жест выражал контроль
и власть. Торопливость относительна. Трудно было выполнить относящееся к той
же проблеме "медленное вбегание" запоздавшего лакея с печеньем.
("Кавказский меловой круг")
П. В. X. хотят сократить сцену "Бегство в северные горы". Утверждают,
что пьеса слишком длинна и что весь акт представляет собой обходный путь.
Зритель видит, что служанка хочет отделаться от ребенка после того, как
вынесла его из района непосредственной опасности, но потом она все же
оставляет его себе; говорят, что важно только ее окончательное решение.
Б. Обходные пути в новых пьесах следует внимательно изучить, прежде чем
пойти кратчайшим путем. Этот короткий путь может показаться более длинным.
Некоторые театры сокращали в "Трехгрошовой опере" один из двух арестов
бандита Макхита, - оба эти ареста были вызваны тем, что он оба раза вместо
того, чтобы спасаться бегством, отправлялся в публичный дом. Падение Макхита
оказывалось следствием того, что он вообще ходил в публичный дом, а не того,
что он ходил в публичный дом слишком часто, то есть, что он проявил
беспечность. Словом, желая сделать пьесу короткой, ее сделали скучной.
П. Утверждают, что право служанки на ребенка будет ослаблено, если
преуменьшить ее привязанность к нему.
Б. Во-первых, в суде речь идет вовсе не о праве служанки на ребенка, а
о праве ребенка на лучшую мать, а во-вторых, то, что служанка годится в
матери, что она вполне надежный и достаточно серьезный человек, как раз
доказывается ее разумной нерешительностью, когда она берет себе ребенка.
Р. Мне тоже нравится эта нерешительность. Сердечность ограничена, она
подчиняется мере. У каждого человека столько-то сердечности, не больше и не
меньше, да к тому же это еще зависит от сложившейся ситуации. Она может
иссякнуть, может возродиться и т. д. и т. д.
В. Это реалистический подход.
Б. Мне он кажется механистическим. Лишенным сердечности. Почему не
принять следующее рассуждение: дурные времена делают человечность опасной
для человека. У служанки Груше интересы ребенка и ее собственные интересы
вступают в конфликт. Она должна осознать и те и другие и попытаться
одновременно удовлетворить их. Это рассуждение, как мне кажется, ведет к
более содержательной и более динамичной трактовке образа Груше. Оно верно.
4. ДРУГОЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАЛЕКТИКИ
В "Берлинском ансамбле" репетицию маленькой драмы "Винтовки Тересы
Каррар", написанной Б. по одноактной пьесе Синга, вел молодой режиссер; роль
Каррар исполняла Елена Вайгель, уже несколько лет назад игравшая ее в
эмиграции под руководством Б. Нам пришлось сказать Б., что заключительный
эпизод, когда рыбачка вручает брату и младшему сыну спрятанные винтовки и
вместе с ними уходит на фронт, не звучит достоверно. Вайгель тоже не могла
объяснить, в чем ошибка. Когда Б. пришел на репетицию, она мастерски играла
возраставшую депрессию, вызванную в ней односельчанами, которые приходили
один за другим и приводили все новые доводы, она мастерски сыграла душевную
катастрофу, постигшую мать, когда в дом ее вносили труп сына, мирно ушедшего
на рыбную ловлю. И все же Б. тоже пришел к выводу, что перелом, происшедший
в ней, не вполне достоверен. Мы стояли вокруг Б. и обменивались мнениями.
"Если бы эта перемена произошла только под влиянием агитации соседей и
брата, ее можно было бы понять; смерть сына - это слишком", - сказал кто-то.
"Вы переоцениваете агитацию", - сказал, покачав головой, Б. "Пусть бы это
была только смерть сына", - сказал кто-то другой. "Она бы просто сломилась",
- сказал Б. "Непонятно, - сказала, наконец, сама Вайгель. - На нее
обрушивается один удар за другим, а в действие этих ударов не верят".
"Повтори-ка еще раз", - попросил Б. Вайгель повторила. "Постепенность все
смягчает", - сказал П. Ошибка была обнаружена. В исполнении Вайгель Каррар
поддавалась каждому из ударов, и после самого сильного наступал кризис.
Вместо этого она должна 'была показать, как Тереса Каррар после каждого
удара все более ожесточается и как, испытав последний, она внезапно
оказывается сломленной. "Да, я так и играла в Копенгагене, - сказала с
удивлением Вайгель, - и это было правильно". "Вот что замечательно, - сказал
Б., когда репетиция подтвердила наше предположение, - необходимо каждый раз
сызнова заставлять себя учитывать законы диалектики".
5. ПИСЬМО К ИСПОЛНИТЕЛЮ РОЛИ МЛАДШЕГО ГЕРДЕРА В "ЗИМНЕЙ БИТВЕ"
Судя по рецензиям вечерних газет и по Вашим собственным словам, роль
младшего Гердера все еще представляет для Вас значительные трудности. Вы
сетуете на то, что на некоторых спектаклях сбиваетесь с правильного тона и
что это относится к одной определенной сцене, после которой все дальнейшее
уже развивается в ложном направлении.
От выражения "сбиться с правильного тона" мы Вас, собственно говоря,
уже предостерегали, потому что оно связано с определенной манерой
исполнения, которая, с нашей точки зрения, неправильна. Под "правильным
тоном" Вы понимаете нечто иное, чем "естественную интонацию". Под
"попаданием в правильный тон" Вы, очевидно, понимаете нечто подобное тому,
что бывает в ярмарочном тире: стоит только попасть в центр мишени, как
приводится в движение механизм, исполняющий музыкальную пьесу. Сравнение с
ярмарочным тиром не содержит ничего уничижительного; оно имеет в виду не
что-либо недостойное, но лишь ошибку.
Случилось то, что, с одной стороны, Вы недостаточно зафиксировали свою
роль, так что Вы можете "сбиться с тона", а с другой, что Вы зафиксировали
ее слишком прочно, так что от одного единственного тона зависят все другие
тоны. Выражение "зафиксировать" тоже, впрочем, сомнительно. Обычно мы
употребляем его в другом смысле, имея в виду, что фиксация закрепляет
рисунок, предохраняя его от стирания.
По сути дела, Вам следовало закрепить не тоны, но позицию изображаемого
Вами персонажа, независимую от тонов, хотя до известной степени и связанную
с ними. А самое главное - это Ваша позиция относительно данного персонажа,
которая определяет и позицию самого персонажа.
Как же обстоит дело с этим?
Ваши трудности начинаются со сцены больших монологов. У Ноля, друга и
военного товарища Гердера, сомнения в этой зимней кампании вырываются
наконец наружу и толкают его на действие, на дезертирство. В своих монологах
Ноль обретает спокойствие решимости. Гердер, страстно отвергая сомнения, под
власть которых, как он видит, "подпал" его товарищ, тем самым обрекает себя
на состояние лихорадочной тревоги, и вот тут-то и начинается трудность.
Насильственное утверждение естественной для него - нацистской - точки зрения
колеблет ее (или демонстрирует ее поколебленность), так что возникает нечто
патологическое. Вам отлично удается представить эту патологию: воспитанному
в духе нацистского доктринерства юнцу приходится, выступив на борьбу с
сомнениями Ноля, слишком энергичными насильственными средствами опровергать
сомнения. Это патологично лишь с нацистской точки зрения, что
свидетельствует о глубокой патологичности нацизма; младший Гердер хочет ее
преодолеть, чтобы выработать в себе новую здоровую психологию. Сцена эта
удается Вам меньше на тех спектаклях, когда Вы с самого начала берете
"слишком высокий тон", то есть когда уже в начале сцены допускаете
истерический "тон" и резкие искажения черт лица.
С этого момента противоречие "патология - здоровье" играет в процессе
развития характера решающую роль. В следующей сцене Ноль, перебежав к
русским, оставляет Гердера одного в обществе офицеров-нацистов и тем самым
углубляет его отчужденность от них. Поездка Гердера домой показывает его
отчужденность от своей страны. Насколько я могу судить, на него обрушиваются
четыре сокрушительных удара: презрение жены дезертировавшего Ноля, которую
он прежде трепетно почитал; немецкая народная песня, полная глубокой
проникновенности; чудовищное открытие его матери - оказывается, что брат его
убит немецкой пулей по приказу немецкого командования; наконец, цитата из
книги Эрнста Морица Арндта о гражданских правах и обязанностях
солдата-гражданина. То, что следует после этого, - угрозу отца передать его
гестапо, - он уже не воспринимает с достаточной интенсивностью.
То по-детски беспомощное рыдание, с которым убегает Ваш Гердер, - он
предоставляет матери воздать отцу по заслугам - показалось некоторым
критикам выражением патологии. Вероятно, они и страх смерти, испытываемый
принцем Гомбургским, считают страхом патологическим, и, что хуже, они
(почти) безнадежные обыватели, которые охотно совлекают с человека
свойственные ему классовые признаки, чтобы получить человека как такового,
человека самого по себе, человека в чистом виде. В эту минуту младший Гердер
никак не герой, и не следовало бы нам ни при каких обстоятельствах говорить
о героях "в минуты их слабости, в негероические минуты"; гораздо здоровее
говорить о людях в их героические минуты. Он не чистит авгиевы конюшни, как
Гамлет, да и другого ничего не предпринимает. Из своего отпуска он смиренно
возвращается на фронт. Здесь Вы правы: Вы играете эту сцену и с
проникновением в психологию Вашего персонажа, и с чувством превосходства над
ним, и тем самым выбрасываете на свалку Пантеона Искусства, где действуют
пресловутые мастера, один из их излюбленных героических штампов.
Затем снова начинаются трудности. Впереди у Вас еще две короткие сцены.
(Гердер отказывается принять участие в казни партизана, его приговаривают к
смерти, и он отказывается покончить с собой.) Вы должны показать, как
духовное выздоровление ведет к смерти.
Блестящие почести, - например, рыцарский крест, - не смогли оторвать
Гердера от народа, который должен за них расплачиваться; этот блеск ослепил
его ненадолго, - Гердер перестает действовать в пользу Гитлера. Но начать
действовать против Гитлера он уже не может. Он не вычистил авгиеву конюшню
собственной семьи, - не берется он и за чистку государственной конюшни. Он
уходит.
(Можно возразить, что обстоятельства не позволили ему стать героем. Но
и это не поможет. Так или иначе, героем он не становится. Весь буржуазный
класс, к которому он принадлежит и от которого он себя не отделяет до самого
конца, находится в таком же положении: обстоятельства всегда чего-то не
позволяют.)
В сцене с партизанами Вы находите (это, впрочем, ничего не дает
искателям героев!) великолепный по выразительности прием: противоречивый
ужас Гердера, когда он отказывается приказать своим солдатам закапывать
партизан; ужас перед варварством и в то же время перед собственным
неподчинением. Зато в сцене смерти, когда Вы показываете человека, уже
покинутого всеми духами зла, Вам редко удается соединение черт героических и
жалких. В "Военном букваре" (я Вам его никогда не показывал) Вы можете
увидеть, приблизились ли Вы к изображению того совершенно растерявшегося
немецкого военного холопа, которого русские встретили на подступах к Москве.
Но призыв, обращенный Гердером к другой Германии, - это дело удачи. Он
должен был бы восприниматься как Роландов рог, призывающий "другую"
Германию. Когда Вы запрещаете себе здесь всякую напряженность, Вами движет
не вообще страх перед пафосом, но страх перед ложным пафосом, - тем пафосом,
который носит наивно националистический характер, перед собственно
историческим Роландовым пафосом, который ныне лишен всякого содержания и,
превратившись в карикатуру, бродит как призрак по нашим сценам. Вы должны
были бы питать к Гердеру и уважение и в то же время жалость, противостоящую
этому уважению. Это значит: ключ к решению - в Вашей позиции относительно
представляемого Вами персонажа. Помочь Вам могут только понимание
исторического момента и умение воплощать противоречащие друг другу позиции.
Это понимание и это умение - достижимы. Их предпосылка в том, что в
нашу эпоху - эпоху великих войн между классами и народами - необходимо
твердое знание своей точки зрения.
6. ДВЕ РАЗЛИЧНЫЕ ТРАКТОВКИ "МАМАШИ КУРАЖ"
При обычном методе игры, основанном на вживании зрителя во внутренний
мир героини, публика (по многим свидетельствам) испытывает наслаждение
особого свойства: она радуется торжеству неразрушимой, жизненно устойчивой
личности, испытавшей все превратности войны. Активное участие мамаши Кураж в
войне не принимается всерьез: война - это для нее источник существования, и,
по всей видимости, единственный источник. Если отвлечься от этого момента
соучастия, то есть вопреки этому соучастию, воздействие пьесы "Кураж" похоже
на воздействие "Швейка", где (в иной, комической сфере) зритель вместе со
Швейком одерживает верх над всеми намерениями принести героя в жертву во имя
великих воюющих держав. Аналогичное воздействие пьесы о Кураж имеет, однако,
гораздо меньшую социальную ценность, - именно потому, что соучастие
торговки, в какой бы косвенной форме оно ни было представлено, оказывается
неучтенным. В реальности это воздействие носит даже отрицательный характер.
Кураж предстает главным образом как мать, и, подобно Ниобе, она не в силах
защитить своих детей от рока, то есть войны. Ее профессия торговки и то, как
она своей торговлей занимается, в лучшем случае придает ей нечто
"реалистически неидеальное", но ни в какой степени не лишает войну ее
рокового характера. Конечно, война и здесь чисто отрицательная величина, но
в конце концов Кураж выживает, хотя и терпит немалый ущерб. В
противоположность этому Вайгель, применяя технику, которая не допускала
полного вживания зрителя в образ, трактовала профессию торговки не как
естественную, но как историческую, то есть относящуюся к исторической и
преходящей эпохе, а войну - как лучшую пору для торговли. Торговля и здесь
представала само собой разумеющимся источником пропитания, но источником
отравленным, и Кураж пила из него собственную смерть. Торговка мать - этот
образ стал очеловеченным противоречием, и это-то противоречие искалечило и
обезобразило Кураж до неузнаваемости. В сцене на поле боя, которую в обычных
постановках по большей части сокращают, она была настоящей гиеной; она
только потому отдала сорочки на бинты, что видела ненависть дочери и вообще
боялась насилия, она, изрыгая проклятия, бросалась на солдата с шубой, как
тигрица. Видя, что ее дочь искалечена, она с такой же искренностью
проклинала войну, с какой превозносила ее в следующей сцене. Так Вайгель
воплощала противоречия во всей их нелепости и непримиримости. Бунт дочери
против нее (при спасении города Галле) ошарашил ее, так ничему и не научив.
Трагизм Кураж и ее жизни, глубоко ощущаемый зрителем, состоял в том, что
здесь возникало страшное противоречие, уничтожавшее человека, противоречие,
которое могло быть разрешено, но только самим обществом и в длительных,
кровопролитных боях. А нравственное превосходство этого метода игры
заключалось в том, что была показана разрушимость человека, - даже самого
жизненно устойчивого.
7. ПРИМЕР ТОГО, КАК ОБНАРУЖЕНИЕ ОШИБКИ ПРИВЕЛО К СЦЕНИЧЕСКОЙ НАХОДКЕ
В китайской агитационной пьесе "Просо для Восьмой армии" крестьяне
доставляют просо для революционной Восьмой армии Мао Цзэ-дуна. После того
как работа над пьесой была окончена, молодой режиссер пояснил Брехту
некоторые частности своей экспозиции.
Пьеса играется в главной и боковой комнатах у деревенского старосты.
Когда режиссер объявил, что хочет установить посреди сцены столик, за
которым крестьяне должны кормить ужином сначала купца, сотрудничающего с
японцами, а затем одного из офицеров японского гарнизона, Б. обратил его
внимание на то, что тогда они окажутся спиной к входной двери: едва ли им
это придется по душе, - ведь они находятся в таком краю, где их не слишком
жалуют. Режиссер тотчас же согласился, но не решался отодвинуть стол в
сторону, потому что при этом нарушилась бы композиция сценической площадки;
у него с одной стороны сцены оказалось бы пустое пространство, на котором
почти ничего не происходит. "Это недостаток вашей декорации, -
заинтересованно сказал Б. - А вам непременно нужны обе комнаты? Нельзя ли
сделать так, чтобы боковая комната возникала только тогда, когда она вам
понадобится? Скажем, крестьяне установят ширму". Режиссер объяснил, почему
это невозможно. (Б. принимал участие в предварительной обработке пьесы, но
когда надо было ставить ее на сцене, он забыл обо всем, что узнал из книг и
разговоров, и "позволил, ходу событий оказать на себя непосредственное
воздействие".) "Хорошо, - сказал Б., - тогда нам нужно оживить боковую
комнату. Нам нужно действие, которое связано с главным действием и ведет к
определенной цели. Что там могли бы делать для задуманной операции? Допущена
еще одна ошибка, о которой я вспоминаю. Партизан, изображающий ложное
нападение Восьмой армии на деревню, - таким образом крестьяне хотят
оправдать перед японцами исчезновение проса, - уходит со сцены, но публике
неясно, что теперь он собирается нести просо через горы. Какое стоит время
года?" - "Август, - только что сняли урожай проса; так что тут ничего не
изменишь." - "Значит, нельзя, чтобы ему шили теплую куртку?.. Понимаете, в
боковой комнате могла бы сидеть женщина и шить куртку, вернее, латать ее".
Мы договорились на том, что там будут латать вьючное седло для мула,
принадлежащего старосте. Мул был нужен для перевозки мешков с просом.
Мы решили, что работать будет не одна женщина, а две, мать и дочь,
чтобы они могли шушукаться и смеяться, когда купец-предатель будет заперт в
шкафу. Находка эта сразу же оказалась плодотворной в нескольких отношениях.
Смешная сторона инсценированного нападения, звуки которого слышит
купец-предатель, могла быть подчеркнута хихиканьем женщин. Предатель мог
показать свое презрение к женщинам, обращая на них столь же мало внимания,
сколько, скажем, на соломенный коврик под ногами. Но прежде всего таким
способом обнаруживалось сотрудничество всего населения, а починка вьючного
седла и передача его партизанам оказывалась поэтическим моментом. "В
ближайшем соседстве с ошибками произрастают открытия", - сказал, уходя, Б.
8. КОЕ-ЧТО ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ ХАРАКТЕРОВ
В китайской народной пьесе ("Просо для Восьмой армии" показано, как
деревня под руководством старосты хитро укрывает от японцев и чанкайшистских
банд свой урожай проса, чтобы передать его революционной Восьмой армии.
На роль деревенского старосты режиссер искал актера, способного сыграть
хитреца. Б. отнесся к этому критически. Почему, - сказал он, - старостой не
может быть простой, умудренный опытом человек? Враги вынуждают его
пользоваться обходными путями и прибегать к хитрости. Может быть, план
придуман молодым партизаном, которому приходят в голову безрассудные идеи;
но осуществляет этот план староста, хотя сам партизан давно уже считает, что
реализовать его не удастся из-за бесчисленных препятствий, и уже готов
придумать что-то другое. Это самая обычная китайская деревня, где вовсе не
было какого-то особенного хитреца. Но нужда толкает на хитрость.
9. РАЗГОВОР О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ
Б. Передо мной - поэтика Горация в переводе Готшеда. Здесь изящно
формулируется теория, которую Аристотель выдвинул для театра и о которой мы
нередко говорим:
Ты хочешь подобрать к людским сердцам ключи?
Лей слезы с плачущим, с веселым - хохочи.
Но лишь тогда готов и я скорбеть с поэтом,
Когда скорбит он сам, - не забывай об этом.
Готшед отсылает читателя к Цицерону, который, излагая свои мысли об
ораторском искусстве, сообщает о поступке римского актера Пола: он должен
был представлять Электру, оплакивавшую брата. У Пола самого только что умер
единственный сын, и потому он, поставив перед собой на сцене урну с прахом
сына, произнес соответствующие стихи, "относя их к самому себе, так что
собственная утрата заставила его проливать настоящие слезы. И не было на
площади ни единого человека, который мог бы удержаться от слез".
Право же, это следует назвать варварским средством воздействия.
В. С таким же успехом исполнитель Отелло мог бы сам пронзить себя
кинжалом, чтобы доставить нам возможность наслаждаться состраданием. Он
отделался бы дешевле, если бы ему перед самым выступлением подсунули
хвалебные рецензии на игру какого-нибудь его собрата, ибо мы, вероятно, и в
этом случае пришли бы в то вожделенное состояние, когда зрители не в силах
удержаться от смеха.
Б. Во всяком случае, нас хотят угостить каким-то страданием, которое
подвижно, то есть удалено от своего повода и без ущерба может быть приписано
другому поводу. Подлинное воздействие поэзии исчезает, как мясо в хитро
приправленном соусе, обладающем острым вкусом.
П. Ладно, Готшед мог в этом вопросе быть варваром, Цицерон тоже. Но
Гораций имеет в виду естественное переживание, вызванное тем фактом, который
изображен в стихах, а не чем-то заемным, взятым напрокат.
В. Почему он говорит: "Если я должен плакать..." (Si vis me flere)?
Неужели нужно, чтобы мне топтали душу до тех пор, пока у меня не хлынут
"освобождающие" слезы? Или мне должны демонстрировать процессы, которые меня
так размягчат, что я стану доступен человеческим чувствам?
П. Почему ты на это не способен, когда видишь страдающего человека и
можешь сострадать ему?
В. Потому что мне еще надо знать, отчего он страдает. Возьми того же
Пола. Сын его, может быть, был прохвостом. Пусть отец страдает, несмотря на
это, но при чем тут я?
П. Ты можешь это понять, созерцая переживание, которое он изображал на
сцене и которому отдал в распоряжение собственное горе.
В. Да, если он предоставит мне возможность понять. Если он не
заставляет меня в любом случае сопереживать его горе, - а ведь он хочет,
чтобы я в любом случае его ощутил.
Б. Предположим следующее: сестра оплакивает брата, который ушел на
войну, причем война крестьянская, брат ее крестьянин, и ушел он вместе с
крестьянами. Следует ли нам разделить с нею ее горе? Или не следует? Мы
должны уметь и разделить ее горе и не разделять его. Наши собственные
душевные движения возникнут вследствие понимания и ощущения двойственности
данного факта.
НЕКОТОРЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ПОНИМАНИИ МЕТОДА ИГРЫ "БЕРЛИНСКОГО АНСАМБЛЯ"
Беседа в литературной части театра
П. Снова критика нас бранит.
В. Самое неприятное - это похвалы, предшествующие осуждению. "Режиссура
превосходна, но... она все губит". "Литературная часть серьезно обдумала ре-
пертуар, но безуспешно". "Исполнитель центральной роли - одаренный актер, но
он оставляет зрителя равнодушным". Мне вспоминается одна старая книжка, в
которой автор рассказывал, что палач, отрубивший голову Карлу I, перед
казнью пробормотал: "Извините, сударь".
Б. Чего же, по мнению критики, не хватает театру?
Р. У нас нет истинного порыва, нет истинного тепла, зритель не
увлекается по-настоящему, он остается холоден.
П. Я не помню ни одного зрителя, который бы оставался холоден, видя
сцену отступления разгромленной гитлеровской армии или сцену погребения
партизан.
Р. Это признают все. Но говорят: такие сцены действуют на публику
потому, что здесь мы отказываемся от наших принципов и играем, как в обычном
театре.
Б. Разве наш принцип в том, чтобы оставлять зрителя холодным?
В. Утверждают именно это. И у нас якобы есть особые для этого
соображения, а именно: оставаясь холодным, зритель лучше думает, а мы
преимущественно хотим, чтобы в театре люди думали.
Б. Это, конечно, никуда не годится: брать у зрителя деньги за то, что
его заставляют думать...
В. А почему бы вам не выступить и не сказать ясно и четко, что у нас в
театре нужно не только думать?
Б. И не подумаю выступать.
В. Но ведь вы вовсе не осуждаете чувства.
Р. Разумеется, нет, разве только неразумные.
Б. Скажем, автоматические, устаревшие, вредные...
П. Кстати, когда вы говорите такие слова, то вы сами отнюдь не
остаетесь холодным.
Р. Мы и на театре не холодны, когда боремся против таких чувств и когда
их разоблачаем. И все же, не думая, это делать невозможно.
В. Кто же утверждает, что можно вообще думать, оставаясь холодным?
Р. Когда вас захлестывают чувства, думать тоже, конечно, нельзя.
П, Но когда чувства вас поднимают?
В. Так или иначе, чувства и мысли невозможно отделить друг от друга
даже в науке. Ученые известны своей горячностью.
П. Итак: театр научного века тоже оперирует эмоциями. Давайте скажем
это ясно и четко.
Р. Только не будем говорить "оперирует": это сразу производит
впечатление холодности и расчета.
П. Хорошо. Вызывает эмоции.
Р. Переполнен эмоциями.
В. "Переполнен". Я не люблю таких слов. Пустые люди всегда делают вид,
что они "переполнены". Преувеличения подозрительны.
Б. У Шиллера преувеличения не так уж плохи.
В. Да, но подражательные, искусственные преувеличения...
П. Вы полагаете, что Шиллер преувеличивает нечто хорошее и потому его
преувеличения хороши?
Б. А что, собственно, говорит пресса о содержании пьесы и о
политическом смысле спектакля?
П. Говорят мало. Пишут, что о содержании уже говорилось после премьеры
в Л.
Б. Что же сказали тогда?
Р. Содержание одобрили.
Б. А еще что?
Р. Да немногое. Наша печать больше интересуется формой. Политики
никогда не замечают политических пьес.
П. А театральные критики охотно начинают статьи изложением
политического содержания, но потом, не оглядываясь, переходят к "собственно
содержанию", к содержанию "чисто человеческому" или к вопросам формы.
Р. Тем не менее наш спектакль вызвал оживленное обсуждение политической
позиции и судьбы младшего Гердера и как раз в том направлении, к которому мы
стремились. Мы должны добиться, чтобы наш метод игры судили не "как
таковой", но в зависимости от того, дает ли он верную картину
действительности и вызывает ли прогрессивную, то есть социалистическую,
реакцию зрителя.
Б. Правильно, конечно, что нашей печати не следовало бы писать о форме
спектакля, не обсуждая одновременно его содержания. Форма спектакля может
лишь тогда быть хорошей, когда она является формой своего содержания; и
плохой, если она таковой не является. Иначе ведь вообще ничего доказать
нельзя.
П. Видите, вот уже опять выглядывают ваши когти. Вы все хотите что-то
доказать. В искусстве человек чувствует: это хорошо, или: это скверно.
Зритель потрясен или не потрясен. Таково общепринятое мнение.
Б. Чему же художник может тогда научиться у критиков? "Потрясай".
Р. Есть замечательное место у Пауля Рилла: "Переживание и произведение,
порождающее переживание... составляют художественное единство, которое надо
оценивать в зависимости от того, в какой мере в этом единстве преобразована
действительность".
Б. Метод нового реалистического театра - это ответ на те трудности,
которые ставят перед ним новый материал и новые задачи. Так возникла и новая
драматургия - возьмем, к примеру, "Первую Конную" Вишневского или мою "Жизнь
Галилея". Старая форма уже не могла нас удовлетворить. Если рассматривать
новую форму в отрыве от задач, которые она себе ставила, то дать ей
правильную оценку, разумеется, нельзя. В таком случае она должна показаться
произвольной.
В. Так как нам придется говорить о многом, с чем мы не справляемся,
быть может, следовало бы сначала установить, что нам, по нашему мнению,
удается. То есть мы должны сказать о том, чего именно мы в состоянии достичь
нашим методом игры, какие бы недостатки в нем ни были. В "Мамаше Кураж",
например. Возьмем один только эпизод. Маркитантка видит, как изуродована ее
немая дочь, ради которой она уже пожертвовала одним из своих сыновей. Она
проклинает войну. Но уже в начале следующей сцены мы видим, как она шагает
рядом со своим фургоном, и слышим ее слова: "Я не позволю поносить войну,
война меня кормит". При обычном методе игры это едва ли можно себе
представить, и потому большинство театров эту вторую сцену опускают. У нас
один молодой зритель сказал на обсуждении: "Я не согласен с теми, кто здесь
утверждал, будто в конце пьесы писатель позволяет мамаше Кураж понять, что
она действовала неправильно. Я сочувствую ей потому, что она так и не может
ничему научиться". Это чувство очень благородное и полезное, и зритель не
мог бы испытать его, если бы ему дали возможность вжиться в переживания
торговки.
Р. По всей видимости, наши зрители испытывают чувства, близкие к тем,
которые возникают в результате перевоплощения. На спектакле "Мать" я видела
у людей слезы - это было во время сцены, где рабочие накануне первой мировой
войны не хотят брать антивоенные листовки у старухи Власовой. Кто хорошо
помнит спектакль, знает - это слезы политические; люди проливают их,
огорчаясь глухоте, трусости, вялости. Среди испытавших это огорчение были и
такие, кто до сих пор против большевиков, против народной власти,
государственной торговли, против Народной палаты, кто мечтает владеть лавкой
и сталкивается с трудностями совсем иного рода, словом, кто по причинам
социальным почти не в состоянии отождествлять себя с Власовой, но и они
внимали голосу правды, и этих людей объединяло с их соседями чувство ужаса
за тех, кто не ведает, что они делают и чего не делают.
П. В "Меловом круге" судья Аздак спрашивает служанку, которая воспитала
княжеского ребенка и не желает вернуть его матери, почему она противится
тому, чтобы ребенок жил жизнью князя. Служанка осматривается в суде. Она
видит мать-княгиню, видит стражников, стоящих за спиной судей, - все они
слуги власть имущих, вооруженные мечами; видит адвокатов княгини - это слуги
власть имущих, вооруженные сводами законов, - и она молчит. Певец в это
время поет: "Он бы слабых стал давить, стал бы в золоте купаться". Кажется,
что именно эта песня объединяет молчащих судью и служанку. Судья проводит
испытание, используя меловой круг. В результате испытания ребенок остается
за той, кто его воспитал. Если бы мы не порвали решительно со сценическими
условностями, мы не смогли бы вызвать эмоций, возникших в связи с этим
эпизодом.
Б. Ясно. Разумеется, наша новая публика позволяет нам и даже обязывает
нас вызывать именно такую реакцию, основанную на естественном единстве мысли
и чувства. Но, думаю, нельзя сомневаться и в том, что в нашем театре людям
недостает переживаний другого рода, которые привычны и дороги публике в
целом, в особенности театральным завсегдатаям.
П. Устарелые переживания.
Р. Скажем, архаические.
П. Те самые, которые, может быть, имел в виду Гете, когда говорил:
созидание - это, конечно, лучшее из всего, что есть на свете, но порой и
разрушение приносит добрые плоды.
Б. Приведите пример.
Р. Можно рассмотреть классический сюжет "мать незаконнорожденного
ребенка". Таковы Гретхен, Магдалина, Роза Бернд. Должны ли мы требовать от
публики, чтобы она вживалась в позор, в нечистую совесть этих девушек? В
настоящее время мы считаем, что в этих драмах совести дурное - это не
чувственность названных героинь, а то, что они сами осуждают себя; с нашей
точки зрения, правда не на стороне общества их эпохи, внушившего им запрет
как вечный нравственный закон.
П. Если это представить так, то восхваление Гретхен уже никого не
потрясет.
Б. Почему же нет? Общество несправедливо отвер" гает ее, объявляя вне
закона, и еще вынуждает ее самое оправдывать это отвержение. Сцена в тюрьме,
когда Гретхен отказывается от освобождения, станет еще трогательнее, если мы
будем воспринимать ее не как очищение от скверны, но как настоящее безумие,
вызванное в ней обществом. Возьмите другую знаменитую сцену. В "Короле Лире"
верный слуга короля избивает неверного. Должны ли мы разделить
разгневанность первого на второго? В театре нас могут вовлечь в это
переживание, заставить его испытать, причем совершенно определенной манерой
игры. Необходимо критически рассмотреть ее.
П. Необходимо именно потому, что наши эмоции - сложная и в высшей
степени противоречивая смесь различных элементов.
Б. Многие еще полагают, что чувства человека, его интуиция, его
инстинкт представляют собой нечто положительное, "здоровое" и т. д. Эти люди
забывают об истории.
П. Позвольте привести цитату из Гегеля: "То, что называют здравым
смыслом, нередко оказывается весьма нездравым явлением. Здравый смысл
содержит истины своей эпохи... Это способ мышления определенной эпохи,
который отражает все предрассудки данной эпохи: им управляет
предопределенность мысли, но люди этого не сознают".
Б. Истина всегда конкретна. У нас, например, дело обстоит так: и
публика и актеры жили при Третьей империи, часть еще при Веймарской
республике или даже при кайзере Вильгельме - во всяком случае, при
капитализме. Господствующий класс пытался - в большинстве случаев успешно -
с самого детства развратить чувства людей. Германии не было суждено пройти
через очистительный процесс революции. Великий переворот, обычно приходящий
вместе с революцией, совершился без их участия. При сложившихся классовых
взаимоотношениях, непонятных для очень многих, при новом образе жизни,
меняющемся чуть ли не ежедневно, когда у широких слоев еще не выработался
новый строй мыслей и чувств, - искусство не может просто апеллировать к
инстинктам и чувствам разношерстной публики. Оно не может слепо
руководствоваться успехом - тем, нравится оно или не нравится. С другой
стороны, играя руководящую роль, защищая интересы нового руководящего
класса, искусство никогда не должно отрываться от своей публики. Оно должно
бороться со старыми мыслями и чувствами, разоблачать их, обесценивать их,
оно должно нащупывать новые мысли и чувства, способствовать их развитию. В
ходе этого процесса может случиться, что часть публики не найдет в театре
привычных театральных переживаний и не будет идти с нами в ногу.
П. А прогрессивная часть публики научится новым театральным
переживаниям.
Б. Тоже не без трудностей. Немало есть людей, которые ищут в театре
старое, привычное, и среди них есть даже такие, кто в очень важных областях
жизни каждый день борется за новое и бесстрашно ломает старые привычки, если
эти привычки мешают построению новых форм жизни.
Р. Человек, живущий в сфере политики, рано или поздно осознает в самом
себе эти противоречия. Этому человеку ежедневно приходится бороться с ложью
и невежеством, и ему принесет удовлетворение правда об обществе; это
примирит его с непривычными художественными средствами. Если театр возьмет
на вооружение материалистическую диалектику и присоединит ее к тем методам,
которыми он владеет, он сможет проникнуть в самые далекие глубины
человеческого сознания и проложить себе дорогу к великим противоречиям - не
благотворным и благотворным. Сколько ему нужно разрушить предрассудков,
сколько предложить и воплотить новых дерзостных концепций, какие силы
развязать для грандиозного творческого размаха социалистического общества!
Все это будет немыслимо без благороднейших художественных средств
предшествующих эпох, но также и без тех новых методов, которые еще предстоит
открыть. Социализм будет развивать буржуазные, феодальные, античные формы
искусства, противопоставляя им свои собственные. Какие-нибудь новые методы
окажутся необходимы, и они будут созданы для того, чтобы можно было
освободить от шлака классового общества великие замыслы и идеи гениальных
художников минувших столетий.
П. Скажут: это значит бросить зрителя в классовую борьбу.
Р. Он с удовольствием сам бросается в это пекло, - словно мальчишки на
качелях.
Б. Как бы не так. Оказаться лицом к лицу с классовой борьбой - это не
шутка; но и с новыми художественными формами - тоже. Нужно понимать
недоверие людей к формальным изменениям в искусстве, и недоверие это нужно
разделять. Правда, публика исподволь стремится к новому также и в области
формы. И художники не желают быть привязанными к законам искусства в такой
степени, чтобы превращаться в копиистов. Шиллер придерживался Шекспира,
когда писал "Разбойников", но не "Коварство и любовь". А когда он писал
"Валленштейна", он уже не придерживался даже Шиллера. Причиной того, что
немецкие классики постоянно экспериментировали в области новых форм, было не
только их стремление к новаторству в форме. Они стремились ко все более
действенному, емкому, плодотворному оформлению и выражению отношений между
людьми. Более поздние буржуазные драматурги открыли еще новые аспекты
действительности и обогатили выразительные возможности искусства. Театр
последовал за ними. Но все отчетливее становилось стремление при помощи
изменения форм поднести зрителю старое содержание и устаревшие или
совершенно асоциальные тенденции. Театральное зрелище уже не освещало
действительности, не облегчало понимание человеческих отношений - оно
затемняло действительность и извращало отношения. Мы должны мириться с тем,
что, имея перед глазами подобный упадок искусства, люди смотрят на нас с
некоторым недоверием.
П. Мне кажется, наша беседа развивается в неудачном направлении.
Большинство зрителей, посетивших наш театр, вряд ли заметили все эти наши
трудности, а те, кто узнает об этой беседе, составят себе представление о
некоем гораздо более удивительном театре, чем наш. У нас нет ни чрезмерной
объективности, ни сухой деловитости. Есть трогательные сцены, есть сцены
неопределенные, зыбкие, есть пафос, есть напряжение, есть музыка и поэзия.
Актеры говорят и двигаются с большей естественностью, чем это обычно
принято. Фактически публика развлекается так, как будто она сидит в
настоящем театре. (Смех.)
Б. Любой историк-материалист может предсказать, что искусства,
изображающие общественное бытие людей, изменятся в результате великих
пролетарских революций и в предвидении бесклассового общества. Давно уже
стали ясны границы буржуазной идеологии. Из постоянной величины общество
снова стало величиной переменной. Коллективный труд стал основой
нравственности. Можно свободно изучать закономерности человеческого
общежития и условия его развития. После уничтожения эксплуатации человека
человеком неизмеримо вырастают возможности эксплуатации природных сил. Метод
познания, данный людям материалистической диалектикой, изменяет их взгляд на
мир, а значит, и на искусство. Базис театра и его функция пережили
грандиозные изменения, и по сравнению с ними все изменения, которые до сих
пор претерпел театр, не так уж велики. В этой области тоже стало ясно, что
"совершенно иное" - это в то же время и "прежнее" в измененной форме.
Искусство, будучи освобожденным, остается искусством.
В. Одно несомненно: если бы в нашем распоряжении не было ряда новых
художественных средств, нам пришлось бы их создать для "Зимней битвы".
П. Так мы дошли до техники очуждения, которая кое-кому кажется
предосудительной.
В. Но ведь это так просто.
Б. Осторожнее.
В. Может быть, не надо нам так уж чрезмерно осторожничать. Вашей
осторожной манерой выражаться вы уже создали немало путаницы. В результате
все это кажется чем-то совершенно диким, доступным лишь одному из сотни.
Б. (с достоинством). Я уже не раз извинялся за то, как я выражаю мои
мысли, и не буду делать этого еще раз. Для теоретиков эстетики это очень
сложное дело; оно просто только для публики.
В. Для меня очуждение означает только то, что на сцене нельзя оставлять
ничего "само собой разумеющегося"; что даже когда зритель вполне разделяет
самые сильные переживания, он все равно знает, что именно он переживает; что
нельзя позволить публике просто вживаться в какие бы то ни было чувства,
воспринимаемые ею как нечто естественное, богом данное и неизменное и т. д.
Б. "Только"?
Р. Мы должны признать, что при всей "нормальности" нашего метода игры
отклонения его от обычного не так уж незначительны - и это несмотря на то,
что Эрпенбек озабоченно предупреждает драматургов, режиссеров и актеров, в
особенности молодых: "Осторожно, тупик". Но разве мы могли бы, не имея
такого метода, играть "Зимнюю битву"? Я имею в виду - сыграть, не потерпев
значительного ущерба в глазах публики?
В. Мне кажется, эту пьесу потому трудно сыграть в обычной манере, что
она написана не в обычной манере. Вспомните упреки печати в том, что эта
пьеса "недраматичная", - упреки эти возникли вследствие иного метода игры.
Р. Ты имеешь в виду - драматического метода игры?
В. Да, так называемого драматического метода игры. Не думаю, чтобы
Бехер стремился создать драму нового типа. Он примкнул к немецкой классике и
усвоил ее понимание поэтического, которое было отвергнуто натуралистами.
Затем его политическая форма мышления, его диалектический взгляд на вещи
привели его к такой композиции и к такой трактовке темы, которые отличаются
от традиции. У него иная мотивировка поступков его персонажей, он иначе
видит сцепление событий, у него иной взгляд на развитие общественных
процессов.
Р. Все это особенно легко увидеть, потому что ему, по его словам,
мерещился новый Гамлет. Здесь и продолжение классической линии, здесь и
новаторство в воплощении замысла.
В. В наше время было бы легче сыграть шекспировского Гамлета в новой
манере, чем бехеровского Гердера - в старой!
Р. Во всяком случае, нельзя было бы сыграть Гердера как Гамлета. Такая
попытка была.
П. Да, его пытались превратить в положительного героя, - чего, впрочем,
нельзя делать и с Гамлетом, хотя с Гамлетом это делают.
Р. Нас еще укоряли в том, что в других театрах у Гердера гораздо более
лучезарный ореол, чем у нас. Конечно, нет ничего легче, привычнее и
приятнее, чем придать молодому актеру "ореол героя". Но подлинный ореол
излучается исторической позицией человека, и актер реалистического театра
может излучать свет лишь в той степени, в какой это свойственно тому
персонажу, которого он играет.
П. Это не значит, что младший Гердер лишен всяких положительных черт.
Р. Некоторые рабочие, участвовавшие в обсуждении, говорили, что наш
младший Гердер совершенно ясен, - это я тоже считаю достоинством нашего
спектакля. Он показался им привлекательным, но они сказали: "Мы не можем
слепо и безусловно идти вместе с ним. Он человек буржуазного склада и таким
остается до последнего мгновения жизни. Он не поступает, как его товарищ
Ноль и как рабочие с танка 192, не переходит к русским, воюющим против
убийства и убийц, он только не желает дальше подчиняться нацистам". Это
"только" в высшей степени трагично, и мы должны были показать, что в этом от
героизма, и это изображение должно было потрясти зрителя, но мы не имели
права забывать и о том, что нас с ним разделяет, и это тоже должно было
потрясти зрителя. Таким образом, перед нами стояла задача - возбудить
двойственное чувство большой силы, которое, разумеется, могло быть доступно
не каждому театральному зрителю в равной степени; чтобы проникнуться таким
пониманием и таким чувством, необходимо иметь либо антибуржуазную позицию,
либо (а может быть, "и") очень высоко развитое историческое сознание.
Б. Актера и зрителя должна была тронуть судьба этого мальчика, который
был воспитан и развращен нацистами и в котором весь его жизненный опыт
вызывает разлад с совестью. Единственный дар, который он в конце своего пути
способен принести человечеству, - это отказ от совершения злодеяний, сулящий
ему верную смерть. Социалист не может не быть потрясен, видя в руке его это
небогатое приношение. И всякий, кто обладает историческим мышлением, не
сможет безучастно смотреть эпизод, когда в руки молодого человека попадает
сочинение Эрнста Морица Арндта об обязанностях солдата-гражданина. Здесь он
сталкивается с идеалами своего класса, родившимися в давно минувшую
революционную и гуманистическую пору его развития. Исход этого столкновения
смертелен. Зритель, одаренный пониманием исторических процессов, тотчас
чувствует, что эти высокие доктрины непременно убьют того, кто попытается им
следовать, служа в гитлеровской армии или любой другой буржуазной армии
нашей эпохи. И вопреки этому зритель должен хотеть, чтобы юноша им следовал.
Р. И ради этого нам необходимы определенные новые художественные
средства, например - техника очуждения.
Б. Не знаю, каким другим методом можно показать жизнь, сосуществование
людей в его противоречивости и развитии, и сделать диалектику источником
познания и наслаждения.
Р- Однако вы ведь не считаете необходимой предпосылкой, чтобы вся наша
публика в равной мере обладала стремлением к такому познанию и такому
наслаждению. Вы предполагаете, что это стремление непременно разовьется -
как следствие постоянно изменяющихся форм жизни и форм производства, а так
же как следствие такой художественной деятельности, как наша, осуществляемой
на той же социалистической основе; это стремление, однако, будет развиваться
только в борьбе с другими стремлениями. Предлагаемые вами художественные
средства призваны удовлетворить это стремление или вызвать его. С другой
стороны, я, однако, знаю, что вы не считаете наши новые художественные
средства окончательно разработанными. Не можем ли мы поговорить и об этом?
Б. Ничего с этим не поделаешь: пока вы сами вызываете в зрителе
удивление, то есть пока он видит в вас нечто странное, небывалое, вы не
можете полноценно выполнить свою задачу, которая заключается в том, чтобы
довести до его разума - или до его чувства - те или иные общественные
процессы. Часто мы используем новые средства так, что техника преобладает
над поэзией; вот в каком направлении нам надо учиться. Публику подогревают
ее собственные интересы, и учится она быстро. В особенности когда мы
удовлетворяем и другие ее стремления. К тому же я думаю, что мы еще очень
многого не умеем.
П. Вспомните начало пьесы, где показано наступление гитлеровской армии.
Когда генерал приказывает отряду танков занять Москву в привычном для него
молниеносном темпе, наши зрители должны содрогнуться при виде этой
бессмысленно, бездумно, преступно использованной силы, состоящей из машин и
машиноподобных солдат. Ими должно овладеть сочувствие к непонимающим,
ненависть к их губителям.
Р. Но всегда найдется довольно большое число зрителей, которые видят
лишь одно определенное происшествие, случившееся в одно определенное
ненастное утро в далекой России, нечто, что, несомненно, было так и едва ли
могло быть иначе - при данных обстоятельствах; такие зрители не могут себе
представить, что этих обстоятельств могло бы не быть, что их можно
уничтожить и что они вообще поддаются уничтожению. Кажется, эти зрители
обладают способностью восстанавливать свои иллюзии.
В. Частично это зависит от нашего освещения. Когда на самой первой
репетиции генерал еще читал свою роль по книжке, достигался - как вы,
вероятно, помните - правильный эффект. Танки еще не были достроены, они
стояли некрашеные, а плохо освещенные задник еще не был похож на небо; вот
тогда действие не носило этого предательски натуралистического характера.
Молнию зритель видел не глазами средневекового пастуха; он видел искру,
проскакивающую в лабораторных условиях между катодом и анодом, - ее можно и
создать, и избежать, смотря по надобности.
П. Но ведь в лаборатории художественных переживаний не бывает, мой
друг.
Р. В боксе это называется ударом под ребро. В. говорит как раз о
художественном переживании, то есть о художественном эффекте, который
достигался во время репетиции с неполной иллюзией, а им ощущался достаточно
явно.
В. Почему следующая сцена не всех затрагивает - отбытие транспортных
машин с солдатами? Она тоже весьма интересна. Эти солдаты едут в сторону
Москвы, потому что это кажется им кратчайшим путем для возвращения в Берлин,
Дрезден или Франкфурт.
Р. Здесь опять то же самое: часть зрителей, когда смотрит эту сцену, не
знает другого, то есть революционного пути. Необходим хор, чтобы рассказать
об этом втором пути и рекомендовать его.
В. Так или иначе, нам наших средств очуждения не хватило.
Р. Их не хватило и для того, чтобы показать главную красоту пьесы,
красоту политическую, то есть красоту изображенного в пьесе стремительного
развития. В момент, когда вручается рыцарский крест за захват подмосковной
высоты, она уже опять в руках противника. Когда кавалер рыцарского креста
возвращается домой с известием о "позорном" переходе к русским своего
товарища, жена перебежчика уже сама настроена против Гитлера. Юный кавалер
рыцарского креста еще считает своего "преданного Гитлеру" брата идеальным
героем, а тот в это время уже казнен за участие в антигитлеровском мятеже. И
т. д. и т. д.
П. Многие, даже, пожалуй, все критики писали о том, что наш герой не
развивается. А нам казалось, что именно развитие его представлено особенно
вдумчиво и интересно.
Р. Нельзя забывать: традиционный театр приучил их видеть на сцене
абсолютные свойства характера, между тем как мы изображаем душевные
состояния и процессы при помощи "внешних действий". Младший Гердер, который
увидел недостатки в национал-социалистической системе, для них - скептик по
природе, а не нормальный юноша, который находит во вполне определенных
переживаниях, доступных показу на театре, понятный повод для сомнений. Они
хотят видеть борьбу с проблемами, борьбу ради борьбы. Они не желают видеть
человека, которого столкнули в воду или который упал сам и теперь борется с
волнами, чтобы не утонуть, - им хочется увидеть борца-профессионала, который
ищет партнера и жаждет схватки.
Р. У нас совсем другое представление о развитии. Мы хотим представить
полное конфликтов взаимодействие социальных сил, противоречивые процессы
скачкообразного характера и т. д. Мы немало попотели уже на предварительной
стадии, когда работали за столом: надо было так расположить все события,
чтобы они могли стать переживаниями героя, превратиться в недоразумения и
опыт, отчаяние и упрямство. Но донести до зрителя прекрасный эффект
внезапности его перехода в новое состояние мы, видимо, не смогли - у нас
явно не хватило художественных средств.
В. Мы применяли их недостаточно последовательно. В "Винтовках Тересы
Каррар" мы вполне правдоподобно показали превращение героини, увидевшей труп
сына. Некоторые театры жаловались на то, что их публика не поняла этой
внезапной перемены. По мере того как ей выдвигали лее новые аргументы,
Вайгель - Каррар увеличивала силу своего сопротивления, и перелом в ней
осуществлялся с потрясающей внезапностью. Причины этого перелома были
понятны всем без исключения.
Р. Она понимает диалектику. Мне показалось, что наш театр одержал одну
из своих самых убедительных побед, когда во время обсуждения я услышала от
рабочего-металлиста: "Так у нас и будет, - только так. Те, кто ругается, еще
будут одобрять. Развитие будет не постепенное, не по правилу: чем больше
масла, тем больше одобрений. Одно наслаивается на другое, и в какой-то
момент они перестанут вспоминать о масле". Он был очень взволнован. Он понял
кое-что в диалектике.
П. Коммунизм - это то самое простое, которое трудно создать; примерно
так же обстоит дело и с коммунистическим театром.
Б. Подумайте, однако, как нова позиция, которую мы заняли и которую мы
хотим внушить нашему зрителю. Наш друг Эйслер мастерски воплотил ее в своей
великолепной музыке, посвященной отступлению гитлеровских войск: в ней
одновременно звучит и торжество и скорбь. Торжество по поводу победы
Советской Армии над Гитлером и скорбь по поводу страданий немецких солдат и
позора их нападения на Советский Союз.
П. Чтобы преодолеть трудности, возникающие перед театром в связи с
глубоким переустройством общества, мы приняли некоторые меры, которые со
своей стороны представляют трудности для восприятия. Например, оформление
некоторых спектаклей.
Б. Право же, это самая незначительная трудность. Публика быстро
привыкает к тому, что декорации изображают лишь самые существенные элементы
какойлибо местности или помещения. Воображение публики дополняет наши
намеки, которые, впрочем, вполне реалистичны, - ведь это не символы, не
субъективные вымыслы художников. Открытую линию горизонта в спектакле
"Мамаша Кураж" публика воспринимает как небо, не забывая, что присутствует
она в театре.
П. Но, может быть, ей хочется забыть, что она в театре?
Р. На это нельзя пойти. Это все равно как если бы людям хотелось
забыть, что они все еще "в жизни".
П. Об этом же напоминают песни и надписи, прерывающие спектакль.
Понятно, что после полустолетия более или менее натуралистических,
иллюзионистских спектаклей они тоже не могут снискать всеобщей симпатии.
Б. Но нельзя говорить и о всеобщей антипатии.
В. Главное возражение выдвигают люди, читавшие ваш "Малый органон" для
театра": теперь они считают, что в нашем театре актеры не имеют права
вживаться в свои роли и должны стоять рядом с персонажем, как бы безучастно.
Р. В "Малом органоне" речь идет только о том, что актер не должен
обязательно разделять чувства персонажа, которого ему предстоит изображать,
то есть что он может, а иногда и обязан испытывать другие чувства.
П. Да, актер должен критически относиться к персонажу.
Б. Тем самым, кстати, решается одна из вечных проблем, занимающая
многих: почему отрицательный герой намного интереснее положительного? Он
изображается критически.
Р. Значит, наши актеры не могут уже просто и безоговорочно погружаться
в душевный мир действующих лиц пьесы, они не могут слепо жить их жизнью и
изображать все, что те делают, как естественное и не допускающее никаких
вариантов поведение, представляющееся и публике единственно возможным. Ясно,
что при всей критике актеры должны изображать своих персонажей как живых
людей. Если им это удается, тогда, конечно, уже нельзя сказать, как обычно
говорится: удалось, потому что актер не был настроен критически и
по-настоящему "превратился" во Власову или в Яго.
Б. Возьмем Вайгель в роли мамаши Кураж. Актриса сама критически
рассматривает этот персонаж, а потому и зритель, видя постоянно меняющееся
отношение исполнительницы к поступкам Кураж, испытывает к последней самые
различные чувства. Он восхищается ею как матерью и критикует ее как
торговку. Подобно самой Вайгель, зритель воспринимает мамашу Кураж как
цельного человека со всеми его противоречиями, а не как бескровный результат
анализа актрисы.
П. Вы считали бы неудачей спектакль, который не давал бы критики
изображаемого персонажа или не наталкивал бы на нее?
Б. Безусловно.
П. Но и такой спектакль, который не давал бы полнокровного, живого
образа?
Б. Конечно.
П. И все-таки можно так сформулировать: мы не даем зрителю возможности
слиться в переживании с героями.
Р. Нет, мы не даем им возможности сопереживать слепо.
П. Но ведь зритель должен не только смотреть на них?
Р. Конечно.
П. И чувства по-прежнему должны жить на театре?
Р. Да. Многие из старых, некоторые новые.
Б. Однако я рекомендую вам с особым недоверием относиться к людям,
которые в какой бы то ни было степени хотят изгнать разум из художественной
деятельности. Обычно они клеймят его, называя "холодным", "бесчеловечным",
"враждебным жизни" и считая его непримиримым противником чувства,
являющегося якобы единственной областью работы художника. Они делают вид,
что черпают вдохновение в "интуиции", и упорно защищают свои "впечатления" и
"видения" от всякого посягательства разума, который в их устах приобретает
нечто мещанское. Но противоположность разума и чувства существует только в
их неразумных головах и является следствием весьма сомнительной жизни их
чувств. Они путают прекрасные и сильные чувства, отражаемые литературами
великих эпох, со своими собственными подражательными, грязными и судорожными
переживаниями, которые, понятно, имеют основание бояться света разума. А
разумом они называют нечто, не являющееся поистине разумом, ибо это нечто
противостоит большим чувствам. В эпоху капитализма, идущего навстречу своей
гибели, разум и чувство переродились, они оказались в дурном, непродуктивном
противоречии друг с другом. Напротив, поднимающийся новый класс и те классы,
которые борются вместе с ним, видят, как разум и чувство сталкиваются в
великом продуктивном противоречии. Чувства толкают нас на высшее напряжение
нашего разума, разум очищает наши чувства.
ЗАМЕТКИ О ДИАЛЕКТИКЕ НА ТЕАТРЕ
Новые сюжеты и новые задачи в связи со старыми сюжетами требуют от нас
постоянного пересмотра и усовершенствования наших художественных средств.
Поздний буржуазный театр, стремясь поддержать интерес публики к
искусству, тоже пытается применить формальные новшества; он даже пользуется
некоторыми новшествами социалистического театра. Это, однако, всего лишь
более или менее сознательная "компенсация" отсутствия движения в
общественной жизни искусственным движением в области формальной. Такой театр
борется не со злом, а со скукой. Вместо общественно значимых дел здесь
суетливая деятельность. Герой пьесы садится верхом не на коня, а на набитого
соломой гимнастического козла, он взбирается не на строительные леса, а на
шведскую стенку. Формальные усилия обоих театров не имеют ничего общего
между собой, и все-таки можно, ошибившись, принять один за другой. Картина
усложняется еще и тем, что в капиталистических странах рядом с мнимо новым
театром, театром Nouveaute, спорадически возникает настоящий новый театр,
который не всегда представляет собой только Nouveaute. Есть и другие точки
соприкосновения. Оба театра, - если только они серьезны, - видят конец. Один
из них видит конец мира, другой - конец буржуазного мира. Так как оба
театра, будучи театрами, должны доставлять зрителю удовольствие, то один из
них доставляет это удовольствие, показывая конец мира, другой - показывая
конец буржуазного мира (а также созидание нового мира). Публика одного из
них должна содрогаться перед великим Абсурдом, и театр толкает ее на то,
чтобы она отвергала похвалу великому Разуму (социализму) как слишком дешевое
(хотя, впрочем, для буржуазии достаточно дорогое) решение. Одним словом, оба
театра повсюду соприкасаются, да и как могла бы вспыхивать борьба, не будь
соприкосновения? Поговорим, однако, о наших трудностях.
Человеку доставляет удовольствие изменяться под воздействием искусства,
а также под воздействием жизни. Таким образом, он должен ощутить и увидеть
как себя, так и общество способными к изменению; причудливые законы, по
которым происходят изменения, должны проникнуть в его сознание, - этому
посредством художественного наслаждения должно способствовать искусство.
Материалистическая диалектика говорит о видах и причинах таких изменений.
Мы пришли к выводу, что основным источником эстетического наслаждения
является творческая плодовитость общества, его чудесная способность
создавать полезные и приятные вещи и, в конечном счете, обнаруживать свою
идеальную сущность. Прибавим к этому, что мы можем устранять неприятное и
практически бесполезное. Например, когда мы сажаем сад, ухаживаем за ним и
улучшаем его, мы получаем удовольствие не только от плодов, на которые
рассчитываем в будущем, - нам доставляет удовольствие сама по себе
деятельность, наша способность к творчеству.
Но творить - значит изменять. Это означает влиять на внешние процессы,
прибавлять к существующему что-то новое. Для этого надо многое знать, мочь,
хотеть. Природой можно повелевать, подчиняясь ей, так говорит Бэкон.
Мы склонны считать состояние покоя "нормальным" состоянием. Человек
каждое утро идет на работу, это и есть "нормальное", само собой
разумеющееся. В одно прекрасное утро он на работу не пошел, что-то помешало
ему, какая-нибудь неудача, а может быть, удача, это нуждается в объяснении,
ибо нечто длительное, казавшееся постоянным, внезапно и очень резко
оборвалось; так вот - это нарушение, которое вторгается в состояние покоя, а
затем снова наступает покой, ибо теперь, казалось бы, уже никто на работу не
ходит. Покой носит несколько отрицательный характер, но все же является
покоем, нормальным состоянием.
Даже очень бурные события, если только они повторяются с известной
регулярностью, приобретают видимость покоя. Ночные бомбардировки в городах
могли казаться просто определенной жизненной фазой, они так и
воспринимались, они превратились в состояние и не нуждались более ни в каком
объяснении.
Когда натуралисты изображали те или иные состоя-, ния, последним была
свойственна именно такая постоянная повторяемость. Зритель понимал, что
авторы против этих состояний, но нужно было обладать политической позицией,
сходной с авторской, чтобы суметь представить себе другие состояния и прежде
всего чтобы понять, как добиться их осуществления. Состояниям же самим по
себе был свойствен только этот признак постоянной повторяемости.
Вот как стоит вопрос: должен ли театр так показывать публике человека,
чтобы она могла его понять, или так, чтобы она могла его изменить. Во втором
случае публика должна получить, так сказать, совсем другой материал,
материал, собранный с той точки зрения, чтобы можно было понять и до
известной степени почувствовать неповторимые, сложные, многообразные и
противоречивые отношения между личностью и обществом.
В таком случае актеру нужно соединить художественное воплощение образа
с социальной критикой, которая мобилизует интерес публики. Некоторым
старомодным эстетам такая критика кажется чем-то "отрицательным",
антихудожественным. Это, однако, чепуха. Подобно любому другому художнику,
скажем, романисту, актер может внести в свое творчество элемент социальной
критики, не разрушая создаваемого им художественного образа. Сопротивляются
таким "тенденциям" люди, которые, прикрываясь защитой искусства, просто
защищают от критики существующие порядки.
Неверно полагать, будто новые пьесы и образы не несут в себе жизни или
страсти. Всякий, кто любит, чтобы у него дух захватывало, будет вполне
удовлетворен. Всякий, кому хочется испытать эмоциональное потрясение, пусть
приходит на спектакль! Некоторую часть публики иной раз отпугивает то, что
театр показывает ей людей и события с одной определенной стороны, так, что
становится видно, как их можно изменить; но какое же до этого дело той части
публики, которая не желает ни быть измененной, ни что бы то ни было
изменять?
Даже часть тех людей, кто без устали работает над изменением общества,
хотела бы возложить на театр и драматургию новые задачи, но так, чтобы театр
не претерпел никаких изменений; они боятся вырождения театрального
искусства. Такое вырождение могло бы и в самом деле случиться, если бы мы
просто отбросили прежние завоевания - вместо того, чтобы их дополнить
новыми. Разумеется, такое дополнение связано с преодолением противоречия.
Вслед за тем придется рассмотреть, как использовать эффект очуждения, -
что и для каких целей должно быть очуждаемо. Следует показать изменяемость
сосуществования людей (а вместе с тем изменяемость и самого человека).
Достичь этого можно только, если внимательно присматриваться ко всему
неустойчивому, зыбкому, относительному, - словом, к противоречиям во всех
состояниях, имеющих склонность к переходу в другие противоречивые состояния.
МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ ТЕАТР ШКОЛОЙ ЭМОЦИЙ?
Да. Возникновение эмоций - процесс очистительный. Для этого, однако,
нужно, чтобы и эмоции были очищены.
В театре зрителя обучают большим эмоциям, к которым он без такого
обучения неспособен. Сущность человеческой природы такова, что эмоции не
могут возникнуть сами по себе, то есть изолированно от деятельности разума.
Эта деятельность разума может выступать как начало, противоположное эмоциям,
вносящее в эмоции нечто объективное, определенный материал жизненного опыта.
Однако эмоции и сами по себе - противоречивая смесь.
Эмоции обычно движутся по тем же кривым, что и вообще идеология. Так,
существуют весьма различные типы патриотизма, среди них есть и очень
благородные и совершенно низменные. Непрестанно появляются эмоции, которые
представляют собой огромные и опасные болота общественного разложения.
ВОПРОСЫ О РАБОТЕ РЕЖИССЕРА
Что делает режиссер, ставя пьесу?
- Он рассказывает публике некую историю.
Чем он для этого располагает?
- Текстом, сценой и актерами.
Что самое важное в этой истории?
- Ее смысл, то есть ее общественная суть. Каким образом устанавливается
смысл истории?
- Посредством изучения текста, изучения своеобразия ее автора и времени
ее возникновения.
Может ли история, возникшая в другую эпоху, быть поставлена полностью в
духе ее автора?
- Нет. Режиссер выбирает такой способ прочтения, который может быть
интересен его времени.
Каково важнейшее действие, посредством которого режиссер рассказывает
историю публике?
- Аранжировка, то есть расположение персонажей, определение их позиции
по отношению друг к другу, их передвижения, их выходов и уходов. Аранжировка
должна рассказывать историю в соответствии с ее смыслом.
Бывают ли аранжировки, не отвечающие этому требованию?
- Сколько угодно. Вместо того чтобы рассказывать историю, неправильные
аранжировки пекутся о совсем других вещах. Пренебрегая историей, они
располагают определенных актеров, сиречь звезды, наиболее выгодным для них
образом (так, чтобы они были на виду у публики), или они навевают зрителям
настроение, которое раскрывает суть происходящих на сцене событий
поверхностно или вовсе неверно, или же они создают захватывающие моменты
там, где их нет в рассказываемой истории, и т. д. и т. п.
Каковы основные неправильные аранжировки наших театров?
- Натуралистические, в которых воспроизводится совершенно случайное
расположение персонажей "как бывает в жизни". - Экспрессионистские, которые,
не обращая внимания на историю, являющуюся лишь, так сказать, предлогом,
сводятся к тому, чтобы предоставить персонажам повод "себя выразить". -
Символистские, цель которых - без всякой оглядки на действительность -
выявить "таящееся в глубине вещей", идеальное. - Чисто формалистические,
стремящиеся создать "яркие мизансцены", нисколько не движущие рассказываемую
историю вперед.
ТЕАТР ЭПИЧЕСКИЙ И ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ
В настоящее время делается попытка перехода от _эпического_ театра к
_диалектическому_. С нашей точки зрения и в соответствии с нашими
намерениями, эпический театр как эстетическое понятие вовсе не был чужд
диалектики, а театр диалектический не сможет обойтись без эпической стихии.
Тем не менее мы имеем в виду необходимость значительной перестройки.
В прежних работах мы рассматривали театр как коллектив рассказчиков,
появляющихся перед зрителем, чтобы воплотить некое повествование, иначе
говоря, чтобы пропустить повествование через собственную личность или
создать необходимую общественную среду.
Мы также указывали, на что рассчитывает такой рассказчик: публика
получает удовольствие, рассматривая критически, то есть творчески, поведение
людей и его последствия.
При такой установке нет больше оснований для строгого разделения
жанров, - разве что будут обнаружены какие-нибудь особые основания. События
приобретают то трагический, то комический характер, на обозрение
выставляется их комическая или трагическая сторона. Это не имеет ничего
общего с тем, как Шекспир включает в свои трагедии комические сцены (а вслед
за ним - Гете в "Фаусте"). Серьезные сцены могут сами по себе приобретать
комический характер (скажем, сцена, когда Лир отдает свое царство). Точнее
говоря, в таком случае комический аспект обнаруживается в трагическом и
трагический - в комическом как внутреннее противоречие.
Чтобы своеобразие представленных театром отношений и ситуаций могло
быть воплощено в игровой форме и подвергнуто критике, публика мысленно
создает другие отношения и ситуации и, следя за действием, противопоставляет
их тем, которые показаны театром. Так публика сама превращается в
рассказчика.
Если мы утвердимся в этом взгляде и к тому же еще подчеркнем, что
публика, являясь сорассказчиком, должна встать на точку зрения с_а_мой
творческой, нетерпеливой, рвущейся к благотворным переменам части общества,
мы придем к выводу, что в применении к новейшему театру от термина
"эпический театр" следует отказаться. Если повествовательное начало,
содержащееся в театре вообще, усилилось и обогатилось, то термин этот свою
роль сыграл. Укреплением повествовательного начала в театре вообще - как в
современном, так и в прежнем - создается основа для своеобразия нового
театра, который уже потому является новым, что он _сознательно_ развивает
черты - диалектические - прежнего театра и делает их источником
эстетического наслаждения. Исходя из этого своеобразия, термин "эпический
театр" оказывается слишком общим и неточным, чуть ли не формальным.
Пойдем теперь дальше: обратимся к свету, который должен озарить
отношения между людьми, представляемые нами на сцене, - все то, что в мире
подлежит изменению, должно стать зримым и доставить нам эстетическое
наслаждение.
Чтобы обнаружить изменяемость мира, мы должны познать законы его
развития. При этом мы исходим из диалектики классиков социализма.
Изменяемость мира основана на его противоречивости. В вещах, людях,
событиях есть нечто, делающее их такими, каковы они есть, и в то же время
нечто, делающее их другими. Ибо они развиваются, не стоят на месте,
изменяются до неузнаваемости. И вещи, те, какими они нам представляются
сейчас, незримо содержат в себе нечто иное, прежнее, враждебное нынешнему.
Фрагмент
В пятом томе настоящего издания собраны наиболее важные статьи,
заметки, стихотворения Брехта, посвященные вопросам искусства и литературы.
Работы о театре, занимающие весь второй полутом и значительную часть
первого, отобраны из немецкого семитомного издания (Bertоld Brecht,
Schriften zum Theater, B-de 1-7, Frankfurt am Main, 1963-1964). Статьи и
заметки Брехта о поэзии взяты из соответствующего немецкого сборника
(Bertolt Brect, Uber Lyrik, Berlin und Weimar, 1964). Для отбора
стихотворений использовано восьмитомное немецкое издание, из которого до сих
пор вышло шесть томов (Bertolt Brecht, Gedichte, B-de 1-6, Berlin,
1961-1964). Все остальные материалы - публицистика, работы по общим вопросам
эстетики, статьи о литературе, изобразительных искусствах и пр. - до сих пор
не собраны в особых немецких изданиях. Они рассеяны в частично забытой и
трудно доступной периодике, в альманахах, сборниках и т. д., откуда их и
пришлось извлекать для данного издания.
В основном в пятом томе представлены работы Брехта начиная с 1926 года,
то есть с того момента, когда начали складываться первые и в то время еще
незрелые идеи его теории эпического театра. Весь материал обоих полутомов
распределен по тематическим разделам и рубрикам. В отдельных случаях, когда
та или иная статья могла бы с равным правом быть отнесена к любой из двух
рубрик, составителю приходилось принимать условное решение. Внутри каждой
рубрики материал расположен (в той мере, в какой датировка поддается
установлению) в хронологическом порядке, что дает возможность проследить
эволюцию теоретических воззрений Брехта как в целом, так и по конкретным
вопросам искусства. Лишь в разделе "О себе и своем творчестве" этот принцип
нарушен: здесь вне зависимости от времени написания тех или иных статей и
заметок они сгруппированы вокруг произведений Брехта, которые они
комментируют и разъясняют.
ПРОТИВ ТЕАТРАЛЬНОЙ РУТИНЫ
Статья опубликована в газете "Berliner Borsen-Courier" от 6 февраля
1926 г.
Стр. 8. ...нонсенс (англ.) - нелепость.
Газета "Vossische Zeitung" в начале 1926 г. задала немецким деятелям
культуры вопрос: "Умирает ли драма?" 4 апреля 1926 г. газета опубликовала
ответы ряда драматургов, поэтов и актеров, в том числе и Брехта, предпослав
им следующее вступление: "Все чаще раздаются голоса людей, предсказывающих
или даже констатирующих гибель театра - такого, каким он является в
настоящее время. Мысль о том, что наша эпоха неспособна создать трагедию, не
нова. Новым является утверждение, будто бы собственно драма изжила себя как
форма искусства. Любители произносить скороспелые надгробные речи хоронят
драму и провозглашают ее наследниками кино, радио, оперетту, ревю, бокс.
Полагая, что эта проблема представляет жизненную важность для немецкой
культуры, мы обратились к ряду специалистов с вопросом о том, думают ли они
тоже, что драма обречена на гибель..."
Стр. 11. "Ирод и Mариамна" - трагедия немецкого драматурга Фридриха
Геббеля (1813-1863).
Стр. 12. ...Реймский собор - шедевр французской готической архитектуры
(XIII-XIV вв.), который во время первой мировой войны был варварски
обстрелян немецкой дальнобойной артиллерией.
Стр. 13. Режиссер Л. Иесснер. - См. прим. к стр. 290 1-го полутома.
Генетивус поссесивус (латин.) - родительный падеж принадлежности,
обозначающий лицо, которому принадлежит что-либо.
Отрывок первый был опубликован в еженедельнике "Die Szene" (VI, 1926)
вместе с заметками писателей Эрнста Толлера, И. Р. Бехера и других под общим
заголовком "Движение "Народного театра" и молодое поколение".
Стр. 15. Нестрипке Зигфрид и Hефт Генрих - руководители буржуазного
"Народного театра", с которым в 20-е годы боролись Брехт и его соратники.
Пискатор проявил тенденцию. - Э. Пискатор в 1926 г. поставил на сцене
"Народного театра" две пьесы - "Прилив" А. Паке и "Пьяный корабль" П. Цеха.
КАК ИГРАТЬ КЛАССИКОВ СЕГОДНЯ?
Ответ на анкету, опубликованный в "Berliner Borsen-Courier" от 25
декабря 1926 г. Анкета, предложенная газетой "ведущим деятелям театра и
литературы", содержала следующие вопросы: "В какой мере вы считаете
возможной постановку пьес классического репертуара в современном театре? На
какой основе могут быть изменены старые произведения? С какого момента
начинается произвол? Какую роль играет изменение социального состава публики
при осуществлении или перестройке репертуара?"
Стр. 16. ..."Разбойники" - драма Шиллера, была поставлена Э. Пискатором
в 1926 г. (премьера - 11 ноября) в берлинском "Штатстеатер". В этом
спектакле режиссер перестроил пьесу, сделав ее центральным героем вместо
Карла Моора разбойника Шпигельберга, выступающего в качестве
последовательного мятежника.
...Сто пятьдесят лет-то есть время, истекшее со дня первой постановки
"Разбойников" на немецкой сцене (1782).
ТЕАТРАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 1917-1927 годов
Опубликовано в берлинской газете "Der neue Weg" от 16 мая 1927 г. в
качестве ответа на анкету газеты о роли режиссера в современном театре.
НЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ЛИ НАМ ЭСТЕТИКУ?
В газете "Berliner Borsen-Gourier" от 12 мая 1927 г. появилась статья
некоего "господина Икс" под заголовком: "Гибель драмы. Письмо драматургу".
Ею была начата "Полемическая переписка о современной драме". В газете от 2
июня появилось возражение Брехта "Не ликвидировать ли нам эстетику?" и ответ
г-на Икс, который оказался социологом Фрицем Штернбергом. (См. прим. к 1-му
полутому).
ЧЕЛОВЕК ЗА РЕЖИССЕРСКИМ ПУЛЬТОМ
Ответ на вопрос журнала "Theater", где он и был напечатан в январском
номере 1928 г. Вместе с заметкой Брехта напечатаны заметки других
драматургов: А. Броннена - "Человек за письменным столом", К. Цукмайера -
"Человек в кресле партера" и др.
БЕСЕДА ПО КЕЛЬНСКОМУ РАДИО
Немецкий редактор напечатал этот текст, относящийся к 1928 г., по
рукописи Брехта, которая содержит не только запись беседы на кельнском
радио, но и цитаты из сочинений собеседников Брехта, явно добавленные
автором позднее.
Стр. 22. Хардт Эрнст (1876-1927) - поэт неоромантического направления,
драматург, переводчик.
Стр. 23. Иеринг Герберт (р. 1888) - немецкий театральный критик и
историк театра, в то время - рецензент "Berliner Borsen-Courier",
поддерживавший Пискатора и Брехта.
Стр. 25. "Облава на козла" - обычный в баварских горах вид народного
суда, при котором обвиняемый первоначально закутывался в козлиную шкуру.
Таким сравнением Брехт хочет сказать как о подчинении всех этапов драмы
последнему, так и о "варварском" характере такой драмы.
Стр. 26. ...о парижской школе. - Имеется в виду легкое развлекательное
буржуазное драмодельство.
Газенклевер Вальтер (1890-1940) - немецкий поэт и
драматург-экспрессионист. Пьеса "Браки заключаются на небесах" поставлена на
камерной сцене Немецкого театра (Берлин) в 1928г.
"Поход на восточный полюс" (1926) - пьеса А. Броннена (см. прим. к стр.
218 1-го полутома), в которой сделана попытка вывести одного-единственного
персонажа ("Ein-Mann-Stuck").
Флейсер Марилуиза - немецкая писательница, драматург, автор пьесы
"Пионеры Ингольштадта", поставленной в 1927 г. в театре на Шиффбауэрдамме, и
других ("Ингольштадтские драмы").
Стр. 27. Кайзер Георг (1878-1945) - немецкий драматург-экспрессионист,
автор ряда пацифистских и антиимпериалистических пьес; написал более 60 пьес
ярко экспериментального характера. "С утра до полуночи" - драма 1916 г.
Стр. 28. Лампель Петер-Мартин (р. 1894) - немецкий драматург. Его пьеса
"Бунт в воспитательном доме" (1928) вызвала большую дискуссию по вопросам
воспитания.
ДОЛЖНА ЛИ ДРАМА ИМЕТЬ ТЕНДЕНЦИЮ?
Ответ на анкету эссенского журнала "Scheinwerfer", опубликованный в
ноябре 1928 г. в ряду ответов других деятелей культуры.
Видимо, эта статья, оставшаяся в рукописи, относится к 1932 году.
Стр. 33. Mоэм Сомерсет (р. 1874) - английский романист и драматург,
снискавший известность комедиями "Леди Фредерик" (1907), "Человек чести"
(1904), "Каролина" (1916), "Круг" (1921), "Письмо" (1927) и др. Собрание
пьес Моэма в шести томах вышло в свет в 1931-1932 годах.
Сулла Луций Корнелий (138-78 до н. э.) стал в 82 г. до н. э. бессрочным
диктатором, а в 79 г. до н. э. сложил свои полномочия.
Шекспир... ушел в личную жизнь. - В 1613 г., в расцвете сил, сорока
восьми лет, Шекспир, по неведомым его биографам причинам, оставил театр.
(См.: А. Аникст, Шекспир, М., "Молодая гвардия", ЖЗЛ, 1964, стр. 303 сл.).
НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОМУ ТЕАТРУ
Ответ на анкету газеты "Berliner Borsen-Courier"; вопрос гласил: "Чего,
по Вашему мнению, ждет от Вас Ваш зритель?" Опубликовано 25 декабря 1926 г.
вместе с ответами многих театральных деятелей (Л. Йесснер, А. Броннен, Г.
Кайзер, Э. Толлер, К. Цукмайер, К. Штернгейм, М. Флейсер и другие).
Стр. 38. "В чаще". - Имеется в виду пьеса Брехта "В чаще городов"
(1921-1924).
Написано Брехтом после спектакля "Прилив" А. Паке на сцене "Фольксбюне"
21 февраля 1926 г.
Стр. 39. "Кориолан" Шекспира был поставлен режиссером Эрихом Энгелем в
берлинском "Лессинг-театр" 27 февраля 1925 г.; главную роль исполнял Фриц
Кортнер.
"Ваал" - первая пьеса Брехта, написанная в 1918 г.
Буррис Эмиль - драматург, соратник Брехта, автор пьес "Американская
молодежь" (1925), "Скудная трапеза" (1926). См. о нем две заметки Брехта:
"Плодотворные препятствия" и "Объективный театр" (В. Brecht, Schriften zum
Theater, В. I, S. 169-172).
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТРУДНОСТЯХ ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА
Опубликовано в литературном приложении газеты "Frankfurter Zeitung" от
27 ноября 1927 г.
Стр. 41. ...Мюнхенской шекспировской сцены. - Имеется в виду Мюнхенский
художественный театр (1907-1908), зрительный зал которого был расположен
амфитеатром, а сцена длиной в 10 метров, лишенная глубины, ограничивалась с
боковых сторон башнями; на фоне задней стены выделялись силуэты актеров.
Этот театр с успехом ставил "Двенадцатую ночь" Шекспира.
Опубликовано в газете "Berliner Borsen-Courier" от 11 февраля 1929 г.
"Эдип" был поставлен Леопольдом Иесснером в берлинском "Штатстеатер" 4
января 1929 г. Соединение "Царя Эдипа" и "Эдипа в Колоне" в одну пьесу
(автор Гейнц Липман). Главную роль исполнял Фриц Кортнер.
Опубликовано в газете "Berliner Borsen-Courier" от 31 марта 1929 г.
вместе с заметками ряда других театральных деятелей под общим заголовком
"Завтрашний театр". Редакция поставила следующие вопросы: "Какие новые
тематические области могут оплодотворить театр? Требуют ли эти темы новой
драматической формы или новой техники игры?"
ПУТЬ К БОЛЬШОМУ СОВРЕМЕННОМУ ТЕАТРУ
Эти наброски, оставшиеся неопубликованными, относятся к 1930 г.
Стр. 47. Дейтонский обезьяний процесс. - Дейтон - город в США, в штате
Огайо; здесь имел место суд над школьным учителем, пропагандировавшим учение
Дарвина.
СОВЕТСКИЙ ТЕАТР И ПРОЛЕТАРСКИЙ ТЕАТР
Написано в связи с гастролями театра имени Мейерхольда в 1930 г.; в
Берлине игрались спектакли "ревизор" Гоголя, "Рычи, Китай!" С. Третьякова и
"Лес" Островского.
Стр. 51. ...Аттила - предводитель гуннов (434-453), известный своей
свирепостью.
ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ
Отдельные наброски 1929-1930 гг., оставшиеся неопубликованными и
извлеченные из архива Брехта.
Стр. 55. Керр Альфред (1867-1948) - немецкий театральный критик,
постоянный идейно-художественный противник Брехта.
Стр. 60. ...произведения ...Деблина, - Брехт имеет в виду роман
Альфреда Деблина (1878-1957) "Три прыжка Ван Луня" (1915), под влиянием
которого он написал свою раннюю комедию "Что тот солдат, что этот"
(1924-1926).
Стр. 63. ...совлечение покровов с изображений в Саисе. - Имеется в виду
стихотворение Шиллера "Саисское изваяние под покровом" (1796), где
утверждается кантианское положение о непознаваемости "вещи в себе":
любознательный юноша сорвал со статуи покров, скрывавший Истину, и навеки
онемел.
О НЕАРИСТОТЕЛЕВСКОЙ ДРАМЕ
ТЕАТР УДОВОЛЬСТВИЯ ИЛИ ТЕАТР ПОУЧЕНИЯ?
Статья написана в 1936 г., впервые опубликована в 1957 т. в сб.
"Schriften zum Theater". На русском языке печаталась в кн.: Б. Брехт, О
театре, М., ИЛ, 1960.
Стр. 65. Жуве Луи (1887-1935)-французский режиссер, руководитель театра
"Атеней". Жуве был театральным новатором, искавшим новые пути режиссуры.
Кочран - английский режиссер и актер.
"Габима" - еврейский театр, в котором Е. Б. Вахтангов в 1921 г.
поставил спектакль "Гадибук" ("Бесноватая"), имевший большой резонанс в
Европе.
Стр. 66. ...согласно Аристотелю. - См.: Аристотель, Искусство поэзии,
М., Гослитиздат, 1967, стр. S3.
Стр. 72. Психоанализ - теория психологии, созданная австрийским ученым
3. Фрейдом, согласно которой духовная жизнь человека объясняется
подсознанием и главным образом половым инстинктом.
Бихевиоризм - направление в новейшей американской психологии,
рассматривающее поведение человека как совокупность реакций на внешние
воздействия.
...Согласно Фридриху Шиллеру... - Брехт имеет в виду учение Шиллера о
театре как школе нравственности, выдвинутое им в ряде эстетических статей и
трактатов: "Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение", "О
трагическом искусстве", "О патетическом", в "Письмах об эстетическом
воспитании человека".
Стр. 73. Ницше напал на Шиллера, назвав его зекингенским трубачом
нравственности. - Ницше, который питал к Шиллеру неприязнь, иронически
называл его так, используя заглавие известного лиро-эпического рассказа в
стихах Иозефа Виктора Шеффеля "Зекингенский трубач" (1854).
НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР 20-х ГОДОВ
Эта статья была опубликована по-английски в "Left Review", Лондон, июль
1936 г.
Стр. 75. "Дело есть дело" - антибуржуазная пьеса французского писателя
Октава Мирбо (1903).
"Фрекен Юлия" - натуралистическая драма шведского писателя Августа
Стриндберга (1888).
"Меловой круг" - нашумевшая модернистская пьеса немецкого писателя
Клабунда (1924), обработка старинной восточной драмы,
Стр. 76. "Бравый солдат Швейк" был поставлен Пискатором в берлинском
театре на Ноллендорфплац (премьера 23 января 1928 г.) по роману Гашека,
обработанному для сцены Брехтом.
"Берлинский купец" - сатирическая пьеса Вальтера Меринга (р. 1896),
поставленная Пискатором в театре на Ноллендорфплац (премьера 6 сентября 1928
г.).
Гросс Георг (1893-1959) - немецкий график, сотрудничавший в 1928-1929
гг. с Пискатором, в театре которого оформил "Похождения бравого солдата
Швейка". См. о нем в кн. Э. Пискатора "Политический театр", М., 1934.
Стр. 77. "Полет Линдбергов" - учебная пьеса Брехта (1929), позднее
переименованная в "Полет над океаном".
Хиндемит Пауль (р. 1895) - немецкий композитор, один из лидеров
музыкального модернизма.
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР И ИЛЛЮЗИЯ
Наброски, оставшиеся неопубликованными. В рукописи Брехта приведенный
заголовок относится только к первому отрывку.
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Доклад, прочитанный 4 мая 1939 г. участникам Студенческого театра в
Стокгольме. Для повторного чтения доклада перед ансамблем Студенческого
театра в Хельсинки в ноябре 1940 г. Брехт переработал текст. Впервые
опубликован в "Studien", Э 12, приложение к журналу "Theater der Zeit",
l959, Э 4.
Стр. 84. Антуан Андре (1858-1943) - французский режиссер, теоретик и
новатор театра.
Брам Отто (1856-(1912) - немецкий театральный деятель, основоположник
немецкого сценического натурализма, последователь Антуана.
Крэг Гордон (р. 1872) - английский режиссер, художник и теоретик
театра, сторонник единовластия режиссера в театре, видевший в актере лишь
"сверхмарионетку".
Рейнгардт Макс (1873-1943) - немецкий режиссер, неутомимый
экспериментатор, новаторски использовавший все компоненты современного
спектакля (музыка, свет, танец, живопись).
...естественные площадки. - Рейнгардт осуществлял постановку на
цирковых аренах и т. п. в форме массовых народных зрелищ. "Сон в летнюю
ночь" был поставлен в 1905 г. - этот спектакль пользовался особым успехом.
"Каждый человек" (или "Всякий") - драма австрийского драматурга Гуго
фон Гофмансталя (1874-1924) "Каждый человек, игра о смерти богача" (1911);
представляет собой обработку средневековой мистерии.
Стр. 85. Тренделенбургская операция на сердце. - Тренделенбург Фридрих
(1844-1924) - хирург, создатель новых методов операций на легких и сердце.
Стр. 86. Григ Нурдаль (1902-1943) - норвежский драматург, автор
эпической драмы "Наша честь, наше могущество" (1935), привлекавшей Брехта
изображением народной массы, и "Поражения" (1937), драмы, которую Брехт
переделал в свою пьесу "Дни Коммуны".
Лагерквист Пер (р. 1891) - шведский писатель, последователь драматургии
А. Стриндберга, позднее создавший произведения высокого философского и
общественного значения.
Оден Уистан Хью (р. 1907) - английский писатель и поэт.
Абелль Кьель (1901-1961) - датский драматург. См. прим. к стр. 181 1-го
полутома.
Стр. 93. ...институт физика Нильса Бора. - Нильс Бор (1885-1964) -
датский физик, с 1920 г. возглавлявший институт теоретической физики. Под
впечатлением упоминаемого в тексте сообщения Брехт написал пьесу "Жизнь
Галилея" (см. об этом т. 2 наст, изд., стр. 437).
Стр. 95. Мимезис. - В своей "Поэтике" Аристотель все виды поэзии вслед
за Платоном называет подражательными искусствами или подражанием. Термин
"мимезис" (μιμησις) означает "подражание".
Гегель, создавший... последнюю великую эстетику. - Имеется в виду "Курс
лекций по эстетике", читанных Гегелем в 1817-1819 гг. в Гейдельберге и в
1820-1821 гг. в Берлине. Приводимая Брехтом мысль-во "Введении" (см.:
Гегель, Собрание сочинений, М., 1938, т. XII).
Стр. 101. Брейгель. - Нидерландский живописец Питер Брейгель Старший,
прозванный Мужицким (1525-1569).
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ АКТЕРСКОЙ ИГРЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ТАК
НАЗЫВАЕМЫЙ "ЭФФЕКТ ОЧУЖДЕНИЯ"
Статья написана в 1940 году, опубликована в "Versuche", Э 11, Берлин,
1951. На русском языке - в кн.: Б. Брехт, О театре, М., ИЛ, 1960.
Стр. 108. "Жизнь Эдуарда II Английского" (1923) - пьеса Б. Брехта и Л.
Фейхтвангера, переделка драмы Кристофера Марло, английского драматурга эпохи
Возрождения, предшественника Шекспира.
"Пионеры из Ингольштадта" - пьеса Марилуизы Флейсер.
Стр. 110. Книга И. Рапопорта "Работа актера" ("The Work of the Actor")
произвела на Брехта большое впечатление и неоднократно обсуждалась им. См.
специальную заметку в "Schriften zum Theater", В. Ill, Suhrkamp Verlag,
1963, S. 212-213.
При жизни Брехта эти заметки не публиковались.
При жизни Брехта не публиковалось. Разделы "Историзация" и
"Неповторимость образа" включены в данный цикл заметок составителем
немецкого издания В. Хехтом.
Стр. 125. ...вашу маленькую пьесу... - то есть одноактную пьесу Брехта
"Винтовки Тересы Каррар".
Стр. 125-126. ...самая выдающаяся актриса - Елена Вайгель.
Эта и следующие заметки написаны преимущественно в 19511953 гг. Часть
из них создана до и после конференции, организованной Немецкой Академией
искусств в Берлине на тему: "Как мы можем усвоить Станиславского?" Другие
возникли летом 1953 г. в связи с чтением рукописного перевода книги Н.
Горчакова "Режиссерские уроки К. С. Станиславского", 2-е изд., М.,
"Искусство", 1951, написанной известным советским режиссером на основе
репетиций и бесед со Станиславским.
Написано Брехтом в связи с постановкой пьесы Э. Штриттматтера
"Кацграбен" (1953) - см. прим. к стр. 479.
Стр. 141. "Процесс Жанны д'Арк" - пьеса, написанная Б. Брехтом в
сотрудничестве с Бенно Бессоном по одноименной радиопьесе Анны Зегерс
(1952).
Дюфур - персонаж этой пьесы.
pars pro toto (латин.) - часть вместо целого.
Относится к заметкам, написанным в связи с постановкой "Кацграбена".
Стр. 142. Данеггер Матильда - актриса "Берлинского ансамбля".
ХУДОЖНИК И КОМПОЗИТОР В ЭПИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
ОБ ОФОРМЛЕНИИ СЦЕНЫ В НЕАРИСТОТЕЛЕВСКОМ ТЕАТРЕ
Отрывок из большой работы, оставшейся незавершенной.
Стр. 150. "Разбег" - пьеса В. П. Ставского (1931), поставленная Н. П.
Охлопковым в московском Реалистическом театре.
Кнутсон Пер - датский режиссер, поставивший в копенгагенском театре
"Ридерсален" пьесу Брехта "Круглоголовые и остроголовые" (премьера - 4
ноября 1936). См. наст, изд., т. II, стр. 430.
Стр. 151. Горелик Макс (Мордекай) (р. 1899) - американский театральный
художник, оформлявший постановку пьесы Брехта "Мир" в нью-йоркском "Тиэтр
Юнион" (премьера 19 ноября 1935 г.). См. наст, изд., т. I, стр. 510.
Стр. 155. Хартфилд Джон (р. 1891) - немецкий плакатист и художник
театра.
Стр. 161. Hannibal ante portes (латин.) - Ганнибал у ворот. Слова
Цицерона, означающие грозящую большую опасность.
Стр. 163. Гилд-Тиэтр - американский драматический театр, созданный в
1919 году; здесь существующей в Америке системе "звезд" противопоставлялся
крепкий актерский ансамбль. См. "Театральная энциклопедия", т. I, стлб.
1169-1170.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЗЫКИ В ЭПИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
Статья написана в 1935 г. Впервые опубликована в кн.: "Schriften zurn
Theater", 1957. В русском переводе - Б. Брехт, О театре.
Стр. 164. "Жизнь асоциального Ваала" - то есть пьеса Брехта "Ваал"
(1918).
Стр. 167. "Take it оff" (англ.) - снимай, раздевайся.
"Император Джонс" - пьеса американского писателя Юджина О'Нила
(1888-1953).
"МАЛЫЙ ОРГАНОН" ДЛЯ ТЕАТРА
Основная теоретическая работа Брехта, написанная в 1948 г. Впервые
опубликована в 1949 г. в специальном, посвященном Брехту выпуске журнала
"Sinn und Form", затем в "Versuche", Э 12 В аннотации автор написал: "Здесь
дается анализ театра века науки".
Слово "органон" (означающее по-гречески в прямом смысле "орудие",
"инструмент") у последователей Аристотеля означает логику как орудие
научного познания. Словом "Органон" обозначено собрание трактатов по логике
Аристотеля. Английский философ-материалист Фрэнсис Бэкон (1561-1626), желая
противопоставить логике Аристотеля свою индуктивную логику (то есть
основанную на умозаключениях от частных фактов к общим выводам), полемически
назвал свой труд "Новый органон". Б. Брехт называет свой основной
теоретический трактат "Малый органон", продолжая борьбу за новый,
"неаристотелевский" театр. Таким образом, уже в самом названии заключена
полемика против традиционной драматургии и театра.
Стр. 175. Оппенгеймер Роберт (р. 1904) - американский физик; во время
войны, с 1943 года, руководил одной из основных американских ядерных
лабораторий. Впоследствии подвергся суду за антиамериканскую деятельность.
Стр. 195. Лафтон - см. 1-й полутом, стр. 516.
Стр. 208. "Тай Янь пробуждается" - пьеса Фридриха Вольфа, поставленная
Пискатором в "Вальнертеатер" (премьера 15 мая 19(31 г.),
ДОБАВЛЕНИЯ К "МАЛОМУ ОРГАНОНУ"
Добавления написаны Брехтом в 1952-1954 гг. с использованием опыта
работы в "Берлинском ансамбле".
Стр. 211. Сова Минервы. - Согласно повериям древних римлян, сова -
священная птица, сопровождающая богиню мудрости Минерву.
Разрозненные заметки, объединенные под таким заголовком составителем
немецкого издания В. Хехтом.
Стр. 222. Изучение первой сцены трагедии Шекспира "Кориолан". Эта
беседа Брехта с его сотрудниками по театру "Берлинский ансамбль" имела место
в 1953 г. Трагедия Шекспира "Кориолан" была переведена и обработана Брехтом
в 1952-1953 гг.
Стр. 232. Рatria (латин.). - отечество.
Стр. 239. Относительная торопливость. - Пьеса Н. А. Островского
"Воспитанница" была поставлена в "Берлинском ансамбле" в режиссуре Ангелики
Хурвиц (премьера 12 декабря 1955г.).
Стр. 240. Другой случай применения диалектики. - Пьеса "Винтовки Тересы
Каррар" была поставлена в "Берлинском ансамбле" Эгоном Монком под
художественным руководством Брехта (премьера 16 ноября 1962 г.).
Стр. 241. Письмо к исполнителю роли младшего Гердера в "Зимней битве".
- "Зимняя битва", трагедия И. Р. Бехера, была поставлена в "Берлинском
ансамбле" Б. Брехтом и Манфредом Веквертом (премьера 12 января 1955 г.).
Роль младшего Гердера исполнял Эккехард Шалль.
Стр. 243. Арндт Эрнст Мориц (1769-1860) - немецкий писатель, публицист
периода освободительных войн против Наполеона.
Стр. 244. "Военный букварь" - альбом, составленный Брехтом во время
войны, представляющий собой фотографии со стихотворными подписями,
сочиненными Брехтом.
Стр. 245. Hиоба - в греческой легенде супруга царя Фив Амфиона, дети
которой были убиты богами; от горя Ниоба превратилась в скалу. Ниоба -
олицетворение страдания.
Стр. 246. Пример того, как обнаружение ошибки привело к сценической
находке. - Пьеса китайских драматургов Ло Дина, Чань Фана и Чу Джин-нана
"Просо для Восьмой армии" в обработке Элизабет Гауптман и Манфреда Векверта
была поставлена в "Берлинском ансамбле" М. Веквертом (премьера 1 апреля 1954
г.).
Стр. 248. Готшед Иоганн Кристоф (1700-1766) - немецкий писатель эпохи
раннего Просвещения. Его "Опыт критической поэтики для немцев" опубликован в
1730 г.
Стр. 249. Пол. - Брехт ошибается: Пол был не римским актером, он был
афинянином эпохи Перикла.
НЕКОТОРЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ПОНИМАНИИ МЕТОДА ИГРЫ "БЕРЛИНСКОГО АНСАМБЛЯ"
Эта "беседа в литературной части театра" имела место в 1955 г. после
премьеры "Зимней битвы" И. Р. Бехера. Опубликовано впервые в "Sinn und
Form", 1957, Э 1-3. Русский перевод (частичный) в кн.: Б. Брехт, О театре.
Стр. 252. Рилла Пауль (р. 1896) - немецкий критик, теоретик и историк
литературы, автор книги "Литература, критика и полемика", Берлин, 1950.
Стр. 254. Роза Берндт - героиня одноименной трагедии Г. Гауптмана
(1903).
Стр. 259. Эрпенбек Фриц (р. 1897) - немецкий писатель и театральный
критик.
ЗАМЕТКИ О ДИАЛЕКТИКЕ НА ТЕАТРЕ
Стр. 268. Nouveaute (франц.) - букв, новость. "Theatres des Nouveautes"
- так назывались многие парижские театры, из которых наиболее известен
театр, основанный Брассером-старшим на итальянском бульваре в 1878 г., где
игрались водевили, оперетты и комедии-буфф.
Е. Эткинд
Популярность: 25, Last-modified: Wed, 21 Apr 2004 20:44:50 GmT