_________________________________________________________________
(Флот вторжения - 4)
OCR: Sergius -- s_sergius@pisem.net
_..._ -- курсив
_________________________________________________________________
Тартлдав Г.
Т19 Великий перелом: Фантастический роман / Пер. с англ. Я.Забелиной.
-- М.: Изд-во Эксмо, СПб.: Изд-во Домино, 2004. -- 704 с. (Военная
фантастика).
ISBN 5-699-04845-6
Государства-противники, ставшие вынужденными союзниками в войне с
ящерами, превращаются в полноценные ядерные державы. План захвата
инопланетянами Земли терпит крах. Но и сами страны -- обладатели атомного
оружия начинают посматривать друг на друга как на будущие объекты агрессии.
УДК 820 (73)
ББК 84(7 США)
© Издание на русском языке, оформление. ООО "Издательство "Эксмо", 2003
© Перевод. Я. Забелина, 2003
_________________________________________________________________
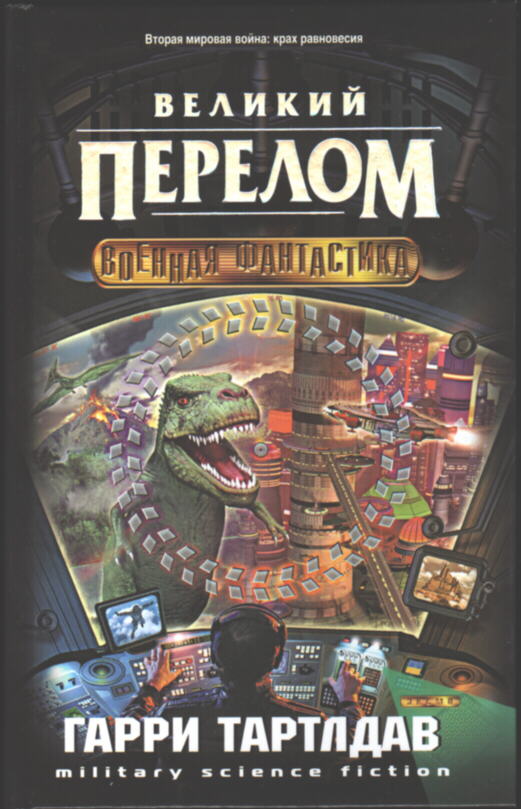 Гарри ТАРТЛДАВ
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ
Harry TURTLEDOVE
THE WORLDWAR SAGA: STRIKING THE BALANCE
Copyright © 1996 by Harry Turtledove
Легко скользнув в невесомости, адмирал Атвар завис над голографическим
проектором. Он тронул рычажок на корпусе прибора. Изображение, которое
появилось над проектором, было послано с Тосев-3 на Родину зондами Расы
восемь местных столетий назад.
Воин -- Большой Урод -- сидел верхом на животном. Он был облачен в
кожаные сапоги, ржавую кольчугу и помятый железный шлем; тонкая одежда,
сотканная из растительных волокон и окрашенная в синий цвет соками растений,
защищала броню от жара звезды, которую Раса называла Тосев. Для Атвара --
как и для любого самца Расы -- Тосев-3, третья планета звезды, был холодным
местом, но местные жители так, видимо, не считали.
Длинное копье с железным наконечником торчало вверх из утолщения на
устройстве, которое воин использовал, чтобы удерживаться на спине животного.
Еще у воина был щит с нарисованным на нем крестом, на поясе висели длинный
прямой меч и пара ножей.
У тосевита можно было рассмотреть как следует только лицо и одну руку.
Но и этого было достаточно, чтобы понять, что он такой же волосатый или,
может, даже шерстистый, как животное, на котором он сидит. Густой жесткий
желтый мех покрывал подбородок Большого Урода и место на лице вокруг рта;
полоски меха виднелись и над обоими его плоскими неподвижными глазами.
Тыльную сторону руки покрывал редкий слой волос.
Атвар прикоснулся к своей ровной чешуйчатой коже. Каждый раз, глядя на
всю эту шерсть, он удивлялся, почему Большие Уроды не чешутся ежеминутно.
Оставив один глаз нацеленным на тосевитского воина, он повернул второй в
сторону Кирела, командира корабля "127-й Император Хетто".
-- Вот это и есть враг, к противостоянию с которым мы готовились, --
горько сказал он.
-- Истинно так, благородный адмирал, -- сказал Кирел. Раскраска его
тела была почти такой же многоцветной и сложной, как и у Атвара, и,
поскольку он командовал флагманским кораблем флота вторжения, выше его по
рангу был только главнокомандующий флотом.
Атвар стукнул по рычажку проектора левым указательным когтем. Большой
Урод исчез. Вместо него возникло прекрасное трехмерное изображение ядерного
взрыва, который разрушил тосевитский город Рим: Атвар узнал окружающую
местность. Но это могла быть и другая бомба -- та, что испарила Чикаго, или
Бреслау, или Майами, или авангард атакующих войск Расы к югу от Москвы.
-- И вместо того противника, о котором мы думали, на деле имеем вот
это, -- сказал Атвар.
-- Истинно так, -- повторил Кирел и в качестве печального комментария
сочувственно кашлянул.
Атвар издал долгий свистящий выдох. Стабильность и предсказуемость --
вот два столпа, на которых сотню тысяч лет покоилась Империя Расы;
стабильность и предсказуемость позволили Империи подчинить себе три
солнечные системы. На Тосев-3, казалось, не было ничего предсказуемого,
ничего устойчивого. Неудивительно, что Раса столкнулась здесь с такими
неприятностями. Большие Уроды вообще не подчинялись правилам, изученным
мудрецами Расы.
Еще раз вздохнув, адмирал Атвар снова нажал на рычажок.
Грозное облако ядерного взрыва исчезло. Но изображение, которое
заменило его, пугало гораздо сильнее. Это была сделанная со спутника
фотография базы, которую Раса устроила в регионе СССР, известном местным
жителям как Сибирь -- а суровый климат Сибири даже Большие Уроды считали
ужасным.
-- Мятежники по-прежнему упорствуют в своем неподчинении должным
образом назначенным властям, -- мрачно проговорил Атвар. -- Хуже того,
коменданты двух ближайших баз выступили против того, чтобы направить своих
самцов на подавление восстания, опасаясь, что те перейдут на сторону
мятежников.
-- Это и в самом деле тревожно, -- сказал Кирел, еще раз сочувственно
кашлянув. -- Если мы используем самцов с дальней авиабазы, чтобы разбомбить
мятежников, решит ли это проблему?
-- Не знаю, -- ответил Атвар. -- Но, что пугает меня куда больше, я не
знаю, во имя Императора... -- он на мгновение опустил взгляд при упоминании
о суверене, -- как мятеж мог произойти вообще. Подчинение порядку и
объединение в общую систему Расы как в единое целое впечатывается в наших
самцов с того момента, как они вылупляются из яйца. Как они могли
перешагнуть через это?
Теперь вздохнул Кирел:
-- Борьба в этом мире разлагает моральные устои характера самцов так же
сильно, как здешняя океанская вода разъедает оборудование. Мы ввязались не в
ту войну, которую планировали перед отлетом из дома, и одного этого
достаточно, чтобы дезориентировать немалое количество самцов.
-- Вы совершенно правы, командир корабля, -- отметил Атвар. -- Вожак
мятежников -- низкорожденный водитель танка, только представьте себе это! --
потерял, оказывается, по крайней мере три комплекта самцов-сослуживцев: два
убиты, включая тот экипаж, с которым он участвовал на этой самой базе в
операциях против тосевитов, и третий -- арестованный и наказанный за
употребление имбиря.
-- По диким заявлениям этого Уссмака можно понять, что он сам тоже
употребляет имбирь, -- сказал Кирел.
-- Угрожает обратиться к Советам за помощью, если мы нападем на него,
это вы имеете в виду? -- спросил Атвар. -- Мы обязаны отговорить его. Если
он думает, что они помогут ему просто по доброй воле, значит, тосевитская
трава поистине отравила его разум. Если бы не наше оборудование, которое он
готов передать СССР, я сказал бы, что мы должны приветствовать его переход в
Большие Уроды.
-- Принимая во внимание ситуацию такой, какова она есть, господин
адмирал, надо решить, какого курса нам придерживаться?
Вопросительный кашель Кирела прозвучал с некоторым осуждением -- а
может быть, это совесть Атвара воздействовала на его собственную слуховую
перепонку.
-- Я пока не знаю, -- беспомощно проговорил адмирал.
Когда он впадал в сомнения, первым инстинктом, типичным для самца, было
-- ничего не делать. Дать ситуации развиться настолько, чтобы вы могли
понять ее более полно. Эта стратегия хорошо срабатывала на Родине, а также
на Работев-2 и Халесс-1, двух других населенных мирах, находящихся под
контролем Расы.
Но в противостоянии с тосевитами ожидание зачастую приводило к худшим
результатам, чем действия в отсутствие полной информации. Большие Уроды
действовали стремительно. Они не задумывались о долгосрочных последствиях. К
примеру, атомное оружие -- вначале оно помогло им. А если они опустошат
Тосев-3, что тогда?
Атвар не мог пустить на самотек это "что тогда". Колонизационный флот
уже находился в пути, покинув Родину. Адмирал не мог встретить его в мире,
который он сделал необитаемым в процессе победы над Большими Уродами. С
другой стороны, он не мог и бездействовать, и потому оказался в неприятном
положении, вынужденный реагировать на действия тосевитов, вместо того чтобы
перехватить у них инициативу.
Но у мятежников не было ядерного оружия, и они не были Большими
Уродами. Он мог бы оставить их в ожидании... если бы они не угрожали отдать
свою базу СССР. Когда имеешь дело с тосевитами, нельзя просто сидеть и
наблюдать. Большие Уроды никогда не довольствуются тем, чтобы дело кипело на
медленном огне. Они швыряют его в микроволновку и доводят до кипения как
можно скорее.
Поскольку Атвар больше ничего не сказал, Кирел попытался подтолкнуть
его:
-- Благородный адмирал, разве вы можете вести настоящие переговоры с
этими мятежными и бунтующими самцами? Их требования невозможны: им мало
амнистии и перевода в более теплый климат -- что само по себе уже достаточно
плохо, -- но они еще и требуют прекратить войну против тосевитов, чтобы
самцы больше не гибли "напрасно", если говорить их словами.
-- Нет, мы не можем позволить мятежникам диктовать нам условия, --
согласился Атвар. -- Это было бы недопустимо. -- Его рот раскрылся,
произведя горький смешок. -- И более того, по всем мыслимым меркам ситуация
на обширных просторах Тосев-3 нетерпима, и похоже, что наши силы не обладают
возможностью существенным образом улучшить ее. Что из этого следует,
командир корабля?
Одним из возможных ответов было -- новый главнокомандующий флотом.
Собрание командиров флота вторжения однажды уже пыталось сместить Атвара --
после того, как СССР взорвал первую тосевитскую бомбу из расщепляющегося
материала. Тогда заговор провалился. Если они попробуют сделать это снова,
то Кирел логически становится первым преемником Атвара. Адмирал ожидал
ответа своего подчиненного, и для него было важно не столько, _что_ он
скажет, а _как_ скажет.
Помедлив, Кирел ответил:
-- Если бы среди представителей Расы были сторонники тосевитов,
противостоящие всеобщей воле, -- конечно, Раса не могла породить таких
порочных сторонников, это говорится только в виде гипотезы, -- то их сила в
отличие от сил мятежников могла бы привести к необходимости вести
переговоры.
Атвар обдумал это. Кирел, в общем, был консервативным самцом и выразил
свое предложение консервативным образом, приравняв Больших Уродов к
аналогичным группировкам внутри Расы, и от такого уравнения чешуя Атвара
начала зудеть. Но предположение, как бы оно ни было сформулировано, было
более радикальным, чем то, которое Страха -- командир, возглавлявший
оппозицию против Атвара, -- когда-либо выражал вслух перед тем, как
дезертировать и перебежать к Большим Уродам.
-- Командир корабля, -- резко потребовал ответа Атвар, -- вы
высказываете то же предложение, что и мятежники: чтобы мы обсуждали с
тосевитами способы закончить нашу кампанию незадолго до полной победы?
-- Благородный адмирал, разве вы сами не сказали, что наши самцы,
похоже, не способны добиться полного завоевания Тосев-3? -- ответил Кирел,
по-прежнему четко соблюдая субординацию, но не отказываясь от своих идей. --
Если так, то не следует ли нам разрушить планету, чтобы быть уверенными, что
тосевиты никогда не смогут угрожать нам, или же...
Он остановился: в отличие от Страхи он обладал чувством такта и
понимал, как далеко можно зайти, не пересекая границу терпения Атвара.
-- Нет, -- ответил главнокомандующий, -- я отказываюсь допустить, что
приказы Императора не будут исполнены в точности. Мы будем защищаться в
северной части планеты, пока не улучшится их жуткая зимняя погода, а затем
возобновим наступление против Больших Уродов. Тосев-3 будет нашим.
Кирел распростерся в позе послушания, которая была принята в Расе.
-- Будет исполнено, благородный адмирал.
И снова ответ точно соответствовал субординации. Кирел не спрашивал,
как это должно быть сделано. Раса доставила сюда из Дома только ограниченное
количество материальных средств. Они были гораздо более высокого качества,
чем все, что использовали тосевиты, но запасы были ограничены. Как ни
старались пилоты Расы, танкисты, ракетчики и артиллеристы, они не смогли
разрушить производственные мощности Больших Уродов. Оружие, которое теперь
производили на Тосев-3, хотя и лучшего качества, чем то, которым они
обладали, когда Раса впервые высадилась на планете, оставалось варварским.
Но они продолжали выпускать его.
Некоторые боеприпасы можно было выпускать на заводах, захваченных у
тосевитов, и у звездных кораблей Расы тоже были свои производственные
мощности, и они могли бы сыграть решающую роль... в войне меньших масштабов.
Если учесть то, что грузовые корабли доставили с Родины, то по-прежнему
оставалась надежда адекватности вооружения для предстоящей кампании, да и
Большие Уроды тоже находились в тяжелом положении, вне всякого сомнения. Так
что победа, возможно, еще достижима.
Или, конечно... но Атвар не позаботился задуматься об этом.
* * *
Даже с флагом перемирия Мордехай Анелевич чувствовал себя нервно,
приближаясь к немецким укреплениям. После того, как он умирал от голода в
варшавском гетто, после того, как он возглавил в Варшаве еврейских бойцов
Сопротивления, поднявшихся против нацистов и оказавших помощь ящерам в
изгнании их из города, у него больше не было иллюзий. Он твердо знал, что
гитлеровские войска хотели сделать с его народом -- стереть с лица земли.
А ящеры хотели поработить всех, как евреев, так и гоев. Евреи не
понимали этого, когда поднялись против нацистов, но даже если и так, они не
стали бы особенно беспокоиться. По сравнению с уничтожением порабощение
выглядело не так уж плохо.
Немцы no-прежнему воевали с ящерами и бились упорно. Ни одна из сторон
не отрицала ни их военной доблести, ни технического искусства. Анелевич
издали наблюдал, как взорвалась ядерная бомба восточнее Бреслау. Если бы он
видел это с меньшего расстояния, он не шел бы сейчас торговаться с
нацистами.
-- Хальт!
Голос донесся словно из воздуха. Мордехай остановился. Через мгновение
из-за дерева, как по волшебству, появился немец в белом маскировочном халате
и окрашенной в белый цвет каске. Взглянув на немца, Анелевич, обряженный в
красноармейские валенки, польские военные брюки, мундир вермахта,
красноармейскую меховую шапку и гражданский овчинный полушубок, почувствовал
себя сбежавшим с распродажи случайных вещей. Его досаду усиливало еще и то,
что он нуждался в бритье. Губы немца скривились.
-- Это вы тот еврей, которого мы ожидаем?
-- Нет, я святой Николай, просто опоздал к Рождеству, -- ответил
Анелевич.
До войны он был студентом технического факультета и бегло говорил
по-немецки, но сейчас, чтобы позлить часового, ответил на идиш. Тот только
хмыкнул. Может быть, шутка не показалась ему забавной, а может быть, он
просто не понял ее. Он взмахнул винтовкой.
-- Пойдете со мной. Я доставлю вас к полковнику.
Это было то самое, ради чего Анелевич оказался здесь, но ему не
понравилось, как обошелся с ним часовой. Немец говорил так, будто у
Вселенной не было иного выхода. Может быть, это и в самом деле так.
Мордехай последовал за немцем через холодный и молчаливый лес.
-- Ваш полковник, должно быть, хороший офицер, -- сказал он тихо,
потому что обступивший лес угнетал его. -- Этот полк проделал большой путь
на восток после того, как вблизи Бреслау взорвалась бомба.
Это было одной из причин, по которой ему требовалось поговорить с
местным командиром, хотя он и не собирался объяснять подробности рядовому,
который, вероятно, принимал его за простую пешку.
Флегматичный, как старая корова, часовой ответил: "Да-а" -- и снова
замолк.
Они пошли по поляне мимо окрашенного в белый цвет танка "пантера". Двое
танкистов возились с двигателем. Глядя на них, слушая ругательства,
вызванные прикосновением кожи в промежутке между перчаткой и рукавом к
холодному металлу, вы могли бы подумать, что война не имеет отличий от
других видов механического промысла. Конечно, у немцев и убийство было
поставлено на промышленную основу.
Они миновали еще несколько танков. Большинство из них ремонтировалось.
Это были более крупные и сильные машины по сравнению с теми, что
использовались нацистами при завоевании Польши четыре с половиной года
назад. С тех пор нацисты многому научились, но и теперь их танки даже близко
не достигли такого уровня, чтобы их можно было сравнить с танками ящеров.
Двое мужчин готовили какое-то варево в небольшом котелке на алюминиевой
походной печке, поставленной на пару камней. Кушанье явно было мясным --
кролик, может быть и белка, а то и собака. Что бы там ни было, но пахло
вкусно.
-- Еврейский партизан доставлен, герр оберст, -- совершенно
безразличным голосом доложил часовой. Так лучше -- в голосе могло прозвучать
и презрение, пусть и незначительное.
Оба сидевших на корточках у печки подняли головы. Старший поднялся на
ноги. Очевидно, он и был полковником, хотя на его фуражке и мундире не было
знаков различия. Ему было лет сорок, лицо узкое, умное, несмотря на то, что
кожа загрубела от постоянной жизни на солнце и под дождем, а теперь еще и
под снегом.
-- Это вы? -- Анелевич раскрыл рот от удивления. -- Ягер!
Он видел этого немца больше года назад и всего в течение одного вечера,
но не мог забыть его.
-- Да, это я, Генрих Ягер. Вы знаете меня? -- Серые глаза
офицера-танкиста сузились, углубив сетку морщинок у их внешних краев. Затем
они расширились. -- Этот голос... Вы называли себя Мордехаем, так ведь?
Тогда вы были чисто побриты.
Он потер свой подбородок, в жесткой рыжеватой щетине которого
проглядывалась седина.
-- Вы знаете друг друга?
Это проговорил круглолицый человек помладше, дожидавшийся, когда будет
готов ужин. Голос его прозвучал разочарованно.
-- Вы можете сказать так, Гюнтер, -- усмехнувшись, ответил Ягер, в
последнее мое путешествие по Польше этот человек решил подарить мне
разрешение жить дальше. -- Его внимательные глаза бросили короткий взгляд на
Мордехая. -- Я думаю, сейчас он очень жалеет об этом.
Вкратце дело сводилось к следующему. Ягер перевозил взрывчатый металл,
украденный у ящеров. Мордехай отпустил его в Германию с половиной этой
добычи, отправив вторую половину в США. Теперь обе страны создавали ядерное
оружие. Мордехай радовался тому, что оно есть у Штатов. Радость по поводу
того, что и Третий Рейх получил его, была куда более сдержанной.
Гюнтер уставился на него.
-- Как? Он отпустил вас? Этот неистовый партизан?
Он говорил так, словно Анелевича здесь не было.
-- Он так поступил. -- Ягер снова окинул взглядом Мордехая. -- Я
ожидал, что у вас будет роль повыше этой. Вы могли бы управлять областью, а
то и целой страной.
Мордехай менее всего мог предположить, что в первую очередь нацист
подумает именно об этом. Он сокрушенно пожал плечами.
-- Одно время я был на таком посту. Но потом не все обернулось так,
как, по моим надеждам, должно было бы. Случается и такое.
-- Ящеры выявили, что вы за их спиной ведете кое-какие игры, не так ли?
-- спросил Ягер.
В прошлом, когда они встречались в Хрубешове, Анелевич понял, что тот
вовсе не был дураком. И сейчас ничего не сказал такого, что заставило бы
еврея изменить это мнение. И прежде, чем молчание стало бы неловким, немец
махнул рукой.
-- Впрочем, бросьте беспокоиться. Это не мое дело, и чем меньше я думаю
о том, что не является моими делами, тем лучше для всех. А чего вы хотите от
нас здесь и сейчас?
-- Вы наступаете на Лодзь, -- сказал Мордехай.
Лично ему казалось, что этот ответ сам по себе исчерпывающий. Но он
ошибся. Ягер нахмурился и произнес:
-- Вы правы, черт возьми. У нас не так часто бывает возможность
наступления на ящеров. Чаще они наступают на нас.
Анелевич тихо вздохнул. Вполне возможно, что немец не понимает, о чем
он говорит. Он начал издалека.
-- Вы ведь неплохо сотрудничали с партизанами здесь, в западной Польше,
не так ли, полковник?
Ягер был в чине майора, когда Мордехай встречался с ним в прошлый раз.
И хотя сам Анелевич с тех пор отнюдь не взлетел по карьерной лестнице, немец
по ней наверняка поднялся.
-- Да, это так, -- отвечал Ягер, -- почему бы и нет? Партизаны ведь
тоже люди!
-- Среди партизан много евреев, -- сказал Мордехай. Подход издалека
явно не сработал, и он резанул напрямую: -- В Лодзи остается еще немало
евреев, в том самом гетто, которое вы, нацисты, создали для того, чтобы
морить нас голодом, до смерти мучить на тяжелых работах и вообще уничтожать
нас. Когда вермахт войдет в Лодзь, через двадцать минут после этого там
появятся эсэсовцы. И в ту секунду, когда мы увидим первого эсэсовца, мы
снова перейдем к ящерам. Мы не хотим, чтобы они победили вас, но еще меньше
мы желаем, чтобы нас победили вы.
-- Полковник, почему бы мне не послать этого паршивого еврея подальше
хорошим пинком в зад? -- спросил молодой Гюнтер.
-- Капрал Грилльпарцер, когда мне понадобятся ваши предложения, будьте
уверены, что я обращусь к вам, -- произнес Ягер голосом гораздо более
холодным, чем все снега в округе.
Когда он снова повернулся к Мордехаю, на лице его было написано
смятение. Он знал кое-что о зверствах, которые творили немцы с евреями,
попавшими в их лапы, знал и не одобрял. В вермахте таких было немного, и
Анелевич радовался, что его партнер в переговорах -- именно этот немец. Но
тот по-прежнему смотрел на проблему со своей точки зрения.
-- Вы хотите, чтобы мы отказались от рывка, который дал бы нам выигрыш.
Это трудно оправдать.
-- Я вам скажу, что вы потеряете ровно столько, сколько выиграете, --
ответил Анелевич, -- вы получите от нас информацию о том, что делают ящеры.
Если нацисты войдут в Лодзь, то ящеры будут получать от нас информацию обо
всем, что касается вас. Мы знаем вас слишком хорошо. Мы знаем, что вы
делаете с нами. И вдобавок мы прекратим саботаж против ящеров. Вместо этого
мы будем нападать и стрелять в вас.
-- Пешки, -- пробормотал сквозь зубы Гюнтер Грилльпарцер. -- Дерьмо,
все, что нам надо, так это повернуть против них поляков, а те уж
позаботятся.
Ягер начал орать на своего капрала, но Анелевич схватил его за руку.
-- Теперь это не так-то просто. Когда война только начиналась, у нас не
было оружия и мы не очень-то умели с ним обращаться. Теперь не то. У нас
оружия больше, чем у поляков, и мы перестали стесняться отвечать огнем,
когда кто-нибудь в нас стреляет. Мы можем нанести вам ущерб.
-- Доля правды в этом есть -- у меня был случай убедиться, -- сказал
Ягер, -- но, думаю, Лодзь следует взять. Мы немедленно получим преимущество,
достаточное, чтобы оправдать нападение. Помимо всего прочего, это передовая
база ящеров. Чем я буду оправдываться, если обойду этот город?
-- Как там говорят англичане? На пенни мудрости да на фунт глупости!
Это о вас, если вы начнете снова ваши игры с евреями, -- отвечал Мордехай.
-- Вам нужно, чтобы мы работали с вами, а не против вас. Неужели вам мало
досталось от средств массовой информации после того, как весь мир узнал, что
вы творили в Польше?
-- Меньше, чем вам кажется, -- сказал Ягер ледяным тоном, и лед этот
предназначался Мордехаю. -- Многие, кто слышал об этом, не верят.
Анелевич закусил губу. Он знал, что Ягер говорит чистую правду.
-- По вашему мнению, они не верят потому, что не доверяют сообщениям
ящеров, или потому, что думают, что люди не могут быть такими злодеями?
На это Гюнтер Грилльпарцер снова выругался и приказал часовому, который
привел Мордехая в лагерь, повернуть винтовку так, чтобы ствол ее смотрел в
сторону еврея.
Генрих Ягер вздохнул.
-- Вероятно, и то и другое, -- сказал он, и Мордехай оценил его честный
ответ, -- хотя "отчего" и "почему" сейчас особого значения не имеют. А вот
"что" -- это важно. Если, допустим, мы обойдем Лодзь с севера и с юга, а
ящеры врежутся в одну из наших колонн за пределами города, фюрер не очень
порадуется этому.
И он закатил глаза, чтобы дать понять, насколько далеко он зашел в
своем допущении.
Единственное, что Адольф Гитлер мог сделать радостного для Анелевича,
-- это отправиться на тот свет, и лучше, чтобы это произошло еще до 1939
года. Тем не менее еврейский лидер понял, о чем говорит Ягер.
-- Если вы, полковник, обойдете Лодзь с севера и юга, я обеспечу, чтобы
ящеры не смогли организовать серьезной атаки на вас.
-- Вы в состоянии это обеспечить? -- спросил Ягер. -- Вы по-прежнему
можете сделать так много?
-- Я так считаю, -- ответил Анелевич. В голове мелькнуло: "Я надеюсь".
-- Полковник, я не собираюсь говорить о том, чем вы обязаны мне... --
(Конечно, он не собирался говорить об этом, он просто уже об этом говорил),
-- но хочу сказать, между прочим: то, что я добыл тогда, смогу добыть и
теперь. А вы?
-- Не знаю, -- ответил немец.
Он взглянул на кастрюлю с варевом, достал ложку и миску, отмерил
порцию. И, вместо того чтобы приняться за еду, протянул алюминиевую миску
Мордехаю.
-- В тот раз ваши люди кормили меня. Теперь я могу покормить вас. --
Спустя мгновение он добавил: -- Это мясо куропатки. Мы подстрелили пару штук
нынче утром.
Анелевич, поколебавшись, зачерпнул ложкой еду. Мясо, каша или ячменные
зерна, морковь и лук -- все это он проворно проглотил.
Закончив, он вернул миску и ложку Ягеру, который протер их снегом и
взял порцию для себя.
Жуя, немец проговорил:
-- Я поразмыслю над тем, что вы мне сказали. Я не обещаю, что все
получится, но сделаю все, что в моих силах. И что я еще скажу, Мордехай:
если мы окружим Лодзь, вам стоит выполнить ваше обещание. Доказать, что
сотрудничество с вами полезно, убедить ценностью того, что вы сообщите.
Пусть люди, стоящие надо мной, захотят попробовать сотрудничать с вами
снова.
-- Понимаю, -- ответил Анелевич, -- но это относится и к вам. Добавлю:
если после этого дела вы проявите вероломство с вашей стороны, то вам не
понравятся партизаны, которые появятся в ваших тылах.
-- Я понимаю, -- сказал Ягер. -- Чего бы ни хотели мои начальники... --
Он пожал плечами. -- Я уже сказал, что сделаю все, что в моих силах. По
крайней мере, я даю вам слово. А оно стоит дорого.
Он тяжело уставился на Анелевича, словно вызывая его на возражение.
Анелевич не принял вызова, и немец кивнул. Затем тяжело выдохнул и
продолжил:
-- В конце концов, войдем мы в Лодзь или обойдем ее, значения не имеет.
Если мы захватим территорию вокруг города, он все равно падет, раньше или
позже. И что произойдет потом?
Он был совершенно прав. При таком раскладе будет только хуже, а не
лучше. Анелевич отдал ему должное -- волнение его казалось искренним. А
Гюнтер Грилльпарцер, казалось, готов был расхохотаться. Впустите группу
солдат, таких как он, в Лодзь и увидите, что результаты не обманут ваших
ожиданий.
-- Что произойдет потом? -- Мордехай тоже вздохнул. -- Просто не
представляю.
* * *
Уссмак занял кабинет командира базы, ставший теперь "его" кабинетом, --
но до сих пор сохранял раскраску тела, положенную водителю танка. Он убил
Хисслефа, командовавшего гарнизоном на этой базе, в регионе СССР названном
"Сибирь". Уссмак подумывал, не означает ли "Сибирь" по-русски "сильный
мороз"? Большой разницы между ними он не видел.
Вместе с Хисслефом погибло много его ближайших подчиненных, их убили
остальные самцы, которых охватило бешенство после первого выстрела Уссмака.
Во многом выстрел и последовавший взрыв бешенства были вызваны имбирем. Если
бы у Хисслефа хватило ума разрешить самцам собраться в общем зале и там
громко пожаловаться друг другу на войну, на Тосев-3 и в особенности на эту
гнусную базу, то он, скорее всего, остался бы в живых. Но нет, он ворвался,
как буря, намереваясь разогнать их, не считаясь ни с чем, и вот... его труп,
окоченелый и промерзший -- вернее, в этой сибирской зиме _жутко_ окоченелый
и _жутко_ промерзший, -- лежит за стенами барака и дожидается более теплого
времени для кремации.
-- Хисслеф был законным командиром, а вот ведь что случилось с ним, --
проговорил Уссмак. -- Что же тогда будет со мной?
За ним не стоял авторитет тысячелетней императорской власти,
заставлявший самцов выполнять любые приказы почти инстинктивно. А значит,
либо он должен быть абсолютно прав, приказывая что-либо, либо ему придется
заставлять самцов на базе повиноваться ему из страха перед тем, что случится
с ними при неповиновении.
Он раскрыл рот и горько рассмеялся.
-- Я тоже мог бы стать Большим Уродом, правящим не-империей, -- сказал
он, обращаясь к стенам.
Они должны править, опираясь на страх, -- у них ведь нет традиций
законной власти. Теперь он испытывал симпатию к ним. Всем нутром он
чувствовал, как это трудно.
Уссмак открыл шкаф, в который был встроен рабочий стол Хисслефа, и
вытащил сосуд с порошком имбиря. Это был "его" порошок, слава Императору
(Императору, против офицеров которого он восстал, хотя и старался не думать
об этом). Он выдернул пластиковую пробку, высыпал немного порошка на ладонь
и, высунув длинный раздвоенный язык, принялся слизывать, пока весь порошок
не исчез.
Веселое настроение пришло сразу же, как это бывало всегда. Отведав
имбиря, Уссмак чувствовал себя сильным, быстрым, умным, непобедимым. Разумом
он понимал, что ощущения на самом деле были всего лишь иллюзией, исключая
разве только обострение чувств. Когда он вел свой танк в бой, он
воздерживался от имбиря до возвращения: ведь когда вы чувствуете, что вы
непобедимы, а на самом деле это не так, -- шансы быть убитым увеличиваются.
Он видел, как много раз это случалось с другими самцами, и старался
вспоминать об этом пореже.
Впрочем, теперь...
-- Теперь я буду пробовать все, что смогу, потому что не хочу думать о
том, что произойдет потом, -- сказал он.
Если командующий флотом захочет разбомбить базу с воздуха, Уссмак и его
товарищи по мятежу не смогут защититься, потому что не располагают
противовоздушными снарядами. Он не сможет сдаться законной власти, потому
что перешел грань, когда убил Хисслефа, -- как и его последователи,
совершившие множество убийств.
Но и держаться неопределенно долго он тоже не в силах. На базе вскоре
придут к концу запасы продовольствия и водородного топлива -- для обогрева.
Пополнения запасов не предвидится. Он не думал об этом, направляя личное
оружие на Хисслефа. Он думал только о том, чтобы тот заткнулся.
-- Это все из-за имбиря, -- раздраженно сказал он, хотя голова гудела,
когда он произносил слова вслух, -- я от него становлюсь таким же
близоруким, как Большие Уроды.
Он боялся передать базу и все, что на ней было, Большим Уродам из СССР.
Он не знал, что произойдет, если дело дойдет до сдачи. Русские давали
множество обещаний, но что они выполнят, когда он попадет им в когти?
Слишком много натворил он в боях с Большими Уродами, чтобы доверять им.
Конечно, если он не сдаст базу русским, они вполне в состоянии отнять
ее сами. Холод мешает им гораздо меньше, чем Расе. Страх перед нападением
Советов и до мятежа преследовал всех днем и ночью. Сейчас положение стало
еще хуже.
-- Никто не хочет делать тяжелую работу, -- проговорил Уссмак.
Выходить на жестокий мороз, чтобы убедиться, что русские не подобрались
к баракам, готовясь к обстрелу из минометов, никому не хотелось, но если
самцы не будут выполнять это задание, они обречены. Многие не задумывались
над этим. Сюда их привел Хисслеф, но он обладал законной властью. У Уссмака
ее не было, и он хорошо чувствовал это.
Он включил радио, стоявшее на столе, и принялся нажимать кнопки поиска
станций. Некоторые передачи принадлежали Расе; другие, тонувшие в шуме
помех, доносили нераспознаваемые слова Больших Уродов. Вообще-то ему не
хотелось слушать ни тех ни других, он чувствовал себя страшно далеким от
всех.
Затем, к своему удивлению, он поймал передачу, которая как будто была
тосевитской, но ведущий не просто говорил на его родном языке -- он явно был
самцом Расы! Ни один из тосевитов не мог избежать акцента, раздражающего или
просто забавного. А этот самец, судя по тому, как он говорил, занимал
довольно высокое положение.
-- ...снова говорю вам, что войну ведут идиоты с причудливой раскраской
тела. Они не предусмотрели ни одной трудности, с которой встретится Раса при
попытке завоевать Тосев-3, а когда они узнали об этих трудностях, что они
предприняли? Да ничего, во имя Императора! Нет, только не Атвар и его клика
облизывателей клоак. Они лишь утверждали, что Большие Уроды -- просто
дикари, вооруженные мечами, какими мы их считали, отправляясь в путь из
Дома. Сколько добрых, смелых и послушных самцов погибло из-за их упрямства?
Подумайте об этом те, кто еще жив.
-- Истинная правда! -- воскликнул Уссмак.
Кто бы ни был этот самец, он понимал, как обстоит дело. И он имел
представление о картине войны в целом. Уссмак слышал передачи с участием
пленных самцов и раньше. Большинство из них лишь патетически повторяли
фразы, написанные тосевитами. Получалась слабая неубедительная пропаганда. А
этот самец выступал так, будто он сам подготовил свой материал, и радовался
каждому оскорблению, которое он адресовал командующему флотом. Уссмак
пожалел, что пропустил начало передачи, он мог бы узнать имя и ранг
выступавшего. Тот продолжал говорить:
-- Повсюду на Тосев-3 самцы все чаще проникаются мыслью, что
продолжение этого бесполезного кровавого конфликта -- страшная ошибка.
Многие бросили оружие и сдались тосевитам той империи или не-империи,
которую они пытались отвоевать. Большинство тосевитских империй и не-империй
хорошо относятся к пленникам. Я, Страха, командир корабля "Двести Шестой
Император Йоуэр", могу лично подтвердить это. Взбалмошный дурак Атвар
собирался уничтожить меня за то, что я осмелился противостоять его
бессмысленной политике, но я сбежал в Соединенные Штаты и ни на мгновение не
пожалел об этом.
Страха! Уссмак повернул оба глаза к радиоприемнику. Страха был третьим
по рангу самцом во флоте вторжения. Уссмак знал, что он перебежал к Большим
Уродам, но не знал точно, по какой причине, -- поймать предыдущие передачи
командира ему не удавалось. Он вцепился когтями в лист бумаги, раздирая ее
на полосы. Страха говорил правду и вместо награды за это, как следовало бы,
-- пострадал.
Тем временем беглый командир продолжил:
-- Сдача тосевитам -- не единственный ваш выбор. Я слышал сообщение о
бравых самцах из Сибири, которые, устав от бесконечных приказов и не желая
выполнять невозможное, восстали -- ради свободы -- против своих, введенных в
заблуждение, командиров. Теперь они управляют своей базой независимо от
дурацких планов, которые составляются самцами, комфортно устроившимися
высоко над Тосев-3 и считающими себя мудрыми. Вы, кто слышит мой голос,
игнорируйте приказы, бессмыслицу которых вы можете видеть даже одним глазом,
причем закрытым перепонкой. Убеждайте ваших офицеров. Если это не поможет,
подражайте смельчакам из Сибири и добывайте себе свободу. Я, Страха,
закончил.
Голос командира сменили помехи. Уссмак почувствовал себя даже более
сильным и живым, чем после имбиря. Он понимал, что наслаждения, которое он
испытывал от интоксикации, в действительности не существует. А вот то, что
сказал Страха, было реальным, каждое слово. С самцами на этой планете
обходились подло, ими жертвовали без должной цели -- и без всякой цели
вообще, как мог бы подтвердить Уссмак.
Страха сказал также кое-что крайне важное. Когда он разговаривал с
самцами, находящимися на орбите, то он угрожал, что сдаст базу местным
Большим Уродам, если Раса не примет его требований или атакует мятежников.
Он колебался, не решаясь предпринять нечто большее, чем угрозы, поскольку не
знал, как Советы будут относиться к самцам, которых захватят. Но Страха
развеял его сомнения. Уссмак не очень разбирался в тосевитской географии, но
знал, что Соединенные Штаты и СССР -- это две из самых больших и сильных
не-империй на Тосев-3.
Если Соединенные Штаты хорошо обращаются с захваченными самцами,
несомненно, что и СССР должен делать то же самое. Уссмак удовлетворенно
присвистнул.
-- Теперь у нас есть новое оружие против вас, -- проговорил он и
повернул оба глаза в сторону звездных кораблей, все еще находящихся на
орбите вокруг Тосев-3.
Рот его раскрылся. Немного же знают эти самцы на орбите о Больших
Уродах.
* * *
Сэм Игер посмотрел на ракетный двигатель, с огромным трудом собранный
из частей, которые были изготовлены на заводах в маленьких городках по всему
Арканзасу и южной части штата Миссури. Двигатель выглядел "грубо" -- это
самое вежливое выражение, которое могло прийти в голову. Сэм вздохнул.
-- Однажды увидев, что способны сделать ящеры, вы понимаете: все, что
делают люди, -- просто мелочь в сравнении с этим. Не обижайтесь, сэр, --
поспешно добавил он.
-- Вовсе нет, -- ответил Роберт Годдард. -- Признавая факт, я
соглашаюсь с вами. Мы делаем все, что можем.
Его серое усталое лицо говорило, что он делает даже больше -- он
работал, не щадя себя. Игер беспокоился о нем.
Он обошел вокруг двигателя. Рядом с деталями двигателя челнока ящеров,
на котором Страха спустился, чтобы сдаться в плен, он покажется детской
игрушкой. Сэм снял форменную фуражку, провел рукой по светлым волосам.
-- Вы думаете, это полетит, сэр?
-- Единственный способ проверить -- запустить и посмотреть, что
получится, -- сказал Годдард. -- Если нам повезет, мы сможем провести
испытания на земле до того, как обернем его листовым металлом и прикрепим
сверху взрывчатку. Проблема в том, что испытания ракетного двигателя --
совсем не то, что вы могли бы назвать не бросающимся в глаза, и вскоре ящеры
не заставят себя ждать.
-- Это уменьшенная копия двигателя челнока ящеров, -- сказал Игер. --
Весстил думает, что эго дает неплохую гарантию успеха.
-- Весстил знает о летающих ракетах больше, чем кто-либо из людей, --
сказал Годдард с усталой улыбкой. -- Достаточно было видеть, как он летел со
Страхой с его звездного корабля, когда тот дезертировал. Но Весстил не
особенно разбирается в инженерном деле, по крайней мере типа "отрежь и
попробуй". Все меняется, когда вы изменяете масштаб в большую или меньшую
сторону, и вам приходится испытывать новую модель, чтобы увидеть, какая
чертовщина у вас получилась. -- Он лукаво хмыкнул. -- А у нас ведь ни в коем
случае не простое уменьшение масштаба, сержант: мы должны были приспособить
конструкцию к тому, что нам нужно и что мы умеем.
-- Совершенно верно, сэр. -- Сэм почувствовал, его уши покраснели от
возбуждения. У него была очень тонкая кожа, и он боялся, что Годдард заметит
румянец. -- Черт меня побери, если я хотя бы подумаю, чтобы спорить с вами.
Годдард имел больше опыта в обращении с ракетами, чем кто-либо, кто не
был ящером или немцем, причем к немцам он уже приближался. Игер продолжил:
-- Если бы я не читал до войны дешевые журнальчики, я бы теперь не
работал с вами.
-- Вы извлекли пользу из того, что читали, -- отвечал Годдард. -- Если
бы вы этого не сделали, вы для меня были бы бесполезны.
-- Если бы вы провели столько времени, гоняя мяч, как я, сэр, вы бы
знали: когда ты видишь хоть малейший шанс, ты хватаешь его обеими руками,
потому что его можно и упустить.
Игер снова поскреб шевелюру. Он провел всю свою взрослую жизнь -- до
прихода ящеров, -- гоняя мяч в какой-то низшей лиге. Сломанная десять лет
назад лодыжка подкосила его шансы перейти в высшую лигу, хотя он и продолжал
играть. Бесконечные переезды в автобусах и поездах от одного небольшого или
среднего города до другого... Он коротал время с "Эстаундинг" и другими
журналами научной фантастики, которые покупал в киосках. Товарищи по команде
смеялись над ним из-за того, что он читал об инопланетных чудовищах с
глазами насекомых. А теперь...
Теперь Роберт Годдард сказал:
-- Я рад, что он выпал вам, сержант. Думаю, с другим переводчиком я не
получил бы от Весстила столько информации. Дело не только в том, что вы
знаете его язык, вы еще по-настоящему чувствуете, что он старается изложить.
-- Благодарю, -- сказал Сэм, вырастая в собственных глазах. -- Как
только я получил шанс работать с ящерами, помимо стрельбы по ним, я понял,
что это именно то, чего я и хотел. Они -- очаровательны, вы ведь понимаете,
что я имею в виду.
Годдард покачал головой.
-- То, что они знают, опыт, которым они обладают, -- вот это
очаровательно. Но они сами... -- Он смущенно рассмеялся. -- Хорошо, что
Весстила нет здесь. Он был бы оскорблен, если бы узнал, что у меня от его
вида просто мороз по коже.
-- Наверное, нет, сэр, -- ответил Игер. -- У ящеров-то по большей части
таких проблем нет. -- Он сделал паузу. -- Гм-м, если подумать, его может
оскорбить другое -- как если бы куклуксклановец обнаружил, что некоторые
негры свысока смотрят на белых.
-- То есть мы не имеем права думать, что ящеры -- пресмыкающиеся, вы
это имеете в виду?
-- Верно. -- Сэм кивнул. -- Но змеи и тому подобное никогда не
беспокоили меня, даже когда я был ребенком. Что до ящеров, то каждый раз,
когда я встречаюсь с кем-то из них, я получаю возможность узнать что-то
новое: новое не просто для меня, я имею в виду, но нечто такое, чего ни один
человек не знал раньше. Это нечто особенное. В определенном смысле это
удивительнее, чем Джонатан. -- Теперь он рассмеялся таким же нервным смехом,
как только что Годдард. -- Только не говорите Барбаре, что я такое сказал.
-- Даю слово, -- торжественно сказал ученый. -- Но я понимаю, что вы
имеете в виду. Ваш сын -- открытие для вас, но он не первый ребенок, который
когда-либо существовал. Открыть что-нибудь по-настоящему впервые -- это
такое же притягивающее волнующее ощущение, как... как имбирь, скажем!
-- Поскольку ящеры нас сейчас не слышат -- я соглашусь с вами, сэр, --
ответил Игер. -- Они и впрямь без ума от этой ерунды, так ведь? --
Поколебавшись, он заговорил снова. -- Сэр, я чрезвычайно рад, что вы решили
перенести работы обратно в Хот-Спрингс. Это позволило мне находиться с
семьей, помогать Барбаре в том и этом Я имею в виду, что мы женаты еще
меньше года, и тем не менее...
-- Я рад, что все так хорошо сложилось для вас, сержант, -- сказал
Годдард, -- но не по этой причине я перебрался сюда из Коуча...
-- О, я знаю, что это не так, сэр, -- поспешно сказал Сэм.
Как будто не слыша, Годдард продолжил:
-- Хот-Спрингс -- это довольно большой город, но со слабо развитым
машиностроением. Мы находимся недалеко от Литтл-Рока, где оно развито лучше.
Все ящеры содержатся в главном госпитале армии и флота, откуда мы можем
забирать их для консультаций. Это оказалось гораздо удобнее, чем перевозить
ящеров поодиночке в южную часть Миссури.
-- Как я сказал, это очень полезно мне, -- сказал Игер. -- И мы
привезли огромную, кучу деталей от челнока ящеров, так что мы сможем изучить
их лучше.
-- Меня это беспокоило, -- сказал Годдард. -- Ящеры точно знали место,
где приземлились Весстил со Страхой. Нам повезло, что мы спрятали и
разобрали челнок так быстро, потому что они изо всех сил старались
уничтожить его. Они вполне могли высадить десант, чтобы убедиться в своем
успехе. И только дьявол смог бы их остановить.
-- Они больше не суются куда попало, как они делали, когда только
приземлились, -- сказал Сэм. -- Я полагаю, это из-за того, что мы несколько
раз давали им отпор, когда они чересчур наглели.
-- И это верно -- или, боюсь, на данный момент мы проиграли войну. --
Годдард поднялся и потянулся. Судя по гримасе, он скорее испытывал при этом
страдание, чем удовольствие. -- А другой причиной переезда в Хот-Спрингс
являются источники. Я сейчас пойду к себе в комнату, чтобы погрузиться в
горячую ванну. Я так привык обходиться без комфорта, что почти забыл, как
это чудесно.
-- Да, сэр, -- с энтузиазмом согласился Игер.
Комната на четвертом этаже в главном госпитале армии и флота, которую
он делил с Барбарой -- а теперь и с Джонатаном, -- не имела ванны: помыться
можно было только внизу, в конце холла. Сэма это не беспокоило. Годдард был
весьма важной персоной, а сам он -- просто служащим по призыву, приносившим
пользу по мере сил. С другой стороны, водоснабжение и канализация на ферме в
Небраске, где он вырос, состояли из колодца и халабуды с двумя дырками
позади дома. И никакой проточной холодной, а тем более горячей воды.
В его комнате было гораздо приятнее зимой, чем в летнее время, когда не
требовалось погружаться в местные источники, чтобы стать горячим и мокрым.
Направляясь по коридору к комнате No 429, он услышал, как шумит Джонатан. Он
вздохнул и ускорил шаг. Барбара совсем не знает покоя. И
ящеры-военнопленные, которые живут на этом этаже, тоже.
Он открыл дверь. Во взгляде Барбары мелькнуло облегчение, когда она
узнала входящего. Она протянула ему ребенка.
-- Подержи его, пожалуйста, -- сказала она. -- Что бы я ни делала, он
никак не хочет успокоиться.
-- Хорошо, дорогая, -- сказал он. -- Посмотрим, не мучает ли его
отрыжка.
Он взвалил Джонатана животиком на плечо и стал поколачивать его по
спинке. Он стучал, словно по барабану. Барбара, которая делала это более
нежно, нахмурилась, но отец добился успеха. Раз -- и Джонатан басовито
срыгнул порядочное количество полупереваренного молока. Затем он заморгал и
стал выглядеть более счастливым.
-- Молодцы! -- воскликнула Барбара. Она вытерла мундир Сэма пеленкой.
-- Вот так. Я стерла почти все, но, боюсь, от тебя некоторое время будет
пахнуть кислым молоком.
-- Это еще не конец света, -- сказал Игер. -- Можешь плюнуть и
растереть.
Запах кислого молока больше не беспокоил его. В комнате почти всегда
воняло грязными пеленками, даже когда они были убраны. Запах напоминал ему
коровник на родительской ферме, но Барбаре он об этом никогда не говорил. Он
держал маленького сына на вытянутых руках.
-- Ну вот, мальчик. Спрятал все там, где мамочка не смогла найти, так
ведь?
Барбара потянулась к ребенку.
-- Теперь я могу его взять, если хочешь.
-- Ладно уж, -- сказал Сэм. -- Я не буду его держать все время, но,
похоже, тебе требуется передышка.
-- Хорошо, что ты так считаешь.
Барбара опустилась на единственный в комнате стул. Она уже не была той
дерзкой девчонкой, какой Сэм знал ее: сейчас она выглядела изнуренной, как и
вообще в последнее время. Если вы не выматываетесь, имея ребенка, то с вами
что-то неладно -- или же у вас есть слуги, которые выматываются вместо вас.
Под зелеными глазами Барбары залегли круги; ее светлые волосы -- чуть
темнее, чем у Сэма, -- свисали скучными прядями, как будто они тоже устали.
Она тяжело вздохнула.
-- Чего бы я ни отдала за сигарету... а уж за чашку кофе...
-- О, боже, кофе, -- с тоской сказал Игер. -- Даже чашка худшего кофе,
который я когда-либо пил, из самой сальной посудины в самом вшивом маленьком
городке, в котором я только был -- а я прошел через такое их множество...
господи, как бы это было сейчас хорошо.
-- Если бы у нас был кофе по распределению, мы обязаны были бы
поделиться им с солдатами на фронте и с родителями, у которых есть дети
младше одного года. Вряд ли кто-нибудь нуждается в нем сильнее, -- сказала
Барбара.
Как ни была она измотана, она по-прежнему говорила четко и ясно, чем
всегда восхищался Сэм: до войны она окончила университет Беркли по
специальности средневековая английская литература. Тот английский, который
Сэм слышал на танцплощадках, нельзя было даже сравнивать с ее речью.
Джонатан стал извиваться, крутиться и наконец заплакал. Он начал
издавать различные звуки, демонстрирующие усиленную работу мысли. Сэм
опознал некоторые из них.
-- Он голоден, дорогая.
-- По расписанию еще не время его кормить, -- ответила Барбара. -- Но,
знаешь? Если спросить меня, то расписание надо выкинуть к черту. Я не могу
выдержать, слушая, как он кричит до момента, пока часы не скажут, что пришло
время кормления. Если он достаточно счастлив, когда сосет, чтобы побыть
некоторое время спокойным, меня это вполне устраивает. -- Она высвободила
правую руку из рукава темно-синего шерстяного платья и стянула его вниз,
чтобы высвободить грудь. -- Вот, давай его мне.
Игер передал ребенка: маленький ротик впился в ее сосок. Джонатан сосал
жадно. Игер слышал, как он глотает молоко. В эти дни использовать бутылочки
нельзя -- нет специальных смесей, нет простых способов содержать вещи в
чистоте, как это требуется. Но даже кормление грудью -- не слишком сложная
вещь, если к нему привыкнуть.
-- Я думаю, он будет спать, -- сказала Барбара.
Даже голос диктора на радио, рассказывавшего о победном налете
бомбардировщиков Джимми Дулитла на Токио, не звучал так возбужденно. Она
продолжила:
-- Кажется, он захочет пососать и другую грудь. Помоги мне стянуть
рукав, Сэм. Я не могу сама, пока держу его.
-- Конечно.
Он поспешил к ней, спустил рукав и помог ей вытянуть руку. Дальше она
справилась сама. Платье спустилось до талии. Через пару минут она переложила
Джонатана к левой груди.
-- Хорошо бы, чтобы он заснул поскорее, -- сказала Барбара. -- Я
замерзла.
-- Судя по его виду, он уже собирается, -- ответил Сэм.
Он накинул сложенное пополам полотенце на левое плечо жены, не столько
для того, чтобы согреть ее, а чтобы она не запачкалась, когда ребенок
срыгнет.
Она подняла бровь.
-- "Судя по его виду, он уже собирается", -- словно эхо, повторила она.
Он понимал, на что она намекает. Он не мог бы построить такую фразу,
когда они встретились впервые; для этого пришлось бы сначала как следует
выучиться в школе, а уж потом перейти на игру в мяч.
-- Все дело в компании, которая меня окружает, -- ответил он с улыбкой,
затем заговорил более серьезно. -- Мне вообще нравится учиться у окружающих
-- и у ящеров тоже, если получается. Разве надо удивляться, что я научился
чему-то у тебя?
-- О, в своем роде это удивительно, -- сказала Барбара. -- Многим
людям, похоже, ненавистна сама мысль -- учиться чему-нибудь новому. Я рада,
что ты не такой, иначе жизнь была бы тоскливой. -- Она посмотрела на
Джонатана. -- Да, он уснул. Хорошо.
Вскоре ее сосок выскользнул из ротика ребенка. Она подержала его еще
немного, затем осторожно подняла на плечо и похлопала по спинке. Он
отрыгнул, не просыпаясь и не сплевывая. Она вновь опустила его на руку и
подождала несколько минут, затем поднялась и переложила его в деревянную
колыбельку, которая занимала большую часть их крохотной комнаты. Джонатан
вздохнул. Она постояла возле него, опасаясь, что малыш проснется. А затем
его дыхание стало ровным. Она выпрямилась и потянулась за платьем.
Прежде чем она успела его надеть, Сэм оказался у нее за спиной и сжал
груди руками. Она повернула голову и улыбнулась ему через плечо, но это не
была приглашающая улыбка, хотя пару недель назад они снова начали заниматься
любовью.
-- Ты не считаешь, что мне лучше просто немножко полежать? -- спросила
она. -- Сама я именно так и считаю. Это не означает, что я не люблю тебя,
Сэм, просто я так устала, что света белого не вижу.
-- Конечно, я понимаю, -- сказал он и отпустил ее.
Теплое мягкое ощущение ее тела осталось запечатленным на его ладонях.
Он лягнул пол, покрытый линолеумом.
Барбара быстро натянула платье, затем обернулась и положила руки ему на
плечи.
-- Спасибо, -- сказала она. -- Я знаю, что тебе это нелегко.
-- Надо просто привыкнуть, только и всего, -- сказал он. -- Женитьба в
разгар войны не очень располагает к комфорту, и потом ты сразу
забеременела... -- Лучшее, о чем они могли вспомнить, случилось в их брачную
ночь. Он хмыкнул. -- Конечно, если бы не война, мы никогда не встретились
бы. Что там они говорят об облаках и серебряной подкладке?
Барбара обняла его.
-- Я очень счастлива с тобой, с нашим ребенком и со всем остальным. --
Зевнув, она поправилась: -- Почти со всем остальным. Мне только хотелось бы
немножко больше спать.
-- Я тоже счастлив во всем, -- сказал он, сомкнув руки у нее на спине.
Как он сказал, если бы не война, они бы не встретились. А если бы и
встретились, она бы даже не взглянула на него: она была замужем за
физиком-атомщиком в Чикаго. Но Йене Ларссен находился далеко, выполняя
задание для Металлургической лаборатории, -- так далеко и так долго, что они
оба решили, что он мертв, и стали вначале друзьями, потом любовниками и
наконец -- мужем и женой. А когда Барбара уже была беременна, они узнали,
что Йене жив.
Сэм прижал к себе Барбару еще раз, затем отпустил ее и подошел к
колыбели, чтобы взглянуть на спящего сына. Он протянул руку и взъерошил
почти снежно-белые тонкие волосы Джонатана.
-- Как приятно, -- сказала Барбара.
-- Хорошенький парнишка, -- ответил Игер.
"А вот если бы ты не выносила его, то -- десять долларов против
деревянного пятицентовика -- ты бросила бы меня и вернулась к Ларссену". Он
улыбнулся ребенку. "Малыш, я тебе очень обязан. Когда-нибудь я постараюсь
тебе отплатить".
Барбара поцеловала его в губы -- коротко, дружески -- и отправилась в
постель.
-- Я хочу немного передохнуть, -- сказала она.
-- Хорошо. -- Сэм отправился к двери. -- Поищу какого-нибудь ящера, и
мы немного поболтаем. Надо делать добро сейчас, а может быть, даже после
войны, если когда-нибудь это "после войны" настанет. Что бы ни случилось,
люди и ящеры отныне должны сотрудничать друг с другом. Чем больше я узнаю,
тем лучше я становлюсь.
-- Я думаю, ты будешь великолепен в любой ситуации, -- ответила
Барбара, укладываясь в постель. -- Почему бы тебе не вернуться примерно
через час? Если Джонатан будет по-прежнему спать... кто знает, что из этого
может получиться?
-- Посмотрим. -- Игер отворил дверь, затем взглянул на сына. -- Спи
крепко, малыш.
* * *
Человек с наушниками на голове посмотрел на Вячеслава Молотова.
-- Товарищ народный комиссар, к нам поступают все новые сообщения о
том, что ящеры на базе к востоку от Томска собираются сдаться нам. --
Поскольку Молотов не ответил, радист набрался смелости и добавил: -- Вы
помните, товарищ, это те, что восстали против своего начальника.
-- Я уверяю вас, товарищ, что полностью владею ситуацией и не нуждаюсь
в напоминании, -- холодно сказал Молотов -- холоднее, чем московская зима и
даже чем сибирская.
Радист сглотнул и наклонил голову в знак извинения. После первой ошибки
в обращении к Молотову еще может повезти, а вот после второй уже точно не
поздоровится.
Комиссар иностранных дел продолжил:
-- На этот раз они выдвигают конкретные условия?
-- Да, товарищ народный комиссар. -- Радист посмотрел в свои записи.
Его карандаш был длиной в палец -- в нынешние времена не хватало всего. --
Они хотят гарантий не только безопасности, но и хорошего обращения после
того, как перейдут на нашу сторону.
-- Это мы можем им обещать, -- сразу же ответил Молотов. -- Я бы
подумал, что даже местный военачальник должен был увидеть разумность такого
требования.
У местного военачальника должно также хватить разума на то, чтобы
игнорировать любые гарантии в тот момент, когда они станут лишними.
С другой стороны, вполне вероятно, что местный военачальник старался не
проявлять чрезмерной инициативы, а просто передал все вопросы в Москву,
коммунистической партии большевиков. Командиры, которые игнорируют контроль
партии, ненадежны.
Радист передавал в эфир кажущиеся бессмысленными наборы букв Молотов
искренне надеялся, что для ящеров они и оставались бессмысленными.
-- Чего еще хотят эти мятежники? -- спросил он.
-- Обязательства, что ни при каких обстоятельствах мы не вернем их
остальным ящерам, даже если будет достигнуто соглашение об окончании
враждебных отношений между миролюбивыми рабочими и крестьянами Советского
Союза и чуждыми империалистическими агрессорами, из лагеря которых они
стараются сбежать.
-- Ладно, мы согласны и с этим, -- ответил Молотов. Это обещание тоже
при необходимости можно нарушить, хотя Молотов не считал, что возникнет
такая необходимость. К тому времени, когда может наступить мир между СССР и
ящерами, о мятежниках уже давно забудут. -- Что еще?
-- Они требуют нашего обещания снабжать их неограниченным количеством
имбиря, товарищ народный комиссар, -- ответил радист, снова сверившись со
своими записями.
Бледное, невыразительное лицо Молотова, как всегда, не отражало ничего
из того, что было у него на уме. Ящеры по-своему были такими же
дегенератами, как капиталисты и фашисты, которым славные крестьяне и рабочие
СССР показывали невиданные образцы человеческого достоинства. Несмотря на
большие технические достижения, в социальном смысле ящеры были куда более
примитивны, чем капиталистическое общество. Они были бастионом древней
экономической системы: они были хозяевами и старались использовать людей как
рабов -- так декларировали диалектики. Впрочем, высшие классы Древнего Рима
тоже были дегенератами.
Что ж, в результате их дегенерации можно эксплуатировать
эксплуататоров.
-- Мы, конечно, примем это условие, -- сказал Молотов, -- если им так
хочется травить себя, мы с радостью предоставим им средства для этого. -- Он
подождал, пока еще несколько кодовых групп уйдут в эфир, затем снова
спросил: -- Что еще?
-- Они настаивают на том, чтобы самим отвести танки от базы, на
сохранении у них личного оружия и на том, чтобы их держали вместе одной
группой, -- ответил радист.
-- Они преуспели в изобретении новых требований, -- сказал Молотов. --
Над этим надо мне подумать.
Через пару минут он принял решение:
-- Они могут отвести свои машины от базы, но не приближаться ни к одной
из наших. Местный военачальник должен указать им, что доверие между двумя
сторонами установилось еще не в полной мере. Он должен сказать им, что они
будут разделены на несколько небольших групп для большей эффективности
допросов. Он может добавить, что, если они согласятся на разделение, мы
позволим им сохранить оружие, в противном случае -- нет.
-- Позвольте мне убедиться, что я все правильно понял, товарищ, прежде
чем передавать, -- сказал радист и повторил сказанное Молотовым.
Когда комиссар иностранных дел кивнул, радист отстучал соответствующие
кодовые группы.
-- Что-нибудь еще? -- спросил Молотов.
Радист покачал головой. Молотов поднялся и покинул комнату,
расположенную где-то глубоко под Кремлем. Часовой снаружи отсалютовал.
Молотов игнорировал его приветствие так же, как не побеспокоился попрощаться
с радистом. Излишества были чужды его натуре.
Именно поэтому он не ликовал, поднимаясь наверх. По выражению его лица
никто не мог бы определить, согласились ли мятежные ящеры сдаться, или,
наоборот, он сейчас выступит за немедленную их ликвидацию. Но внутри...
"Дураки, -- думал он, -- какие дураки!"
Не важно, что они стали умнее, чем прежде: эти ящеры все еще слишком
наивны по сравнению даже с американцами. Он убедился в этом раньше, даже
имея дело с их высокопоставленными начальниками. Они не имели представления
о политических играх, которые среди дипломатов-людей воспринимались как
нечто обыкновенное. Их представления о способе управления ясно показывали,
что они не нуждаются в подобных талантах. Они рассчитывали, что завоевание
Земли пройдет быстро и легко. Теперь, когда такого не произошло, они
оказались в ситуации, с которой не смогли справиться.
Молотов шел по залам Кремля. Солдаты вытягивались по стойке смирно,
штатские чиновники замолкали и уважительно кивали. Он не отвечал им. Он их
едва замечал. Но если бы его проигнорировали, он сделал бы резкий выговор.
Подручный дьявола или какой-то другой зловредный негодяй навалил на его
стол груду бумаги за то время, пока он занимался переговорами с мятежными
ящерами. У него были большие надежды на эти переговоры. У Советского Союза
уже было довольно много военнопленных ящеров, и некоторым полезным вещам он
от них уже научился. Когда ящеры сдавались, они, казалось, начинали
относиться к людям с доверием и пиететом -- словно к прежним начальникам.
А заполучить в свое распоряжение целую базу, полную оборудования,
которое произвели агрессоры со звезд! Если только советская разведка не
ошиблась, это был бы успех, до которого далеко и немцам, и американцам. У
англичан было много оборудования от ящеров, но империалистические твари
очень постарались разрушить все возможные трофеи после того, как провалилось
их наступление на Англию.
Первое письмо в куче было от комитета социальной активности колхоза No
118 -- так, по крайней мере, гласил обратный адрес. Именно там, неподалеку
от Москвы Игорь Курчатов и его группа ядерных физиков работали над
изготовлением бомбы из взрывчатого металла. Они сделали одну из металла,
украденного у ящеров. Химическое выделение металла своими силами оказалось
весьма трудоемким, как они и предупреждали Молотова, -- гораздо более
трудоемким, чем ему хотелось верить.
И вот теперь Курчатов писал: "Последний эксперимент, товарищ народный
комиссар, был менее успешным, чем мы могли надеяться".
Молотову не требовались годы постоянного чтения между строк, чтобы
понять, что эксперимент провалился.
"Некоторые технические аспекты ситуации по-прежнему создают нам
трудности. Помощь извне могла бы быть полезной", -- продолжал Курчатов.
Молотов тихо хмыкнул. Когда Курчатов просит совета извне, он не имеет в
виду помощь от других советских физиков. Все известные ядерные физики СССР
уже работали имеете с ним. Молотов положил голову на плаху, напомнив об этом
Сталину: он содрогнулся, вспомнив, на какой риск он пошел ради блага родины.
Что требовалось Курчатову, так это иностранный опыт.
"Унизительно", -- подумал Молотов. Советский Союз не должен быть таким
отсталым. Он никогда не попросит помощи у немцев. Если бы даже они
предоставили ее, он не мог бы полагаться на их информацию. Сталину было
очень приятно, когда ящеры в Польше отделили СССР от гитлеровских безумцев,
и в этом Молотов был полностью согласен со своим вождем. От американцев?
Молотов пожевал ус. Что ж, возможно. Они делали собственные бомбы из
взрывающегося металла, точно так же, как нацисты. И если бы он мог привлечь
их чем-то из трофеев, которые находятся на базе ящеров вблизи Томска...
Он вытащил карандаш и обрывок бумаги и принялся писать письмо.
* * *
-- Господь Иисус, ты такое видел? -- воскликнул Остолоп Дэниелс; он вел
свое подразделение через руины того, что было когда-то северной окраиной
Чикаго. -- И это все -- от одной только бомбы!
-- Верится с трудом, лейтенант, -- сказал сержант Герман Малдун.
Ребята из подразделения не произнесли ни звука. Они только, разинув
рты, широко открытыми глазами смотрели на доставшуюся им полосу развалин в
несколько миль длиной.
-- Я хожу по зеленой земле Бога уже шестьдесят лет, -- заговорил
Остолоп; его протяжный миссисипский говор медленно и тягуче, как патока,
стекал в эту жалкую северную зиму. -- Я много чего повидал. Я воевал в двух
войнах и объехал все Соединенные Штаты. Но я никогда не видел ничего
подобного.
-- Вы совершенно правы, -- сказал Малдун.
Он был примерно того же возраста, что и Дэниелс, и тоже побывал
повсюду. Их подчиненные не имели особого житейского опыта и уж точно не
видели ничего подобного. До прихода ящеров никто ничего подобного не видел.
До появления ящеров Дэниелс был менеджером команды "Декатур Коммодорз".
Один из игроков любил читать научно-фантастические рассказы о ракетных
кораблях и существах с других планет. Интересно, жив ли еще Сэм Игер?
Остолопу вдруг представилась картинка из такого рассказа: северная окраина
Чикаго напоминала сейчас лунные горы.
Когда он громко сказал об этом, Герман Малдун кивнул. Он был высоким и
широкоплечим, с вытянутой грубой ирландской физиономией и с седеющей щетиной
на подбородке.
-- Так говорили о Франции, еще в девятнадцатом и восемнадцатом годах,
и, я думаю, это довольно достоверно. Подходит?
-- Да, -- сказал Дэниелс. Он тоже был во Франции. -- Во Франции было
больше воронок от снарядов, так что некуда было приткнуться, черт бы побрал.
Между нами, лягушатниками, англичашками и ботами по десять раз на дню
взрывались все артиллерийские снаряды мира. А здесь был всего один.
Легко было определить, куда попала бомба: все разрушенные строения
отклонились в сторону от нее. Если пронести линию, руководствуясь
повалившимися стенами домов и вырванными с корнем деревьями, затем пройти на
восток примерно милю и проделать то же самое еще раз, место, где проведенные
линии встретятся, и будет эпицентром.
Хотя были и другие способы определить, куда она упала. Распознаваемые
обломки встречались на земле все реже. Все больше и больше попадалось комьев
слегка поблескивающей грязи, которая спеклась от жара бомбы в подобие
стекла.
Эти комья и скользкими были, как стекло, в особенности под снегом. Один
из людей Остолопа поскользнулся и грохнулся на задницу.
-- Ой-й! -- воскликнул он. -- Вот дерьмо!
Когда товарищи засмеялись над ним, он попытался встать и тут же снова
упал.
-- Если хотите играть в эти детские игры, Куровски, то наденьте
клоунский костюм вместо формы, -- сказал Остолоп.
-- Извините, лейтенант, -- сказал Куровски; голос его звучал обиженно,
и дело было явно не в ушибе. -- Уверяю нас, это не нарочно.
-- Да, знаю, но вы решили повторить.
Остолоп внезапно потерял интерес к Куровски. Он узнал огромную кучу
кирпичей и железа с левой стороны. Она стала неплохой преградой для взрывной
волны и защитила собой некоторые жилые дома, так что они остались почти
неповрежденными. Но не зрелище уцелевших посреди руин зданий заставило
волосы на его затылке подняться дыбом.
-- Неужели это Ригли-Филд? -- прошептал он. -- Что тут было -- и на что
оно теперь похоже!
Он никогда не играл на Ригли-Филд -- его команде "Кубз" нечего было
делать на площадках прежнего Вест-Сайда в те времена, когда он поступил
кетчером в команду "Кардиналов", еще перед Первой мировой войной. Но руины
спортивного парка -- словно внезапный удар в зубы -- сделали очевидной
реальность обрушившейся на него войны. Иногда такое происходит со
свидетелями грандиозных событий, иногда -- из-за какой-нибудь ерунды: он
вспомнил пехотинца, который сломался и зарыдал, как дитя, при виде куклы с
оторванной головой, принадлежавшей неизвестному французскому ребенку.
Глаза Малдуна скользнули по развалинам Ригли.
-- Должно пройти немало времени, прежде чем "Кубз" завоюет очередное
знамя, -- произнес он в качестве эпитафии и парку, и городу.
К югу от Ригли-Филд Дэниелсу встретился крупный мужчина с сержантскими
нашивками. Он небрежно отсалютовал, лицо почему-то выглядело смущенным.
-- Идемте, лейтенант, -- сказал он. -- Я провожу ваше подразделение на
передовую.
-- Хорошо, вперед, -- ответил Остолоп.
Большинство его подчиненных были желторотыми сосунками. Многие из-за
этого гибли. Но подчас не помогал никакой опыт. У Остолопа и самого был
внушительный шрам -- к счастью, сквозная рана не задела кости. А пролети
пуля ящеров на два или три фута выше -- могла попасть и в ухо.
Сержант повел их от эпицентра взрыва через северную окраину к реке
Чикаго. Большие здания стояли пустые и разбитые, такие же безразличные к
происходящему, как некогда -- куча костей динозавров. При условии, конечно,
что в них не прятались снайперы ящеров.
-- Нам бы надо отогнать их подальше, -- сказал сержант, с отвращением
сплюнув. -- А какого черта собираетесь делать вы?
-- Ящеров и в самом деле трудно отогнать, -- мрачно согласился Дэниелс.
Он осмотрелся. Большая бомба не затронула эту часть Чикаго, но здесь
оставили свои следы несчетное количество мелких бомб и артиллерийских
снарядов, а также огонь и пули. Руины служили идеальной защитой для любого,
кто выбрал бы их в качестве укрепления или засады.
-- Это самая вшивая часть города, чтобы сражаться с этими гадами.
-- Здесь действительно вшивая часть города, сэр, -- сказал сержант. --
Здесь жили даго [Презрительная кличка. Так американцы называют итальянцев,
испанцев и португальцев. -- Прим. ред.], пока ящеры их не выгнали. Хоть
что-то полезное они сделали.
-- Придержи язык насчет даго, -- сказал ему Дэниелс.
В его подразделении таких было двое. Если бы сержант завелся с
Джиордано и Пинелли, то вполне мог бы расстаться с жизнью.
Чужак бросил на Остолопа недоверчивый взгляд, явно удивившись отповеди.
Такой мордастый краснорожий мужик с говором Джонни Реба никак не может быть
даго, так чего ради он их защищает?
Но Остолоп был лейтенантом, и потому сержант молчат всю дорогу, пока не
привел подразделение на место назначения.
-- Вот это Оук, а это Кливленд, сэр. Это называется "Мертвый Угол" в
память их отцов -- итальянские парнишки имели привычку убивать здесь друг
друга, еще во время сухого закона. Каким-то образом получалось, что никогда
не было свидетелей. Забавно, не правда ли?
Он откозырял и удалился.
Подразделением, которое должны были сменить люди Дэниелса, командовал
щуплый светловолосый парень по имени Расмуссен. Он показал на юг.
-- Ящеры располагаются примерно в четырех сотнях ярдов отсюда, вон там.
Последние дня два довольно тихо.
-- Хорошо.
Дэниелс поднес к глазам бинокль и стал всматриваться в указанном
направлении. Он заметил пару ящеров. Значит, и вправду затишье -- иначе они
не вышли бы наружу. Ящеры были ростом с десятилетнего мальчика, их
коричнево-зеленую кожу украшали узоры, означавшие то же самое, что знаки
различия и нашивки с указанием рода войск. Глаза на выступающих бугорках и
способны поворачиваться. Туловище наклонено вперед; походка карикатурная --
такой нет ни у одного существа на Земле.
-- Уродливые маленькие гады, -- сказал Расмуссен. -- Мелочь поганая.
Как существа такого размера создают столько неприятностей?
-- Им удается, это факт, -- ответил Остолоп. -- Вот чего я не понимаю,
так это почему они здесь -- и как мы от них избавимся. Они пришли, чтобы
остаться, вне сомнения.
-- Полагаю, что надо перебить их всех, -- сказал Расмуссен.
-- Удачи вам! -- сказал Остолоп. -- Они, наоборот, склоняются к тому,
чтобы проделать то же самое с нами. Это вполне реально. Если бы вы спросили
меня -- не то, что вы спросили, а другое, -- я сказал бы, что надо Найти
какой-то совсем другой путь. -- Он почесал щетинистый подбородок. --
Единственная неприятность в том, что у меня нет ясности, какой путь.
Надеюсь, что у кого-то она есть. Если ее нет ни у кого, то надо искать и
найти побыстрее, иначе нас ждут разнообразнейшие неприятности.
-- Как вы и сказали, я вас об этом не спрашивал, -- ответил Расмуссен.
Высоко над Дувром прошумел реактивный самолет. Не видя его, Дэвид не
мог определить, был ли это самолет ящеров или британский "Метеор". Толстый
слой серых клубящихся облаков закрывал все небо.
-- Это один из наших, -- объявил капитан Бэзил Раундбуш.
-- Пусть, раз уж ты так говоришь, -- ответил Гольдфарб, задержав слово
"сэр" чуть дольше, чем полагалось.
-- Именно это я и сказал, -- закончил Раундбуш.
Бэзил был высокий, красивый, светловолосый и румяный, со щегольскими
усиками и множеством наград, из которых первые он получил в битве за
Британию, а последние -- за недавние бои с ящерами. Что до Гольдфарба, то он
мог похвастаться лишь медалью за ранение -- собственно, только за то, что
выжил при нападении ящеров на остров. Даже "Метеоры" были легкой добычей для
машин, на которых летали ящеры. Кроме того, Раундбуш отнюдь не был боевой
машиной, у которой больше амбиций, чем мозгов. Он помогал Фреду Хипплу в
усовершенствовании двигателей, которые устанавливались на "Метеоры", он был
остроумен, женщины перед ним так и падали. А в результате у Гольдфарба
развился жестокий комплекс неполноценности.
Он делал все, чтобы скрыть его, поскольку Раундбуш -- с поправкой на
манеры -- был весьма приятным парнем.
-- Я всего лишь скромный оператор радарных установок, сэр, -- сказал
Гольдфарб, убирая со лба несуществующую челку. -- Я не могу знать таких
вещей, не могу.
-- Ты всего лишь скромная свалка комплексов, вот ты кто, -- фыркнув,
сказал Раундбуш.
Гольдфарб вздохнул. Раундбуш к тому же великолепно говорил
по-английски, в то время как его акцент, несмотря на все усилия и долгую
учебу, выдавал происхождение из лондонского Ист-Энда, как только он открывал
рот.
Пилот протянул руку:
-- Оазис перед нами. Вперед!
Они ускорили шаг. Гостиница "Белая лошадь" располагалась неподалеку от
Дуврского замка, в северной части города. Это была неплохая прогулка от
Дуврского колледжа, где они оба трудились над превращением трофеев в
устройства, которые могли использовать королевские ВВС и другие британские
войска. Гостиница располагала еще и лучшей в Дувре пивной, и не только
благодаря горькому пиву, но и благодаря своим официанткам.
Неудивительно, что она была набита битком. Мундиры всех видов --
авиация, армия, морская пехота, королевский военный флот -- перемешались с
гражданским твидом и фланелью. Обогревал всех огромный камин в дальнем конце
помещения, как делал это всегда, еще с четырнадцатого столетия. Гольдфарб
благодарно вздохнул. Лаборатории Дуврского колледжа, где он проводил дни,
были чистыми, современными -- и чертовски холодными.
Словно регбисты, они проложили себе локтями путь к стойке. Раундбуш
поднял руку, когда они приблизились к желанному берегу.
-- Две пинты лучшего горького, дорогая, -- крикнул он рыжеволосой
девушке за длинным дубовым прилавком.
-- Для тебя, дорогой, все что угодно, -- сказала Сильвия.
Все мужчины, услышавшие ее слова, по-волчьи взвыли. Гольдфарб
присоединился к этому вою, но только для того, чтобы не выделяться.
Некоторое время назад они с Сильвией были любовниками. Это не означало, что
он сходил по ней с ума, и даже не означало, что в это время он у нее был
единственным, хотя она по-своему была честна и не старалась накручивать его
историями про соперников. Но, увидев ее теперь, после того как они
расстались, он почувствовал себя уязвленным -- не в последнюю очередь из-за
того, что он по-прежнему страстно жаждал сладкого тепла ее тела.
Она подтолкнула пинтовые кружки новоприбывшим. Раундбуш швырнул на
стойку серебряную монету. Сильвия взяла ее и начала отсчитывать сдачу, но он
покачал головой. Она улыбнулась широкой обещающей улыбкой.
Гольдфарб поднял свою кружку.
-- За группу полковника Хиппла! -- провозгласил он.
Они с Раундбушем выпили. Если бы не Фред Хиппл, то королевские ВВС
продолжали бы сражаться с ящерами на "харрикейнах" и "спитфайрах", а не на
реактивных машинах. Но Хиппл пропал, когда ящеры -- во время атаки на
Британию -- захватили исследовательскую станцию в Брантингторпе. Возможно,
этот тост был единственной данью памяти, доставшейся на его долю.
Раундбуш с уважением посмотрел на напиток цвета темного золота, который
он пил большими глотками.
-- Чертовски хорошо, -- сказал он. -- Это самодельное горькое часто
превосходит то, что продают пивоварни по всей стране.
-- В этом ты прав, -- причмокнув, подтвердил Гольдфарб. Он считал себя
знатоком горького. -- Хороший хмель, пикантный вкус... -- Он сделал еще
глоток, чтобы освежить в памяти нюансы.
Кружки быстро опустели. Гольдфарб поднял руку, чтобы заказать второй
круг. Он поискал глазами Сильвию, какое-то время не мог найти ее, потом
увидел: она несла поднос с пивом к столу возле камина.
Как по волшебству, за стойкой материализовалась другая женщина.
-- Хотите еще пинту? -- спросила она.
-- Две -- одну для моего приятеля, -- автоматически ответил он, затем
посмотрел на нее. -- Эй! Вы здесь новенькая. Она кивнула, наливая пиво из
кувшина.
-- Да. Меня зовут Наоми.
Ее темные волосы были зачесаны назад, придавая лицу задумчивое
выражение. Тонкие черты лица, бледная кожа -- без намека на розовый цвет,
узкий подбородок и широкие скулы, большие серые глаза, элегантно изогнутый
нос.
Гольдфарб заплатил за горькое, продолжая изучать новенькую. Наконец он
рискнул спросить ее не по-английски:
-- Yehudeh?
Она пристально посмотрела на него. Он понял, что она изучает его
внешность. Его вьющиеся каштановые волосы и громадный нос выдавали
происхождение явно не от англичан. Через мгновение она с облегчением
ответила:
-- Да, я еврейка. Да и вы тоже еврей, если не ошибаюсь. Теперь он
уловил ее акцент -- такой же, какой был у его родителей, хотя далеко не
такой сильный. Он кивнул.
-- Не отпираюсь, -- сказал он, вызвав настороженную улыбку на ее лице.
Он дат ей такие же чаевые, как Бэзил Раундбуш Сильвии, хотя мог дать и
меньше. Он поднял кружку в приветствии, а затем спросил:
-- А что вы делаете здесь?
-- Вы имеете в виду -- в Англии? -- спросила она, вытирая стойку
тряпкой. -- Моим родителям повезло -- или, если вам больше нравится, у них
хватило ума -- сбежать из Германии в тридцать седьмом году. Я была вместе с
ними, мне было тогда четырнадцать.
Значит, теперь ей 20 или 21: прекрасный возраст, с уважением подумал
Гольдфарб. Он пояснил в свою очередь:
-- Мои родители приехали из Польши перед Первой мировой войной, так что
я родился здесь.
Он подумал, стоило ли говорить ей об этом: немецкие евреи временами
задирали носы перед своими польскими кузенами.
Но она сказала:
-- Значит, вам повезло больше. Уж через что мы прошли... а ведь мы
сбежали еще до того, как началось самое худшее. А в Польше, говорят, было
даже хуже.
-- Все, что говорят, -- правда, -- ответил Дэвид, -- Вы когда-нибудь
слышали передачи Мойше Русецкого? Мы с ним кузены, я разговаривал с ним
после того, как он сбежал из Польши. Если бы не ящеры, то в Польше сейчас не
осталось бы ни одного еврея. Мне противно чувствовать себя благодарным им за
это, но так уж вышло.
-- Да, я слышала, -- ответила Наоми. -- Ужасные вещи. Но там по крайней
мере они кончились, а в Германии продолжаются.
-- Я знаю, -- сказал Гольдфарб и медленно отпил свое горькое. -- И
нацисты нанесли ящерам столько же ударов, как и любой другой, а может быть,
и больше. Мир сошел с ума, он становится колодцем, полным крови.
Бэзил Раундбуш разговаривал с блондином, офицером Королевского
военно-морского флота. Теперь он обернулся и обнаружил свежую пинту возле
локтя -- и Наоми за стойкой. Он выпрямился. Он умел включать свои двести
ватт шарма так, как большинство мужчин включают свет.
-- Прекрасно, прекрасно, -- сказал он, улыбаясь во весь рот. -- Вкус
нашего трактирщика, несомненно, повысился. Где он нашел вас?
"Это уже не смешно", -- подумал Гольдфарб. Он ожидал, что Наоми
вздохнет, или захихикает, или сделает еще что-то, чтобы показать, как она
поражена. Он еще ни разу не видел, чтобы Раундбуш терпел поражение.
Но девушка ответила довольно холодным тоном:
-- Я искала работу, и он был достаточно добр, чтобы счесть, что я
подойду. Теперь, если вы меня извините... И она поспешила к очередному
жаждущему посетителю. Раундбуш вдавил локоть в ребра Гольдфарба.
-- Это не спортивно, старик. По-моему, ты нечестным путем получил
преимущество.
Черт побери, наверное, его резкость вызвана тем, что он заметил ее
акцент или быстро оценил внешность.
-- Я? -- сказал Гольдфарб. -- Тебе ли говорить о преимуществах, когда
ты поимел всех, кто носит юбку, отсюда до острова Уайт.
-- О чем это ты, мой дорогой приятель? -- сказал Раундбуш и подпер щеку
языком, показывая, что его не следует воспринимать всерьез. Он допил свою
пинту, затем толкнул пустую кружку Сильвии, которая наконец вернулась на
место. -- Еще один круг для Дэвида и меня, пожалуйста, дорогая.
-- Сейчас, -- ответила она.
Раундбуш снова повернулся к морскому офицеру. Гольдфарб спросил
Сильвию, показав глазами в сторону Наоми:
-- Когда она начала здесь работать?
-- Несколько дней назад, -- ответила Сильвия. -- И если ты меня
спросишь, она слишком чистая, чтобы заниматься этим. Приходится ведь терпеть
пьяных, всякий сброд, и всем от тебя -- или в тебе -- все время чего-то
надо.
-- Спасибо, -- сказал Гольдфарб. -- Ты подняла мое настроение на два
дюйма.
-- Подумать только, ты ведь порядочный человек, не то что эти негодяи,
-- сказала Сильвия. Это была похвала, не лишенная оттенка осуждения. --
Наоми делает вид, что не замечает тех, кто пристает к ней, и как бы не
понимает, чего от нее хотят. Но это ненадолго. Раньше или позже -- скорее
раньше -- кто-нибудь попытается сунуться ей под блузу или под платье. Вот
тогда мы и...
Она не успела сказать "увидим", как звук пощечины, словно винтовочный
выстрел, перекрыл шум болтовни в "Белой лошади". Капитан морских пехотинцев
сидел, прижав руку к щеке. Наоми невозмутимо поставила перед ним пинту пива
и пошла дальше.
-- Хорошо совпало, хотя я просто говорила, что думаю, -- заметила
Сильвия с очевидной гордостью.
-- Да, именно так, -- согласился Гольдфарб.
Он посмотрел на Наоми. Их взгляды на мгновение встретились. Он
улыбнулся. Она пожала плечами, как бы говоря: на работе всякое бывает. Он
повернулся к Сильвии.
-- Хорошо у нее получилось, -- сказал он.
* * *
Лю Хань нервничала. Она замотала головой. Нет, она больше чем
нервничала. Она была перепугана одной только мыслью о встрече с маленькими
чешуйчатыми дьяволами. Она слишком долго находилась под их контролем:
вначале в самолете, который никогда не садится на землю, где ее случали с
другими людьми, чтобы узнать, как люди ведут себя в интимной жизни, и потом,
когда она забеременела, в тюремном лагере неподалеку от Шанхая. После того
как она родила ребенка, они украли его. Она хотела вернуть ребенка, хотя это
была всего-навсего девочка.
С учетом прошлого опыта она беспокоилась, уверенная, что чешуйчатые
дьяволы с ней возиться не станут -- она не стоит их внимания. И она,
женщина, ничего не могла сделать, чтобы облегчить свое положение. Доктрина
Народно-освободительной армии гласила, что женщины были и должны быть равны
мужчинам. Где-то в глубине сознания она начинала верить в это, но в
повседневной жизни ее мысли -- и страхи -- по-прежнему формировал опыт,
полностью противоречивший новой доктрине.
Вероятно, чувствуя это, Нье Хо-Т'инг попробовал ее успокоить:
-- Все будет хорошо. Они ничего не сделают вам, тем более на этих
переговорах. Они знают, что у нас есть их пленные, которые ответят, если с
нами что-нибудь произойдет.
-- Да, я понимаю, -- автоматически сказала она, но все же посмотрела на
него с благодарностью.
Он служил политическим комиссаром в Первом полку революционной армии
Мао, командовал дивизией во время Великого похода, был начальником штаба
армии. После нашествия ящеров он возглавил борьбу против них -- и против
японцев, и контрреволюционной гоминдановской клики -- сначала в Шанхае, а
затем в Пекине. И он был ее любовником. Хотя по происхождению она была
крестьянкой, ее сообразительность и горячее желание отомстить маленьким
дьяволам за все, что они ей причинили, сделали ее революционеркой, причем
делавшей быструю карьеру.
Чешуйчатый дьявол явился из палатки, которую это отродье возвело
посредине Пан-Дзо-Сиан-Тай -- Благоуханной Террасы Мудрости. Палатка была
подобием пузыря из неведомого оранжевого блестящего материала, а не обычным
сооружением из парусины или шелка. Она дисгармонировала не только с видом
террасы, стен и утонченных лестниц по обе стороны, но и со всем Чун-Хуа-Тао,
Островом Белой Пагоды.
Лю Хань подавила нервный смех. В те времена, когда маленькие чешуйчатые
дьяволы еще не успели захватить и испортить ее жизнь, она была простой
крестьянкой и даже представить себе не могла, что окажется не только в
Императорском Городе, сердце Пекина, но на том самом острове, где отдыхали
старые китайские императоры.
Маленький дьявол повернул один глаз в сторону Лю Хань, другой -- в
сторону Нье Хо-Т'инга.
-- Вы люди из Народно-освободительной армии? -- спросил он на неплохом
китайском, добавив хрюкающее покашливание в конце предложения, обозначавшее
вопросительный знак: особенность, перешедшая из его родного языка. Поскольку
никто из людей не возразил, чешуйчатый дьявол сказал: -- Вы пойдете со мной.
Я -- Эссафф.
Внутри палатки лампы сияли почти как солнце, хотя и с оттенком
желто-оранжевого. Этот оттенок не имел ничего общего с материалом, из
которого была сделана палатка: Лю Хань заметила, что он присутствовал в
любом свете, которым пользовались чешуйчатые дьяволы. Палатка была
достаточно большой, чтобы в ней поместилась еще и отдельная прихожая. Когда
женщина направилась к входу, Эссафф схватил ее когтистой лапой.
-- Обожди! -- сказал он и снова кашлянул, но иначе, в знак особой
важности сказанного. -- Мы обследуем вас нашими приборами, чтобы убедиться,
что вы не носите с собой взрывчатку. Такую процедуру проходим и мы сами.
Лю Хань и Нье Хо-Т'инг обменялись взглядами. Никто из них не произнес
ни слова. Лю Хань предлагала подослать циркачей с дрессированными животными,
выступлениями которых восхищались чешуйчатые дьяволы, -- а в ящиках для
содержания животных спрятать бомбы. Они постоянно устраивали взрывы, но
одурачить маленьких дьяволов дважды одним и тем же фокусом было практически
невозможно.
Эссафф велел людям встать в определенное место. Он рассматривал
изображение их тел на устройстве, напоминавшем маленький киноэкран. Лю Хань
и прежде видела такое: казалось, прибор так же распространен среди маленьких
дьяволов, как книги среди людей.
Эссафф минуту или две шипел, как кипящий котел, а затем сказал:
-- В данном случае вы почетные посетители. Можете войти.
В главной комнате палатки находился стол, на одном конце которого
громоздилось множество приборов чешуйчатых дьяволов. За столом сидели двое
самцов. Поочередно показав на них, Эссафф представил:
-- Это -- Ппевел, помощник администратора восточного района в главной
континентальной массе -- в Китае, как сказали бы вы. А это -- Томалсс,
исследователь тосевитского -- человеческого, сказали бы вы, -- поведения.
-- Я знаю Томалсса, -- сказала Лю Хань, скрыв свои чувства усилием
воли, она едва не потеряла сознание.
Томалсс и его помощники фотографировали, как она рожала дочь, а затем
забрали ребенка. Прежде чем она успела спросить, что с ее девочкой, Эссафф
сказал:
-- Вы, тосевиты, садитесь с нами.
Стулья, которые чешуйчатые дьяволы предложили им, были изготовлены
людьми: уступка со стороны ящеров, которой она никогда не наблюдала прежде.
Когда они с Нье Хо-Т'ингом сели, Эссафф спросил:
-- Вы будете пить чай?
-- Нет, -- резко ответил Нье. -- Вы обследовали наши тела, прежде чем
мы вошли сюда. Мы не можем обследовать чай. Мы знаем, что вы иногда
стараетесь подсунуть людям наркотики. Мы не будем пить или есть с вами.
Томалсс понимал по-китайски. Ппевел, очевидно, нет. Эссафф переводил
ему. Лю Хань понимала кое-что из его перевода. Она немного научилась речи
чешуйчатых дьяволов. Именно поэтому она заменила сегодня прежнего помощника
Нье, Хсиа Шу-Тао.
Ппевел объявил через Эссаффа:
-- Это переговоры. Вам не надо бояться.
-- Это вы боитесь нас, -- ответил Нье. -- Если вы не доверяете нам, как
мы можем доверять вам?
Наркотики чешуйчатых дьяволов обычно действовали на людей плохо. Нье
Хо-Т'инг и Лю Хань оба знали это. Нье Хо-Т'инг добавил:
-- Даже имея дело с нашим собственным народом -- я имею в виду
человеческие существа, -- мы, китайцы, страдали от неравных договоров.
Теперь мы больше ничего не хотим, кроме полного соответствия во всех наших
действиях. Мы не собираемся давать больше того, что получим.
Ппевел сказал:
-- Мы разговариваем с вами. Разве это не достаточная уступка?
-- Это уступка, -- сказал Нье Хо-Т'инг, -- но недостаточная.
Лю Хань добавила покашливание, усилившее его слова И Ппевел, и Эссафф
вздрогнули от удивления. Томалсс стал что-то говорить тихим голосом своему
начальнику. Лю Хань расслышала достаточно, чтобы понять: тот объяснял, как
случилось, что она немного овладела языком ящеров.
-- Давайте все же поговорим, -- сказал Ппевел. -- И посмотрим, кто есть
равный, а кто -- нет, когда война кончится.
-- Да, это верно, -- согласился Нье Хо-Т'инг, -- очень хорошо. Мы
согласны на переговоры. Хотите начать дискуссию с большого и перейти к малым
делам или предпочтете начать с малого и двигаться вверх по мере прогресса в
переговорах?
-- Лучше начать с малого, -- сказал Ппевел. -- Когда проблемы
небольшие, вы и мы сможем легче найти почву под ногами. Если мы будем
стараться достичь слишком многого вначале, мы сможем только рассердиться
друг на друга и сорвем переговоры.
-- Вы проницательны, -- сказал Нье, склонив голову перед маленьким
чешуйчатым дьяволом.
Лю Хань расслышала, как Эссафф объясняет Ппевелу, что это жест
уважения.
-- Итак, -- продолжил Нье сухим уверенным тоном, за которым угадывались
бомбы Народно-освободительной армии, -- мы требуем, чтобы вы вернули
девочку, которую бессердечно украли у Лю Хань.
Томалсс подпрыгнул, словно его ткнули булавкой.
-- Это не маленький вопрос! -- воскликнул он по-китайски, добавив
усиливающее покашливание, чтобы показать свое отношение.
Эссафф, приняв странную позу, быстро переводил маленькому дьяволу.
Нье Хо-Т'инг поднял бровь. Лю Хань заподозрила, что это движение ничего
не значит для чешуйчатых дьяволов, у которых не было бровей.
Нье сказал:
-- Что же вы тогда подразумеваете под небольшими вопросами? Я мог бы
сказать, что считаю материал, из которого вы сделали эту палатку, уродливым,
но эта тема вряд ли заслуживает обсуждения По сравнению с тем, что вы,
империалистические агрессоры, сделали с Китаем, судьба одного ребенка --
мелочь, или, по крайней мере, эта проблема значительно меньше.
Выслушав перевод, Плевел сказал:
-- Да, это небольшой вопрос по сравнению с другими. В любом случае эта
страна теперь наша, что не подлежит никакому обсуждению, как вы понимаете.
Нье улыбнулся, не отвечая. Европейские державы и Япония говорили Китаю
то же самое, но всегда терпели поражение, когда их брали на штык.
Марксистско-ленинская доктрина вооружила Нье глубоким пониманием истории,
которому он обучал Лю Хань.
Но она знала из своего собственного опыта, что маленькие чешуйчатые
дьяволы имели свой взгляд на историю, и он не имеет ничего общего с учением
Маркса или Ленина. Они были нечеловечески терпеливы: то, что срабатывало
против Англии или Японии, могло оказаться негодным против них. Если они не
лгали о себе, то даже китайцы, самая древняя и цивилизованная нация в мире,
по сравнению с ними были лишь детьми.
-- Моя дочь здорова? -- наконец спросила Лю Хань Томалсса. Она не смела
сломаться и заплакать, но когда она спросила о своей девочке, то из носа
потекли слезы, не вылившиеся из глаз. Она высморкалась между пальцев, прежде
чем продолжить. -- Вы хорошо заботитесь о ней?
-- Вылупившийся детеныш здоров и доволен.
Томалсс придвинул к себе машину, Лю Хань когда-то уже видела такую. Он
прикоснулся к рычагу. Над машиной волшебством чешуйчатых дьяволов возникло
изображение ребенка. Девочка стояла на четвереньках, обернутая поперек
туловища тканью, и широко улыбалась -- в ротике виднелись два маленьких
белых зубика.
Лю Хань заплакала. Томалсс достаточно хорошо знал, что это означает
печаль. Он снова прикоснулся к рычагу. Изображение исчезло. Лю Хань не
знала, лучше это или хуже. Ей так хотелось подержать ребенка на руках.
Собравшись с силами, она сказала:
-- Если вы говорите с людьми как с равными -- или с чем-то близким к
равенству, -- то вы не будете красть их детей. Вы можете делать либо одно,
либо другое, но не то и другое одновременно. Если вы крадете детей, то
должны ожидать, что люди будут делать все, чтобы навредить вам за это.
-- Но мы берем детенышей, чтобы изучить, как они и Раса могут наладить
отношения друг с другом, начав все заново, -- сказал Томалсс так, будто это
настолько очевидно, что не требует объяснений.
Ппевел заговорил с ним на языке чешуйчатых дьяволов. Эссафф наклонился,
собираясь переводить. Нье вопросительно посмотрел на Лю Хань. Она
прошептала:
-- Он говорит, они узнали важную вещь: люди будут бороться за своих
детенышей, тьфу ты, детей. Это может быть не то, что они собирались узнать,
но это частичный ответ.
Нье ничего не ответил и даже не посмотрел на Ппевела. Лю Хань
достаточно хорошо читала по его лицу, чтобы понять: он не считает Ппевела
дураком. У нее создалось такое же ощущение.
Глаза Ппевела снова повернулись в сторону людей.
-- Предположим, мы вернем вам этого детеныша, -- сказал он через
Эссаффа, игнорируя разнервничавшегося Томалсса. -- Предположим, мы сделаем
это. Что вы дадите нам взамен? Вы согласитесь не устраивать больше взрывы
наподобие того, который испортил день рождения Императора?
Лю Хань глубоко вздохнула. Она отдала бы что угодно, лишь бы вернуть
ребенка. Но решение принимала не она. Здесь власть принадлежала Нье
Хо-Т'ингу, а Нье любил дело больше, чем какого-либо человека или его частные
заботы.
Абстрактно Лю Хань понимала, что это и есть путь, которой следует
избрать. Но можете ли вы думать абстрактно, если вы только что видели своего
ребенка в первый раз после того, как его у вас украли?
-- Нет, мы не согласны на это, -- сказал Нье. -- Это слишком много в
обмен на одного ребенка, который не может причинить вам никакого вреда.
-- Если вернуть детеныша, это повредит нашим исследованиям, -- сказал
Томалсс.
И Нье, и Плевел игнорировали его. Нье продолжил, как ни в чем не
бывало:
-- Хотя, если вы вернете ребенка, мы отпустим одного из ваших самцов,
который у нас в плену. Для вас он должен быть дороже ребенка.
-- Любой самец для нас дороже, чем тосевит, -- сказал Ппевел. -- Это
аксиома. Но в словах исследователя Томалсса содержится доля истины. Прервать
долговременную исследовательскую программу -- это не то, что мы, самцы Расы,
можем сделать просто так. Нам нужно иметь более веские доводы, чем просто
ваше требование.
-- Кража детей для вас не означает преступление? -- спросила Лю Хань.
-- Не очень большое, -- безразличным тоном ответил Ппевел. -- Раса не
страдает концентрацией внимания на отдельных особях, что присуще вам,
тосевитам.
Самое худшее состояло в том, что Лю Хань поняла, что он имеет в виду.
Чешуйчатые дьяволы не были злыми. Просто они настолько отличались от людей,
что, когда они поступали в соответствии со своими понятиями о правильном и
достойном поведении, люди могли только ужасаться.
-- Скажите мне, Ппевел, -- спросила она с угрожающим блеском в глазах,
-- как давно вы на посту помощника администратора этого региона?
Нье Хо-Т'инг бросил на нее быстрый взгляд, но не одернул. Коммунисты
проповедовали равенство между полами, и Нье следовал этим проповедям -- в
большей степени, чем другие, кого она встречала. Например, Хсиа Шу-Тао,
говоря об участии женщины в революции, имел в виду ее лежащей на спине с
широко раздвинутыми ногами.
-- Я несу эту ответственность недолго, -- ответил Ппевел, -- прежде я
был помощником помощника администратора. Почему вы задаете такой неуместный
вопрос?
У Лю Хань не было во рту множества мелких острых зубов, как у маленьких
чешуйчатых дьяволов, но хищная улыбка, которую она адресовала Плевелу,
показала, что она в них и не нуждается.
-- Значит, ваш прежний начальник мертв, да? -- спросила она. -- И он
умер в день рождения вашего Императора?
Все трое чешуйчатых дьяволов на мгновение опустили глаза, когда Эссафф
перевел слово "Император" на их язык.
Ппевел ответил:
-- Да, но...
-- Как вы думаете, кто заменит вас после следующего взрыва? -- спросила
Лю Хань. Сорвать переговоры, вероятно, плохое дело, но ее это не беспокоило.
-- Вы можете не считать похищение детей большим преступлением, но мы так
считаем и будем наказывать вас всех, поскольку не можем добраться до
виновника. -- Она косо посмотрела на Томалсса.
-- Этот вопрос требует дополнительного анализа в высших кругах Расы, --
сказал Ппевел; он сохранил самообладание. -- В данное время мы не говорим
"да", но не говорим и "нет". Давайте перейдем к следующему пункту
обсуждения.
-- Очень хорошо, -- сказал Нье Хо-Т'инг.
Сердце Лю Хань упало. У маленьких чешуйчатых дьяволов не в обычае
откладывать такие дела, и она знала это. Дискуссия о возврате ее дочери
может продолжиться. Но каждый день, который ее дочь проводит вдали от нее,
делает ее все более чужой, и наверстать упущенное становится все труднее.
Она не видела ее с трехдневного возраста. Какой она будет, даже если Лю Хань
наконец вернут малышку?
* * *
Снаружи железнодорожный вагон выглядел, как багажный. Давид Нуссбойм
успел увидеть это, прежде чем усталые охранники НКВД с автоматами,
использовать которые им не было нужды, загнали его и его товарища по
несчастью внутрь. Внутри вагон был разделен на девять отделений, как обычный
пассажирский. Правда, в обычном пассажирском вагоне четыре пассажира в купе
-- это уже под завязку. Люди с ненавистью смотрели друг на друга, как будто
каждый сосед был виноват в том, что занимает так много места. В каждом из
пяти купе для заключенных этого вагона... Нуссбойм покачал головой. Он был
щепетильным и дотошным человеком. Он не знал, сколько людей помещалось в
каждом купе. Но он знал, что в его купе загнали 25 человек.
Он и еще трое сидели, как на насесте, на багажных полках у самого
потолка. Самые сильные и крепкие заключенные лежали в относительном комфорте
-- весьма относительном -- на жесткой средней полке. Остальные сидели,
теснясь, на нижних полках и на полу, на своих скудных пожитках.
Соседом Нуссбойма оказался долговязый парень по имени Иван Федоров. Он
немного понимал по-польски и совсем чуть-чуть -- на идиш, когда польского
было не понять. Нуссбойм, в свою очередь, худо-бедно разбирал русский, да
еще Федоров время от времени использовал немецкие слова.
Его трудно было назвать мыслителем.
-- Расскажите мне снова, как вы попали сюда, Давид Аронович, -- сказал
он. -- Я такой истории, как ваша, еще не слышал.
Нуссбойм вздохнул. Он рассказывал свою историю уже три раза в течение
двух дней -- во всяком случае, он думал, что прошло уже два дня с тех пор,
как он сел на эту полку.
-- Это было так, Иван Васильевич, -- сказал он. -- Я был в Лодзи, в
Польше, в той части, которую захватили ящеры. Мое преступление состояло в
том, что я ненавидел немцев больше, чем ящеров.
-- Почему? -- спросил Федоров.
Этот вопрос он задавал уже в четвертый раз.
До сих пор Нуссбойм избегал ответа: обычный русский любит евреев не
больше, чем обычный поляк.
-- Вы можете догадаться сами? -- спросил он. Федоров наморщил лоб, и он
взорвался:
-- Черт побери, вы разве не видите, что я еврей?
-- Ах, вот что. Да, конечно, я понял, -- сказал его сосед с веселым
спокойствием. -- Такого большого носа нет ни у одного русского.
Нуссбойм прикрыл рукой упомянутую часть лица, но Иван, казалось, не
имел в виду ничего особенного, а просто отметил факт. Он продолжил:
-- Значит, вы были в Лодзи. Как же вы попали сюда? Вот это я и хочу
знать.
-- Мои соседи захотели избавиться от меня, -- с горечью сказал
Нуссбойм. -- Они не стали отдавать меня нацистам -- они не были настолько
погаными. Но они не хотели и оставлять меня в Польше. Они знали, что я не
позволю им сотрудничать с оккупантами. Тогда они ударили меня так, что я
потерял сознание, переправили через захваченную ящерами страну, пока не
добрались до местности, которую вы, русские, продолжали контролировать, и
передали меня вашему пограничному патрулю.
Федоров мог не быть большим мыслителем, но он был советским
гражданином. Он знал, что происходит в таких случаях. Улыбаясь, он сказал:
-- И пограничный патруль решил, что вы преступник -- а кроме того, вы
еще и иностранец, и _жид_, и поэтому они отправили вас в _гулаг_ [Так у
автора. -- Прим. ред.]. Теперь я все понял.
-- Рад за вас, -- кисло ответил Нуссбойм.
Из купе через скользящую решетку, заменяющую дверь, был виден коридор
тюремного вагона. В решетке было проделано зарешеченное же окошечко. Окон во
внешний мир не было, только пара маленьких отдушин, которые в счет не шли.
Два охранника направились к их купе.
Нуссбойм не беспокоился. Он знал, что когда энкавэдэшники ходят
неспешным шагом, они собираются раздавать еду. В животе у него урчало, слюна
наполняла рот. В этом тюремном вагоне -- "столыпинском", как его называли
русские, -- он питался лучше, чем в лодзинском гетто до прихода ящеров.
Правда, не намного лучше.
Один из охранников отодвинул решетку, затем отступил, нацелив на
заключенных автомат. Второй поставил на пол два ведра.
-- Порядок, зэки! -- закричал он. -- В зоопарке время кормления зверей!
Он громко расхохотался над своей остротой, хотя и пускал эту шутку в
ход всякий раз, когда был его черед кормить включенных.
Они тоже громко расхохотались. Если бы они не стали смеяться, никто не
получил бы еды. Это они узнали очень быстро. Избиения служили очень
доходчивым объяснением.
Удовлетворенный охранник начал раздавать куски грубого черного хлеба и
половинки соленой селедки. Один раз заключенные получили и сахар, но потом
охранники сказали, что он закончился. Нуссбойм не знал, насколько это верно,
но проверить все равно не мог.
Зэки, которые, развалившись, лежали на средних полках, получали самые
большие куски. Они подкрепляли свое право кулаками. Рука Нуссбойма коснулась
синяка под левым глазом. Он пытался воспротивиться и заплатил за это.
Он, как волк, проглотил хлеб, но костистую селедку спрятал в карман. Он
научился дожидаться воды, прежде чем есть рыбу.
Селедка была настолько соленой, что от жажды можно было сойти с ума.
Иногда охранники оставляли в купе ведро воды после того, как приносили еду.
Иногда они этого не делали. Сегодня воды не было.
Поезд грохотал. Летом в купе, рассчитанном на четверых, но в которое
набивалось две дюжины мужчин, должно было быть невыносимо -- что, конечно,
не останавливало служащих НКВД. Во время русской зимы живым теплом лучше не
пренебрегать. Несмотря на холод, Нуссбойм не мерз.
В животе его снова заурчало. Животу было безразлично, что его хозяин
будет страдать от жажды, если съест селедку и не напьется. Живот понимал
одно: он по-прежнему почти пуст, а рыба частично заполнит его.
Заскрипев тормозами, поезд резко остановился. Нуссбойм едва не сполз на
людей внизу. С Иваном такое однажды случилось. Люди на полу набросились на
него, как стая волков, били и колотили, пока он весь не покрылся синяками.
После этого случая сидящие на багажной полке научились крепко держаться.
-- Где это мы, как ты думаешь? -- спросил кто-то внизу.
-- В аду, -- ответил другой голос, вызвав смех более горький и
искренний, чем тот, которого добивался охранник.
-- Зуб даю, что это Псков, -- объявил зэк на средней полке. -- Я слышал
разговор, что мы отогнали ящеров от железнодорожной линии, которая идет с
запада. После этого, -- продолжил он менее самоуверенно и вызывающе, --
после этого север и восток, на Белое море, а то и в сибирский гулаг.
Пару минут все молчали. Упоминания о работе зимой под Архангельском или
в Сибири было достаточно, чтобы смутить даже самых бодрых духом.
Стук и толчки показали, что к поезду прицепили или отцепили вагоны.
Один из зэков, сидевших на нижней полке, сказал:
-- Разве гитлеровцы не захватили Псков? Дерьмо, они не причинят нам
вреда больше, чем наш собственный народ.
-- Нет, сделают, -- сказал Нуссбойм и рассказал о Треблинке.
-- Это пропаганда ящеров, вот что это такое, -- сказал большеротый зэк
на средней полке.
-- Нет, -- сказал Нуссбойм.
Даже с оглядкой на зэков со средней полки примерно половина людей в
купе в конце концов поверили ему. Он решил, что одержал моральную победу.
Вернулся охранник с ведром воды, ковшом и парой кружек. Он выглядел
расстроенным из-за того, что обязан дать людям воды, которой они не
заслуживали.
-- Эй, вы, грязные подонки, -- сказал он. -- По очереди и побыстрей. Я
не буду стоять здесь весь день.
Первыми пили здоровые, потом те, у кого был туберкулезный кашель, и
последними из всех -- трое или четверо неудачников, больных сифилисом.
Нуссбойм подумал, есть ли смысл поддерживать установившийся порядок: он
сомневался, что охранники вообще моют кружки после употребления. Вода была
желтоватой, мутной и маслянистой на вкус. Охранник набирал ее в тендере
паровоза, вместо того чтобы пойти к колонке с питьевой водой.
Так или иначе, она была мокрой. Он выпил полагающуюся ему кружку, съел
селедку и ненадолго почувствовал себя не зэком, а почти человеком.
* * *
Георг Шульц крутанул двухлопастный деревянный винт самолета "У-2".
Пятицилиндровый радиальный мотор Швецова сразу же заработал: зимой мотор с
воздушным охлаждением давал большое преимущество. Людмила Горбунова слышала
рассказы о пилотах Люфтваффе, которым приходилось разжигать на земле костры
под мотором своих самолетов, чтобы не допустить замерзания антифриза.
Людмила окинула взглядом минимальный набор приборов на передней панели
"кукурузника". Ничего нового сверх того, что она уже знала, они не
показывали: "кукурузник" заправлен топливом, компас работает
удовлетворительно, а альтиметр говорил, что она все еще на земле.
Она отпустила тормоз. Маленький биплан поскакал по снежному полю,
служившему взлетной полосой. За нею, она знала, мужчины и женщины с метлами
разровняют снег, уничтожив следы колес самолета. Советские ВВС серьезно
относились к маскировке.
Последний толчок -- и "У-2" оторвался от земли. Людмила похлопала по
фюзеляжу одетой в перчатку рукой.
Сконструированный для первоначального обучения этот самолет не давал
покоя сначала немцам, а теперь ящерам. "Кукурузники" летали на малой высоте
с небольшой скоростью и, за исключением мотора, почти не содержали металла:
они ускользали от систем обнаружения ящеров, позволявших инопланетным
империалистическим агрессорам с легкостью сбивать гораздо более совершенные
военные самолеты. Пулеметы и небольшие бомбы -- не слишком хорошее оружие,
но это все же лучше, чем ничего.
Людмила положила самолет в длинный плавный поворот к полю, откуда она
взлетела. Георг Шульц все еще стоял там. Он помахал ей и послал воздушный
поцелуй, прежде чем стал пробираться к елям неподалеку.
-- Если бы Татьяна увидела тебя сейчас, она отстрелила бы твою голову с
высоты восемьсот метров, -- сказала Людмила.
Поток воздуха, врывающийся поверх ветрового стекла в открытую кабину,
унес ее слова прочь. Ей самой хотелось сделать с Георгом Шульцем что-нибудь
похожее. Немецкий пулеметчик-танкист был первоклассным механиком, он
чувствовал моторы так же, как некоторые люди чувствуют лошадей. В этом
состояла его ценность, хотя он был буяном и искренним нацистом.
Со времени, когда Советский Союз и гитлеровцы стали, по крайней мере
формально, сотрудничать в борьбе с ящерами, на его фашизм можно было не
обращать внимания, точно так же, как поступали с фашистами до предательского
нарушения Германией пакта о ненападении с СССР 22 июня 1941 года. Чего
Людмила никак не могла стерпеть, так его попыток затащить ее к себе в
постель: желания переспать с ним у нее было не больше, чем, скажем, с
Генрихом Гиммлером.
-- Думаешь, он оставил меня в покое после того, как они с Татьяной
стали прыгать друг на друга? -- сказала Людмила облачному небу.
Татьяна Пирогова была опытным снайпером, она отстреливала нацистов, а
потом -- ящеров. Она была такой же беспощадной, как Шульц, а может быть, и
более жестокой. По мнению Людмилы, именно это их и сближало.
-- Мужики... -- И она добавила еще одно слово, чтобы закончить
предложение. Добившись расположения Татьяны, он продолжал домогаться и ее.
Она проворчала шепотом: -- Ух, как надоело!
Она летела над Псковом на запад. Солдаты на улицах, некоторые в русской
форме цвета хаки, другие в немецкой серо-зеленой полевой, а кое-кто -- еще в
белой зимней, которая не позволяла определить национальную принадлежность,
приветственно махали, когда она пролетала над ними. Случалось, впрочем, по
ней могли и пальнуть -- полагая, что все летающее принадлежит только ящерам.
От железнодорожной стации на северо-запад полз поезд. Дым от паровоза
тянулся за ним широким черным хвостом, и если бы не низкая облачность,
которая маскировала его от самолетов, он на фоне снега был бы виден за
многие километры. А ящеры с удовольствием расстреливали поезда, едва
предоставлялся шанс.
Она помахала поезду, когда сблизилась с ним. Она не думала, что
кто-нибудь из пассажиров видел ее, но это не важно. Поезда из Пскова были
добрым знаком. В течение зимы Красная Армия -- и немцы, с неудовольствием
подумала Людмила, -- оттеснила ящеров от города и от железной дороги. В
последние дни при определенном везении можно было добраться поездом даже до
Риги.
Но для этого требовались и удача, и время. Вот почему генерал-лейтенант
Шилл отправил свое послание с нею, и не только потому, что так оно попадет к
его нацистскому напарнику в латвийской столице гораздо быстрее, чем по
железной дороге.
Людмила сардонически улыбнулась.
-- Могучему нацистскому генералу очень хотелось послать с этим письмом
могучего нацистского летчика, -- проговорила она, -- но у него нет ни одного
могучего нацистского летчика, а потому пришлось выбрать меня.
У Шилла лицо при этом было такое, словно он ел кислое яблоко.
Она похлопала себя по карману кожаного, на меху летного костюма,
содержавшему бесценный пакет. Она не знала, что написано в письме. Шилл,
вручая ей письмо, всем своим видом показывал, что она не заслуживает этой
привилегии. Она тихо рассмеялась. Словно он мог удержать ее от того, чтобы
она вскрыла конверт! Может быть, он решил, что ей это не придет в голову?
Если так, он глуп даже для немца.
Ее, однако, удержала извращенная гордость. Генерал Шилл -- формально --
был союзником СССР и доверил ей послание, пусть даже и с неохотой. В свою
очередь она тоже будет соблюдать приличия.
"Кукурузник" с гудением летел к Риге. Местность была совершенно не
похожа на степи вокруг Киева, родного города Людмилы. Она летела вовсе не
над бесконечной ровной поверхностью: внизу простирались покрытые снегом
сосновые леса -- часть огромного лесного массива, тянувшегося на восток к
Пскову и еще дальше и дальше. То там, то сям в гуще леса виднелись фермы и
деревни. Вначале признаки человеческого присутствия удивили Людмилу, но по
мере продвижения в глубь прибалтийской территории они стали встречаться все
чаще.
Примерно на середине пути до Риги, когда она перелетела из России в
Латвию, их вид изменился, причем изменились не только дома. Штукатурка и
черепица разительно не похожи на дерево и солому, но главное -- все было
устроено более основательно и целесообразно: вся земля использована для
какой-то ясно определенной цели -- полей, огородов, рощиц, дорог. Все было
при деле, ничто не лежало брошенным или неосвоенным.
-- Это вполне могла быть и Германия, -- громко проговорила Людмила.
Воспоминания заставили ее замолчать. Когда гитлеровцы предательски
напали на ее родину, Латвия находилась в составе Советского Союза чуть
больше года. Реакционные элементы приветствовали нацистов как освободителей
и сотрудничали с ними в борьбе против советских войск. Реакционные элементы
на Украине делали то же самое, но Людмила гнала эту мысль прочь.
Она задумалась над тем, как ее примут в Риге. Вокруг Пскова в лесах
скрывались партизаны, город стал фактически общим владением немецких и
советских войск. Она не думала, что у границ Латвии могли бы находиться
значительные советские силы -- возможно, где-то южнее, но не в Прибалтике.
-- Пожалуй, -- продолжила она, -- в Латвии вскоре появятся значительные
советские силы: это буду я.
Воздушный поток унес ее шутку и веселое настроение.
Она добралась до берега Балтики и полетела вдоль него на юг к Риге.
Море оказалось на несколько километров замерзшим. Увидев это ледяное поле,
Людмила содрогнулась. Даже для русского человека льда было слишком много.
Над рижской гаванью поднимался дым -- после недавней бомбежки ящеров.
Приблизившись к докам, она нарвалась на ружейный огонь. Сжав кулаки -- какие
идиоты, приняли ее биплан за самолет ящеров! -- она ушла в сторону и стала
озираться в поисках места для посадки "кукурузника".
Неподалеку от улицы, похожей на главный бульвар, она увидела парк с
голыми деревьями. В нем было достаточно свободного места для посадки,
покрытого заснеженной мертвой желто-коричневой травой, и для того, чтобы
спрятать биплан. Как только тряский пробег закончился, к ней бросились
немецкие солдаты в серой полевой и белой маскировочной форме.
Они увидели красные звезды на крыльях и фюзеляже "кукурузника".
-- Кто вы, проклятый русский, и что вы здесь делаете? -- закричал один
из них.
Типичный наглый немец, он был уверен, что она знает его язык! Впрочем,
на этот раз он оказался прав.
-- Старший лейтенант Людмила Горбунова, советские ВВС, -- ответила
Людмила по-немецки. -- У меня с собой депеша генералу Брокдорф-Алефельдту от
генерала Шилла из Пскова. Не будете ли вы так добры доставить меня к нему? И
не замаскируете ли вы этот самолет, чтобы его не обнаружили ящеры?
Гитлеровские солдаты попятились в изумлении, услышав ее голос. Она
продолжала сидеть в кабине, ее кожаный летный шлем и зимнее обмундирование
скрывали ее пол. Немец, который окликнул ее, злобно сказал:
-- Мы слышали о летчиках, которые называют себя сталинскими соколами.
Может быть, ты один из сталинских воробьев?
Теперь он использовал "du" -- "ты" вместо "sie" -- "вы". Интересно, он
хотел этим выразить дружелюбие или оскорбить ее? Так или иначе, ей все
равно.
-- Возможно, -- ответила она тоном более холодным, чем здешняя погода,
-- но только в том случае, если вы -- один из гитлеровских ослов.
Она сделала паузу. Развлечет ее выходка немца или рассердит? Ей
повезло: он не только расхохотался, но даже, откинув голову, заревел
по-ослиному.
-- Надо быть ослом, чтобы закончить дни в богом забытом месте наподобие
этого, -- сказал он. -- Все в порядке, Kamerad -- нет, Kameradin старший
лейтенант, я проведу вас в штаб. Почему бы вам не пойти вместе со мной?
Несколько немцев присоединились к ним, то ли в качестве охранников, то
ли потому, что не хотели оставлять ее наедине с первым, а может быть, из-за
того, что им было в новинку, находясь на службе, идти с женщиной. Она изо
всех сил старалась не обращать на них внимания -- Рига интересовала ее
больше.
Даже пострадавший за годы войны город не показался ей "забытым богом".
На главной улице -- Бривибас-стрит, так она называлась (глаза и мозг не
сразу приспособились к латинскому алфавиту) -- было больше магазинов, причем
более богатых, чем во всем Киеве. Одежда горожан на улицах была поношенной и
не особенно чистой, но из лучших тканей и лучшего пошива, чем обычно
встречалась в России или в Украинской Советской Социалистической Республике.
Некоторые люди узнавали ее обмундирование. Несмотря на немецкий эскорт, они
кричали ей на искаженном русском и по-латышски. Она поняла, что по-русски ее
оскорбляли, слова по-латышски, должно быть, звучали не лучше. Вдобавок один
из немцев сказал:
-- Вас здесь любят, в Риге.
-- Есть много мест, где немцев любят еще больше, -- сказала она, и
возмущенный нацист заткнулся. Если бы они играли в шахматы, то она выиграла
бы размен.
Ратуша, где помещался штаб немецкого командования, находилась
неподалеку от перекрестка Бривибас и Калейю. Людмиле здание в готическом
стиле показалось старым, как само время. Часовых у входа не было (Кром в
Пскове тоже снаружи не охранялся), чтобы не выдать место штаба ящерам. Но,
открыв резную дверь, Людмила обнаружила, что на нее смотрят двое враждебного
вида немцев в более чистых и свежих мундирах, чем она привыкла видеть.
-- Что вам нужно? -- спросил один из них.
-- Русская летчица. Она говорит, что имеет депешу из Пскова для
командующего, -- ответил говорливый сопровождающий. -- Я решил, что мы
доставим ее сюда, а вы уж с ней здесь разберетесь.
-- Женщина? -- Часовой посмотрел на Людмилу по-другому. -- Боже мой,
это и в самом деле женщина? Из-за хлама, который на ней надет, я и не понял
сначала.
Он полагал, что она говорит только по-русски. Она изо всех сил
старалась смотреть на него свысока, что было не так-то просто, поскольку он
был сантиметров на 30 выше.
Мобилизовав весь свой немецкий, она сказала:
-- Уверяю вас, это в любом случае не имеет для вас никакого значения.
Часовой вытаращил глаза. Ее сопровождающие, успевшие увидеть в ней до
некоторой степени человеческое существо -- и как настоящие солдаты
недолюбливавшие штабных, -- без особого успеха попытались скрыть усмешки. От
этого часовой рассердился еще больше. Ледяным голосом он произнес:
-- Идемте со мной. Я отведу вас к адъютанту коменданта.
Адъютант был краснолицым, похожим на быка мужчиной с двумя капитанскими
звездочками на погонах. Он сказал:
-- Давайте сюда депешу, девушка. Генерал-лейтенант граф Вальтер фон
Брокдорф-Алефельдт -- занятой человек. И передам ему ваше послание, как
только представится возможность.
Возможно, он подумал, что титулы и сложная фамилия произведут на нее
впечатление. Если так, он забыл, что имеет дело с социалисткой. Людмила
упрямо выдвинула вперед подбородок.
-- Нет, -- сказала она. -- Мне приказано генералом Шиллом передать
послание вашему коменданту -- и никому больше. Я солдат и подчиняюсь
приказу.
Краснолицый стал еще краснее.
-- Один момент, -- сказал он и поднялся из-за стола.
Он вышел в дверь, расположенную у него за спиной. Когда он вернулся,
можно было подумать, что он только что съел лимон.
-- Комендант примет вас.
-- Хорошо.
Людмила направилась к этой же двери. Если бы адъютант не отступил
поспешно в сторону, она налетела бы прямо на него.
Она ожидала увидеть породистого аристократа с тонкими чертами лица,
надменным выражением и моноклем. У Вальтера фон Брокдорф-Алефельдта
действительно были тонкие черты лица, но, очевидно, только потому, что он
был больным человеком. Его кожа выглядела как желтый пергамент, натянутый на
кости. Когда он был моложе и здоровее, он, возможно, был красив. Теперь же
он просто старался держаться, несмотря на болезнь.
Он удивил ее тем, что встал и поклонился. Его мертвая улыбка показала,
что он заметил ее удивление. Тогда он удивил ее еще раз, заговорив
по-русски:
-- Добро пожаловать в Ригу, старший лейтенант. Так какие же новости вы
доставили мне от генерал-лейтенанта Шилла?
-- Я не знаю. -- Людмила протянула ему конверт. -- Вот послание.
Брокдорф-Алефельдт начал вскрывать его, но прервался, снова вскочил и
спешно вышел из кабинета в боковую дверь. Вернулся он бледнее, чем прежде.
-- Прошу извинить, -- сказал он, вскрыв конверт. -- Кажется, меня
мучает приступ дизентерии.
Похоже, это гораздо хуже, чем приступ: если судить по его виду, он
умрет самое большее через день. Людмила знала, что нацисты держатся за свои
посты с таким мужеством и преданностью -- или фанатизмом, -- как никто
другой. Временами, когда она видела это собственными глазами, она
удивлялась: как такие приличные люди могут подчиняться такой системе?
Это заставило ее вспомнить о Генрихе Ягере, и через мгновение щеки ее
залил румянец. Генерал Брокдорф-Алефельдт изучал послание генерала Шилла. К
ее облегчению, он не заметил, как она покраснела. Пару раз он хмыкнул, тихо
и сердито. Наконец он поднял взор от письма и сказал:
-- Мне очень жаль, старший лейтенант, но я не могу сделать того, что
просит немецкий комендант Пскова.
Она и представить не могла, чтобы немец говорил с такой деликатностью.
Он, конечно, был гитлеровцем, но _культурным_ гитлеровцем.
-- А о чем просит генерал Шилл? -- спросила она, затем поспешила
добавить: -- Если, конечно, это не слишком секретно для моего уровня?
-- Ни в коей мере. -- Он говорил по-русски, как аристократ. -- Он
хотел, чтобы я помог ему боеприпасами... Он сделал паузу и кашлянул.
-- То есть он не хотел бы зависеть от советских поставок, вы это имеете
в виду? -- спросила Людмила.
-- Именно так, -- подтвердил Брокдорф-Алефельдт. -- Вы ведь видели дым
над гаванью? -- Он вежливо дождался ее кивка, прежде чем продолжить. -- Это
все еще горят грузовые суда, которые разбомбили ящеры, суда, которые были
доверху нагружены всевозможным оружием и боеприпасами. Теперь у нас самих
жестокая нехватка всего, и поделиться с соседом мне нечем.
-- Мне жаль слышать это, -- сказала Людмила.
К своему удивлению, она поняла, что говорит не только из вежливости. Ей
не хотелось, чтобы немцы в Пскове стали сильнее, чем советские войска, но и
ослабление немцев по сравнению с силами ящеров было тоже нежелательным.
Найти баланс сил, который устраивал бы ее, было непросто. Она продолжила:
-- У вас будет ответ генералу Шиллу, который вы отправите со мной?
-- Я подготовлю ответ, -- ответил Брокдорф-Алефельдт, -- но вначале...
Бек! -- повысил он голос. В кабинет быстро вошел адъютант.
-- Принесите что-нибудь старшему лейтенанту из столовой, -- приказал
Брокдорф-Алефельдт, -- она проделала долгий путь с бессмысленным поручением
и, несомненно, не откажется от чего-нибудь горячего.
-- Слушаюсь, герр генерал-лейтенант! -- сказал Бек и повернулся к
Людмиле. -- Если вы будете добры подождать, старший лейтенант Горбунова.
Он пригнул голову, словно метрдотель странного декадентского
капиталистического ресторана, и спешно удалился. Если его начальник отнесся
к Людмиле с уважением, значит, точно так же к ней отнесется и он.
Когда капитан Бек вернулся, в руках он держал поднос с большой
дымящейся тарелкой.
-- Майзес зупе ар путукрейму, латышское блюдо, -- объяснил он, -- суп
из крупы со взбитыми сливками.
-- Благодарю вас, -- сказала Людмила и принялась за еду.
Суп был горячим, густым, питательным и по вкусу не казался непривычным.
В русской кухне тоже обычно много сливок, правда чаще кислых, то есть
сметаны, а не свежих.
Пока Людмила насыщалась, Бек вышел в свой кабинет и вскоре вернулся с
листом бумаги, который положил перед генералом Брокдорф-Алефельдтом.
Немецкий комендант Риги изучил письмо, затем посмотрел на Людмилу, но
продолжал молчать и заговорил, только когда она отставила тарелку.
-- Я хочу попросить вас об одолжении, если вы не возражаете.
-- Это зависит от того, какого рода одолжение, -- настороженно ответила
она.
Улыбка графа Брокдорф-Алефельдта делала его похожим на скелет, который
только что услышал хорошую шутку.
-- Уверяю вас, старший лейтенант, я не имел никаких непристойных
намерений в отношении вашего, несомненно прекрасного, тела. Это чисто
военный вопрос, в котором вы могли бы помочь нам.
-- Я и не думала о непристойных намерениях в отношении меня, --
ответила Людмила.
-- Нет? -- Немецкий генерал снова улыбнулся. -- Как это разочаровывает.
Пока Людмила обдумывала, как следует воспринять это высказывание,
Брокдорф-Алефельдт вернулся к деловому разговору.
-- Мы поддерживаем контакт с несколькими партизанскими группами в
Польше. -- Он сделал паузу, дав ей усвоить сказанное. -- Полагаю, я должен
заметить, что это партизанская война против ящеров, а не против рейха. В
группах есть немцы, поляки, евреи -- я слышал, что есть даже несколько
русских. Одна из таких групп, а именно под Хрубешовом, передала нам, что
готова, в частности, пустить в ход противотанковые мины. Вы могли бы
доставить им эти мины быстрее, чем кто бы то ни было из наших людей. Что вы
на это скажете?
-- Я не знаю, -- ответила Людмила. -- Я ведь вам не подчинена. А своих
самолетов у вас нет?
-- Самолеты -- да, несколько штук, но ничего похожего на "летающую
швейную машинку", на которой вы прибыли, -- сказал Брокдорф-Алефельдт.
Людмила и прежде слышала эту немецкую кличку самолета "У-2", и всегда в
таких случаях лукавая гордость наполняла ее. Генерал продолжил:
-- Эту задачу мог бы выполнить мой последний связной самолет,
"Физелер-Шторх", но он был сбит две недели назад. Вы ведь знаете, как ящеры
разделываются с более крупными и заметными машинами. Хрубешов находится
отсюда примерно в пятистах километрах к югу и немного западнее. Вы можете
выполнить это задание? Могу добавить, что уничтожение танков благодаря вашей
помощи, вероятно, будет полезно как для советских вооруженных сил, так и для
вермахта.
С тех пор как немцы оттеснили организованные -- в отличие от партизан
-- советские вооруженные силы в глубь России, Людмила сомневалась в этом. С
другой стороны, ситуация после вторжения ящеров стала довольно зыбкой, и,
кроме того, старшего лейтенанта ВВС не информируют о развертывании войск.
Людмила спросила:
-- А вы сможете передать ваш ответ генералу Шиллу, если я не полечу с
письмом обратно?
-- Думаю, мы сможем организовать это, -- ответил Брокдорф-Алефельдт. --
Если это -- единственное, что препятствует вам в выполнении задания, я
уверен, что мы решим этот вопрос.
Людмила задумалась.
-- Вам придется дать мне бензин для полета туда, -- наконец проговорила
она, -- и, конечно, партизаны должны будут достать бензин для возвращения. У
них он есть?
-- Они должны были раздобыть некоторое количество бензина, -- ответил
немецкий генерал. -- Кроме того, после прихода ящеров в Польше его почти не
расходуют. И конечно, после вашего возвращения мы снабдим вас топливом до
Пскова.
Об этом она еще не успела спросить. Несмотря на устрашающую фамилию и
громкие титулы, генерал-лейтенант граф Вальтер фон Брокдорф-Алефельдт был
все же джентльменом старой школы. Это помогло Людмиле совладать с собой и
кивнуть в знак согласия. В дальнейшем у нее еще будет возможность подумать,
было ли это достаточно веской причиной.
* * *
Ричард Петерсон был неплохим специалистом, но, насколько было известно
бригадному генералу Лесли Гровсу, безнадежным тупицей. Он сидел на жестком
стуле в кабинете Гровса в Научном центре Денверского университета и
объяснял:
-- Методики хранения, о которой вы говорите, сэр, трудно
придерживаться, если одновременно произойдет увеличение производства
плутония.
Гровс ударил громадным кулаком по столу. Это был крупный коренастый
человек с коротко подстриженными рыжеватыми волосами, тонкими усиками и
грубыми чертами лица, напоминавшего морду мастиффа. От мастиффа, похоже, он
взял и неумолимую агрессивность.
-- Что вы говорите, Петерсон? -- угрожающе прорычал он. -- Вы хотите
сказать, что мы должны выливать радиоактивные отходы в реку, чтобы ящеры
могли узнать, откуда они взялись? Лучше вам не продолжать эту фразу, потому
что вы знаете, что будет потом.
-- Конечно, знаю! -- Голос Петерсона прозвучал пронзительно и резко. --
Ящеры нас немедленно взорвут, и мы перейдем в мир иной.
-- Совершенно верно, -- сказал Гровс. -- Мне чертовски повезло, что я
не был в Вашингтоне, когда они сбросили там свои бомбы. -- Он фыркнул -- Они
успешно избавились в Вашингтоне от нескольких политиканов -- странно, но,
выходит, они даже помогли нашим военным. Но если они сбросят бомбу на
Денвер, то мы не сможем сделать больше ни одной ядерной бомбы. А в таком
случае мы проиграем войну.
-- Я это тоже знаю, -- ответил Петерсон. -- Но перерабатывающий завод
может делать ровно столько, сколько может. Если выжимать больше плутония,
увеличится нагрузка на фильтры -- а если отходы проникнут сквозь фильтры, то
попадут в Южный Платт.
-- Нам нужно получить больше плутония, -- резко сказал Гровс. -- Если
для этого надо включить дополнительные фильтры или чистить те, которые у нас
есть, озаботьтесь. Для этого вы тут и находитесь. Если вы скажете, что не
можете справиться, я найду того, кто сможет, обещаю вам. У вас есть
преимущество в получении материалов не только из Денвера, но и со всей
страны. Используйте это или найдите другую работу.
В своих роговых очках Петерсон выглядел как щенок, которого ни за что
пнули под ребра.
-- Дело не в материалах, генерал. Мы отчаянно нуждаемся в
подготовленных людях. Мы...
Гровс смотрел сердито.
-- Я вам сказал, мне не нужны извинения. Мне нужны результаты. Если у
вас недостаточно подготовленных людей, подготовьте еще. Или же используйте
неподготовленных, но разбейте все ваши процедуры на детские шажки, которые
сможет понять любой идиот. Освоил первый шажок -- переходит к следующему.
Вышло не так -- повторил процедуру снова. Получилось вот такое или такое --
зовет руководителя, который быстро разберется, что происходит. На такое
обучение уйдет много времени, но вы быстрее добьетесь результатов.
-- Но... -- начал было Петерсон.
Гровс игнорировал его -- демонстративно взял бумагу, самую верхнюю, из
переполненной корзины входящих. Техник рассерженно вскочил на ноги и выбежал
из кабинета. Гровс едва удержался от смеха. Ему приходилось наблюдать и
более яростную реакцию. Он мысленно сделал пометку: повнимательнее наблюдать
за заводом по обработке плутония в течение нескольких следующих недель. Или
Петерсон увеличит продукцию без выпуска радиоактивных отходов в реку, или
этим займется кто-нибудь другой.
Бумага, которую взял Гровс, была особенно важной, даже по сравнению с
остальными важными бумагами, которые -- как и все, так или иначе связанное с
атомным оружием, -- имели высший приоритет. Он потер подбородок. Такое не
каждый день попадалось ему на глаза.
-- Значит, это проклятые русские хотят нашей помощи, так? -- проговорил
он.
Он не особенно задумывался о русских -- ни об их политике, ни об их
инженерных способностях. Правда, они сделали первую атомную бомбу
человеческими руками, хотя и использовали расщепляющиеся материалы,
украденные у ящеров. Значит, они заслуживают большего уважения, чем всегда
казалось.
Правда, теперь они переживают трудности в производстве собственных
радиоактивных веществ и хотят, чтобы кто-то прибыл к ним и помог. Если бы не
ящеры, Гровс реагировал бы как человек, обнаруживший в своем белье гремучую
змею. Но когда на сцене появляются ящеры, то беспокойство в первую очередь
вызывают они и только потом -- надежды дядюшки Джо обзавестись атомной
бомбой или, скорее, целой кучей бомб.
Гровс откинулся в своем вращающемся кресле. Оно скрипнуло. Ему
захотелось закурить. С тем же успехом он мог пожелать достать луну с неба.
Он невольно произнес вслух:
-- Как бы я хотел, чтобы с нами был Ларссен. Он прекрасно бы подошел
для поездки в Москву.
Ларссен, увы, был мертв. Впрочем, он уже никогда не стал бы прежним
после того, как его жена ушла к этому парню из армии -- к Игеру, так его
звали. Когда возникла перспектива переезда Металлургической лаборатории в
Хан-форд, штат Вашингтон, никто не захотел прерывать работу для
инспекционной поездки. А Ларссен проявил себя тогда наилучшим образом.
Но со своими внутренними демонами справиться не смог. В конце концов
они взяли верх, и он застрелил двух людей и бежал на юг, в сторону
территории, захваченной ящерами. Если бы он "запел" -- а Гровс был уверен,
что для этого он и сбежал, -- то над Денвером расцвел бы цветок ядерного
пламени. Но кавалеристы успели перехватить его прежде, чем он смог добраться
до врага.
-- Так кого же все-таки послать? -- обратился Гровс к стенам кабинета.
Проблема состояла в том, что записка, которую он получил, мало что
говорила ему. Он не знал, какого рода неприятности у красных. Есть ли у них
вообще действующий реактор? Или они пытаются разделить уран-235 и уран-238?
В записке ничего об этом не говорилось. Разбираться, что им требуется, было
не легче, чем собрать картинку-головоломку из маленьких кусочков, когда
некоторых фрагментов нет, причем неизвестно, каких именно.
Поскольку это были русские, следовало исходить из того, что у них
какие-то проблемы элементарного порядка. У него тоже есть такая проблема:
посылать ли кого-то через полмира в разгар войны без гарантии, что он
прибудет на место целым? И если послать, то кого он не любит настолько,
чтобы именно его отправить в Москву или где там русские работают над своей
программой?
Он вздохнул.
-- Да, Ларссен очень подошел бы, -- сказал он.
Увы, с этим он ничего сделать не мог. И никто другой, до самого
Страшного Суда, тоже. Гровсу было не свойственно напрасно тратить время -- в
частности, на размышления о чем-то таком, чего он заведомо не мог сделать.
Он понял, что самому ему решить этот вопрос не по силам и что надо
поговорить с учеными.
Гровс снова посмотрел на письмо. В обмен на помощь США могли бы
получить какие-нибудь устройства с базы ящеров, которая взбунтовалась и
сдалась советской армии.
-- Надо убедиться, что русские не сжульничают и не расплатятся
барахлом, которое не действует или у нас уже есть, -- сказал он стенам.
Единственно, в чем можно быть уверенным, имея дело с русскими, так это
в том, что верить им нельзя.
Он снова перечитал письмо. Кажется, он кое-что пропустил...
-- Взбунтовалась база ящеров? -- проговорил он.
Такого еще не было. Ящеры просто рождены, чтобы служить в армии, они
исполнительны и дисциплинированны, пусть даже выглядят как хамелеоны,
больные манией величия. Он задумался: что же довело их до такой крайности,
что они выступили против собственных офицеров?
-- Проклятье! Если бы Игер и пленные ящеры были здесь, -- проговорил
он, -- уж я бы выкачал их до дна.
Подстрекательство ящеров к мятежу вовсе не входило в его нынешние
обязанности, но его разбирало любопытство.
С другой стороны, хорошо, что Игера здесь не было, когда Йене Ларссен
вернулся из Ханфорда. Ларссен, вероятно, прикончил бы его и Барбару из
винтовки, которую ему выдали для поездки. Все это недоразумение с его женой
не было следствием чьей-то вины, но Ларссен не мог справиться с ситуацией.
Так или иначе, Гровс был уверен, что именно это переполнило чашу его
терпения.
-- Ладно, не стоит больше беспокоиться, -- сказал он.
Ларссен умер, Игер с женой уехали в Хот-Спрингс, штат Арканзас, и
пленные ящеры вместе с ними. Гровс подозревал, что Игер продолжает работать
с ящерами. У него здорово получалось разбирать, что они имеют в виду и как
они вообще думают. Гровс знал, как отзывались об умственных способностях
самого Игера: ничего особенного, парень со странностями -- но весьма
способный.
Он выкинул Игера из головы так же, как только что выкинул Ларссена.
Если русские хотят заплатить за информацию, которая им нужна для создания
атомной бомбы, значит, они в ней действительно очень нуждаются. С другой
стороны, Ленин что-то говорил о капиталистах, которые продают Советскому
Союзу веревку, на которой красные их же и повесят. Если они узнают ядерные
секреты, разве в один прекрасный день они не решат использовать их против
Соединенных Штатов?
-- Конечно, захотят -- ведь это русские, -- сказал Гровс.
В конце концов, если припрет, США, не колеблясь, используют в своих
интересах любые знания, откуда бы они ни взялись. Таковы правила игры.
Другой вопрос: насколько обоснованны его опасения? Краткосрочное
преимущество -- против риска в отдаленном будущем. Если без ядерного оружия
русских разобьют, то беспокоиться о них глупо. Следует беспокоиться о том,
что сделают с Соединенными Штатами русские, вооруженные ядерными бомбами,
_после_ того, как Россия разделается с ящерами.
Насколько ему известно -- спасибо Игеру и пленным ящерам, -- ящеры
преуспели в долгосрочном планировании. Они свысока смотрели на людей, потому
что люди, по их меркам, лишены предвидения. Зато, с точки зрения людей,
ящеры настолько заняты изучением лесных дебрей, что временами не замечают,
что возле двери соседа валится дерево и падает им на головы.
-- Раньше или позже мы узнаем, правы они или правы мы -- или же мы и
они ошибались, -- сказал он.
Вопрос был не из тех, с которыми он легко справлялся. Допустим, надо
что-то построить за определенный срок, вот деньги. Он либо возьмется
выполнить работу, либо скажет, что сделать ее невозможно, -- и объяснит
почему. На то он и инженер.
"А если вам нужна философия, -- думал он, -- то следует пойти за нею к
философу".
И тем не менее, занимаясь нынешним проектом, он постоянно выслушивал
многочисленные пояснения ученых. Разобравшись, как работает бомба, он по
мере сил помогал им с технологией и методикой. Но когда Ферми, Сциллард и
все остальные пускались в дискуссии, он всегда пасовал, хотя и считал себя
способным к математике. Квантовая механика была ему не по зубам.
Так, ладно, сейчас он должен беспокоиться только о том, чтобы выбрать
какого-нибудь физика-неудачника и отправить его в Россию. Из всего того, что
он делал на службе нации, предстоящая операция вызывала у него наименьший
энтузиазм.
Хотя по сравнению с беднягой, которому придется отправиться туда, ему
не так уж и плохо.
Панайотис Маврокордато, стоявший у борта "Наксоса", показал точку на
берегу.
-- Вот она, -- сказал он по-немецки с греческим акцентом. -- Святая
земля. Через пару часов мы причалим в порту Хайфы.
Мойше Русецкий поклонился.
-- Не обижайтесь, -- добавил он на немецком языке с гортанным иудейским
выговором, -- но я не буду сожалеть, когда сойду здесь с вашего судна.
Маврокордато рассмеялся и сдвинул плоскую черную шерстяную матросскую
шапочку на лоб. На Мойше была такая же шапка, подаренная одним из матросов
"Наксоса". Раньше он думал, что на Средиземном море всегда солнечно и тепло,
даже и зимой. Солнце здесь действительно светило, но бриз, который овевал
их, никак нельзя было назвать теплым.
-- Во время войны безопасных мест не существует, -- сказал
Маврокордато. -- Раз уж мы прошли через это, то, черт побери, сможем пройти
почти через что угодно, Theou thelontos [Господи помилуй (греч.). -- Прим.
пер.].
Он вынул янтарные четки и принялся перебирать их.
-- Не могу с вами спорить, -- сказал Русецкий.
Старое ржавое судно направлялось в Рим, когда этот вечный город --
старое прозвище все-таки оказалось ошибочным -- и одновременно опорный пункт
ящеров в Италии исчез в атомном пожаре. Немцы до сих пор хвастались этим в
коротковолновых передачах, несмотря на то, что вскоре после этого ящеры в
отместку превратили в пар Гамбург.
-- Подготовьтесь сойти на берег с семьей сразу же, как только мы
причалим, -- предупредил Маврокордато. -- Вы ведь единственный груз, который
мы доставили в этом рейсе, и как только англичане расплатятся с нами за то,
что доставили вас в целости и сохранности, мы тут же повернем обратно в
Тарсус на всех парах.
Он топнул ногой по палубе. "Наксос" знавал и лучшие времена.
-- У нас не так уж много вещей, чтобы беспокоиться о сборах, -- ответил
Мойше. -- Если только Рейвен не будет торчать в машинном отделении, мы будем
готовы по первому слову.
-- Какой хороший у вас мальчик, -- ответил греческий капитан.
Похоже, по понятиям Маврокордато, хороший -- это мальчик, способный на
всевозможные проказы. Мойше в этом отношении был более умеренным. Впрочем,
Рейвен -- как и вся семья -- прошел через такое, что грех жаловаться на
мальчика.
Он отправился в каюту, которую делил с Рейвеном и женой Ривкой, чтобы
убедиться, не подведет ли он Маврокордато. Скудные пожитки уже почти все
увязаны. Ривка удерживала Рейвена на месте тем, что читала польские сказки
из книги, которая каким-то чудом уцелела на пути из Варшавы в Лондон, а из
Лондона -- почти до самой Святой Земли. Если Рейвену читали или же он
углублялся в книгу сам, он успокаивался. Все остальное время в маленьком
мальчике, казалось, работал вечный двигатель. Мойше казалось, что более
подходящего места для вечного двигателя и не найти.
Ривка положила книгу и вопросительно посмотрела на мужа.
-- Мы причалим через пару часов, -- сказал он.
На Ривке держалась вся семья, и Мойше был достаточно умен, чтобы
понимать это.
-- Я не хочу сходить с "Наксоса", -- сказал Рейвен, -- мне нравится
здесь. Я хочу стать матросом, когда вырасту.
-- Не глупи, -- сказала ему Ривка, -- мы направляемся в Палестину, в
Святую Землю. Ты понимаешь? В течение сотен и сотен лет здесь было очень
мало евреев, и вот теперь мы возвращаемся. Мы даже можем попасть в
Иерусалим. "На следующий год -- в Иерусалиме" -- желают друг другу люди в
святые дни. А мы попадем туда на самом деле, ты это понимаешь?
Рейвен кивнул, широко раскрыв глаза. Несмотря на тяготы переездов, они
сумели объяснить ему, что значит быть евреем и какое чудо стоит за словом
"Иерусалим". Для Мойше это слово было волшебным. Он и не представлял себе,
что его долгое путешествие закончится в Палестине, пусть даже его привезли
сюда, чтобы помочь англичанам, которым нет дела до его религии.
Ривка продолжила чтение. Мойше прошел на нос судна и стал рассматривать
приближающуюся Хайфу. Город начинался от самого моря, поднимаясь по склонам
горы Кармель. Даже зимой, в холода средиземноморское солнце светило гораздо
ярче, чем он привык видеть в Варшаве и в Лондоне. Большинство домов, которые
он видел, были ярко-белыми, в этом пронзительном солнечном свете они
сверкали, словно облитые серебром.
Между домами виднелись группы невысоких густых деревьев с серо-зеленой
листвой. Таких он раньше никогда не видел. Когда подошел капитан
Маврокордато, он спросил его, что это за деревья.
-- Разве вы не знаете олив? -- воскликнул он.
-- В Польше не растут оливы, -- извиняющимся тоном ответил Мойше, -- и
в Англии тоже.
Гавань тем временем приближалась. На пирсе было много людей в длинных
одеждах -- в белых или в ярких полосатых -- и с платками на головах. Арабы,
спустя мгновение понял Мойше. Неизмеримо далекая от всего, с чем он вырос,
реальность обрушилась на него, словно удар дубины.
На других людях была более привычная одежда: мешковатые штаны, рубахи с
длинными рукавами, иногда пальто; вместо арабских платков -- кепки или
поношенные шляпы. Особняком держалась группа людей в хаки, знакомом Мойше по
Англии: британские военные.
Маврокордато, должно быть, их тоже увидел, потому что направил "Наксос"
именно к тому пирсу, на котором они стояли. Черные клубы угольного дыма,
поднимавшиеся из труб старого судна, постепенно сошли на нет, судно плавно
подошло к причалу. Матросы с помощью докеров на берегу быстро пришвартовали
"Наксос", бросили сходни с причала на судно. Услышав стук, Мойше осознал,
что может сойти на берег Израиля, земли, с которой его праотцы были изгнаны
две тысячи лет назад. От благоговения волосы на затылке встали дыбом.
Ривка и Рейвен вышли на палубу. Жена Мойше тащила мешок, еще один мешок
нес на плече матрос.
Мойше взял у него вещи со словами:
-- Evkharisto poly -- благодарю вас.
Почти единственная фраза на греческом, выученная им за время долгого
нервного путешествия по Средиземному морю, оказалась полезной.
-- Parakalo, -- ответил, улыбаясь, матрос, -- добро пожаловать.
Англичане в военной форме двинулись к "Наксосу".
-- Мне можно... нам можно... подойти к ним? -- спросил Мойше
Маврокордато.
-- Идите вперед, -- ответил капитан, -- я тоже пойду. Для верности. Они
должны мне заплатить.
Ноги Мойше застучали по доскам причала. Ривка и Рей-вен держались
вплотную к нему. Последним шел Маврокордато. Мойше сделал последний шаг.
Теперь он покинул судно и находился на Земле -- пусть это всего-навсего порт
-- Обетованной. Ему хотелось встать на колени и поцеловать грязное, с
пятнами креозота дерево досок.
Но он не успел. Один из англичан заговорил:
-- Вы, должно быть, мистер Русецкий? Я -- полковник Истер, ваш
посредник здесь. Мы свяжемся с вашими соотечественниками при первой
возможности. Ситуация здесь несколько осложнилась, поэтому ваша помощь будет
очень полезной. Совместные действия в одном и том же направлении увеличат
наши шансы на успех, вы согласны?
-- Я сделаю все, что смогу, -- медленно, с акцентом ответил Мойше
по-английски.
Он без всякой радости изучал Истера: тот явно воспринимал еврея как
некий инструмент, только и всего. Как и ящеры. Лучше иметь дело с
англичанами, чем с чужаками, но все равно ему претило быть инструментом в
чьих-то руках.
В сторонке другой британский офицер передал Панайотису Маврокордато
несколько аккуратно обвязанных столбиков золотых соверенов. Грек расцвел в
улыбке. Вот он точно не считал Мойше инструментом, для него пассажир
представлял собой продовольственную карточку, и капитан этого не скрывал. На
фоне лицемерия Истера его честность была, пожалуй, привлекательней.
Англичанин сказал:
-- Пройдемте со мной, мистер Русецкий, вы и ваша семья, у входа в доки
нас ожидает повозка. Сожалею, что мы не можем предложить вам автомобиль --
сейчас у нас очень плохо с бензином.
Бензина недоставало во всем мире. Странно, что полковник Истер
озаботился вежливым объяснением отсутствия топлива. Даже элементарную
вежливость он игнорировал: ни он, ни один из его подчиненных не сделал ни
малейшего движения, чтобы взять мешки у Мойше и Ривки. Беспокоиться об
удобствах для гостей? Но ведь это просто инструмент -- что о нем
беспокоиться?
Повозка оказалась окрашенным в черный цвет старинным английским
экипажем, который, наверно, хранили в вате и фольге в течение двух
поколений.
-- Мы отвезем вас в казарму, -- сказал Истер, забираясь в экипаж вместе
с семьей Русецких и рядовым солдатом, который взял в руки вожжи. Остальные
офицеры уселись в другую, очень похожую повозку. -- Там вас накормят, а
затем посмотрим, как вас разместить, -- продолжил Истер.
Если бы они думали не только о том, как его использовать, то квартиру
подготовили бы заранее. Хорошо хоть вспомнили, что инструменту требуется
пища и вода. А вот помнят ли они, что ему нельзя предлагать ветчину?
Солдат-кучер щелкнул вожжами и прикрикнул на лошадей. Экипаж с грохотом
покатил из портового района.
Широко раскрытыми глазами Мойше рассматривал пальмы, похожие на
гигантские метелки из перьев; беленые здания, построенные из земляных
кирпичей; мечеть, мимо которой они проезжали. Арабы-мужчины в длинных
одеждах, которые он уже видел в порту, и арабские женщины, закутанные так,
что видны были только их глаза, руки и ступни ног, глазели на экипажи,
ехавшие по узким извилистым улочкам. Мойше чувствовал себя как чужак, хотя
его собственный народ произошел из этих мест. А вот полковник Истер,
казалось, ничуть не сомневался в том, что управление этой страной ему
доверил сам Господь Бог.
Неожиданно здания расступились, образуя рыночную площадь. И Мойше
моментально избавился от ощущения своей чужеродности и почувствовал себя
дома. Ни одна деталь на этом рынке не была похожа на то, что он знал по
Варшаве: ни одежды продавцов и покупателей, ни язык, которым они
пользовались, ни фрукты, овощи и безделушки, которые они продавали и
покупали. Но общий тон, атмосфера, то, как они торговались, словно
возвращали его назад, в Польшу.
Ривка тоже улыбалась: очевидно, сходство рынков поразило и ее. И при
более внимательном рассмотрении Мойше обнаружил, что не все мужчины и
женщины на рынке были арабами. Были и евреи, большей частью в рабочей или
просто длинной одежде, которая, однако, была более открытой, чем одеяния, в
которые кутались арабские женщины.
Пара евреев с медными подсвечниками в руках прошли совсем рядом с
экипажем. Они говорили громко и оживленно. Улыбка Ривки исчезла.
-- Я не понимаю их, -- сказала она.
-- Они говорят на иврите, а не на идиш, -- объяснил Мойше и слегка
вздрогнул.
Сам он смог разобрать только несколько слов. Учить иврит в молитвах и
по-настоящему говорить на нем -- это совершенно разные вещи. Ему понадобится
многому научиться здесь. Как скоро он сможет управиться?
Они миновали рынок. Дома и лавки снова придвинулись вплотную. На
перекрестках больших улиц движением управляли британские солдаты -- точнее,
пытались делать это: арабы и евреи в Хайфе не склонны были подчиняться
командам, как послушное население Лондона.
Через пару кварталов дорога начала петлять. Невысокий молодой парень в
рубашке с короткими рукавами и в брюках хаки выскочил вперед перед экипажем,
в котором ехала семья Русецких. Он направил пистолет в лидо кучера.
-- Теперь вы сойдете, -- сказал он по-английски с сильным акцентом.
Полковник Истер потянулся к оружию. Молодой человек обвел взглядом
крыши по обе стороны дороги. С десяток мужчин, вооруженных винтовками и
автоматами, -- у большинства лица были скрыты под платками -- взяли на
прицел оба экипажа, направлявшихся к британским казармам.
Очень медленно и осторожно Истер убрал руку.
Самоуверенный молодой человек, появившийся первым, улыбнулся, словно
это был рядовой случай, а не что-то из ряда вон выходящее.
-- Ах, как это хорошо, это очень хорошо, -- сказал он. -- Вы очень
понятливый человек, полковник.
-- В чем же смысл этой... этой дурацкой дерзости? -- потребовал ответа
Истер. Судя по его тону, имей он хоть малейший шанс на успех, он принял бы
бой.
-- Мы освобождаем вас от ваших гостей, -- ответил нападавший.
Он отвел взгляд от англичанина, посмотрел на Мойше и заговорил на идиш:
-- Вы и ваша семья, выходите из экипажа и пойдемте со мной.
-- Почему? -- спросил Мойше на том же языке. -- Если вы именно тот, за
кого я вас принимаю, то я в любом случае стал бы говорить с вами.
-- Да, и сказали бы нам то, что хотят британцы, -- ответил парень с
пистолетом. -- Теперь выходите -- я не собираюсь спорить с вами целый день.
Мойше вылез из повозки, помог спуститься жене и сыну. Размахивая
пистолетом, налетчик повел их через ближайшие ворота во двор, где было еще
двое вооруженных людей. Один из них отложил винтовку и завязал глаза всем
Русецким.
Когда он завязывал глаза Мойше, он заговорил на иврите -- совсем
короткое предложение, смысл которого дошел до Мойше спустя мгновение.
Примерно то же самое сказал бы в такой ситуации он сам:
-- Отличная работа, Менахем.
-- Спасибо, но не надо болтовни, -- ответил налетчик. Значит, он и был
Менахемом. Он легонько толкнул Мойше в спину, а кто-то другой подхватил его
под локоть.
-- Двигайтесь.
Не имея выбора, Русецкий повиновался.
* * *
Большие Уроды толкали тележки с боеприпасами к истребителю Теэрца.
Большинство из них относились к темно-коричневой разновидности тосевитов --
в отличие от розово-смуглого типа. Темно-коричневые тосевиты в этой части
малой континентальной массы были более склонны к сотрудничеству с Расой, чем
те, что посветлее. Насколько знал бывший командир полета, светлокожие
обращались с темнокожими настолько плохо, что правление Расы по сравнению с
этим должно было показаться благом.
Его пасть открылась от удивления. Раньше он думал: Большой Урод -- это
Большой Урод, и этим все сказано. А сами тосевиты, видимо, смотрели на
проблему иначе.
Эти тосевиты сняли с себя туники, закрывавшие верхнюю часть тел.
Используемая в обмене веществ вода, охлаждающая их тела, блестела на их
шкурах. Судя по всему, им было жарко.
Для Теэрца температура была вполне подходящей, а вот влажность воздуха
-- излишне велика. Но это единственное, что смущало его в здешнем климате,
во Флориде. Ему довелось провести зимы в Маньчжурии и Японии, по сравнению с
которыми Флорида казалась чудесной.
Двое самцов, обслуживавших истребитель Теэрца, начали загружать его.
-- Как, только две ракеты "воздух -- воздух"? -- сердито спросил он.
-- Будьте благодарны за то, что вы получили две, господин, -- ответил
старший -- плотный самец по имени Уммфак.
Хотя формально обслуга истребителей подчинялась пилотам, те, кто был
поумнее, обращались с Уммфаком и его коллегами как с равными -- за что и
получали лучшие боеприпасы.
-- Очень скоро, -- продолжил Уммфак, -- не останется ничего, кроме
пушечных снарядов, так что мы и Большие Уроды будем сражаться в ближнем бою.
-- Неприятная мысль, -- сказал Теэрц и вздохнул. -- Но вы, вероятно,
правы. Похоже, теперь боевые действия пойдут именно так. -- Он постучал по
обшивке фюзеляжа истребителя. -- Слава Императору, что мы все еще летаем на
более совершенных машинах.
-- Вы совершенно правы, -- сказал Уммфак. -- Но даже они нуждаются в
запасных частях...
Теэрц забрался в кабину и уютно свернулся на бронированном мягком
сиденье, как будто был детенышем, свернувшимся внутри яйца. Он не хотел
думать о проблеме запасных частей. Большие Уроды уже начали летать на
машинах, гораздо более опасных для его истребителя, чем те, которыми они
располагали, когда Раса впервые высадилась на Тосев-3.
Он снова с горечью рассмеялся. Считалось, что у Больших Уродов вообще
нет никаких самолетов. Считалось, что они -- варвары дотехнологической эры.
Насколько он знал, они действительно были варварами: вряд ли хоть один
самец, побывавший в японском плену, стал бы с этим спорить. А вот
дотехнологическая эра на поверку оказалась совсем другой.
Он пробежал глазами полетный лист. Все было, как положено. Он сунул
коготь в пространство между незакрепленным куском обивки и внутренней
стенкой кабины. Сосуд с имбирем никто не обнаружил. Это хорошо. Японцы
приучили его к этому снадобью, когда он был в плену.
Сбежав, он обнаружил, что многие его сотоварищи попробовали имбирь по
собственному желанию.
Он вызвал местного командира полетов и получил разрешение на взлет.
Турбины истребителя проснулись и взревели. Вибрация и шум вызвали приятное и
знакомое ощущение.
Он вырулил на взлетную полосу, затем круто взлетел -- ускорение сильно
вдавило его в сиденье. Горизонт перед ним чудесно раздвинулся, как всегда
бывает при взлете. Это расширение радовало его здесь меньше, чем при полетах
на других базах, потому что в глаза сразу же бросились руины Майами.
Теэрц летел над Флоридой, когда под ним расцвело жуткое облако взрыва.
Будь он чуточку поближе, огненный шар задел бы и его. Взрыв мог повредить
истребитель или же бросить в штопор, из которого он бы не вышел.
Командир полета издал тревожное шипение. Рука сама начала искать
маленький пластиковый сосуд с порошком имбиря. Когда Теэрца перебросили на
малую континентальную массу, он забеспокоился, сможет ли он добыть здесь
снадобье, которого так страстно желал. Но на базе во Флориде многие самцы
использовали имбирь, а темнокожие Большие Уроды, которые работали на Расу,
казалось, обладали неистощимым запасом порошка. Они даже просили за него
немного -- обычные безделушки, мелкие электронные штучки, которые он легко
доставал, чтобы обменивать на наслаждение, приносимое имбирем.
Но...
-- Сейчас не буду, -- сказал он и убрал руку.
Конечно, после имбиря он почувствует себя великолепно, но снадобье все
же затуманивает сознание. Стычки с Большими Уродами перестали быть легкими и
безопасными, как когда-то. Излишняя самоуверенность теперь все чаще
кончается занесением имени на мемориальную пластину, которая хранит память о
самцах, погибших во имя присоединения Тосев-3 к Империи.
В столицах Работев-2 и Халесс-1 тоже были такие пластины, он сам видел
их голограммы перед отлетом. На той, что хранилась на Халесс-1, было всего
несколько имен, на Работев-2 -- несколько сотен. Теэрц был уверен, что Раса
воздвигнет мемориальную пластину и на Тосев-3 -- раз уж так сделано в других
завоеванных мирах. Если не поддерживать традиции, то какой смысл в
цивилизации?
Но мемориальные пластины на Тосев-3 будут слишком большими.
-- Мы сможем возвести пластины, а затем построить столицу внутри них,
-- сказал Теэрц.
Его рот сам собой открылся: видение было ужасным, но в то же время и
забавным. Мемориальные пластины, увековечившие память героев, павших при
завоевании Тосев-3, будут содержать множество имен.
Теэрц пролетел над предписанным участком малой континентальной массы на
север и на запад. Значительная часть этой территории все еще оставалась в
руках Больших Уродов. Частенько зенитный огонь оставлял в воздухе грязные
пятна черного дыма ниже и позади него. Об этом он не беспокоился -- он летел
на слишком большой высоте, где зенитки тосевитов не могли достать его.
Одним глазом он настороженно следил за радиолокационным изображением на
экране. Разведка сообщала, что американцы отставали от британцев и немцев в
области реактивной авиации, кроме того, они обычно использовали свои
поршневые машины для атак по наземным частям, но никогда нельзя быть
уверенным... и разведка вовсе не такая всеведущая, как принято считать. Еще
один болезненный урок, который Раса получила на Тосев-3.
На вершинах здесь и там пятнами лежал снег. Насколько знал Теэрц,
именно поэтому Большие Уроды до сих пор удерживали эту часть своего мира. Но
если оставить им все местности, где падает снег, в конечном счете у вас
останется слишком мало земли, которую можно назвать своей.
Он подлетел поближе к большой реке, которая текла с севера на юг через
середину северной половины малой континентальной массы. Большую часть
территории вдоль реки контролировала Раса. Если с его машиной что-то
произойдет, он сможет найти убежище.
Большая река отмечала западную границу области патрулирования. Он уже
собирался развернуться назад к Флориде, которая, какой бы влажной ни была,
по крайней мере позволяла наслаждаться умеренным климатом. Внезапно радар
переднего обзора обнаружил новую угрозу.
Неизвестный объект отделился от земли и быстро развил скорость большую,
чем скорость истребителя Теэрца. Теэрц даже подумал: не испортилось ли
что-нибудь в радаре? И есть ли на базе запчасти, чтобы починить его?
Затем мысли приняли другое направление. Это не был самолет типа
ракетного истребителя, который начали использовать немцы. Это была очень
плохая ракета, управляемый снаряд. У немцев такие были, но Теэрц не знал,
что они есть и у американцев. По его данным, вряд ли знала об этом и
разведка.
Он включил радиопередатчик:
-- Командир полета Теэрц вызывает разведку базы во Флориде.
Спутниковая связь соединила его с вызываемым так быстро, словно он
находился в соседней комнате.
-- Разведка, база Флориды, говорит Ааатос. Ваше сообщение, командир
полета Теэрц?
Теэрц подробно доложил о том, что засек радар, затем сказал:
-- Если хотите, у меня достаточно топлива, чтобы добраться до стартовой
площадки, нанести удар по пусковой установке или по другим тосевитским
сооружениям, которые я увижу, и затем вернуться на базу.
-- Вы инициативный самец, -- сказал Ааатос.
Для Расы эта фраза не обязательно означала комплимент, хотя Теэрцу
хотелось воспринимать это именно так. Ааатос продолжил:
-- Пожалуйста, подождите, пока я посоветуюсь со своими руководителями.
Теэрц ждал, хотя каждое следующее мгновение повышало вероятность того,
что ему придется заправляться в воздухе. Но Ааатос исчез ненадолго:
-- Командир полета Теэрц, вам разрешен удар по тосевитским сооружениям.
Накажите Больших Уродов за их наглость.
-- Будет исполнено, -- сказал Теэрц.
Компьютер на борту истребителя зафиксировал место, где радар впервые
засек управляемый снаряд. Он связался с картографическими спутниками,
которые Раса запустила на орбиту Тосев-3, и проложил Теэрцу курс к стартовой
площадке.
Он знал, что у Расы отчаянно не хватает антиракетных снарядов. Они
истратили множество их против ракет, которые запускали немцы в Польше и во
Франции. Теэрц не представлял себе, сколько их осталось -- если они вообще
остались, -- но ему не требовалась раскраска тела командующего флотом, чтобы
сообразить: если Раса должна будет использовать их здесь, в Соединенных
Штатах, оставшиеся резервы исчезнут еще быстрее.
Он полетел низко над лесом, западнее большой реки -- и дальше над
поляной, откуда, если не врут его приборы, американский управляемый снаряд
начал свой полет. Вскоре он обнаружил на поляне выжженный участок мертвой
травы. И это все, что он нашел. Пусковая установка -- или что там
использовали Большие Уроды, возможно, направляющие рельсы -- уже была
спрятана под кронами деревьев.
Имей он неограниченное количество боеприпасов, он обстрелял бы все
пространство вокруг поляны. Но сейчас... Он доложился на базу во Флориде.
Ответил Ааатос:
-- Возвращайтесь сюда для полного доклада, командир полета Теэрц. Мы
найдем другие возможности заставить Больших Уродов заплатить.
-- Возвращаюсь на базу, -- подтвердил Теэрц.
Если американские тосевиты начнут использовать управляемые снаряды, у
Расы в будущем появится множество шансов нанести удар по их установкам. Имел
ли в виду Ааатос именно это, Теэрц не знал.
* * *
Высоко подняв белый флаг перемирия, Джордж Бэгнолл вышел на поляну в
сосновом лесу, к югу от Пскова. Снег похрустывал под его валенками. Огромные
шлепающие боты напомнили ему веллингтоновские сапоги, но только сделанные из
фетра; при всем своем уродстве они чудесно защищали ноги от холода. Что
касается тела, то на нем был кожаный, на меху комбинезон королевских ВВС.
На дальней стороне поляны появился ящер. Инопланетянин также нес белую
тряпку, привязанную к палке. На нем тоже были валенки, несомненно, снятые с
мертвого русского солдата. Несмотря на валенки, несмотря на множество слоев
одежды под шинелью вермахта, сидевшей на ящере, как палатка, существо
выглядело страшно замерзшим.
-- Говорите ли вы по-русски? -- произнесло оно с шипящим акцентом. --
Или же по-немецки?
-- По-немецки я говорю лучше, -- ответил Бэгнолл. Затем решил проверить
наудачу: -- Вы говорите по-английски?
-- Не понимаю, -- сказал ящер и перешел на немецкий. -- Мое имя --
Никеаа. Мне предоставлено право вести переговоры от имени Расы.
Бэгнолл назвал себя.
-- Я -- инженер британских королевских воздушных сил. Мне поручено
вести переговоры ради немецких и советских солдат, защищающих Псков и его
окрестности.
-- Я думал, что британцы далеко отсюда, -- сказал Никеаа, -- но, может
быть, я не так хорошо знаю тосевитскую географию, как мне казалось.
Что имелось в виду под словом "тосевитская", стало ясно из дальнейшего.
-- Британия не так близко от Пскова, -- согласился Бэгнолл. -- Но
большинство человеческих стран объединилось против вашего рода, и поэтому я
здесь.
"И как бы я хотел оказаться в любом другом месте!"
Его бомбардировщик доставил сюда радиолокационную станцию и
специалиста, который должен был объяснить русским, как с ней работать, но
почти сразу после посадки самолет разбомбили, и пилот не смог вернуться в
Англию. Он и его товарищи находились здесь уже год. И хотя они нашли себе
дело -- стали посредниками между красными и нацистами, которые по-прежнему
ненавидели друг друга не меньше, чем ящеров, -- это было занятие, с которым
хотелось покончить как можно скорее.
Никеаа сказал:
-- Очень хорошо. Вы имеете полномочия. Вы можете говорить. Ваши
командиры попросили об этом перемирии. Мы согласились в данный момент, чтобы
узнать причины этой просьбы. Вы мне скажете это немедленно.
Немецкое слово "зофорт" ("немедленно") прозвучало как длинное
угрожающее шипение.
-- За долгое время боев здесь мы захватили пленных, -- ответил Бэгнолл.
-- Некоторые из них ранены. Мы делали для них все, что могли, но ваши
доктора лучше знают, что делать и как обращаться с ними.
-- Истинно так, -- сказал Никеаа.
Он двинул головой вверх и вниз, изображая кивок. В первое мгновение
Бэгнолл воспринял жест как естественный. Затем он сообразил, что ящер
научился этому движению вместе с немецким и русским языками. Его уважение к
образованию Никеаа приподнялось на ступеньку.
То, что он сказал ящеру, было, несомненно, правдой. Насколько он знал,
военные в Пскове относились к пленным ящерам гораздо лучше, чем немцы к
пленным русским, и наоборот. Ящеров было трудно захватить в плен, и они
представляли собой большую ценность. Нацисты и красные соперничали из-за
них.
-- Что вы хотите в обмен на возврат этих раненых самцов Расе? --
спросил Никеаа и издал странный кашляющий звук, видимо, пришедший из его
собственного языка. -- У нас тоже есть пленные немцы и русские. У нас нет
здесь британцев. Мы не причиняем вреда этим пленным после того, как
захватываем их. Мы отдадим их вам. Мы отдадим их десять к одному, если вы
согласны.
-- Этого недостаточно, -- сказал Бэгнолл.
-- Тогда мы отдадим двадцать за одного, -- сказал Никеаа.
Бэгнолл слышал от тех, кто имел дело с ящерами, что чужаки не умеют
торговаться. Теперь он сам убедился в этом. Люди на переговорах так легко не
соглашаются.
-- Этого все еще недостаточно, -- сказал он. -- Кроме солдат, мы хотим
получить сотню ваших книг или фильмов и две машины для просмотра фильмов
вместе с работающими батареями для них.
Никеаа в тревоге отшатнулся.
-- Вы хотите, чтобы мы раскрыли вам свои секреты? -- Он снова издал тот
же кашляющий звук. -- Этого не будет.
-- Нет-нет, вы неправильно поняли, -- поспешно сказал Бэгнолл. -- Мы
знаем, что вы не передадите нам никаких военных руководств или чего-то
подобного. Мы хотим получить ваши романы, ваши рассказы, научные труды,
которые не научат нас создавать оружие. Дайте нам это, и мы будем довольны.
-- Если вы не сможете использовать их немедленно, зачем они вам?
Человеку трудно истолковать интонации ящера, но Бэгнолл подумал, что в
голосе Никеаа чувствовалась подозрительность. Чужак продолжил:
-- Обычно тосевиты ведут себя не так.
Да, он был подозрительным.
-- Мы хотим больше узнать о вашем роде, -- ответил Бэгнолл. -- Эта
война непременно кончится, и тогда ваш и мой народы будут жить бок о бок.
-- Да. Вы будете подвластными нам, -- сухо ответил Никеаа.
Бэгнолл покачал головой.
-- Не обязательно. Если бы ваше завоевание было таким легким, как вы
думали, сейчас оно уже закончилось бы. Вам придется обращаться с нами почти
как с равными, по крайней мере -- до окончания войны, а может быть, и после
нее. Так же, как нам с вами. Я знаю, что вы изучали нас долгое время. А мы
только начинаем изучать вас.
-- У меня нет полномочий решить такой вопрос самостоятельно, -- ответил
Никеаа. -- К этому требованию мы не готовы, и поэтому я должен
проконсультироваться со своими начальниками, прежде чем ответить.
-- Раз вы должны, значит, так надо, -- сказал Бэгнолл.
Он уже замечал -- и не только он один, -- что ящеры не способны
принимать быстрые решения.
Он попытался голосом выразить разочарование, хотя и сомневался, что
Никеаа поймет его интонации. Требование было непростым. Если ящеры передадут
книги, фильмы и читающие устройства, половина добычи отправится в Москву, а
вторая -- в... нет, не в Берлин, он разрушен, в какой-то другой немецкий
город. Половина достанется НКВД, половина -- гестапо. Бэгнолл жаждал победы
человечества над ящерами, но временами его пугал энтузиазм, проявленный
нацистами и большевиками, пожелавшими помочь англичанам и американцам в
изучении завоевателей. Он видел, как действуют люди Гитлера и Сталина, и это
чаще ужасало его, чем удивляло.
Никеаа сказал:
-- Я доложу ваши условия и сообщу ответ, когда мои начальники решат,
каким он должен быть. Может быть, нам следует встретиться через пятнадцать
дней? Я надеюсь, что к этому времени будет выработано решение.
-- Я не ожидал такого длительного срока, -- сказал Бэгнолл.
-- Не следует принимать поспешных решений, особенно таких важных, --
сказал Никеаа.
Было ли это упреком? Бэгнолл терялся в догадках. Ящер добавил:
-- Мы ведь не тосевиты, чтобы мчаться сломя голову. Да, это упрек. Или
просто пренебрежение.
-- Пусть через пятнадцать дней, -- сказал Бэгнолл и направился в лес,
где его ожидал эскорт -- смешанный, состоящий из двух групп, русской и
немецкой.
Бэгнолл обернулся -- Никеаа спешил к своим. От выдоха Бэгнолла
образовалось облачко тумана. Для пилота Кена Эмбри и специалиста по радарным
установкам Джерома Джоунза "свои" остались слишком далеко от Пскова.
Капитан Мартин Борк держал лошадь Бэгнолла. Этот служащий вермахта
бегло говорил по-английски; Бэгнолл думал, что он связан с разведкой, но не
был уверен в этом. Борк спросил по-английски:
-- Удалось договориться об обмене?
Очевидно, он ожидал ответа на этом же языке, которого русские не знали.
Удерживать союзников от того, чтобы они не вцепились друг другу в горло,
было непростым делом. И Бэгнолл ответил на немецком, который многие в
Красной Армии понимали:
-- Нет, мы не договорились. Ящерам надо поговорить со своим
начальством, прежде чем они решат, давать нам книги или нет.
Русские восприняли это как должное. В их понимании выйти хотя бы на
дюйм за пределы приказа было опасно. Если все кончится провалом, вся вина
ляжет на тебя. Борк презрительно фыркнул -- в вермахте приветствовалась
большая инициатива.
-- Что же, ничего не поделаешь, -- сказал он, повторив затем по-русски:
-- _Ничево_.
-- _Ничево, да_, -- сказал Бэгнолл и вскочил на лошадь.
Ехать верхом было не так приятно, как в теплом автомобиле, но хотя бы
ноги и бедра не мерзли. До Пскова он ездил на лошади всего раз пять. Теперь
он чувствовал себя готовым участвовать в скачках. Разумом он понимал, что до
дерби ему еще далеко, но успехи в освоении верховой езды поощряли его
воображение.
Переночевав в холодном лагере, к полудню он вернулся в Псков и сразу
направился в Кром, средневековый каменный замок, чтобы доложить о задержке
генерал-лейтенанту Курту Шиллу и командирам партизан Николаю Васильеву и
Александру Герману, совместно управлявшим в городе. Среди офицеров, как он и
ожидал, находился и Кен Эмбри. Служащий королевских ВВС, относительно
беспристрастный, он играл роль смазки между офицерами вермахта и Красной
Армии.
После доклада Бэгнолл и Эмбри направились в деревянный домик, в котором
они жили вместе с Джеромом Джоунзом. Когда они подошли поближе, то услышали
грохот бьющейся посуды и громкие сердитые голоса двух мужчин и женщины.
-- О, черт, это же Татьяна! -- воскликнул Кен Эмбри.
-- Точно, -- сказал Бэгнолл.
Они перешли на бег. Тяжело дыша, Бэгнолл добавил:
-- Какого черта она не оставляет в покое Джоунза после того, как
переключилась на этого немца?
-- Потому что так было бы удобнее для всех, -- ответил Эмбри.
Со времени, когда Эмбри был пилотом, а Бэгнолл бортинженером
"ланкастера", они постоянно состязались в цинизме и остроумии. На этот раз
верх одержал Эмбри.
Бэгнолл, однако, был лучшим бегуном и на пару шагов опередил товарища.
Он охотно отказался бы от этой победы. Но, раз уж так случилось, он
распахнул дверь и ринулся внутрь -- и Эмбри вместе с ним.
Георг Шульц и Джером Джоунз стояли лицом к лицу и кричали друг на
друга. Татьяна Пирогова собиралась швырнуть тарелку. Судя по осколкам,
предыдущая попала в Джоунза, и это не означало, что следующая не полетит в
голову Шульца. Бэгнолла порадовало, что Татьяна бросается посудой, вместо
того чтобы снять с плеча снайперскую винтовку Мосина-Нагана с оптическим
прицелом [Никогда так не называлась. Просто Наган, уступив в конкурсе на
новое оружие для российской армии русскому оружейнику Мосину, поднял
скандал, утверждая, что тот украл у него схему винтовки. Несколько судов,
разбиравших это дело, признали неправоту бельгийца -- что не мешает западным
авторам называть знаменитую трехлинейку "винтовкой Мосина-Нагана". Они
действительно похожи внешне, "мосинка" и "наган", но имеют существенные
конструктивные отличия -- большие, чем, скажем, "наган" и "маузер".
Косвенным, но убедительным доказательством заслуг Мосина является то, что
винтовка Нагана так и не была принята на вооружение ни в одной стране,
включая его родную Бельгию, а винтовка Мосина заслуженно считается одной из
лучших в мире по боевым качествам и абсолютно уникальной -- по
эксплуатационным. -- Прим. ред.].
Она была поразительной женщиной: светловолосая, голубоглазая, прекрасно
сложенная -- в общем, если лицо и тело для вас главное, лучшего и не найти.
Не так давно она начала обхаживать Бэгнолла, и ее любовная связь с Джоунзом
была не единственной причиной, по которой он отклонил ее притязания. Лечь с
ней в постель -- все равно что с самкой леопарда: процесс забавный, но
позволить себе повернуться к ней спиной никак нельзя.
-- А ну заткнитесь, -- закричал он вначале по-английски, затем
по-немецки и наконец по-русски.
Трое спорщиков и не подумали утихомириться, вместо этого они начали
орать на вошедшего. Он подумал, что прекрасная Татьяна швырнет тарелку в
него, но она этого не сделала.
Хороший знак, подумал он. И хорошо, что теперь они кричат на него.
Поскольку он, слава богу, не спал ни с кем из троих, возможно, ссора станет
менее острой.
За его спиной подал голос Кен Эмбри:
-- Что за чертовщина здесь творится?
Он сказал это на той же смеси русского и немецкого, которой пользовался
при переговорах генерал-лейтенанта Шилла с командирами русских партизанских
отрядов. Их споры тоже частенько доходили чуть ли не до драки.
-- Этот ублюдок продолжает спать с моей женщиной! -- кричал Георг
Шульц, тыкая пальцем в Джерома Джоунза.
-- Я -- не твоя женщина! Я отдаю свое тело, кому захочу! -- так же
горячо кричала Татьяна.
-- Да не нужно мне твое тело! -- вопил Джером Джоунз на сносном русском
языке: он учил этот язык в студенческие годы в Кембридже.
В свои двадцать с лишним лет он был худощавым парнем с умным лицом,
ростом почти с Шульца, но далеко не такого плотного телосложения.
-- Христос и все святые! Сколько раз я тебе должен это повторять!
Его живописная клятва Татьяну ни в чем не убедила. Вышло только хуже.
Она плюнула на пол:
-- Вот тебе Христос и все святые! Я -- советская женщина, свободная от
суеверий и чепухи. И если я захочу тебя, человечек, то ты будешь мой.
-- А как же я? -- спросил Шульц -- как и остальные, во всю мощь своих
легких.
-- Здесь быть посредником приятнее, чем в генеральских ссорах, --
тихонько сказал Бэгнолл Кену Эмбри.
Эмбри кивнул, затем бесстыдно улыбнулся.
-- Интереснее слушать, не так ли?
-- ...спала с тобой, -- отвечала Татьяна, -- так что нечего жаловаться.
И сейчас это делаю, хотя последний раз, когда ты лег на меня, ты назвал меня
"Людмила"!
-- Я? -- сказал Шульц. -- Да в жизни...
-- Было, -- сказала Татьяна с такой уверенностью, что спорить было
бессмысленно, -- и с очевидной злобной радостью. -- Ты все мечтаешь об этой
мяконькой советской летчице, по которой сохнешь, как щенок с высунутым
языком. А если я подумаю о ком-то еще, у тебя трагедия! Если ты считаешь,
что я плохо обращаюсь с твоим петухом, он может убираться к черту.
Она повернулась к Джоунзу, слегка качнув бедрами, и облизала губы.
Бэгнолл не мог видеть, что она делает, но это не означало, что он был
невосприимчив к этому. Так же, как и Джером. Он сделал полшага к Татьяне,
затем с заметным усилием остановился.
-- Нет, черт возьми! -- закричал он. -- Вот так я и влип в первый раз.
Он замолчал, взгляд его был задумчивым. Затем он перевел разговор на
другую тему.
-- Я не видел Людмилу несколько дней. Она еще не вернулась из
последнего полета, да?
-- Да, -- ответил Шульц и покивал головой, -- она улетела в Ригу и
должна вскоре вернуться.
-- Не обязательно, -- сказал Бэгнолл, -- генерал Шилл получил ответ на
послание, которое доставляла она, и сказал, что комендант Риги
воспользовался преимуществами ее легкого самолета для какого-то своего дела.
Ему было трудно сохранить невозмутимое выражение лица: Людмила
Горбунова серьезно интересовала его, хотя и без взаимности.
-- А, это хорошо, это очень хорошо, -- сказал Шульц, -- я не слышал об
этом.
Татьяна попыталась разбить тарелку об его голову, но он был проворен и
успел отбить удар. Тарелка пролетела через комнату, грохнулась о деревянную
стену и разбилась. Татьяна обругала его по-русски и на ломаном немецком.
Высказав все и кое-что повторив, она прокричала:
-- Раз никому до меня дела нет, идите вы все к чертовой матери!
Выскочив из дома, она хлопнула дверью. Соседи могли бы подумать, что в
дом попал артиллерийский снаряд.
И тут Георг Шульц удивил Бэгнолла -- он рассмеялся. А затем эта
деревенщина -- подумать только! -- процитировала Гете:
-- Die ewige Weibliche -- вечная женственность... -- Он покачал
головой. -- Не понимаю, как я попался...
-- Должно быть, любовь, -- невинно предположил Кен Эмбри.
-- Боже упаси! -- Шульц обвел взглядом осколки разбитой посуды. Его
взгляд остановился на Джероме Джоунзе. -- Черт бы побрал вас, англичан.
-- В ваших устах это просто комплимент, -- ответил Джоунз.
Бэгнолл подошел поближе к оператору радара. Если Шульц что-то затеет,
пусть знает, что Джерома одного не оставят.
Но немец только покачал головой, словно медведь, отгоняющий пчел, и
вышел из дома. Он хлопнул дверью не так сильно, как Татьяна, но все же
осколки посуды подпрыгнули на полу. Бэгнолл глубоко вздохнул. Происшедшее
было все же лучше, чем драка, но и забавного в нем не было. Он хлопнул
Джерома Джоунза по спине.
-- Какого дьявола вы спутались с этим ураганом, который ходит в облике
человека?
-- Прекрасная Татьяна? -- теперь Джоунз покачал головой, причем
печально. -- У нее не просто облик человека. У нее облик женщины -- и в этом
вся проблема.
-- И она не хочет бросить вас, несмотря на то, что у нее есть этот
лихой нацист? -- спросил Бэгнолл.
"Лихой" -- в отношении Георга Шульца не совсем подходящее определение.
Больше сгодилось бы "способный", хотя и "опасный" тоже было бы правильно.
-- Это именно так, -- проговорил Джоунз.
-- Почаще посылайте ее подальше, старик, и до нее в конце концов
дойдет, -- посоветовал Бэгнолл. -- Вы ведь хотите избавиться от нее, не так
ли?
-- Большую часть времени -- да, конечно, -- ответил Джоунз. -- Но
временами, когда я... вы понимаете... -- Он обвел взглядом усыпанный
осколками пол и замолчал.
Бэгнолл закончил вместо него:
-- Вы имеете в виду, когда вы возбуждены.
Джоунз печально кивнул. Бэгнолл посмотрел на Кена Эмбри, тот посмотрел
на него. Они дружно застонали.
* * *
Нашествие ящеров превратило в руины сотни городов, но некоторым пошло
на пользу. Например, Ламару, штат Колорадо. Городок в прерии, центр
незначительного графства -- таким он был до нашествия чужаков, теперь он
превратился в центр обороны. Люди и грузы поступали в него, а не из него,
как обычно.
Капитан Ранс Ауэрбах размышлял над этим, наблюдая за кусками баранины,
шипящими на гриле в местном кафе. Топливом служил сухой конский навоз:
вокруг Ламара было немного лесов, мало угля, а природный газ отсутствовал
вовсе. Однако лошадей было множество -- а сам Ауэрбах носил нашивки капитана
кавалерии.
Официантка с мясистыми, как у борца-рекордсмена, руками поставила три
кружки домашнего пива и большое блюдо вареной свеклы. Она мельком взглянула
на баранину.
-- Ух-ух, -- сказала она не только себе, но и Ауэрбаху. -- Рассчитали
почти точно -- будет готово через пару минут.
Ауэрбах подвинул одну кружку вдоль по стойке к Рэйчел Хайнс, которая
сидела слева от него, другую -- Пенни Саммерс, сидевшей справа, и поднял
свою.
-- За гибель ящеров! -- сказал он.
-- К черту их! -- согласилась Пенни и выпила.
Она говорила с сильным среднезападным акцентом и вполне могла сойти за
уроженку Ламара; техасский же протяжный выговор Ауэрбаха незамедлительно
выдавал в нем пришельца. Но и Пенни, и Рэйчел родились не в Ламаре. Ауэрбах
и его люди спасли их обеих из Лакина, штат Канзас, когда его отряд атаковал
базу ящеров.
После секундного колебания Пенни Саммерс повторила, как эхо:
-- За гибель ящеров! -- и тоже отпила пива.
Теперь она все делала тихо и медленно. При побеге из Лакина ее отца
изрубили в куски у нее на глазах. С тех пор она никак не могла опомниться.
Официантка обошла стойку и стала длинной вилкой накладывать куски
баранины на тарелки.
-- Ешьте, люди, -- сказала она. -- Ешьте как следует -- неизвестно,
когда вам снова выпадет такой шанс.
-- Что правда, то правда, -- сказала Рэйчел Хайнс и набросилась на
баранину с ножом и вилкой.
Ее голубые глаза загорелись, когда она проглотила большой кусок. Она
тоже изменилась после побега, но не ушла в себя, как Пенни. Теперь она
носила ту же форму цвета хаки, что и Ауэрбах, только вместо капитанского
значка на ней был один шеврон. Она стала неплохим солдатом, научилась ездить
верхом, стрелять, не слишком много болтала, и остальные кавалеристы отдавали
ей должное тем -- и это было истинным комплиментом, -- что по большей части
относились к ней, как к мальчику.
Она вонзила зубы в мясо, нахмурилась и переложила вилку в левую руку,
чтобы воспользоваться ножом.
-- Как поживает палец? -- спросил Ауэрбах.
Рэйчел посмотрела на свою руку.
-- По-прежнему отсутствует, -- доложила она и протянула руку так, что
он мог рассмотреть промежуток между средним пальцем и мизинцем. -- Этот
сукин сын сделал мне так больно, что я обезумела. Но думаю, что могло быть и
похуже, по-настоящему я не пострадала.
Немногие люди, которых знал Ауэрбах, могли бы говорить о ранении так
безразлично. Если бы Рэйчел родилась парнем, то была бы лучше большинства из
них.
Ауэрбах сказал:
-- Предположительно этот Ларссен перебегал к ящерам с материалом, о
котором они вроде бы не знают. К тому же он убил двух человек. Когда мы его
схватили, то, что он нес, оказалось при нем. Жаль только, что и мы понесли
потери, когда охотились за ним.
-- Интересно, что такое он знал? -- задумалась Рэйчел Хайнс.
Ауэрбах пожал плечами. Его солдаты неоднократно задавали тот же вопрос,
когда получили приказ из Денвера поймать Ларссена. Он не знал ответа и мог
делать только очень приблизительные предположения, которыми не делился с
подчиненными. Некоторое время назад он возглавлял кавалерийский эскорт,
который доставил в Денвер Лесли Гровса, и Гровс перевозил груз -- он не
говорил, что именно, -- с которым обращался бережней, чем со святым Граалем.
Если это не имело отношения к атомным бомбам, которые пару раз сбросили на
ящеров, Ауэрбах был бы очень удивлен.
Пенни Саммерс сказала:
-- Я потратила много времени в молитвах, чтобы все вернулись с задания
целыми. Я делаю это каждый раз.
-- Это не самое худшее из дел, -- сказал Ауэрбах, -- но выходить
наружу, чтобы готовить еду, ухаживать за ранеными или делать еще что-то по
вашему желанию, тоже не вредно.
С тех пор, как Пенни попала в Ламар, она проводила большую часть
времени в маленькой меблированной комнатке перенаселенного жилого дома,
размышляя и перечитывая Библию. Вытащить ее на ужин с бараниной было своего
рода достижением.
По крайней мере, так он думал, пока она не отодвинула тарелку и не
сказала:
-- Я не люблю баранину. У нее странный вкус, и она очень жирная. В
Лакине мы ее почти не ели.
-- Вам надо поесть, -- сказал ей Ауэрбах, зная, что это прозвучало
по-матерински. -- Просто необходимо.
И правда: Пенни была тонкой, как прутик.
-- Эй, это все-таки еда, -- сказала Рэйчел Хайнс. -- Я теперь не
возражаю даже против свеклы. Я просто ем все подряд, я перестала
беспокоиться о диете после того, как надела форму.
Форма сидела на ней так, что армейские бюрократы, которые ее
разработали, могли бы только удивляться. И она вовсе не была полной. Если бы
она не относилась ко всем окружающим совершенно одинаково, то половина людей
в отряде передралась бы за нее. Были моменты, когда сам Ауэрбах боролся с
соблазном. Но даже если бы она и проявила к нему интерес, это создало бы
массу проблем.
Он снова взглянул на Пенни. За нее он тоже считал себя ответственным. А
переживал за нее даже больше. С Рэйчел -- что вы видите, то и есть, он не
мог себе представить, чтобы она что-то скрывала. Что касается Пенни, у него
возникло ощущение, что под ее теперешним несчастьем скрыто нечто иное. Он
пожал плечами. Возможно, опять разыгралось воображение. И не в первый раз.
К его удивлению, она снова взяла тарелку и начала есть, без особой
охоты, но с такой настойчивостью, будто заправляла автомобиль. Он промолчал,
чтобы ничего не испортить.
Рэйчел Хайнс встряхнула головой. Она уложила волосы в короткий пучок,
чтобы он лучше помещался под каской.
-- Сбежать, чтобы передать наши секреты ящерам! Я не могу представить
этого, но это факт. И множество людей в Лакине неплохо относились к ящерам,
как будто они были новыми членами совета графства или что-то в этом роде.
-- Это правда!
Лицо Пенни Саммерс перекосило выражение свирепости и жестокости,
Ауэрбах не видел такого со времени прибытия в Ламар.
-- Джо Бентли из универсального магазина, так вот он подлизывался к ним
из-за своих товаров, и когда Эдна Уилер как-то обозвала их тварями с
вытаращенными глазами, которых только на ярмарке уродов показывать, разве он
не побежал к ним -- так быстро, как только несли ноги? А на следующий день
их с мужем и двумя детьми вышвырнули из дома.
-- Это так, -- кивнула Рэйчел. -- В самом деле так. А Мел Сикскиллер, я
полагаю, не выдержал, что люди все время обзывают его полукровкой, и стал
рассказывать ящерам всякие сказки, и они поверили ему. А у многих потом были
неприятности. Да, некоторые обращались с ним плохо, но вы бы не стали
подлизываться к ящерам из-за личной обиды.
-- А мисс Проктор, учительница домашней экономики в школе? -- сказала
Пенни. -- Как она называла ящеров? "Волна будущего", вот так, словно мы
ничего не должны делать против них -- не важно, каким образом. И потом она
ходила и проверяла, чтобы мы чего-нибудь не натворили.
-- Да, она проверяла, -- сказала Рэйчел. -- И...
Они разговаривали еще пять или десять минут, вспоминая
коллаборационистов маленького родного городка.
Ауэрбах сидел молча, допивая пиво и доедая свою порцию (он не возражал
против баранины, но мог долгое время обходиться без свеклы), и слушал,
слушал. Он никогда не видел Пенни Саммерс такой оживленной, ее тарелка давно
опустела -- похоже, она не замечала, что делает. Жалобы на старых соседей
взбодрили ее кровь, как ничто другое.
Мускулистая официантка подошла к ним.
-- Хотите еще пива или просто хотите посидеть, занимая место?
-- Благодарю, мне еще одну, -- сказал Ауэрбах.
К его удивлению, Пенни кивнула даже раньше, чем Рэйчел. Официантка
удалилась, затем вернулась с новыми кружками.
-- Благодарю, Ирма, -- сказал Ауэрбах.
Она посмотрела на него так, будто впервые услышала слова благодарности
за хорошую работу.
-- У вас были рейды на Лакин с того времени, как вы нас вывезли оттуда,
капитан? -- спросила Рэйчел.
-- Да, конечно, -- ответил Ауэрбах. -- Разве вы не участвовали? Нет, не
участвовали, я вспомнил. Мы всыпали им тогда -- очистили город. Я думал, что
мы сможем удержать его, но потом они бросили против нас много
бронетехники... -- Он развел руками. -- Что тут можно было сделать?
-- Она не это имела в виду, -- сказала Пенни. -- Я знаю, что именно она
имела в виду.
Ауэрбах уставился на нее. Она действительно ожила.
-- И что же она имела в виду? -- спросил он в надежде поддержать
разговор и, более того, увлечь ее в мир за пределами четырех стен, в которых
она закрылась.
Это сработало: глаза Пенни вспыхнули.
-- Она хочет спросить: вы свели счеты с Квислингами? -- спросила она.
Рэйчел Хайнс кивнула, показывая, что ее подруга права.
-- Нет, мы этого не сделали, -- сказал Ауэрбах. -- Мы не знали, с кем
надо расправиться, и были слишком заняты ящерами, чтобы рисковать
недовольством местных жителей, если по ошибке накажем не тех, кого надо.
-- Мы в ближайшее время не вернемся в Лакин? -- спросила Рэйчел.
-- Насколько я знаю, нет, -- сказал Ауэрбах. -- У полковника
Норденскольда могут быть и другие идеи, но он мне об этом не говорил. И если
он получит приказ откуда-то сверху...
Он снова развел руками. Командные связи на уровне выше полка были
нарушены. Местные командиры имели куда больше самостоятельности, чем
кто-либо мог представить себе до того, как ящеры разнесли большинство путей
сообщения.
-- Полковнику надо поговорить с партизанами, -- сказала Рэйчел. --
Раньше или позже, но эти ублюдки должны получить то, что им причитается.
Она говорила ровным тоном, как любой кавалерист: Ауэрбах и не подумал,
что для женщины это брань, пока не повторил предложение мысленно. Что ж,
Рэйчел все-таки кавалерист, так что все в порядке.
-- Это надо сделать обязательно, -- сказала Пенни Саммерс, энергично
кивая. -- Обязательно.
-- Звучит довольно забавно -- про американских партизан, -- сказала
Рэйчел. -- Я имею в виду, мы ведь видели в кинохронике, как русские
прятались в лесах до прихода ящеров, но чтобы что-то подобное возникло у
нас...
-- Для вас это, может быть, и странно, но вы ведь из Канзаса, --
ответил Ауэрбах. -- А я пробирался сюда из Техаса, а лейтенант Магрудер --
из Виргинии. Для вас американские партизаны -- это что-то древнее, времен
Гражданской войны. -- Он коснулся своего рукава. -- Хорошо, что эта форма не
такая голубая, как должна быть.
Рэйчел пожала плечами.
-- Для меня то, что относится к Гражданской войне, просто история из
книг, только и всего.
-- Но не для южан, -- сказал Ауэрбах. -- Мосби и Форрест для нас --
живые люди даже теперь.
-- Я не знаю, кто они, но верю вашим словам, -- сказала Пенни. -- Дело
в том, что если мы можем что-то сделать, мы обязаны. Может полковник
Норденскольд связаться с партизанами?
-- О да, -- сказал Ауэрбах, -- и вы знаете, как?
Он подождал, пока она покачает головой, затем прижал палец к носу и
улыбнулся.
-- Почтовые голуби, вот как. Вовсе не радио, которое могли бы
перехватить ящеры, о голубях они и понятия не имеют.
Он знал, что говорит лишнее, но надежда увидеть Пенни Саммерс
оживленной и деятельной заставила его сказать чуть больше, чем следовало.
Она спрыгнула со стула.
-- Пойдемте и поговорим с полковником прямо сейчас.
Все было так, словно где-то внутри у нее щелкнул выключатель и все, что
было обесточено в течение последних месяцев, сразу вернулось к жизни. На это
стоило посмотреть. "Женщина-дьявол! -- подумал Ауэрбах, а еще через
мгновение: -- И к тому же штатская".
Штаб-квартира полковника Мортона Норденскольда размещалась в здании,
которое все до сих пор называли "Первый Национальный Банк Ламара". Еще в
20-х годах здесь произошло внушительное ограбление: жители Ламара еще
вспоминали о нем. Правда, коренных жителей Ламара осталось немного -- город
наполняли солдаты и беженцы.
Перед банком не было часовых. Довольно далеко от этого места стояла
пара манекенов из портновской мастерской Фельдмана, одетых в армейскую
форму, от касок до ботинок, -- они охраняли дом-приманку. Командование
надеялось, что бомбардировщики ящеров нанесут удар по этому дому вместо
настоящего штаба. Пока что налетов не было.
Внутри здания, где разведка не могла их обнаружить, двое настоящих
часовых вытянулись по стойке смирно, когда Ауэрбах вошел в дверь вместе с
Рэйчел и Пенни.
-- Да, сэр, вы можете видеть полковника немедленно, -- ответил один из
них на его вопрос.
-- Благодарю, -- сказал Ауэрбах и направился в кабинет Норденскольда.
Позади него один из часовых повернулся к другому и сказал, не слишком
понижая голос:
-- Посмотри-ка на этого удачливого сукина сына, разгуливает с парочкой
лучших баб в городе.
Ауэрбах хотел было вернуться и отчитать его, затем решил: звучит не так
уж плохо -- и направился в кабинет полковника.
* * *
Тосевитский детеныш издавал визжащие звуки, которые раздражающе
действовали на слуховые диафрагмы Томалсса. Детеныш тянулся к ручке
невысокого ящика, с третьей попытки ухватился за нее и попытался встать
прямо. Сил у него оказалось недостаточно, и он снова шлепнулся на спину.
Томалсс с любопытством смотрел, ожидая, что будет дальше. Иногда после
такой неудачи детеныш вопил, что раздражало даже больше, чем визг. Иногда он
находил падение забавным и издавал надоедливые звуки смеха.
На этот раз, к удивлению Томалсса, он не издавал ни того ни другого. Он
просто тянулся и старался сделать это снова, целеустремленно и упорно, как
никогда раньше. Затем детеныш снова упал, ударившись подбородком о пол. На
этот раз он начал выть, оповещая криком мир, что ему больно.
Его крики раздражали всех самцов, работавших неподалеку в звездном
корабле, кружившемся на орбите Тосев-3. Это было плохо. Ученый боролся за
то, чтобы оставить детеныша и по-прежнему изучать его, вместо того чтобы
возвращать самке, из тела которой он появился. Ему нужны были союзники в
этой борьбе.
-- Замолчи, плохое существо! -- зашипел он на маленького тосевита.
Детеныш, конечно, не обратил на это никакого внимания и продолжат
сотрясать воздух жутким воем. Томалсс знал, что надо делать: он наклонился и
осторожно, чтобы не проткнуть тонкую кожу без чешуи своими когтями, поднял
его за туловище.
Через некоторое время тревожный шум затих. Детенышу нравился физический
контакт. Молодняк Расы, вылупившись из яйца, убегал от всего, что крупнее,
инстинктивно понимая, что их могут поймать и съесть. В самом начале своей
жизни Большие Уроды были такими же не способными к движению, как некоторые
из существ, живущих в известковых раковинах в небольших морях на Родине.
Когда детеныши попадали в неприятности, самки, извергнувшие их из себя
(удивительный и ужасный процесс), должны были спасать и защищать их.
Поскольку такой самки не имелось, ее работа досталась Томалссу.
Щека детеныша потерлась о его грудь. Это всегда вызывало у него
сосательный рефлекс. Детеныш повернул голову и прижал мягкий сырой рот к
коже ящера. В отличие от тосевитской самки Томалсс не выделял питательной
жидкости. Понемногу детеныш стал понимать это.
-- Неплохое существо, -- проговорил Томалсс и издал одобрительное
покашливание.
Слюна маленького тосевита разрушительно действовала на краску,
покрывающую его тело. Он повернул вниз один глаз, чтобы осмотреть себя.
Конечно, чтобы прилично выглядеть, ему следует удалить это пятно. Он не
собирался демонстрировать экспериментально, что краска для тела не токсична
для Больших Уродов, но так получилось.
Он повернул вниз второй глаз и стал рассматривать детеныша обоими
глазами. Детеныш в свою очередь смотрел на него. Его глаза были маленькими,
плоскими и темными. Самец задумался, что же происходит в мозгу маленького
тосевита. Детеныш никогда не видел ни себя, ни кого-либо из своего рода.
Может быть, он думает, что они выглядят так же, как ящеры? Это узнать
невозможно, пока не разовьются его способности к речи. Но и его ощущения к
этому времени тоже изменятся.
Он стал рассматривать абсурдно подвижный рот, углы которого поднялись
кверху. Среди тосевитов это было выражение дружеских чувств, значит, он
добился успеха в том, чтобы заставить детеныша забыть о его боли. Затем он
заметил, что ткань, которую он обернул вокруг его середины, стала мокрой. У
тосевитов не было контроля над функциями тела. Из расспросов следовало, что
Большие Уроды учатся такому контролю целых два или три местных года --
четыре или шесть по счету Томалсса. Когда он принес детеныша на стол, чтобы
очистить и наложить новую защитную ткань, ничего хорошего он не увидел.
-- Какое безобразие, -- сказал он, добавив сочувственное покашливание.
Детеныш завизжал, затем издал звук, который был похож на сочувственное
покашливание. Он имитировал звуки, которые издавал Томалсс, все чаще и чаще,
не только сочувственные и вопросительные покашливания, но временами целые
слова. Иногда ученый думал, что детеныш издает эти звуки преднамеренно.
Тосевиты делают это, часто подолгу -- в этом никакого сомнения.
Когда детеныш стал чист, сух и доволен, он посадил его обратно на пол.
Он бросил испачканную ткань в воздухонепроницаемое пластиковое ведро, чтобы
предотвратить распространение аммиачной вони, затем полил очистительной
пеной свои руки. Он находил, что жидкие выделения тосевитов особенно
отвратительны -- представители Расы извергали аккуратные чистые сухие
комочки.
Детеныш встал на четыре конечности и снова пополз к ящикам. Его
передвижение на четырех было гораздо более уверенным, чем раньше: еще пару
дней назад он был способен только пятиться. Детеныш попытался выпрямиться --
и тут же снова упал.
Раздался звон коммуникатора, призывая к вниманию. Томалсс поспешил на
зов. Экран засветился, появилось изображение Плевела, помощника
администратора восточного региона главной континентальной массы.
-- Я приветствую вас, господин, -- сказал Томалсс, стараясь скрыть
нервозность.
-- Я приветствую вас, исследователь-аналитик, -- ответил Ппевел. -- Я
полагаю, что тосевитский детеныш, судьба которого теперь обсуждается с
китайской стороной, известной под названием "Народно-освободительная армия",
по-прежнему здоров?
-- Да, господин, -- сказал Томалсс.
Он повернул один глаз от экрана, стараясь увидеть детеныша, но не смог.
Это обеспокоило его. Маленькое существо стало гораздо более подвижным, чем
прежде, и это означало, что у него гораздо больше шансов попасть в
неприятность... Из-за этого он пропустил часть слов Ппевела.
-- Извините, господин.
Ппевел слегка повернул глаза кверху, что означало раздражение.
-- Я сказал, вы готовы отдать детеныша по первому требованию?
-- Высокорожденный господин, конечно, я готов, но я протестую, потому
что эта уступка не только не нужна, но и разрушит исследовательскую
программу, необходимую для успешного управления этим миром после его
завоевания и усмирения.
Томалсс снова посмотрел по сторонам в поисках детеныша и по-прежнему не
обнаружил его. И испытал чуть ли не облегчение. Как он может вернуть
детеныша китайцам, если даже не знает, куда он делся?
-- Определенного решения по этому вопросу пока не принято, если это вас
беспокоит, -- сказал администратор. -- Когда оно будет принято, то быстрое
исполнение будет обязательным.
-- При необходимости все может быть сделано быстро, -- ответил Томалсс,
надеясь, что облегчение в его голосе не будет заметно. -- Я понимаю
маниакальную настойчивость, которую проявляют Большие Уроды, настаивая на
быстроте исполнения.
-- Если вы понимаете это, то имеете преимущество над большинством
самцов Расы, -- сказал Ппевел. -- Тосевиты прошли тысячелетия технического
развития за относительно небольшое количество лет. Я слышал бесконечные
рассуждения о причинах: необычная география, извращенные и отталкивающие
сексуальные привычки, распространенные у Больших Уродов...
-- Последний тезис является центральным в моих исследованиях,
высокочтимый господин, -- отвечал Томалсс. -- Тосевиты определенно
отличаются в своих привычках от нас, а также от жителей Работева и Халесса.
Моя гипотеза состоит в том, что постоянное сексуальное напряжение, если
использовать неточное определение, подобно огню, постоянно подогревающему их
и стимулирующему к изобретательности в других областях.
-- Я видел и слышал столько гипотез, что не стоит их запоминать, --
сказал Ппевел. -- Когда я найду такую, которая будет подкреплена
доказательствами, я буду рад. Наши специалисты в последнее время слишком
часто соревнуются с тосевитами не только в быстроте, но и в неточности.
-- Высокочтимый господин, я хочу обращаться с тосевитским детенышем
педантично, чтобы собрать такие доказательства, -- сказал Томалсс. -- Не
изучив Больших Уродов на всех стадиях их развития, можем ли мы надеяться,
что поймем их?
-- Над этим стоит поразмыслить, -- ответил Ппевел, отчего Томалсс
преисполнился надежд: никто из администраторов долгое время не давал ему
столько оснований для оптимизма. Ппевел продолжил: -- Мы...
Томалсс хотел услышать продолжение, но его отвлек вой -- тревожный вой
детеныша Больших Уродов. Странно, что он звучал издалека.
-- Извините меня, господин, но, похоже, у меня появились трудности, --
сказал исследователь и отключил связь.
Он поспешил по коридорам лабораторного отдела, отыскивая место, куда
детеныш попал на этот раз. Он нигде не мог найти его и встревожился -- может
быть, детеныш заполз в ящик? Может быть, поэтому его визг казался далеким?
Вой раздался снова. Томалсс стремительно выскочил в коридор -- детеныш
вполне мог отправиться в дальнее путешествие.
Томалсс едва не столкнулся с Тессреком, исследователем привычек и
особенностей мышления Больших Уродов. В руках, не особенно аккуратно,
Тессрек нес капризного тосевитского детеныша. Он швырнул его Томалссу.
-- Вот. Это ваш. На будущее, следите за ним лучше. Он забрел в мою
лабораторию, и, уверяю вас, мы этому не обрадовались.
Как только Томалсс взял детеныша, тот перестал вопить: он попал к тому,
кого знал и кто заботился о нем. Томалсс мог быть тем, что тосевиты называли
словом "мать". Тосевитское слово значило гораздо больше, чем его эквивалент
на языке Расы.
Тессрек продолжил:
-- Чем скорее вы отдадите это существо Большим Уродам, тем скорее
станут счастливыми все в этом коридоре. Не будет больше ужасных звуков,
жутких запахов, все вернется к миру, тишине и порядку.
-- Окончательное решение о детеныше еще не принято, -- сказал Томалсс.
Тессрек всегда хотел избавиться от маленького тосевита. Сегодняшняя
прогулка детеныша только добавила масла в огонь.
-- Избавление от него улучшит мое положение, -- сказал он, оставив
открытым рот в знак одобрения собственной шутки. Затем он снова стал
серьезным и продолжил: -- Если он вам нужен, держите его у себя. Я не могу
отвечать за его безопасность, если он заберется в мою лабораторию еще раз.
-- Как любой детеныш, он невежествен в отношении правильного поведения,
-- холодно сказал Томалсс. -- Если вы будете игнорировать этот очевидный
факт и умышленно злоупотреблять этим, то я не могу отвечать за вашу
безопасность.
Чтобы подчеркнуть решимость, он повернулся и унес детеныша обратно в
комнату. Одним глазом он наблюдал, как Тессрек смотрит ему вслед.
Маленькая уродливая гусеничная машина для перевозки боеприпасов со
звуком "пут-пут-пут" остановилась возле немецких "пантер" в лесу, севернее
Лодзи. Передний люк французской машины -- трофея триумфальной кампании 1940
года -- открылся, и наружу выбрались двое мужчин. Они закричали:
-- Эй, парни! Мы привезли вам подарки.
-- Самое время, -- сказал Генрих Ягер. -- У нас осталось всего по
несколько снарядов в каждом танке.
-- А имеем дело с ящерами, -- добавил Гюнтер Грилльпарцер. -- У них
броня настолько прочная, что нужно долго долбить в одно и то же место,
прежде чем удастся ее пробить.
Подвозчики снарядов заулыбались. На них были такие же комбинезоны, как
и у танкистов, но не черные, а полевые, серого цвета, полагавшиеся солдатам
на самоходных орудиях. Один сказал:
-- Здесь для вас новые игрушки -- идею переняли у ящеров и стали
выпускать для себя.
Этого было достаточно, чтобы вокруг них собралась толпа танкистов. Ягер
бесстыдно воспользовался преимуществами высокого звания, чтобы протолкаться
вперед.
-- Что там у вас? -- потребовал он.
-- Мы сейчас покажем, -- ответил парень и повернулся к товарищу. --
Давай, Фриц.
Фриц снял белоснежный брезент, закрывавший кузов. Он нагнулся, поворчал
немного -- видно, возился с чем-то тяжелым -- и вытащил снаряд самого
странного вида, какой только видывал Ягер.
-- Что за чертовщина? -- спросили одновременно не меньше полудюжины
танкистов.
-- Расскажи им, Иоахим, -- сказал Фриц. -- Я не смогу правильно
объяснить.
-- Подкалиберный бронебойный снаряд, -- с важностью сказал Иоахим. --
Алюминиевая рубашка сбрасывается сразу после выхода снаряда из ствола, и
дальше летит один только сердечник. Он из вольфрама...
-- В самом деле? -- Ягер насторожил уши. -- У меня брат -- танковый
инженер, он рассказывал, что вольфрама не хватает даже для резцов. А теперь
его применили для противотанковых снарядов?
-- Я ничего не понимаю в резцах, герр оберст, -- сказал Иоахим, и Фриц
торжественно покачал головой -- мол, он тоже. -- Но я знаю, что эти снаряды
должны дать вам вдвое большую пробивную способность, чем обычные бронебойные
снаряды.
-- Должны дать вам! -- передразнил Карл Мехлер, заряжающий Ягера.
Заряжающие от природы наделены пессимистическим взглядом на мир; когда
танк движется, они почти ничего не видят и не понимают. Их место -- на дне
башни, они выполняют то, что прикажет наводчик и командир. Если вы
заряжающий, вы никогда не знаете, что происходит вокруг, пока снаряд не
попадет в вашу машину. Секунду назад вы еще живы и здоровы, а в следующую
разорваны на дымящиеся куски.
Мехлер продолжил:
-- А каковы они в деле?
Фриц и Иоахим посмотрели друг на друга. Фриц сказал:
-- Их не отправили бы в фронтовые части, если бы считали, что они не
будут действовать так, как обещано, согласны?
-- Никто никогда ничего не знает, -- сумрачно сказал Мехлер. --
Какой-нибудь бедный сопляк все равно должен стать подопытным кроликом. На
этот раз мы вытянули короткую соломинку.
-- Хватит, Карл, -- сказал Ягер.
Упрек был мягким, но заряжающий умолк. Ягер повернулся к подвозчикам
снарядов.
-- А обычных бронебойных вы не привезли, на случай, если эти окажутся
не такими прекрасными, какими их считают ребята на полигонах?
-- Ох, нет, герр полковник, -- ответил Иоахим. -- Что подвезли на
поезде, то мы и доставили.
Ропот в толпе танкистов не был похож на мятежный, но и радости в нем
тоже не прозвучало.
-- Ладно, у нас осталось по несколько снарядов прежнего образца. Мы
хоть знаем, на что они годятся и с чем не справляются. Скажите мне только
одну вещь, прямо сейчас, вы, двое! Может новый снаряд пробить лобовую броню
танка ящеров?
Оба подвозчика печально покачали головами.
-- Этого я и боялся, -- ответил Ягер. -- Дело обстоит так: каждая
машина ящеров, которую нам удается подбить, обходится нам примерно в шесть
-- десять танков. Было бы еще хуже, если бы наши экипажи не превосходили
ящеров в умении. Но мы потеряли так много ветеранов, что это наше
преимущество постепенно уходит. Это положение могло бы изменить орудие,
которое позволило бы нам встречаться с ними лицом к лицу.
-- Круче всего изменили бы положение бомбы, которые они сбросили на
Бреслау и Рим, -- вклинился в разговор Гюнтер Грилльпарцер. -- И я знаю, где
ее надо взорвать.
-- Где же? -- спросил Ягер с любопытством. До сих пор его наводчик не
проявлял интереса к стратегии.
-- Лодзь! -- быстро ответил Грилльпарцер. -- Прямо в центр города.
Взорвет всех ящеров и всех собравшихся там жидов, вот так вот!
На руках у него были перчатки, поэтому, вместо того чтобы щелкнуть
пальцами, он просто плюнул в снег.
-- Не возражал бы избавиться от ящеров, -- согласился Ягер. -- А
евреи... -- Он пожал плечами. -- Анелевич сказал, что он не позволит ящерам
провести контрнаступление из города, и он добился этого. За это он
заслуживает доверия, если уж интересно мое мнение.
-- Да, герр полковник.
Круглое мясистое лицо наводчика стало печальным. Впрочем, на лице
Грилльпарцера большую часть времени сохранялось печальное выражение. Он
знал, что с командиром полка лучше не спорить, но думать о евреях с теплотой
и добротой был не способен.
Ягер посмотрел на остальных танкистов. Никто не возразил ему, не
высказался против, но никто и не сказал доброго слова о евреях в лодзинском
гетто. Это обеспокоило Ягера. Он не испытывал симпатии к евреям, но его
охватил ужас, когда он узнал, что немецкие войска делали с ними в
захваченных рейхом областях. Он не хотел знать об этом, но, столкнувшись с
подобными фактами, не стал делать вид, что слеп. Большинство германских
офицеров, к его стыду, никаких угрызений совести не испытывали.
Правда, именно сейчас ему не было нужды думать об этом.
-- Разделим, что нам привезли, -- сказал он своим людям. -- Если
получим дохлую свинью, будете есть свиные котлеты.
-- Это барахло способно всех нас превратить в дохлых свиней, --
проворчал Карл Мехлер, тяжело дыша.
Тем не менее он получил свою долю новых снарядов и уложил их в зарядные
ящики "пантеры".
-- Они ненормальные какие-то, -- проговорил он, вылезая из танка. --
Выглядят странно. Раньше ничего такого у нас не было.
-- Разведка сообщает, что одна из причин, которая приводит ящеров в
бешенство, состоит в том, что мы продолжаем получать новые изобретения, --
сказал Ягер. -- Сами ящеры не изменяются -- или изменяются незначительно. Вы
хотите быть такими, как они?
-- Конечно, нет, сэр, но я не хочу изменений к худшему, -- сказал
Мехлер. -- Эти штуки выглядят, как сосиски, торчащие из булки, будто
какой-то инженер решил пошутить над нами.
-- Внешний вид ни при чем, -- ответил Ягер. -- Если эти новые снаряды
не будут действовать так, как ожидается, то чьи-то головы полетят с плеч.
Правда, испытывать их придется нам.
-- Если эти новые снаряды не будут действовать, как ожидается, то
покатятся наши головы, -- сказал Карл Мехлер. -- Может быть, потом покатятся
и еще чьи-то, но мы этого уже не увидим.
Мехлер был прав, и Ягер мог только бросить ему укоризненный взгляд.
Пожав плечами, заряжающий забрался в башню. Через мгновение за ним
последовал Грилльпарцер. Ягер тоже забрался в танк и откинул люк башни,
чтобы стоя наблюдать за окрестностями. Водитель Иоганнес Дрюккер и второй
наводчик Бернхард Штейнфелъдт заняли свои места в передней части боевого
отделения "пантеры".
Заработал мощный бензиновый двигатель Майбаха. Из выхлопной трубы
повалил вонючий дым. Все собравшиеся на поляне "пантеры", "тигры" и Pz-IV
ожили. Ягер подумал: словно множество динозавров вздохнули в холодное зимнее
утро.
Дрюккер поерзал "пантерой" вперед и назад, включая по очереди первую
передачу и задний ход, чтобы разломать лед, который намерз за ночь между
катками в параллельных рядах. Проблема со льдом была единственным
недостатком подвески, которая обеспечивала плавный ход даже на неровной
местности. Временами даже этот прием с ерзаньем не мог освободить катки.
Тогда приходилось разводить костер и расплавлять лед, только после этого
можно было сдвинуться с места. Вражеская атака в такие моменты была
смертельно опасной [Про ходовую часть "пантеры" мы уже писали. Созданная на
грани технических возможностей того времени, она обеспечивала этому
переутяжеленному танку превосходную подвижность, но ценой очень низкой
надежности. Достаточно сказать, что "пантера" проходила без ремонта в
среднем 80 км. Ломалось все. -- Прим. ред.].
Но сегодня немцы были охотниками, а не дичью -- по крайней мере, в
данное время. Танки выползли с поляны. Их сопровождали несколько самоходных
установок и пара колесно-гусеничных транспортеров с пехотинцами. Некоторые
пехотинцы были вооружены ручными противотанковыми ракетами -- еще одна идея,
позаимствованная у ящеров. Ягер подумал, не следует ли обратить на них
внимание своего экипажа, но потом решил не беспокоить ребят. Они и так
прекрасно делали свое дело.
Против поляков, против французов, против русских танки вермахта всегда
шли впереди пехоты, пробивая огромные дыры в обороне противника. Поступи так
в поединке с ящером -- и твоя голова наверняка покатится под гусеницы.
Единственная тактика, которая время от времени позволяла оттеснить их, --
комбинированные операции с применением разных родов оружия. Но даже в этом
случае земляне нуждались в большом численном преимуществе.
Следов противника пока не наблюдалось. Ягер вспоминал, сколько раз ему
повезло. Слава богу, он сумел подбить танк ящеров из
пятидесятимиллиметрового орудия Pz-III еще тогда, когда ящеры только
спустились на Землю, и если это не удача, значит, удачи на свете не
существует. С тех пор прошло почти два года, он все еще жив и все еще не
изувечен. Немногим так повезло в жизни.
По мере продвижения вперед лес редел. Ягер обратился по радио ко всем
машинам:
-- Остановимся на опушке леса, чтобы осмотреться.
Вырвись сразу на открытый простор -- и получишь бойню.
Пехотинцы в зимних белых маскхалатах соскочили со своих транспортеров и
как призраки двинулись по покрытому снегом полю. У двоих за спинами были
пусковые ракетные установки, также окрашенные в белый цвет, остальные были
вооружены автоматами МП-40. Ягер слышал, что Гуго Шмайссер не участвовал в
разработке этого оружия, но тем не менее автомат этот назывался "шмайссер".
Из-за амбара застрочил пулемет, взбивая фонтанчики снега. Солдаты
вермахта на открытой местности залегли. Танки выпустили по амбару два
разрывных снаряда, чтобы выгнать ящеров. Не прошло и десяти секунд, как один
из этих танков загорелся, пламя и дым вырывались из люков, плясали над
башней.
У Ягера пересохло во рту.
-- Танк ящеров! -- закричал он в микрофон рации.
Все и так уже все поняли, но он должен был сказать это.
-- Бронебойный, -- приказал Гюнтер Грилльпарцер Карлу Мехлеру. -- Дай
мне новый снаряд -- посмотрим, на что они способны.
-- Если они вообще на что-нибудь способны, -- мрачно сказал Мехлер, но
вложил снаряд с алюминиевой рубашкой в ствол длинной семидесятимиллиметровой
пушки "пантеры".
Грилльпарцер со звоном закрыл затвор.
-- Дальность? -- спросил Ягер.
-- Далеко, -- ответил наводчик. -- Больше пятнадцати сотен метров.
Ягер хмыкнул. Впереди он не видел подходящих мест для укрытия танков,
но это не означало, что их нет вообще. Даже если танк противника один, то
ударить по нему с флангов скорее всего означало, что машины Ягера будут
подбиты одна за другой. Башни у танков ящеров имели силовой привод, предмет
зависти Ягера.
С другой стороны, прятаться бессмысленно. Даже если он натолкнулся на
последнюю машину из арьергарда ящеров, она может вызвать на его голову огонь
артиллерии или даже атаку вертолета, а то и двух. Вертолеты ящеров с их
ракетами были сильнейшим противотанковым орудием, а с пехотой разделывались,
как с семечками.
Амбар загорелся -- единственный результат попадания разрывных снарядов,
выпущенных немцами. Это дало им передышку: дым скроет танки от глаз ящеров,
по крайней мере пока они меняют позицию. Нет, из всех возможных вариантов
зайти во фланг танку ящеров -- в конце концов лучше, чем оставаться на
месте.
Он взял правее амбара и приказал "тигру" повернуть налево, а Pz-IV,
идущему справа, велел двигаться прямо. И обратился к водителю своей машины:
-- Давай, Ганс! Пора отрабатывать наше жалование. Вперед!
-- Яволь!
Иоганнес Дрюккер вывел машину на открытое пространство. Pz-IV выстрелил
в танк ящеров. Его орудие было немногим хуже, чем пушка "пантеры", но на
дальних дистанциях все же серьезно уступало ей.
Снаряд свалил дерево позади Pz-IV. Когда ящеры промахивались, причиной
обычно было их плохое зрение. Вражеский танк выехал на открытую местность.
"Тигр" выстрелил в него. Попадание было точным, но танк ящеров продолжал
двигаться. Просто нечестно, до чего же крепкими они были!
Заговорила их пушка. С "тигра" слетела башня, и снаряды внутри нее
взорвались, когда она ударилась о землю в пяти или шести метрах от подбитого
танка. Шасси запылало. Экипаж из пяти человек, видимо, погиб на месте.
Пехотинец выпустил противотанковую ракету в машину ящеров. Он попал точно в
переднюю часть машины, но броня у ящеров -- Ягер слышал, это была не просто
сталь -- выдержала удар кумулятивной боеголовки. Пулемет стал нащупывать
дерзкого пехотинца.
-- Дальность? -- снова спросил Ягер.
-- Меньше пяти сотен метров, -- ответил Гюнтер Грилльпарцер.
-- Водитель, стоп, -- сказал Ягер. -- Огонь!
Из-за того, что он стоял, высовываясь из башни, вместо того чтобы
закрыться внутри, звук выстрела обрушился на него, словно конец света. Из
жерла орудия вырвался язык пламени.
Пламя и дым вырвались и из танка ящеров.
-- Есть! -- закричал экипаж Ягера.
Ягер услышал, как затвор защелкнулся за новым снарядом. Длинное
семидесятимиллиметровое орудие ударило снова -- еще одно попадание! На
машине ящеров открылись люки. Пулемет с "пантеры" бил короткими точными
очередями. Через несколько мгновений три ящера, выбравшиеся из машины,
лежали на земле, их, так похожая на человеческую, красная кровь заливала
снег. Вражеский танк продолжал гореть.
Гюнтер Грилльпарцер сказал очень серьезно:
-- Герр полковник, это хорошие боеприпасы. Они принесут нам много
пользы.
-- Даже если они выглядят так странно? -- поддразнил его Ягер.
-- А и пусть.
* * *
Западный ветер нес желтую пыль из Гоби. Тонкий слой пыли лежал на всем,
вы чувствовали ее вкус, облизнув пару раз свои губы. Нье Хо-Т'инг привык к
этому. Привычка, рожденная жизнью в Пекине и вблизи него.
Майор Мори тер глаза. Пыль беспокоила его. На приличном китайском он
спросил Нье:
-- Итак, чего же вы теперь от меня хотите? Еще таймеров? Я слышал, что
вы хорошо использовали последнюю партию.
-- Нет. На этот раз -- нет, -- ответил Нье.
Его первой мыслью было, что японский майор -- дурак, если думает, что
против ящеров можно применить один и тот же трюк дважды. Но восточный дьявол
не мог быть дураком хотя бы потому, что сохранял свои войска длительное
время, против него сражались и ящеры, и Народно-освободительная армия, и
войска, лояльные гоминдановской реакционной клике, и китайские крестьяне.
Так что же? Губы Нье раздвинулись в улыбке, которая изобразила скупое
удивление. Наиболее вероятным объяснением был расчет майора Мори на то, что
китайские партизаны повторят трюк еще раз -- и в результате будут
раздавлены. Мори это выгодно.
-- Хорошо, а что же в таком случае? -- спросил Мори.
Хотя под его командованием вряд ли было больше людей, чем в
партизанском отряде, он проявлял обычное японское высокомерие. Глядя на
него, можно было подумать, что под властью японцев находятся вся
северо-восточная часть Китая и береговые анклавы -- и при желании они
продолжат наступление, даже если не смогут удержать завоеванное.
-- Сейчас были бы полезны артиллерийские снаряды, -- сказал Нье
задумчиво.
-- Может быть, но от нас вы их не получите, -- сказал Мори. -- У нас
еще осталось несколько семидесятимиллиметровых орудий, хотя я не скажу вам,
где они.
Нье Хо-Т'инг знал, где японцы прячут эти орудия. Он даже собирался их
захватить, но потом решил, что от этого хлопот будет больше, чем пользы,
поскольку японцы, скорее всего, направят их против ящеров, а не против его
людей.
Он сказал:
-- Солдаты могут заменить кули и перетаскивать семидесятимиллиметровые
орудия из одного места в другое. Как вы сказали, их легко прятать. Но у
японской армии была и более крупная артиллерия. Чешуйчатые дьяволы
уничтожили эти большие орудия, а иначе вам все равно пришлось бы бросить их.
Но у вас должны были остаться какие-то боеприпасы к ним. Так ведь?
Прежде чем ответить, Мори изучал его некоторое время. Восточному
дьяволу еще не исполнилось и сорока, может быть, он был на пару лет старше
Нье. Кожа чуть темнее, черты лица несколько резче, чем у китайца. Это
беспокоило Нье не больше, чем врожденная уверенность Мори в своем
превосходстве. "Варвар", -- с презрением подумал Нье, уверенный, что Китай
-- единственный оплот культуры и цивилизации. Но даже и варвар может быть
полезен.
-- А если и так? -- спросил Мори. -- Вы хотите получить эти снаряды.
Что вы нам дадите за них?
"Капиталист, -- подумал Нье. -- Империалист. Если ты думаешь только о
прибыли, то не заслуживаешь даже этого". Вслух он, однако, сказал:
-- Я могу сообщить вам имена двух людей, которых вы считаете надежными,
но на самом деле это гоминдановские шпионы.
Мори улыбнулся: улыбка была не из приятных.
-- На днях гоминьдан предложил мне продать имена трех коммунистов.
-- Это меня не удивляет, -- сказал Нье. -- Мы знали, что имена японских
сторонников стали известны гоминьдану.
-- Мерзкая война, -- сказал Мори.
В данный момент эти двое слишком хорошо понимали друг друга. Затем Мори
спросил:
-- И когда вы заключите сделку с маленькими дьяволами, кого вы
продадите им?
-- Гоминьдан, конечно, -- ответил Нье Хо-Т'инг. -- Когда война с вами и
чешуйчатыми дьяволами кончится, реакционеры и контрреволюционеры останутся.
Нам придется бороться с ними и дальше. Они думают, что это они будут
бороться с нами, но историческая диалектика показывает, что они ошибаются.
-- Это вы ошибаетесь, если думаете, что японцы не смогут навязать Китаю
правительство по своему желанию -- если, конечно, исключить из общей картины
маленьких чешуйчатых дьяволов, -- сказал майор Мори. -- Сколько бы наши и
наши войска ни встречались в бою, вы всегда будете занимать второе место.
-- А что станет с ценой на рис? -- спросил Нье с неподдельным
замешательством. -- Постепенно вы устанете от побед дорогой ценой и от
потерь в областях, которые вы считаете подчиненными, и тогда вы уберетесь
прочь из Китая. Единственная причина, по которой вы сейчас побеждаете, в
том, что вы стали использовать машины иностранных дьяволов (под ними Нье
разумел европейцев) -- раньше нас. Когда у нас будут свои собственные
фабрики...
Мори откинул голову и расхохотался -- умышленная попытка оскорбить.
"Давай-давай, -- подумал Нье. -- Смейся. В один прекрасный день
революция пересечет море и высадится на ваши острова". В Японии много
сельского пролетариата, эксплуатируемых рабочих, которые не могут предложить
на рынке ничего, кроме своего труда, они так же безлики и взаимозаменяемы
для крупных капиталистов, как винтики и шестеренки. Они -- сухой фитиль,
горючее для пламени классовой войны. Но -- не сейчас. В первую очередь надо
разбить ящеров.
-- Мы договорились о цене за один такой снаряд? -- спросил Нье.
-- Пока нет, -- ответил японец. -- Информация полезна, да, но нам также
требуется продовольствие. Посылайте нам рис, лапшу, сою, свинину или кур. За
это мы вам дадим столько стопятидесятимиллиметровых снарядов, сколько вы
можете взять, для чего бы вы их ни предназначали.
Они начали торговаться о том, какое количество продовольствия должен
отдать Нье за снаряды, и о том, где и как организовать доставку. Как и
прежде, Нье чувствовал презрение. Во время Большого Похода он постоянно
заключал мелкие сделки с кадровыми офицерами и главарями бандитов, примерно
такие же, что и в этот раз. Уцелевшие остатки некогда мощной императорской
японской армии в Китае опустились до статуса бандитов; японцы не могли
теперь позволить себе больше, чем грабеж в сельских местностях. И все равно
они не могли обойтись без того, чтобы им не пришлось менять боеприпасы на
продовольствие.
Нье решил, что не будет рассказывать Лю Хань подробности переговоров с
японцем. Ее ненависть к ним была личной, как и к маленьким дьяволам. Нье
тоже ненавидел японцев и чешуйчатых дьяволов, но с такой идеологической
чистотой, какой его женщина не могла и надеяться когда-либо достичь. Но она
обладала воображением и придумывала такие способы нанесения урона врагам
Народно-освободительной армии и коммунистической партии, о которых он
никогда и не думал. Успех, в особенности у тех, кто не формирует серьезную
политику, может быть достижим и в отсутствии идеологической чистоты --
конечно, временно.
Майора Мори нельзя было отнести к искусным торговцам, с какими
встречался Нье. Из каждых трех китайцев двое могли бы выторговать больше
продовольствия, чем этот Мори. Нье мысленно пожал плечами. Что ж, недаром
Мори варвар и восточный дьявол. Из японцев получаются хорошие солдаты, а все
прочее -- не ахти.
Насколько он знал, то же относилось и к маленьким чешуйчатым дьяволам.
Они могли завоевывать, но, похоже, не представляли, как держать под
контролем мятежную страну. Они даже не использовали убийства и террор, что
для японцев было само собой разумеющимся. Максимум -- они вербовали
коллаборационистов, но этого было недостаточно.
-- Превосходно! -- воскликнул майор Мори, когда торги закончились. Он
шлепнул себя по животу. -- Какое-то время хорошо поедим.
Мундир болтался на нем, как мешок. Когда-то японец, возможно, был
довольно упитанным человеком. Теперь нет.
-- А вскоре приготовим для маленьких дьяволов подарочек, -- ответил
Нье.
А если его идея со снарядами принесет успех, он постарается свалить
ответственность на гоминьдан. Лю Хань не одобрит этого: захочет, чтобы гнев
чешуйчатых дьяволов испытали японцы. Но, как и сказал Нье, в долгосрочной
перспективе гоминьдан более опасен.
И пока маленькие чешуйчатые дьяволы не заподозрят в нападении
Народно-освободительную армию, переговоры с ними будут идти
беспрепятственно. В последнее время эти переговоры приобрели особое
значение, их требуется продолжать. Результат может быть куда более
существенным, чем возвращение ребенка Лю Хань. Нье надеялся на это.
Он вздохнул. Если бы у него был выбор, то Народно-освободительная армия
выгнала бы из Китая и японцев, и чешуйчатых дьяволов. Но выбора не было. Ты
должен делать то, что обязан. И только потом, если тебе повезет, ты получишь
шанс сделать то, чего хочешь.
Он поклонился майору Мори. Майор ответил ему тем же.
-- Мерзкая война, -- снова сказал Нье.
Мори кивнул.
"Но рабочие и крестьяне победят в ней, и в Китае, и во всем мире", --
подумал Нье.
Он посмотрел на японского офицера. Может быть, и Мори владели мысли о
победах. Что же, в таком случае он ошибается. Диалектика Нье доказывает это
совершенно однозначно.
* * *
Мордехай Анелевич ступил на тротуар перед зданием на Лутомирской улице.
-- Я могу иметь дело с врагами, -- сказал он. -- Я справлюсь и с
нацистами, и с ящерами, но эти... Мои друзья! -- Он закатил глаза в
театральном отчаянии. -- Vay iz mir!
Берта Флейшман рассмеялась. Она была на год или два старше Мордехая и
внешне настолько бесцветна, что еврейское Сопротивление Лодзи часто
использовало женщину для сбора информации: ее никто не замечал. Но вот
смехом своим, искренним и сердечным, она выделялась.
-- Сейчас дела у нас идут неплохо. Ящеры не смогли пройти через Лодзь,
чтобы напасть на нацистов. -- Она сделала паузу. -- Конечно, не каждый
согласится, что это хорошо.
-- Знаю. -- Анелевич поморщился. -- Я и сам не считаю, что это хорошо.
Это даже хуже, чем встрять между нацистами и русскими. Кто бы ни победил, мы
все равно проиграем.
-- Немцы выполнили свое обещание не захватывать Лодзь, пока мы будем
удерживать ящеров от активных действий, -- сказала Берта. -- Последнее время
они нас не бомбили.
-- За это нужно благодарить Бога, -- сказал Анелевич.
До войны он не был религиозным человеком. Для нацистов это значения не
имело, они бросили его в варшавское гетто вместе со всеми. То, что он видел
там, убедило его, что без Бога он жить не может. Слова, вызывавшие иронию в
тридцать восьмом году, теперь звучали искренне.
-- В данное время мы полезны им. -- Углы рта Берты Флейшман опустились.
-- Главное не меняется. Раньше мы работали на их заводах, выпуская для них
все что угодно, а они убивали нас.
-- Знаю. -- Мордехай топнул о мостовую. -- Думаю, они испытали свой
ядовитый газ на евреях, прежде чем применили его против ящеров.
Ему не хотелось думать об этом. Если бы он позволил себе лишние
размышления, то задумался бы, почему помогает в борьбе против ящеров
Гитлеру, Гиммлеру и собственным палачам. Но, встречаясь с Бунимом и другими
ящерами, занимавшими в Лодзи ответственные посты, он не мог помогать им бить
немцев -- ибо тем самым наносил вред всему человечеству.
-- Это нечестно, -- сказала Берта. -- С тех пор, как существует мир,
кто-нибудь предсказывал это?
-- Мы -- избранный народ, -- ответил Анелевич, пожав плечами. -- Но мы
избраны не для этого.
-- Кстати сказать, разве не ожидается проезд грузовой колонны ящеров
через город примерно через полчаса? -- спросила Берта. Поскольку именно она
добыла эту информацию, вопрос был риторическим. Она улыбнулась. -- Может
быть, пойдем и посмотрим кое-что забавное?
Предполагалось, что колонна направится на север по Францисканской
улице: ящеры, пытавшиеся отрезать базу от передовых германских частей,
наступающих со всех сторон, нуждались в подкреплении. Ящерам не везло.
Любопытно, что они будут делать, когда поймут, почему им так не везет?
Впрочем, лучше бы любопытство осталось праздным.
Евреи и поляки стекались к перекрестку Инфланцкой и Францисканской
улиц, они стояли на тротуаре, болтали, торговались и занимались какими-то
делами, как и в любой другой день. Эта сцена, словно пришедшая из довоенного
времени, имела лишь одно отличие от прошлого: многие мужчины -- и некоторые
женщины -- за спиной или в руках носили винтовки. Обман в эти дни вел к
быстрому и строгому наказанию.
Минут за пятнадцать до проезда колонны полицейские -- евреи и поляки --
попытались очистить улицу. Анелевич смотрел на них, в особенности на евреев,
с нескрываемым отвращением. Евреи-полицейские -- их правильнее было бы
назвать бандитами -- были преданы Мордехаю Хаиму Румковскому, который стал
старостой евреев еще во времена, когда лодзинское гетто было в руках
нацистов, и продолжал управлять ими при ящерах. Евреи-предатели, как и
прежде, носили длинные пальто, кепи с блестящими козырьками и красно-белые с
черным повязки на рукавах, выданные еще немцами. Они раздувались от сознания
собственной значимости, но все остальные презирали их.
Полицейские не очень-то преуспели в очистке улиц. Из оружия у них были
только дубинки, оставшиеся с тех времен, когда в Лодзи хозяйничали нацисты.
Разгонять ими людей с винтовками было непросто. Анелевич знал, что еврейская
полиция просила у ящеров оружие. Но все, что существовало до прихода ящеров,
было для них неприкосновенно, словно Тора: ничего не менять, ни во что не
вмешиваться. Полиции пришлось обходиться без огнестрельного оружия.
Старый еврей, управлявший телегой, груженной столами, поставленными
друг на друга по четыре и пять штук, попытался пересечь Францисканскую улицу
по Инфланцкой, в то время как поляк, водитель грузовика, ехал по
Францисканской с грузом пустых молочных бидонов. Поляк попытался снизить
скорость, но, похоже, у него были не в порядке тормоза. Грузовик врезался в
телегу старого еврея.
Грохот, который поднялся после столкновения, был громче, чем шум самого
столкновения. Задний борт грузовика был не очень хорошо закрыт, и молочные
бидоны посыпались на мостовую и раскатились в стороны. Как мог видеть
Мордехай, столы на телеге тоже не были закреплены и повалились на землю.
Некоторые поломались.
Могло показаться чудом, но возница телеги не пострадал. Удивительно
проворно для старика он соскочил со своего сиденья и побежал к грузовику,
выкрикивая ругательства на идиш.
-- Заткнись, проклятый жид! -- отвечал поляк на родном языке. --
Вонючий старый христоубийца, напрасно тратишь нервы на крик.
-- Я ору из-за твоего отца, пусть даже твоя мать и не знает, кто он, --
парировал еврей.
Поляк выскочил из кабины и набросился на еврея. Через мгновение они уже
катались по земле. Народ сбегался к месту ссоры. Здесь и там люди нападали
друг на друга и начинали новые стычки.
Полицейские -- и евреи, и поляки -- яростно свистели, стараясь
разогнать толпу. Некоторые были втянуты в кулачную драку. Мордехай Анелевич
и Берта Флейшман с интересом наблюдали за расширяющимся хаосом.
В этот хаос и въехала колонна ящеров. Некоторые грузовики были
инопланетного производства, другие -- человеческие, конфискованные. Грузовик
ящеров начал сигналить -- звук был такой, как если бы ведро воды вылили на
раскаленную докрасна железную плиту. Загудели и другие машины, шум получался
поистине устрашающий.
Никто на улице не обратил на него ни малейшего внимания.
-- Какая жалость, -- сказал Мордехай. -- Похоже, что у ящеров опять
задержка.
-- Это ужасно, -- сказала Берта таким же торжественным тоном. Они оба
засмеялись. Берта продолжила тихим голосом. -- Сработало даже лучше, чем мы
ожидали.
-- Пожалуй, -- согласился Анелевич. -- Ицхак и Болеслав оба заслуживают
тех статуэток, которые американцы каждый год дают своим лучшим киноактерам.
Карие глаза Берты Флейшман заморгали.
-- Они не смогли бы сыграть лучше, если бы репетировали несколько лет,
не так ли? Остальные наши люди -- да и люди из Армии Крайовой, -- отметила
она, -- тоже действуют прекрасно.
-- Да, в этой толпе большинство людей или наши, или из польской армии,
-- сказал Мордехай. -- А в противном случае мы получили бы настоящий бунт
вместо спектакля.
-- Я рада, что никто не снял со спины винтовку и не пустил ее в ход, --
сказала Берта. -- Ведь не все знали, что это игра.
-- Твоя правда, -- сказал Анелевич. -- И полиция, и водители грузовиков
ящеров тоже этого не сделали. -- Он показал в конец длинной колонны
застрявших автомобилей. -- О, смотри. Некоторые как будто стараются
повернуть и использовать другую дорогу, чтобы выехать из города.
Берта заслонила глаза рукой, чтобы лучше видеть.
-- Да, это так. Но, похоже, у них еще будут неприятности. Я вот думаю о
тех, кто все это затеял. Кто бы он ни был, он сумел спешно вывести на улицу
большое количество людей.
-- Это определенно так. -- И Мордехай улыбнулся ей. Она ответила ему
улыбкой. Пусть она и не красавица, но ему нравилось, как она выглядит, когда
радуется, как в этот раз. -- Я думаю, эти несчастные грузовики еще долго не
смогут никуда уехать.
-- Боюсь, что ты прав. -- Берта театрально вздохнула. -- Какая жалость!
Они с Мордехаем снова рассмеялись.
* * *
Конечно, ящеры были, мягко говоря, не великанами. Но даже среди ящеров
Страха был коротышкой: рослый девятилетний мальчик мог смотреть на него
свысока. Впрочем, среди ящеров, как и среди людей, рост не влиял на силу
личности. Каждый раз, когда Сэм Игер начинал разговор с бывшим командиром
корабля "106-й Император Йоуэр", через пару минут он забывал, что Страха
ростом ему по пояс.
-- Не сдавшись сразу, вы, Большие Уроды, создали Атвару, адмиралу с
тухлыми мозгами, проблему, которую он не в состоянии решить, -- заявил
Страха. -- В свое время я убеждал его нанести серию ударов против вас,
ударов настолько сильных, чтобы у вас не было иного выбора, кроме как
подчиниться Расе. Прислушался он ко мне? Нет!
Усиливающее покашливание Страхи было шедевром грубости.
-- Почему же он не сделал этого? -- спросил Игер. -- Я всегда удивлялся
этому. Похоже, что Раса ни разу не решилась усилить давление больше, чем на
один шаг за раз. Это позволило нам -- как бы это сказать? -- пожалуй,
подойдет слово "адаптироваться".
-- Истинно так, -- подтвердил Страха, снова добавив усиливающее
покашливание. -- Главная вещь, которой мы не понимали в течение более
долгого, чем следовало, времени, это то, как быстро вы, тосевиты, умеете
приспосабливаться. Этот дурак Атвар продолжал рассматривать кампанию,
которую мы вели против вас, как войну с варварами доиндустриальной эры.
Именно к этому мы и готовились. Но даже его глаза не могли игнорировать
действительность. Он считал, что следует приложить большие усилия, чем было
запланировано, но всегда старался свести увеличения к минимуму, то есть как
можно меньше менять план, которого мы придерживались, высаживаясь на
Тосев-3.
-- Большинство ящеров такие же, так ведь? -- Сэм произнес
пренебрежительное название Расы таким же будничным тоном, какой использовал
Страха, произнося кличку, присвоенную Расой человечеству. -- Вы не очень-то
стремитесь к изменениям, правда?
-- Конечно, нет, -- сказал Страха -- для ящера он был поистине
радикалом. -- Когда вы находитесь в хорошей ситуации, то зачем -- если
только у вас есть разум -- вы будете изменять ее? Наверняка она станет
только хуже. Изменениями нужно управлять очень осторожно, или вы можете
разрушить целое общество.
Сэм улыбнулся ему.
-- И как же тогда вы относитесь к нам?
-- Наши ученые потратят тысячи лет, стараясь понять нас, -- отвечал
Страха. -- Если бы мы не прибыли сюда, вы могли бы уничтожить самих себя в
относительно короткий период. Помимо прочего, вы уже работаете над созданием
своего собственного атомного оружия, и с ним вы беспрепятственно сделаете
эту планету необитаемой. Почти жаль, если это у вас не получится.
-- Большое спасибо, -- сказал Игер. -- Мы вас тоже очень любим.
Он добавил усиливающий кашель, хотя и не был уверен, можно ли
использовать его для придания словам сардонического оттенка.
Рот Страхи открылся от удивления: возможно, он понял иронию -- а может
быть, бывший командир корабля смеялся над тем, как Сэм исказил его язык.
Затем Страха сказал:
-- Как большинство самцов Расы, Атвар -- минималист. А вот вы, Большие
Уроды, -- максималисты. В долгосрочном плане, как я указывал, это может,
вероятно, оказаться катастрофическим для вашего вида. Я не могу себе
представить, чтобы вы, тосевиты, построили Империю, стабильную в течение
сотни тысяч лет. Сможете?
-- Нет, -- заметил Сэм.
Годы, которые имел в виду Страха, составляли лишь половину земного
эквивалента, но тем не менее пятьдесят тысяч лет назад люди жили в пещерах и
имели дело с мамонтами и саблезубыми тиграми. Игер не мог представить себе,
что произойдет хотя бы через пятьдесят лет, не говоря уже о пятидесяти
тысячах.
-- А вот в краткосрочном планировании ваша склонность к непредсказуемым
изменениям создает трудности, с которыми наш род никогда прежде не
встречался, -- сказал Страха. -- По стандартам Расы я -- максималист и,
таким образом, должен быть более приспособлен к руководству нами против
вашего рода.
По человеческим стандартам Страха был более консерватором, чем
демократ-южанин с сорокапятилетним стажем сенаторства, но Игер не нашел
подходящего повода, чтобы сказать это. Ящер продолжил:
-- Я верю в действия, а не дожидаюсь бесконечного ухудшения, как это
делают Атвар и его клика. Когда советская ядерная бомба показала нам,
насколько катастрофически мы недооценивали ваш род, я пытался изгнать дурака
Атвара и передать общее командование более подходящему самцу, такому как я
сам. И когда мое предприятие сорвалось, я предпринял конкретные действия --
перебежал к вам, тосевитам, вместо того чтобы ждать, когда Атвар отомстит
мне.
-- Истинно так, -- сказал Игер. Это была правда. Пожалуй, по стандартам
ящеров Страха и в самом деле был быстр, как метеор. -- И в последние дни с
вашей стороны таких конкретных действий добавилось, не так ли? Между прочим,
что поделывают мятежники в Сибири?
-- Ваши радиоперехваты показывают, что они сдались русским, -- ответил
Страха. -- Если с ними будут хорошо обходиться, это покажет другим
недовольным подразделениям -- а их должно быть немало, -- что они тоже могут
пойти на мир с тосевитами.
-- Это было бы прекрасно, -- сказал Сэм. -- Когда ваш главнокомандующий
поймет, что ему нужно заключить с нами мир, что он не может завоевать всю
планету, как планировала Раса, когда направляла вас с Родины?
Если бы Страха был котом, от этого вопроса у него бы шерсть встала
дыбом. Да, он презирал Атвара. Да, он перебежал к американцам. Но в глубине
сердца он по-прежнему оставался лояльным Императору, и мысль о том, что
одобренный Императором план может сорваться, вызывала у него резкое урчание
в животе.
Но командир корабля пренебрег этим, спросив в свою очередь:
-- А когда вы, Большие Уроды, поймете, что не сможете нас уничтожить
или изгнать со своей жалкой холодной планеты?
Теперь заворчал Игер. Когда США воевали с нацистами и японцами, все
считали, что война должна продолжаться до тех пор, пока плохих парней не
сровняют с землей. Разве не так должны действовать воины? Кто-то побеждает и
отбирает барахло у тех, кто проиграл. Если на Землю спустились ящеры и
отобрали часть планеты у человечества, означает ли это, что они победили?
Когда Сэм произнес это вслух, Страха задвигал глазами в разные стороны,
что означало удивление.
-- Вы, Большие Уроды, существа с самоуверенной гордостью, -- воскликнул
командир корабля. -- Ни один план Расы никогда не срывался. Если мы не
сможем получить вашу планету целиком, если мы оставим империи и не-империи
Больших Уродов целыми и независимыми, мы будем страдать от унижения,
которого никогда прежде не испытывали.
-- В самом деле? -- спросил Игер. -- Но как же тогда ящеры и люди
собираются жить вместе и решать общие вопросы? Мне кажется, что мы в тупике.
-- С нами этого не случилось бы, не будь упрямства Атвара, -- сказал
Страха. -- Как я говорил раньше, единственный путь, на который он согласен,
а именно полная победа любой ценой, становится явно невозможным.
-- Если он этого еще не понял...
Но тут Сэм остановился и покачал головой. Надо вспомнить точку зрения
ящеров. То, что на близком расстоянии выглядит как катастрофическое
поражение, может показаться лишь кочкой на дороге в контексте тысячелетий.
Люди подготовились к следующей битве, а ящеры -- к следующему тысячелетию.
Страха сказал:
-- Если он поймет -- если такое вообще возможно, -- то, я думаю, он
сделает одно из двух. Он может попытаться заключить мир на принципах,
которые мы с вами обсуждали. Или он может пустить в ход кое-какой ядерный
арсенал Расы, чтобы принудить вас, тосевитов, к покорности. Это то, что
сделал бы я. Но то, что я предлагал, вряд ли может быть сделано теперь.
-- И хорошо! -- искренне сказал Игер. Он уже не участвовал в
американской программе по созданию ядерной бомбы, но знал, что эти адские
машины не сходят с конвейера, как автомобили "Де Сото". -- Другой фактор,
который его удерживает, -- это ваш флот колонизации, не так ли?
-- Истинно так, -- сразу же ответил Страха. -- Это соображение
останавливало наши действия в прошлом и продолжает влиять на них до сих пор.
Однако Атвар может решить, что заключение мира с вами оставит Расе меньше
обитаемой поверхности Тосев-3, чем та, которую он надеется получить,
уничтожив значительные территории планеты по нашему выбору.
-- Это не остановит нас от продолжения борьбы, вы понимаете, -- сказал
Сэм, надеясь, что его слова не пропадут даром.
Очевидно, что Страха так не считал.
-- Мы болезненно беспокоимся об этом. Это один из факторов, который до
некоторой степени отклонил нас от курса. Однако более важным является наше
желание не повредить планету ради наших колонистов, как вы сами заметили.
-- Ммм-хмм, -- произнес Сэм, ощущая иронию ситуации: безопасность Земли
держится на заботе ящеров об их собственном будущем, а не на беспокойстве о
человеческих существах. -- Что будет с нами в течение восемнадцати лет --
пока остальные ваши сородичи не явятся сюда?
-- Нет, срок вдвое дольше, -- ответил Страха. Затем он издал шум
наподобие кипящего чайника. -- Мои извинения, если вы используете
тосевитские годы, то вы правы.
-- Да, я имел в виду их -- я ведь все-таки тосевит, -- сказал Игер с
улыбкой. -- Что подумают ваши колонисты, когда окажутся в мире, который не
полностью в ваших руках, как должно было быть?
-- Команды звездных кораблей будут знать об изменении условий, когда
перехватят наши сигналы, направленные на Родину, -- сказал Страха. --
Несомненно, это наполнит их ужасом и приведет в замешательство. Если
помните, нашему флоту вторжения понадобилось некоторое время, чтобы начать
приспосабливаться к непредвиденным условиям на Тосев-3. Для них эта
непредвиденность тоже будет новостью. В любом случае они мало что смогут
сделать. Флот колонизации не имеет вооружения: мы исходили из того, что флот
вторжения полностью умиротворит этот мир до прибытия колонистов. И конечно,
сами колонисты находятся в холодном сне и останутся в неведении об истинной
ситуации, пока не оживут после прибытия флота.
-- Это будет для них сюрпризом, не так ли? -- сказал Сэм, хмыкнув. --
Между прочим, сколько их будет?
-- Я точно не знаю, -- ответил Страха. -- На моей ответственности
прежде всего был флот вторжения. Но если основой для экспедиции послужила
наша практика по колонизации миров Работев и Халесс -- почти наверняка так и
будет, учитывая нашу любовь к прецедентам, -- то мы пошлем сюда от
восьмидесяти до ста миллионов самцов и самок... Ваш кашель на моем языке
ничего не означает, Сэмигер. -- Он произносил имя и фамилию Игера, как будто
они были одним словом. -- Имеет ли он какое-нибудь значение в вашем языке?
-- Извините, командир корабля, -- сказал Сэм после того, как снова
обрел способность связно говорить. -- Должно быть, поперхнулся или что-то в
этом роде. -- "Восемьдесят или сто миллионов колонистов?" -- Раса ничего не
делает, не правда ли?
-- Истинно так, -- ответил Страха.
* * *
-- Одно унижение за другим, -- в глубоком расстройстве произнес Атвар.
С того места, где он стоял, ситуация на поверхности Тосев-3 выглядела
унылой. -- Наверное, все-таки стоило нам потратить ядерный заряд на этих
мятежников, чем позволить им сдаться СССР.
-- Истинно, -- сказал Кирел. -- Потери вооружений большие. Через
короткое время Большие Уроды скопируют какие-то особенности, когда поймут,
как их украсть. Это случалось раньше и происходит снова: у нас есть
последнее сообщение, что немцы, например, начинают применять подкалиберные
бронебойные снаряды против наших танков.
-- Я видел эти сообщения, -- подтвердил командующий флотом, -- Они не
наполняют меня радостью.
-- Меня тоже, -- ответил Кирел. -- Более того, потеря территории,
которую прежде контролировала база, где взбунтовался гарнизон, создала нам
новые проблемы. Хотя погодные условия в этой местности остаются
исключительно плохими, у нас есть свидетельства, что СССР пытается
восстановить железнодорожное сообщение с востока на запад.
-- Как они могут это сделать? -- сказал Атвар. -- Наверняка даже
Большие Уроды замерзнут, если их заставят работать в таких условиях.
-- Судя по тому, что мы видели в СССР, благородный адмирал, похоже, там
вряд ли больше беспокоятся о здоровье своих рабочих, чем в Германии, --
сказал Кирел печально. -- Выполненная работа имеет большую ценность, нежели
человеческие жизни, истраченные в процессе ее выполнения.
-- Истинно, -- сказал Атвар, затем добавил: -- Безумие, -- сопроводив
слово усиливающим кашлем. -- Немцы временами, кажется, ставят расходование
жизней выше, чем получение труда. Как называлось место, в котором они
проявили столько выдумки в уничтожении? Треблинка -- так оно называлось.
Раса даже представить себе не могла существование центра, полностью
отведенного для уничтожения разумных существ.
Атвар ждал, что Кирел назовет сейчас еще одно, возможно, самое главное
отрицательное последствие падения сибирской базы. Кирел не назвал его.
Скорее всего, Кирел не думал об этом. Он был хорошим командиром корабля,
лучше и не придумаешь, -- если кто-нибудь говорил ему, что надо делать. Даже
для самца Расы у него было мало воображения.
Поэтому заговорил Атвар:
-- Мы теперь должны решить проблему пропагандистских радиопередач от
мятежников. Они говорят, что они в хорошем настроении, хорошо питаются, с
ними хорошо обращаются, у них в достатке эта вредоносная трава имбирь, для
развлечения. Такие передачи могут не только вызвать новые мятежи, но и
дезертирство отдельных самцов, которые не найдут партнеров для тайного
сговора.
-- То, что вы сказали, скорее всего правильно, -- согласился Кирел. --
Надо надеяться, что усиленный надзор за офицерами поможет решить проблему.
-- Да, надо надеяться, -- сказал Атвар с глубоким сарказмом. -- Следует
также надеяться, что к концу зимы мы не потеряем слишком много пространства
в северном полушарии и что партизанские налеты на наши позиции будут
ослабевать. В некоторых местах -- например, в Италии -- мы не способны
управлять или контролировать территорию, которая объявлена находящейся под
нашей юрисдикцией.
-- Нам требуется лучшее сотрудничество с тосевитскими авторитетными
лицами, которые сдались нам, -- сказал Кирел. -- Это относится ко всей
планете, особенно к Италии, где наши силы снова могут оказаться в состоянии
войны.
-- Большинство итальянских авторитетных лиц погибли, когда атомная
бомба разрушила Рим, -- ответил Атвар. -- А те, кто остался, в основном
симпатизируют своему свергнутому не-императору, этому Муссолини. Как бы я
хотел, чтобы немецкому налетчику Скорцени не удалось украсть его и тайно
переправить в Германию. Его радиопередачи вместе с передачами нашего бывшего
союзника Русецкого и изменника Страхи показали себя наиболее разрушительными
из всех контрпропагандистских усилий, направленных против нас.
-- Этот Скорцени -- словно булавка, воткнутая нам под чешую, он мешал
нам в течение всей завоевательной кампании, -- сказал Кирел. -- Он
непредсказуем даже для тосевита и смертельно опасен.
-- Хотелось бы спорить, но все верно, -- с досадой согласился адмирал.
-- В дополнение ко всему злу, которое он причинил нам, он стоил мне
Дрефсаба, офицера разведки, который был одновременно уклончивым и энергичным
в такой степени, что мог соревноваться с Большими Уродами.
-- Что делать теперь, благородный адмирал? -- спросил Кирел.
-- Будем продолжать, и как можно лучше, -- ответил Атвар.
Ответ не удовлетворил его и наверняка не удовлетворил Кирела. Стараясь
улучшить положение, Атвар добавил:
-- Мы должны усилить меры безопасности по охране наших звездных
кораблей. Если Большие Уроды смогут украсть ядерное оружие, даже с небольшим
радиусом действия, потенциально они получат возможность нанести нам еще
больший урон, чем тот, который уже нанесли.
-- Я издам приказ, предупреждающий такие случайности, -- сказал Кирел.
-- Я согласен, это серьезная опасность. Я также подготовлю меры, тщательное
исполнение которых сделает этот приказ эффективным.
-- Хорошо, -- сказал Атвар. -- И поподробнее. Не допустите никаких
возможных ловушек, из-за которых беззаботный самец может послужить причиной
несчастья. -- Все это были стандартные советы одного самца Расы другому.
Через мгновение, однако, командующий флотом задумчиво добавил: -- Прежде чем
объявлять приказ и дополнительные инструкции, проконсультируйтесь с самцами,
у которых есть опыт действий на поверхности Тосев-3. Возможно, они помогут
усовершенствовать предлагаемые вами меры.
-- Будет исполнено, господин адмирал, -- обещал Кирел. -- Могу я с
уважением предположить, что никто из нас здесь, на орбите, не имеет
достаточно непосредственного опыта в отношении условий на поверхности
Тосев-3?
-- В том, что вы сказали, есть доля правды, -- ответил Атвар. --
Возможно, мы должны проводить больше времени на самой планете -- в
достаточно безопасной области, предпочтительно с полезным для здоровья
климатом.
Он вызвал на экран компьютера карту поверхности Тосев-3. Одни цвета,
наложенные друг на друга, показывали уровень безопасности в категориях,
начиная от незавоеванной до мирной (хотя угнетающе малая часть планеты была
окрашена этим мирным розовым цветом). Другой цвет отображал климатические
данные. Атвар дал команду компьютеру показать место, где оба фактора
оптимальны.
-- Северный береговой регион субконтинентальной массы, который тосевиты
называют Африкой, кажется, ближе всего к идеалу, чем любое другое место, --
прокомментировал Кирел.
-- Так и есть, -- сказал Атвар. -- Я там уже был. Приятная местность,
некоторые территории -- почти как у нас на Родине. Очень хорошо, командир
корабля, сделайте необходимые приготовления. Мы временно переместим
штаб-квартиру в этот регион, чтобы наблюдать за ведением завоевания вблизи.
-- Будет исполнено, благородный адмирал, -- сказал Кирел.
* * *
Людмиле Горбуновой очень хотелось пнуть генерал-лейтенанта графа
Вальтера фон Брокдорф-Алефельдта в то самое место, о котором все знают. Но
поскольку проклятый нацистский генерал остался в Риге, а она застряла
неподалеку от Хрубешова, это было невозможно. Поэтому она просто топнула по
грязи. Грязь пристала к ее сапогу, от чего настроение не улучшилось.
Она не думала о Брокдорф-Алефельдте как о проклятом нацисте, когда была
в Риге. Он показался ей культурным обаятельным генералом, не то что
невоспитанные советские офицеры или наглые немцы, с которыми ей большей
частью приходилось иметь дело.
-- Слетайте ради меня на одно небольшое задание, старший лейтенант
Горбунова, -- бормотала она шепотом. -- Захватите пару противотанковых мин в
Хрубешове, затем вернетесь сюда, и мы отправим вас в Псков, похлопав по
плечу в знак благодарности.
Конечно, это не совсем то, что говорил ей культурный генерал, и он не
пытался похлопать ее по плечу, что, в частности, и было признаком культуры.
Но если бы он не послал ее в Хрубешов, то ее "кукурузник" не попытался бы
протаранить подвернувшееся дерево, а значит, она и в дальнейшем могла бы на
нем летать.
-- А значит, не застряла бы здесь, под Хрубешовом, -- прорычала она и
снова топнула по грязи.
Грязные брызги долетели до ее щеки. Она выругалась и плюнула.
Она всегда считала "У-2" почти вечным, в частности потому, что эти
самолеты были слишком простыми, чтобы их было можно сломать. Когда-то на
Украине она приземлилась, уткнувшись носом в грязь, и самолет легко
починили. А вот влепить "кукурузник" в дерево -- это рекордная глупость.
-- И какой черт оставил дерево посредине посадочной полосы? -- спросила
она Бога, в которого не верила.
Это был не черт. Это были идиоты-партизаны.
Конечно, она летела ночью. Конечно, одним глазом она смотрела на
компас, другим -- на наручные часы, еще одним -- на землю и небо, а еще
одним -- на указатель топлива: она почти желала быть ящером, которые умеют
вертеть глазами независимо друг от друга. Отыскать слабо освещенную
партизанскую посадочную полосу уже было -- нет, не чудом, потому что она не
верила в чудеса, -- большим достижением, без малейшего преувеличения.
Она сделала круг. Направила "кукурузник" вниз. Двигалась плавно. Но не
видела молодую елку -- чертову палку, -- пока не врезалась прямо в нее.
-- Сломаны лонжероны крыла, -- сказала она, подсчитывая неисправности
на пальцах. -- Сломан пропеллер. -- И то и другое из дерева, значит, можно
починить. -- Сломан коленчатый вал. -- А вот вал из металла, и она не
представляла, что с ним можно сделать в этих условиях.
Позади нее кто-то кашлянул. Она крутнулась на месте, как испуганная
кошка. Рука инстинктивно схватилась за рукоятку автоматического пистолета
Токарева. Партизан, подошедший к ней, испуганно отшатнулся. Это был
болезненного вида бородатый нервный маленький еврей, который отзывался на
имя Шолом. Она кое-как разбирала смесь его польского и идиш, а он немного
знал по-русски, так что им удавалось понять друг друга.
-- Идемте, -- сказал он. -- Мы позовем кузнеца из Хрубешова. Он
посмотрит, что с вашей машиной.
-- Хорошо, иду, -- печально ответила она.
Да, "У-2" нетрудно починить, но, подумала она, вряд ли кузнец сможет
починить обработанную деталь так хорошо, чтобы самолет мог снова взлететь.
Это был один из самых крупных мужчин, которых она когда-либо видела,
почти два метра ростом и чуть ли не с такими же широкими плечами. По виду он
мог бы разогнуть коленчатый вал в нужную форму голыми руками, если бы он был
целым. Но вал был не просто погнут, он был сломан пополам.
Кузнец говорил по-польски и слишком быстро, чтобы Людмила могла его
понять. Шолом пересказал его слова:
-- Витольд говорит, что если это сделано из металла, он починит. Он
сказал, что он чинил множество телег.
-- Он когда-нибудь ремонтировал автомобиль? -- спросила Людмила.
Если ответ будет положительным, возможно, у нее появится надежда в
конце концов оторваться от земли.
Услышав ее голос, Витольд удивленно замигал. Затем принял
величественную позу; его и без того огромная грудь надулась, как воздушный
шар. На руках вздулись мускулы. И он снова быстро заговорил. И снова Шолом
превратил его скороговорку в понятное.
-- Он говорит, конечно. Он говорит, что для вас он починит все что
угодно.
Людмила принялась изучать кузнеца прищуренными глазами. Она подумала,
что он имел в виду нечто большее: некоторые из его польских слов звучали
очень похоже на русские непристойности. Что ж, поскольку она их не поняла,
ей не нужно и реагировать. В данный момент это самое разумное.
Шолома она попросила:
-- Скажите ему, чтобы он осмотрел повреждения и решил, что он может
сделать.
Витольд важно встал возле нее, выпятив грудь, подняв кверху подбородок
и выпрямив спину. Людмила была невысокого роста и чувствовала себя рядом с
ним еще меньше. И от этого кузнец ей совсем разонравился.
Пару минут он рассматривал биплан, затем спросил:
-- Что тут сломалось, чтобы это починил кузнец?
-- Коленчатый вал, -- ответила Людмила.
Красивое лицо Витольда оставалось спокойным даже после того, как Шолом
перевел ее ответ на польский. Людмила с ядовитой любезностью спросила:
-- Вы ведь знаете, что такое коленчатый вал, не так ли? Если вы
работали с автомобилями, вы это хорошо знаете.
Перевод Шолома, порция быстрых польских слов Витольда. Людмила кое-что
поняла, и ей не понравилось то, что она услышала. Слова Шолома не улучшили
ее настроения:
-- Он говорит, что работал с автомобильными рессорами и выправлял
вмятины на -- как это сказать? -- на грязевых щитках, вы понимаете? Он не
работал с моторами автомобилей.
-- Боже мой! -- проговорила Людмила.
Она была атеисткой, но божба позволяла отвести душу, и поэтому она
обратилась к Богу. Рядом стоял Витольд, сильный, как бык, и такой же
полезный для нее, как если бы и вправду носил в носу бычье кольцо. Она
набросилась на Шолома, съежившегося от ее крика.
-- Почему вы не нашли мне настоящего механика вместо этого грубого
идиота?
Витольд испустил яростный рев, похожий на бычий. Шолом беспомощно пожал
плечами.
-- До войны в Хрубешове было всего два механика по моторам, пани пилот.
Один из них уже мертв -- забыл, кто его убил, нацисты или русские. Второй
лижет задницы ящерам. Если мы его сюда приведем, он все расскажет им.
Витольд так много не сможет сделать, зато он верный.
Витольд тоже понял. Он заорал и занес массивный кулак, собираясь
ударить Шолома в лицо.
Еврейский партизан не казался вооруженным. Но теперь, словно фокусник,
он достал "Люгер" чуть ли не из воздуха и навел его на Витольда.
-- У евреев теперь есть оружие, Витольд. Тебе лучше помнить об этом.
Скажи что-нибудь о моей матери, и я отстрелю твои шарики. Мы больше не
потерпим говна от вас, поляков.
На польском или на русском -- дерьмо означает дерьмо.
Бледно-голубые глаза Витольда широко раскрылись. Рот тоже открылся и
закрылся несколько раз, но ни единого слова не прозвучало. Ни слова не
говоря, он повернулся и пошел прочь. Весь его гонор вышел из него, как
воздух из проколотой велосипедной шины.
Людмила тихо сказала Шолому:
-- Вы только что дали ему повод продать нас ящерам.
Шолом пожал плечами. "Люгер" исчез.
-- Но дышать-то он хочет. Он будет молчать -- или умрет. Он знает это.
-- Тогда понятно, -- сказала Людмила.
Шолом рассмеялся.
-- Да, тогда понятно. И в России тоже так?
Людмила собралась сердито отчитать его, но остановилась, прежде чем
слова сорвались с губ. Ей вспомнились соседи, учителя и двое двоюродных
братьев, исчезнувших в 1937-м и 1938-м. Сегодня они были, а назавтра
исчезли. Не спрашивай о них, не говори о них. Если спросишь, исчезнешь
следующей. Такое тоже случалось. И все склоняли голову, делая вид, что
ничего не происходит, и надеялись, что террор минует их стороной.
Шолом наблюдал за ней темными, глубоко посаженными глазами, полными
иронии. Наконец, чувствуя, что ей необходимо что-то сказать, она ответила:
-- Я старший лейтенант авиации. Вам бы понравилось, если бы вы
услышали, как оскорбляют ваше правительство?
-- Мое правительство? -- Шолом плюнул на землю. -- Я -- еврей. Вы
думаете, польское правительство -- мое? -- Он снова расхохотался: на этот
раз в хохоте чувствовалась тяжесть столетий угнетения. -- А затем пришли
немцы и сделали поляков приятным и добрым народом. А это мало кому по плечу.
-- Именно поэтому вы здесь, а не с ящерами в Хрубешове? -- спросила
Людмила.
В следующее мгновение она почувствовала, что вопрос не слишком
тактичен, но она уже задала его.
-- Некоторые вещи плохи, некоторые еще хуже, а некоторые -- хуже всего,
-- ответил Шолом. Он сделал паузу, убеждаясь, что Людмила поняла польские
сравнительные и превосходные степени. Когда он решил, что она разобралась,
добавил: -- Для евреев -- немцы хуже всего. Для людей -- ящеры хуже всего.
Кто я -- человек или еврей?
-- Прежде всего вы -- человек, -- тут же ответила Людмила.
-- Для вас это звучит так просто, -- со вздохом сказал Шолом. -- Вот
мой брат Мендель, так он в Хрубешове. -- Еврей снова пожал плечами. --
Случаются и такие вещи.
Не зная, что сказать, Людмила молчала. Она еще раз заботливо осмотрела
"У-2". Самолетик был прикрыт, так что его было трудно заметить с воздуха,
хотя маскировка получилась менее тщательной, чем дома. Она постаралась не
беспокоиться об этом. Партизан еще не выловили, значит, их способностей к
камуфляжу вполне достаточно.
В определенном смысле их маскировка была очень изобретательной,
некоторые уловки она уже знала по собственному опыту. Примерно в двух
километрах от лагеря они разводили большие костры, палатки изображали
присутствие значительных сил. Ящеры пару раз обстреливали фальшивый лагерь,
в то время как настоящий лагерь так и не пострадал.
Здесь костры были небольшими, все они горели внутри палаток или были
скрыты под кусками брезента, растянутого на палках. Люди ходили туда-сюда,
сидели вокруг костров, некоторые чистили оружие, другие просто болтали,
третьи играли в карты. В отряде были и женщины, примерно одна на шестерых
партизан. Некоторые, казалось, вряд ли были чем-то большим, нежели просто
поварихи или подружки, но попадались и настоящие солдаты. Мужчины обращались
с женщинами-бойцами, как с равными, но с остальными вели себя так же грубо и
насмешливо, как крестьяне со своими женами.
Молодой еврей в немецкой серой шинели отвлекся от игры в карты, чтобы
бросить в горшок какую-то траву и размешать железной ложкой с деревянной
ручкой. Поймав взгляд Людмилы, он самодовольно рассмеялся и сказал что-то на
идиш. Она поняла: в Хрубешове он был поваром, а теперь скатился до этого.
-- Лучше, когда настоящий повар готовит, чем неумеха, -- ответила она
по-немецки и показала на живот, чтобы стало ясно, что она имела в виду.
-- Это да, -- ответил еврей. Он снова помешал в горшке. -- Это соленая
свинина. Единственное мясо, которое мы можем добыть. Теперь мы едим его, и я
должен сделать его вкусным!
Он возвел глаза к небу, как бы говоря, что разумный Бог никогда бы не
довел его до такого унижения.
Что касается Людмилы, то диетические правила, из-за нарушения которых
мучился еврей, были для нее примитивными предрассудками, которые современные
прогрессивные люди должны игнорировать. Правда, сама она не была свободна от
них. Даже великий Сталин заключил мир с православным патриархом в Москве и
призвал Господа на сторону Красной Армии. Если предрассудки могут служить
делу, какой смысл критиковать их?
Она была достаточно молода, чтобы такой компромисс со средневековьем
воспринимался ею как измена. Затем она поняла, что для еврея готовить
солонину и -- более того -- употреблять ее в пищу было святотатством. Он,
конечно, заблуждался, мучаясь из-за этого, но не был неискренним.
После еды она чистила миску снегом, когда одна из женщин -- не из тех,
кто носил оружие, -- подошла поближе. Нерешительно и запинаясь женщина
(вообще-то почти девочка, вряд ли ей было больше семнадцати) спросила
по-русски:
-- Вы в самом деле воевали на этом самолете против ящеров?
-- Да, а раньше -- против нацистов, -- ответила Людмила.
Глаза девушки -- очень большие и очень голубые -- широко раскрылись.
Она была стройной и хорошенькой и была бы красавицей, если бы ее лица не
портило тупое коровье выражение.
-- О небеса! -- выдохнула она. -- Сколько же мужчин вам пришлось
окрутить, чтобы они допустили вас до этого?
Вопрос был наивным и чистосердечным, но менее гнусным для Людмилы он от
этого не стал. Людмиле захотелось встряхнуть ее.
-- Я никого не окручивала, -- возмущенно сказала она. -- Я...
-- Ничего, -- перебила девушка (ее имя было Стефания). -- Вы можете
сказать. Это ведь не так уж важно. Уж раз вы женщина, вы должны делать такие
вещи снова и снова. Это все знают.
-- Я -- никого не окручивала, -- повторила Людмила, раздельно произнося
слова, словно она говорила с умственно отсталой. -- Многие мужчины пытались
окрутить меня. Я стала пилотом, потому что я состояла в Осоавиахиме --
государственной программе подготовки летчиков -- перед войной. Я умею делать
то, что делаю. Если бы не умела, меня бы уже двадцать раз успели убить.
Пристальный взгляд в лицо польской девушки почти убедил Людмилу, что
она сумела что-то объяснить. Затем Стефания тряхнула головой, светлые косы
качнулись назад и вперед.
-- Мы знаем, что приходит от русских: ничего, кроме лжи.
И, как Витольд, она пошла прочь.
Людмиле хотелось пристрелить эту глупую сучку. Она закончила чистить
миску.
Это был ее второй полет за пределы Советского Союза. И оба раза она
видела, как мало ценят иностранцы ее страну. Непроизвольной реакцией на это
было презрение. Иностранцы -- всего лишь невежественные реакционеры, если не
способны оценить славные достижения советского государства и его намерение
принести преимущества научного социализма всему человечеству.
Затем она вспомнила партийные чистки. Разве ее двоюродный брат, ее
учитель геометрии и тот человек, который торговал в табачном киоске напротив
ее дома, и в самом деле были контрреволюционерами, вредителями, шпионами
троцкистов или загнивающих империалистов? Когда-то ее это мучило, но она
давно не позволяла себе опасных воспоминаний. Она инстинктивно чувствовала,
что такие мысли грозят опасностью ей самой. Насколько же славны достижения
советского государства, если вы не смеете о них подумать? Нахмурившись, она
положила свою миску вместе с остальными.
Уссмаку казалось, что такого жалкого самца ему не доводилось видеть с
тех самых пор, как он вылупился из яйца. Дело было не только в том, что на
бедняге не было раскраски, хотя голое тело явственно демонстрировало его
жалкое состояние. Хуже было то, как глаза самца неотрывно следовали за
Большим Уродом, которому он служил переводчиком, как будто тосевит был
солнцем, а он сам -- лишь незначительной планеткой.
-- Это -- полковник Борис Лидов, -- произнес самец на языке Расы, хотя
титул прозвучал по-русски. -- Он из народного комиссариата внутренних дел --
НКВД -- и будет вашим следователем.
Уссмак коротко взглянул вверх на тосевита. Тот выглядел как обычный
Большой Урод, причем не особенно внушительный: тощий, с узким морщинистым
лицом, с небольшим количеством меха на голове и с маленьким ртом, с еще
более плотно сжатыми губами, чем у обычных тосевитов.
-- Очень приятно, -- сказал Уссмак, сообразив, что Большие Уроды хотят
задать ему некоторые вопросы, -- а вот кто вы, друг? Как вы оказались на
этой должности?
-- Меня звали Газзим, я был стрелком второго ранга, пока мой
бронетранспортер не был уничтожен, а меня не взяли в плен, -- ответил самец.
-- Теперь у меня нет ранга. Я существую из милости Советского Союза. --
Газзим понизил голос. -- А теперь и вы тоже.
-- Наверняка это не так плохо, -- сказал Уссмак. -- Страха, командир
корабля, который дезертировал, объявил, что большинство тосевитских
не-империй хорошо обращается с пленными.
Газзим не ответил. Лидов заговорил на местном языке, звучавшем для
Уссмака, словно шум, который издает самец, проглотивший слишком большой
кусок пищи. Газзим отвечал похожими звуками, вероятно, объясняя тосевиту,
что сказал Уссмак.
Лидов сжал вместе кончики пальцев, причем каждый палец прикасался к
такому же пальцу другой руки. Этот странный жест напомнил Уссмаку, что он,
несомненно, имеет дело с чуждым видом. Затем тосевит снова заговорил на
своем языке. Газзим перевел:
-- Он хочет знать, для чего вы здесь.
-- Я даже не знаю, где нахожусь, не говоря уже о том -- для чего, --
ответил Уссмак с некоторой резкостью. -- После того как мы сдали базу
солдатам СССР, нас вначале посадили в ведомые животными перевозочные
средства, а затем в совершенно жуткие железнодорожные вагоны, затем наконец
в другие перевозочные средства, из которых было нельзя посмотреть наружу.
Эти русские не выполняют соглашения, которым они должны следовать, как
обещал Страха.
Выслушав перевод, Лидов откинул голову назад и издал своеобразный
лающий шум.
-- Это он смеется, -- объяснил Газзим. -- Он смеется, потому что самец
Страха не имеет опыта общения с тосевитами СССР и не знает, о чем говорит.
Уссмак не придал значения этим словам.
Он сказал:
-- Это поражает меня меньше, чем почетное место, которое было нам
обещано, когда мы согласились на условия сдачи. Если бы я не знал ничего
лучше, я мог бы сказать, что оно напоминает мне тюрьму.
Лидов снова расхохотался, причем еще до того, как слова Уссмака были
переведены.
"Он немного знает наш язык", -- подумал Уссмак и решил быть более
осторожным в отношении того, что говорит.
Газзим сказал:
-- Название этого места -- Лефортово. Это в Москве, столице СССР.
Совершенно естественно, казалось, даже не раздумывая, Лидов протянул
руку и ударил Газзима в морду. Лишенный раскраски самец съежился. Лидов
громко заговорил; будь Большой Урод самцом Расы, он, несомненно, отделял бы
каждое слово усиливающим покашливанием. Газзим отступил в позе послушания.
Когда Лидов закончил, переводчик сказал:
-- Я должен сказать вам, что мне не разрешено давать вам излишней
информации. Этот допрос -- для получения сведений от вас, а не для того,
чтобы давать их вам.
-- Тогда задавайте ваши вопросы, -- покорно сказал Ус-смак.
И вопросы начались -- они падали, как снег ненавистной Уссмаку
сибирской метели. Вначале это были вопросы, которые он задал бы тосевитскому
коллаборационисту, прошлого которого он не знал: вопросы о его военной
специальности и об опыте пребывания на Тосев-3 после того, как он ожил после
холодного сна.
Он смог рассказать полковнику Лидову о танках Расы. Самцы в танковых
экипажах по необходимости должны были знать больше, чем требовала их
специальность, чтобы они могли продолжать бой в случае потерь. Он
рассказывал об управлении машиной, о ее подвеске, об оружии, о двигателе.
После этого Лидов стал спрашивать о стратегии и тактике Расы и о других
Больших Уродах, с которыми тот воевал. Это озадачило его: наверняка Лидов
был лучше осведомлен о своем собственном роде, чем Уссмак. Газзим сказал:
-- Он хочет, чтобы вы перечислили все виды тосевитов в порядке их
способности воевать, по вашему мнению.
-- В самом деле?
Уссмак хотел задать Газзиму пару вопросов, прежде чем отвечать, но не
осмелился, и не потому, что следователь -- Большой Урод -- понимал язык
Расы. Он задумался, насколько искренним ему следует быть. Хочет Лидов
услышать похвалы тосевитским самцам или же ему нужна реальная информация?
Уссмаку пришлось гадать и выбрал следующее:
-- Скажите ему, что лучше всего воюют немцы, затем британцы, а затем
советские самцы.
Газзим поежился. Уссмак решил, что сделал ошибку, и задумался,
насколько она велика. Переводчик заговорил на квакающем русском языке,
передавая его слова полковнику Лидову. Маленький рот тосевита сжался еще
сильнее. Он произнес несколько слов.
-- Скажите ему, почему, -- сказал Газзим, ни намеком не выдавая реакцию
Лидова.
"Твоему яйцу следовало бы протухнуть, вместо того чтобы дать тебе
вылупиться, Газзим", -- подумал Уссмак. Но, начав, он должен был идти до
конца:
-- Немцы все время получают новые виды вооружения, каждое новое лучше
предыдущего, и они умеют тактически приспосабливаться. Тактически они лучше,
чем наши обучающие машины на Родине, и почти постоянно удивляют.
Лидов снова заговорил по-русски.
-- Он говорит, что СССР тоже, к своему сожалению, обнаружил это. СССР и
Германия жили в мире, были друзьями, и вот трусливые изменники немцы
предательски напали на эту миролюбивую не-империю.
Лидов сказал еще что-то. Газзим перевел.
-- А британцы?
Уссмак сделал паузу, прежде чем ответить. Он подумал, что мог бы
сказать немецкий самец о войне с СССР. Что-то другое, решил он. Он знал, что
тосевитская политика была гораздо более сложной, чем то, к чему он привык,
но этот Лидов вломился в его представления о мире, как стрелок на танке,
принуждающий огнем цель сдаться. Это доказывало, что он не прочь услышать и
что-то неприятное о соплеменниках из Больших Уродов.
Тем не менее вопрос о британцах дал Уссмаку время подготовиться к
рассказу о СССР. Бывший водитель танка Расы (страстно желавший теперь быть
только водителем) ответил:
-- Британские танки не могут по качеству сравниться с немецкими или
советскими. Правда, британская артиллерия очень хороша, и британцы первыми
применили против Расы ядовитые газы. Кроме того, остров Британия небольшой и
плотно заселен, и британцы очень хорошо проявили себя в застроенных
местностях. Это стоило нам больших потерь.
-- Так, -- сказал Лидов.
Уссмак повернул один глаз в сторону Газзима -- вопрос без
вопросительного покашливания.
Переводчик объяснил:
-- Это означает "так" или "хорошо". Это показывает, что ваши слова
приняты к сведению, но мнения о них не выражается. А теперь он хочет, чтобы
рассказали о самцах СССР.
-- Будет исполнено, -- вежливо сказал Уссмак, словно Лидов был старшим
над ним. -- Я хочу сказать, что русские самцы такие храбрые, как другие
тосевиты, которые мне встречались. Я хочу также сказать, что ваши танки
хорошо сделаны, имеют хорошую пушку, хороший мотор и особенно хороши у них
гусеницы для изрытой земли, столь обычной на Тосев-3.
Рот Лидова слегка приоткрылся. Уссмак принял это за хороший знак. Самец
из -- как это называется? -- из НКВД, сокращенное имя -- задал новый вопрос.
-- После всех этих комплиментов, почему вы ставите славных солдат
Красной Армии после немецких и британских?
Уссмак понял, что его попытка выехать на лести провалилась. Теперь ему
придется говорить правду, пусть частично, и вряд ли Лидов выслушает ее с
радостью. Самцы СССР искусно дробили восставших сибирских самцов на все
меньшие и меньшие группы, каждый раз приводя правдоподобные оправдания. И
теперь Уссмак остро почувствовал, насколько он одинок.
Выбирая слова с большой осторожностью, он сказал:
-- По моим наблюдениям в СССР, боевые самцы с трудом корректируют свои
планы, чтобы приспособиться к изменяющимся обстоятельствам. Они не так
быстро реагируют на них, как немцы или британцы. В этом отношении они
подобны Расе, что объясняет, вероятно, почему Раса добилась таких успехов в
войне с ними. Пути сообщения также оставляют желать лучшего, и ваши танки,
хотя и очень крепкие, не всегда размещаются наилучшим образом.
Полковник Лидов хмыкнул. Уссмак немного разбирался в звуках, которые
издают Большие Уроды, но этот звук вполне мог соответствовать задумчивому
шипению самца Расы.
Затем Лидов сказал:
-- Расскажите мне об идеологических мотивах вашего восстания против
угнетающей аристократии, которая властвовала над вами вплоть до начала
вашего сопротивления.
Когда Газзим перевел все это на язык Расы, Уссмак разинул рот в
язвительном смехе.
-- Идеология? Какая идеология? Моя башка была одурманена имбирем, члены
моего экипажа были только что убиты, Хисслеф, не переставая, орал на меня,
вот я его и пристрелил. Потом одно потянуло за собой другое. Если бы мне
пришлось делать это снова, я вряд ли бы пошел на убийство. Неприятностей это
принесло больше, чем выгоды.
Большой Урод хмыкнул снова. Он сказал:
-- Идеологический фундамент есть у всего, независимо от того, реализует
его кто-то сознательно или нет. Я поздравляю вас с ударом, который вы
нанесли тем, кто эксплуатировал вас ради своих эгоистических целей.
Уссмак убедился, что Лидов не имеет ни малейшего представления о
реальности. Все выжившие воины флота вторжения -- если предположить, что
такие будут, что не вполне очевидно, -- ко времени прибытия флота
колонизации стали бы в завоеванном мире выдающимися, значительными самцами.
В их распоряжении были бы годы для разработки ресурсов мира, и первый
звездный корабль, нагруженный ценностями, мог бы отправиться домой еще до
прибытия колонистов.
Уссмак задумался, сколько незаконного имбиря оказалось бы на борту
этого корабля. Даже если бы Большие Уроды и правда оказались дикарями,
разъезжающими на животных, все равно Тосев-3 создал бы Расе немало проблем.
При мысли об имбире Уссмаку остро захотелось его попробовать.
Полковник Лидов сказал:
-- Теперь разъясните мне по пунктам идеологию прогрессивных и
реакционных кругов в вашей правящей иерархии.
-- Я? -- с некоторым удивлением спросил Уссмак. Газ-зиму он попытался
объяснить: -- Напомни этому тосевиту, -- он помнил, что его не следует
называть Большим Уродом, -- что я всего лишь водитель танка и свои приказы
получал вовсе не от командующего флотом, знаешь ли.
Газзим заговорил по-русски. Лидов выслушал и спросил иначе:
-- Расскажите, что вы вообще знаете об этом. Важнее идеологии нет
ничего.
Уссмак мог бы привести целый список вещей, более важных, чем идеология.
В данный момент этот перечень начинался бы с имбиря, о котором он только что
вспомнил. Он подумал, почему Большого Урода так занимает абстракция, в то
время как существует множество по-настоящему важных вещей, о которых стоит
побеспокоиться.
-- Скажи ему, что я сожалею, но я не знаю, что отвечать, -- сказал
Уссмак Газзиму. -- Я ведь никогда не был никаким командиром. Я только делал
то, что мне говорили.
-- Это не очень хорошо, -- ответил Газзим после того, как высказался
Лидов. Самец казался обеспокоенным. -- Он считает, что вы лжете. Я должен
объяснить: политическая структура этой не-империи имеет идеологическое
основание, которое выполняет роль центра таким же точно образом, как у нас
Император.
Лидов не ударил Газзима, как прежде: очевидно, он хотел, чтобы Уссмак
услышал это объяснение.
Уссмак по привычке опустил глаза при упоминании Императора -- хотя и
изменил ему вначале мятежом, а затем -- сдачей базы. Но он ответил так, как
только и мог:
-- Я не могу придумывать поддельные идеологические расколы, если я их
не знаю.
Газзим испустил длинный шипящий выдох, затем перевел ответ самцу из
НКВД. Лидов щелкнул выключателем возле своего кресла. Позади него загорелась
яркая лампа накаливания с рефлектором, светившая прямо в лицо Уссмака. Самец
отвернул глаза от света. Лидов стал щелкать другими выключателями -- свет
полился сбоку с обеих сторон.
Допрос продолжился.
* * *
-- Проклятье доброму всемогущему Богу, -- сказал Остолоп Дэниелс с
почтительной непочтительностью. -- Это ведь деревня, нарежьте и поджарьте
меня, если это не так.
-- Подходящее время они выбрали, чтобы ненадолго отозвать нас с
передовой, не так ли, сэр? -- сказал сержант Герман Малдун. -- Они никогда
не держали нас в окопах так долго на протяжении всей Великой войны -- ничего
похожего на то, что было в Чикаго, даже приблизительно.
-- Нет, -- сказал Остолоп. -- Они могли позволить себе дурачиться во
Франции. Мы должны были стоять на месте, сдерживать напор ящеров и кидать в
бой все, что только могли наскрести.
-- Я бы не назвал Элджин деревней.
Иллюстрируя свои слова, капитан Стэн Шимански показал рукой на
фабричные здания, которые составляли сеть улиц города. Впрочем, фабрики
здесь были когда-то. Теперь остались руины, торчащие обломками и зазубринами
в серое небо. Все они были варварски разбомблены. Некоторые превратились в
холмы из битого кирпича и осколков камня. У других сохранились стены и
трубы. Что бы здесь прежде ни выпускалось, больше этого уже не будет.
Семиэтажная башня завода по производству часов "Элджин", которая служила
наблюдательным пунктом, теперь едва возвышалась над остальными развалинами.
Остолоп показал на запад -- за реку Фокс.
-- Вон там сельская местность просто чудесна, сэр, -- сказал он. -- Все
время перед глазами только дома и небоскребы, а такого я не видел долгое
время. Это по-настоящему приятно, если вы меня спросите.
-- Это не что иное, лейтенант, как поле для проклятых супертанков, --
сказал Шимански не терпящим возражений тоном. -- С тех пор как у ящеров
появились эти проклятые супертанки, которых у нас нет, я не разделяю вашего
энтузиазма относительно ровной местности.
-- Да, сэр, -- ответил Дэниелс.
Конечно, Шимански был прав. Просто молодые люди, родившиеся в этом
столетии, иначе смотрели на мир. Черт возьми, когда Шимански еще писал в
штанишки. Остолоп уже готовился подняться на корабль, перевозивший войска в
Европу.
Но как бы ни молод был капитан, он хладнокровно оценивал ситуацию. Поля
вдоль реки были прекрасной местностью для танков, а у ящеров были хорошие
танки, так что к черту весь этот ландшафт. Когда Остолоп смотрел на поля, он
думал о том, что когда-нибудь здесь не будет войны, и о том, урожай чего
можно получить с такой земли и в этом климате, и как велик он может быть.
Шимански это не волновало.
-- Куда они отправляют нас, сэр? -- спросил Малдун.
-- В место рядом с Фонтанным сквером, недалеко от часового завода, --
ответил Шимански. -- Мы направляемся в отель, который не был расколочен
вдребезги: трехэтажное здание красного кирпича -- вон там, -- показал он.
-- Фонтанный сквер? Да, я бывал там. -- Сержант Малдун хмыкнул. -- Он
треугольный, и фонтана там никакого нет. Просто приятное место.
-- Предложите мне выбрать между отелем и местами, где мы находились в
Чикаго, и я назову целую кучу прекрасных мест, -- сказал Остолоп. -- Приятно
улечься, не беспокоясь, что снайпер засечет тебя, пока ты спишь, и отстрелит
твою голову, а ты даже не будешь знать, что этот ублюдок был там.
-- Аминь, -- энергично произнес Малдун. -- Сторона, которая...
Он посмотрел на капитана Шимански и решил не продолжать. Остолоп
задумался, что бы это означало. Ему хотелось отправиться к Фонтанному скверу
самому и осмотреться.
Шимански не заметил неловкого молчания Малдуна, Он по-прежнему смотрел
на запад.
-- Неважно, что ящеры делают и какие виды оружия используют, все равно
им будет непросто форсировать реку, -- заметил он. -- Мы хорошо
замаскировались и окопались. И как бы они ни били нас с воздуха, мы все
равно будем бить их танки. Если они захотят захватить это место, то должны
попытаться ударить по нам с флангов.
-- Да, сэр, -- снова сказал Малдун.
Начальство не считало, что ящеры в ближайшее время попытаются захватить
Элджин, в противном случае оно бы не отправило отряд на отдых и
восстановление сил. Конечно, начальство не всегда бывает право, но в данный
момент не свистят пули и не стреляют пушки. Почти мирная обстановка, а
потому люди нервничали.
-- Идемте, лейтенант, -- сказал Малдун. -- Я покажу, где этот отель,
и...
Он снова замолчал, он решил не продолжать. Какого черта он надеется
найти на Фонтанной площади? Магазин, набитый сигаретами "Лаки Страйк"?
Тайник, полный выпивки, которая не была бы дрянным виски или самогоном?
Для среднезападного заводского города Элджин мог быть довольно приятным
местом. Взорванные заводы не составляли отдельного района, как во многих
других городах. Вместо этого они были рассеяны среди красивых домов --
красивых до того, как война пришла сюда с огнем и мечом. Некоторые не
пострадавшие от бомбежки или пожара дома по-прежнему выглядели
привлекательно.
Фонтанный сквер тоже не очень пострадал, может быть, потому, что в
городе не было ни одного достаточно высокого здания, чтобы привлечь
бомбардировщики ящеров. Один бог знал, почему он так назывался, поскольку --
как сказал Малдун -- он не был сквером, тем более с фонтанами. По-настоящему
живыми выглядели только действующий салун, который приветствовал солдат
открытыми дверями, и пара настоящих военных полицейских за этими дверями
(чтобы отдых и восстановление сил проходили в не слишком буйной форме).
Что же Малдун имел в виду? Явно не салун; капитан Шимански никогда не
возражал против выпивки.
Затем Остолоп заметил очередь из парней, одетых в грязную
серо-оливковую одежду, растянувшихся вдоль узкой аллеи. Он видел -- черт
возьми, он и стоял в таких очередях во Франции.
-- Очередь в публичный дом, -- сказал он.
-- Наверное, вы правы, -- согласился Малдун, широко улыбнувшись. -- Это
не значит, что мне хочется добыть еще и травки, которой, помнится, я
баловался во Франции, но, черт возьми, это не значит, что я мертвый. Я
рассчитываю, что после того, как мы устроим ребят в отеле, может быть, вы и
я... -- Он заколебался. -- Может быть, у них есть специальный дом для
офицеров. У французов такие были.
-- Да, я знаю. Я помню, -- сказал Остолоп. -- Но сомневаюсь. Черт
возьми, я и не думал, что они организуют такой дом. В девятьсот
восемнадцатом священники прокляли бы их.
-- Времена изменились, лейтенант, -- сказал Малдун.
-- Да, и в разные стороны, -- согласился Дэниелс. -- Я сам думал об
этом не так давно.
Отряд капитана Шимански был не единственным из размещавшихся в отеле
"Джиффорд". Между кроватями на полу были разложены матрасы и кучи одеял,
чтобы вместить как можно больше людей. Что ж, прекрасно, если только ящеры
не попадут сюда прямой наводкой. Если это произойдет, "Джиффорд" превратится
в огромную гробницу.
Когда все организационные вопросы были решены, Остолоп и Малдун
выскользнули наружу и снова направились к Фонтанному скверу. Малдун искоса
посмотрел на Дэниелса.
-- Вас не беспокоит, что эти взбудораженные ребятишки будут смотреть на
вас, пока вы будете стоять в очереди вместе с ними, лейтенант? -- лукаво
спросил он. -- В конце концов, вы ведь теперь офицер.
-- Нет, черт возьми, -- ответил Остолоп. -- Они никак не смогут
определить, есть у меня шары или нет.
Малдун посмотрел на него, затем отвернулся. Он хотел было ткнуть
Остолопа в ребра локтем, но передумал -- даже в очереди в публичный дом
офицер остается офицером.
Очередь непрерывно двигалась. Остолоп прикинул, что проститутки,
сколько бы их ни было, должны пропускать солдат как можно скорее, чтобы
побольше заработать и хоть немножко отдыхать в перерывах между клиентами.
Он прикинул, есть ли внутри военная полиция. Ее не оказалось. Значит,
заведение не вполне официальное и полиция смотрит на него сквозь пальцы. Это
его не беспокоило. Поднявшись на первую ступеньку лестницы, которая вела к
девочкам, он заметил, что вниз никто не сходит.
Значит, есть другой выход. Он покивал. Было это заведение официальным
или нет, действовало оно эффективно.
Наверху сидела крепкая женщина с кассой -- и кольтом сорок пятого
калибра, вероятно, для защиты от попыток перераспределения платы за грех.
-- Пятьдесят долларов, -- сказала она Остолопу.
Он слышал, как она говорила это уже с десяток раз, с абсолютно
одинаковой интонацией: наверное, она могла поставить рекорд.
Он порылся в заднем кармане и отсчитал из пачки нужное количество
зеленых. Как у большинства парней, у него было много денег. Когда сидишь в
окопах на фронте, тратить особенно не на что.
Крупный светловолосый солдат, которому на вид не исполнилось и
семнадцати, вышел из двери в коридоре и уверенно направился к задней
лестнице.
-- Идите, -- сказала мадам Остолопу. -- Номер четыре, ясно? Там сейчас
Сьюзи.
"Во всяком случае, я теперь знаю, в чьей луже мне предстоит плюхаться",
-- подумал Остолоп, направляясь к двери. Парнишка не выглядел венерическим
больным, но что это доказывает? Немногое, и кто может знать, кто был до
него, или еще раньше, или позавчера?
На двери была тусклая табличка с цифрой 4. Дэниелс постучал. Внутри
послышался женский смех.
-- Входите, -- сказала женщина. -- Дверь ведь не заперта.
-- Сьюзи? -- спросил Остолоп, входя в комнату.
Женщина, прикрытая потертым атласным платком, сидела на краю кровати.
Ей было около тридцати, у нее были короткие каштановые волосы и густо
подведенные глаза, но некрашеные губы. Она выглядела усталой и невеселой, но
не слишком смущенной. Остолоп почувствовал облегчение: некоторые
проститутки, с которыми он встречался, так ненавидели мужчин, что он не мог
понять, зачем они ложатся с ними.
Она оценивающе посмотрела на клиента, пока тот разглядывал ее. Через
пару секунд она кивнула и попробовала улыбнуться.
-- Привет, пупсик, -- сказала она вполне дружелюбно. -- Знаешь, только
один из четверых или пятерых дает себе труд назвать меня по имени. Ты готов?
-- Она показала на таз и кусок мыла. -- Не стоит вначале помыть?
Это был вежливый приказ, но все-таки приказ. Остолоп не возражал. Сьюзи
не делала различий -- что он, что Адам. Пока он приводил себя в порядок, она
скинула с плеч платок. Под ним у нее не было ничего. Она не была красавицей,
но выглядела неплохо. Пока Остолоп вытирался и снимал остальную одежду, она
легла спиной на узкий матрас.
Стоны, которые она издавала, когда он совокуплялся с ней, звучали
фальшиво, а это означало, что подобные тонкости хороши, только если
исполнены профессионально. Она чертовски хорошо работала бедрами, но лишь
затем, естественно, чтобы заставить его поторопиться. Он бы и так быстро
кончил, даже если бы она лежала, как дохлая рыба, -- по причине долгого
воздержания.
Закончив, он скатился с нее, встал и снова отправился к тазу и мылу,
чтобы помыться. Попутно он помочился в горшок возле кровати.
"Промыть трубу", -- подумал он.
-- Не упускаешь шанса, пупсик? -- сказала Сьюзи. Это могло прозвучать
враждебно, но нет -- скорее, она одобряла его.
-- Не везде, однако, -- ответил он, потянувшись к нижнему белью.
Если бы он не упускал выпадающие шансы, то прежде всего не пришел бы
сюда, к ней. И платить сверх оговоренного он не собирался.
Сьюзи села. Ее груди с большими бледными сосками затряслись, когда она
потянулась к платку.
-- Эта Рита, там, снаружи, дешевая сука, она себе забирает большую
часть того, что вы заплатили, -- сказала она расчетливо-привычную фразу. --
Еще двадцать меня бы вполне устроило.
-- Эту песенку я уже слышал, -- сказал Остолоп, и проститутка
рассмеялась, нимало не смутившись.
Он все-таки дал ей десять баксов, хотя и в самом деле хорошо знал эту
песенку: она была почти хорошенькой и гораздо более дружелюбной, чем стоило
ждать от конвейера. Она улыбнулась и спрятала банкноту под матрац.
Остолоп уже взялся за ручку, когда снаружи начался жуткий крик. Орали
мужчины. Разобрать можно было только слово: "Нет!"
-- Что за чертовщина там происходит? -- спросил Остолоп: вопрос не был
риторическим, шум не напоминал драку.
Сквозь крики пробивался звук плача женщины, у которой разбилось сердце.
-- Боже мой! -- тихо ахнула Сьюзи.
Остолоп повернулся к ней. Она перекрестилась. Словно объясняя, она
продолжила:
-- Это Рита. Не думала, что Рита может заплакать, даже если у нее на
глазах перебить всю ее семью.
Раздались удары кулаков, но не в дверь, а в стену. Остолоп вышел в
коридор. Солдаты плакали не стыдясь, их слезы оставляли бороздки на грязи,
покрывающей лица. Возле кассы сидела Рита, опустив голову на руки.
-- Что за черт? -- повторил Остолоп.
Мадам подняла на него глаза. Ее лицо было опустошенным и старым.
-- Он умер, -- сказала она. -- Кто-то только что принес весть, что он
умер.
Таким голосом она могла бы говорить о своем отце. Но в таком случае
никто из солдат не обратил бы внимания. Все они забежали сюда быстро
перепихнуться, как Остолоп.
-- Так кто же умер? -- спросил он.
-- Президент, -- ответила Рита. Какой-то капрал добавил:
-- ФДР.
Остолопа словно ударили в живот. Мгновение он стоял с разинутым ртом,
как вытащенный из воды карась. Затем, охваченный беспомощностью и ужасом, он
зарыдал, как все остальные.
* * *
-- Иосиф Виссарионович, нет причин думать, что изменение политического
руководства в Соединенных Штатах обязательно вызовет изменения в
американской политике или в продолжении войны против ящеров, -- сказал
Вячеслав Молотов.
-- Непременно. -- Иосиф Сталин произнес это слово неприятным
насмешливым монотонным голосом. -- Какой причудливый способ сказать, что вы
не имеете ни малейшего представления о том, что случится в будущем в
Соединенных Штатах.
Молотов сделал пометку в блокноте, который держал на коленях. Он всегда
создавал для Сталина видимость заметок. На самом деле он выигрывал время
подумать. Беда в том, что генеральный секретарь был прав. Человек, который
должен был заменить Франклина Д. Рузвельта, Генри Уоллес, погиб при ядерном
ударе ящеров по Сиэтлу. В Комиссариате иностранных дел, однако, достаточно
хорошо знали Корделла Халла, нового президента Соединенных Штатов.
Нарком иностранных дел изложил то, что было известно:
-- Как государственный секретарь Халл постоянно поддерживал усилия
Рузвельта по оживлению угнетающей структуры американского монополистического
капитализма, по усилению торговых связей с Латинской Америкой и по
финансовой реформе. Он также поддерживал президента в противодействии
фашизму и в ведении войны сначала против гитлеровцев, а затем против ящеров.
Как я уже сказал, думаю, можно предположить, что он будет продолжать
проводить политику, начатую предшественником.
-- Если вы хотите, чтобы кто-нибудь продолжал проводить политику, то вы
нанимаете клерка, -- сказал Сталин с некоторой долей пренебрежения. -- Я
хочу знать, какую политику выберет Халл?
-- Только события покажут нам это, -- ответил Молотов, неохотно
признавая перед Сталиным свою неосведомленность, но опасаясь высказать
неверное предположение, которое генеральный секретарь запомнит. По привычке
он скрыл негодование, вызванное напоминанием Сталина о том, что сам он всего
лишь высокопоставленный клерк.
Сталин сделал паузу, чтобы разжечь трубку. Пару минут он дымил в
молчании. Вонь от махорки, дешевого грубого русского табака, наполнила
небольшую комнату в подвале Кремля. Даже глава Советского Союза в эти дни не
мог позволить себе ничего лучшего. Как и все остальные, Сталин и Молотов
перешли на борщ и щи -- суп из свеклы и суп из капусты. Они наполняли
желудок и давали по крайней мере иллюзию сытости. Если вам везет и вы можете
добавлять в них мясо так же часто, как руководители Советского Союза,
иллюзия становится реальностью.
-- Вы думаете, смерть Рузвельта повлияет на согласие американцев помочь
нам с проектом бомбы из взрывчатого металла? -- спросил Сталин.
Молотов снова принялся записывать. Сегодня Сталина интересовали
исключительно опасные вопросы. Они имели большую важность, и Молотов не мог
ни увильнуть от ответа, ни избежать ошибки.
Наконец он сказал:
-- Товарищ генеральный секретарь, мне дали понять, что американцы
согласились выделить одного из своих физиков для нашего проекта. Однако
из-за участившихся нападений ящеров на корабли он прибудет по суше, через
Канаду, Аляску и Сибирь. Я не думаю, что он уже на советской территории,
иначе знал бы об этом.
Трубка Сталина подала еще несколько дымовых сигналов. Молотов желал бы
прочесть их. Берия утверждал, что может сказать, что думает Сталин, по его
смеху, но Берия много чего говорил -- и не все обязательно соответствовало
истине. Хотя это заявление шефа НКВД было весьма рискованным.
В надежде улучшить настроение Сталина Молотов добавил:
-- Захват базы ящеров вблизи Томска облегчит нашу задачу в переправке
физика,, как только он прибудет на нашу землю.
-- Если он только прибудет на нашу землю, -- сказал Сталин. -- Если он
еще в Северной Америке, то он может быть отозван назад новым режимом. -- Еще
один клуб дыма поднялся из трубки. -- Цари были дураками, идиотами,
глупцами, что отдали Аляску.
С этой проблемой Молотов ничего не мог поделать. И вообще он чувствовал
себя как человек, обезвреживающий бомбу.
Он осторожно сказал:
-- Помогать нам победить ящеров -- это входит в круг ближайших
интересов Америки, а когда, Иосиф Виссарионович, капиталисты думали о
интересах дальнего прицела? Он выбрал правильное направление. Сталин
улыбнулся. Он мог, когда хотел, выглядеть удивительно благожелательным.
Сейчас как раз был такой момент.
-- Сказано истинным марксистом-ленинцем, Вячеслав Михайлович. Мы
добьемся победы над ящерами, а затем и победы над американцами.
-- Этого требует диалектика, -- согласился Молотов.
Он постарался, чтобы в его ответе не прозвучало облегчения, -- как не
позволял себе показывать гнев или страх. Сталин наклонился вперед с
выражением внимания на лице.
-- Вячеслав Михайлович, вы читали протоколы допросов мятежных ящеров,
которые сдали нам базу? Вы верите им? Могут эти существа быть такими
политически наивными или это своего рода маскировка, чтобы обмануть нас?
-- Я, конечно, видел протоколы, товарищ генеральный секретарь. --
Молотов снова почувствовал облегчение: наконец-то он сможет высказать свое
мнение без немедленного риска получить выговор. -- Мое убеждение: их
наивность подлинная, а не изображаемая. Наши следователи и другие эксперты
узнали, что их история в течение тысячелетий была однообразной. У них не
было возможности овладеть дипломатическим искусством, которое даже самые
глупые и бесполезные человеческие правительства, например квазифашистская
клика, прежде управлявшая Польшей, считают само собой разумеющимся.
-- Маршал Жуков и генерал Конев тоже выражают эту точку зрения, --
сказал Сталин. -- А вот я ей не очень верю.
Сталин повсюду видел заговоры, независимо от того, были они или нет:
1937 год показал это. Единственный заговор, который он просмотрел, был
заговор Гитлера в июне 1941 года.
Молотов знал, что выступать против мнения своего шефа слишком
рискованно. Однажды он это сделал и в результате едва уцелел. На этот раз,
однако, ставки были поменьше, и он постарался смягчить свои слова:
-- Возможно, вы правы, Иосиф Виссарионович. Но если бы ящеры были
политически более подготовленными, чем это они показывали до настоящего
времени, разве они не продемонстрировали бы это лучшей дипломатической
деятельностью, чем та, которую они ведут со дня империалистического
нападения на наш мир?
Сталин погладил усы.
-- Это вполне возможно, -- задумчиво сказал он. -- С такой точки зрения
я еще не рассматривал вопрос. Если так, то для нас еще более важно
продолжать сопротивление и поддерживать нашу собственную правительственную
структуру.
-- Что вы имеете в виду, товарищ генеральный секретарь? -- Молотов не
уловил главной мысли.
Глаза Сталина блеснули.
-- Если мы до сих пор не проиграли войну, товарищ комиссар иностранных
дел, не думаете ли вы, что мы можем выиграть мир?
Молотов задумался. Не напрасно Сталин удерживал власть в Советском
Союзе в своих руках уже более двух десятилетий. Да, у него были недостатки.
Да, он делал ошибки. Да, только сумасшедший осмеливался указывать ему на
них. Но большую часть времени он владел таинственным даром отыскивать точку
равновесия сил, позволяющую определить, какая сторона сильнее -- или может
стать такой.
-- Вероятно, все так и будет, как вы сказали, -- ответил Молотов.
* * *
Атвар не испытывал такого возбуждения с тех пор, как в последний раз
вдыхал феромоны самки во время сезона спаривания. Возможно, те, кто пробует
имбирь, испытывают нечто подобное. Если так, то он почти готов простить их
за употребление разрушительного снадобья.
Он повернул один глаз к Кирелу, оторвавшись от сообщений и докладов,
постоянно всплывающих на экране компьютера.
-- Наконец! -- воскликнул он. -- Может быть, мне следовало спуститься
на поверхность этой планеты, чтобы изменить нашу судьбу. Смерть
американского не-императора Рузвельта определенно подвинет наши силы к
победе в северном регионе малой континентальной массы.
-- Благородный адмирал, все может быть, как вы сказани, -- ответил
Кирел.
-- Может быть? Только _может быть_? -- воскликнул Атвар негодующе.
Воздух этой местности, называемой Египет, оставлял неприятный привкус
во рту, но он был достаточно теплым и сухим для самца Расы в отличие от
воздуха большей части этого жалкого мира.
-- Конечно, так будет. Так должно быть. Большие Уроды настолько
политически наивны, что события не могут не складываться так, как мы хотим.
-- Мы здесь так часто разочаровывались в наших надеждах, благородный
адмирал, что я воздерживаюсь от радости до тех пор, пока желаемые события не
происходят в действительности, -- сказал Кирел.
-- Разумный консерватизм -- благо для Расы, -- сказал Атвар.
Консерватизм Кирела был полезен: если бы Кирел был диким радикалом
наподобие Страхи, Атвар сегодня уже не был бы командующим флотом вторжения.
Он продолжил:
-- Рассмотрим очевидное, командир корабля: Соединенные Штаты -- это
ведь не-империя, так ведь?
-- Безусловно нет, -- согласился Кирел: это было бесспорно.
-- He-империя по определению не может иметь стабильного политического
устройства, которое есть у нас, так ведь?
-- Похоже, что это следует из первого, -- ответил Кирел с
настороженностью в голосе.
-- Вот именно! -- удовлетворенно сказал Атвар. -- И эти Соединенные
Штаты подпали под власть не-императора, называемого Рузвельт. Частично
благодаря ему американские тосевиты оказывали постоянное сопротивление нашим
силам. Истинно?
-- Истинно, -- согласился Кирел.
-- И то, что следует из этой истины, действует так же неизбежно, как
геометрическое доказательство, -- сказал Атвар. -- Теперь Рузвельт мертв.
Может ли его преемник занять освободившееся место так же органично, как один
Император наследует другому? Может власть его преемника быть признана быстро
и плавно как законная? Как это возможно без предопределенного порядка
наследования? Мой ответ -- это невозможно, и американским тосевитам
предстоит пережить серьезные беспорядки прежде, чем этот Халл, Большой Урод,
который объявлен правителем, сможет пользоваться властью, если такое вообще
произойдет. То же самое утверждают наши политические аналитики, которые
изучают общество тосевитов с начала нашей кампании.
-- Вывод кажется обоснованным, -- сказал Кирел, -- но здравый смысл не
всегда является решающим фактором в тосевитских делах. Например, насколько я
помню, американские Большие Уроды принадлежат к тем сообществам, которые
пытаются решать свои дела путем подсчета особей, которые высказываются "за"
и "против" по различным проблемам, представляющим для них интерес?
Атвару пришлось снова заглянуть в сообщения, чтобы убедиться, насколько
прав командир корабля. Проверив, он сказан:
-- Да, все именно так. И что же?
-- В некоторых из этих не-империй используется подсчет особей для
утверждения законности руководителей точно так, как у нас используется
императорское наследование, -- ответил Кирел. -- Это может привести к
минимальному уровню беспорядков, которые возникнут в Соединенных Штатах в
результате смерти Рузвельта.
-- А, я вас понял, -- сказал Атвар. -- Однако здесь все иначе:
вице-регент Рузвельта, самец по имени Уоллес, также выбранный посредством
фарса с подсчетом особей, скончался раньше -- он умер, когда мы бомбили
Сиэтл. Для этого Халла подсчет особей в пределах не-империи не проводился.
Его вполне могут счесть незаконным узурпатором. Вероятно, в различных
регионах не-империи появятся и другие возможные правители Америки, оспаривая
его притязания.
-- Если дойдет до этого, будет, несомненно, превосходно, -- сказал
Кирел. -- Я отмечаю, что такая ситуация соответствует тому, что мы знаем о
тосевитской истории и об особенностях их поведения. Но поскольку мы слишком
часто разочаровывались в отношении поведения Больших Уродов, то об оптимизме
пока говорить рано.
-- Я понимаю и соглашаюсь, -- сказал Атвар. -- Впрочем, в данном
случае, как вы заметили, докучливая склонность Больших Уродов работает на
нас, а не против нас, как в большинстве случаев. Мое мнение: мы можем
ожидать установления контроля над значительной частью не-империи Соединенных
Штатов, которая отпадет от их особенеподсчитанного лидера, и мы даже сможем
использовать мятежи, которые возникнут там, в наших целях. Сотрудничество с
Большими Уродами раздражает меня, но потенциальный выигрыш в этом случае
перевешивает.
-- Принимая во внимание выгоду, которую Большие Уроды получили от
Страхи, использовать их лидеров против них самих было бы отличной местью, я
думаю, -- сказал Кирел.
Атвару хотелось, чтобы Кирел не упоминал о Страхе: каждый раз когда он
думал о командире корабля, ускользнувшем от справедливого наказания путем
побега к американским тосевитам, адмирал чувствовал, как у него начинала
чесаться кожа под чешуей, где он не мог почесать ее. Впрочем, он должен был
согласиться, что сравнение удачно.
-- Наконец, -- сказал он, -- мы определим пределы тосе-витской
гибкости. Наверняка никакое скопление Больших Уродов, не обладающее
стабильностью имперской формы правления, не может перейти от одного
правителя к другому в разгар военных действий. Да и мы были бы подавлены во
время кризиса, когда умирает Император и менее опытный самец занимает трон.
-- Он опустил глаза, затем спросил: -- Истинно?
-- Истинно так, -- сказал Кирел.
* * *
Лесли Гровс вскочил на ноги и заставил свое грузное тело вытянуться в
струнку.
-- Мистер президент! -- сказал он. -- Это великая честь -- встретиться
с вами, сэр.
-- Садитесь, генерал, -- сказал Корделл Халл.
Сам он сел напротив Гровса. Уже сам вид президента Соединенных Штатов,
входящего в его кабинет, потряс Гровса до глубины души. Потрясения добавил и
акцент Халла: слегка шепелявая теннессийская певучая речь вместо
патрицианских интонаций ФДР. Новый глава исполнительной власти был, впрочем,
сходен с предшественником в одном: он выглядел бесконечно усталым. После
того как Гровс сел, Халл продолжил:
-- Я не ожидал, что стану президентом, даже после того, как был убит
вице-президент Уоллес, хотя и знал, что следующий в президентской очереди --
я. Я всегда хотел одного: делать свою работу самым наилучшим образом, вот и
все.
-- Да, сэр, -- согласился Гровс.
Если бы он играл с Халлом в покер, он мог бы сказать, что новый
президент передергивает. Он был государственным секретарем, когда Рузвельт
стал президентом, и был сильной правой рукой Рузвельта с начала
сопротивления человеческим врагам Соединенных Штатов, а затем --
завоевателям-чужакам.
-- Тогда все в порядке, -- сказал Халл. -- Перейдем к военным
проблемам.
Для Гровса это прозвучало не слишком по-президентски. В его глазах Халл
смотрелся скорее пожилым адвокатом из маленького городишка, нежели
президентом: седой, с лысиной на макушке, с клочьями волос, зачесанными так,
чтобы прикрыть ее, широколицый, одетый в мешковатый темно-синий костюм,
который он явно носил немало лет. Но независимо от того, выглядел он как
президент или нет, он выполнял свою работу. Это означало, что для Гровса он
-- босс, а солдат всегда делает то, что велит командир.
-- Что вы хотите знать, сэр? -- спросил Гровс.
-- Вначале -- очевидное, -- ответил Халл. -- Как скоро мы сможем
получить еще одну бомбу, затем следующую и еще одну? Поймите, генерал, я не
имел ни малейшего представления об этом проекте, пока наша первая атомная
бомба не взорвалась в Чикаго.
-- К сожалению, система безопасности теперь не так устойчива, как
должна быть, -- отвечал Гровс. -- До нашествия ящеров мы не хотели, чтобы до
немцев или японцев дошли хотя бы намеки на то, что мы работаем над атомной
бомбой. Ящеры ими располагают.
-- Да уж, -- сухо согласился Халл. -- Если бы в один прекрасный день я
случайно не уехал из Вашингтона, вы бы вели сейчас эту беседу с кем-нибудь
другим.
-- Да, сэр, -- сказал Гровс. -- Мы не можем скрыть от ящеров, что
работаем над проектом, но должны скрывать место, где мы это делаем.
-- Я понял, -- сказал президент. -- Хотя президент Рузвельт не сообщал
мне об этом до нападения ящеров. -- Он вздохнул. -- Я не осуждаю его. У него
было достаточно проблем, о которых следовало беспокоиться, и он работал --
пока они не убили его. Он был великим человеком. Один Христос знает, -- он
произнес "Хвистос", -- когда ботинки ФДР придутся мне по ноге. В мирное
время он прожил бы дольше. Тяжесть страны -- клянусь Богом, генерал, тяжесть
всего мира лежала на его плечах. А еще эти постоянные переезды с места на
место, жизнь затравленного зверя -- все это сожрало его.
-- Такое впечатление сложилось у меня, когда он был здесь в прошлом
году, -- кивнув, сказал Гровс. -- Напряжение было больше, чем мог выдержать
его механизм, но сколько мог, он его выдерживал.
-- Вот уж точно -- не в бровь, а в глаз, -- сказал Халл. -- Но мы,
однако, забыли о военных материях. Итак, бомбы, генерал Гровс, -- когда?
-- Через пару месяцев у нас будет достаточно плутония для следующей
бомбы, сэр, -- ответил Гровс. -- Затем мы сможем делать по нескольку штук в
год. Мы почти подошли к пределу того, что можно делать здесь, в Денвере, без
риска, что это станет известно ящерам. Если нам требуется гораздо больше
продукции, мы должны организовать второе производство где-нибудь еще -- и у
нас есть причины, по которым нам не хотелось бы идти на это. Главная из них
та, что мы вряд ли сможем удержать его в секрете.
-- Это место по-прежнему секретно, -- отметил Халл.
-- Да, сэр, -- согласился Гровс, -- но здесь мы запустили производство
до того, как ящеры узнали, что мы серьезно занимаемся созданием ядерного
оружия. Теперь они будут настороже -- и если заподозрят что-то, они
разбомбят нас. Генерал Маршалл и президент Рузвельт не считали, что риск
стоит этого.
-- Я очень высоко ценю мнение генерала Маршалла, генерал Гровс, --
сказал Халл, -- настолько высоко, что я назначил его генеральным секретарем.
Полагаю, он справится с этой работой лучше, чем я. Но не он является сегодня
главнокомандующим и не президент Рузвельт. Это я.
-- Да, сэр, -- сказал Гровс.
Корделл Халл мог не ожидать, что станет президентом, он мог не хотеть
становиться президентом, но теперь, когда груз лег на его плечи, они стали
достаточно широкими.
-- В использовании атомных бомб я вижу два вопроса, -- сказал Халл. --
Первый: понадобится ли нам их больше, чем мы сможем произвести в Денвере? И
второй, связанный с первым: если мы используем все, что производим, а ящеры
ответят тем же, останется ли что-нибудь от Соединенных Штатов ко времени
окончания войны?
Это были хорошие вопросы. В самую точку. Вот только их не следовало
задавать инженеру. Спросите Гровса, можно ли что-то построить, сколько
понадобится времени и сколько это будет стоить, и он сможет ответить, или
немедленно, или после того, как поработает с логарифмической линейкой и
счетной машинкой. Но он не обладал ни подготовкой, ни наклонностями, чтобы
заниматься не поддающейся учету политикой. Он дал единственный ответ,
который мог дать:
-- Я не знаю, сэр.
-- Я тоже не знаю, -- сказал Халл. -- Я хочу, чтобы вы были готовы
разделить команду вашего завода, чтобы начать организацию нового. Я еще не
знаю, приму ли я такое решение, но если я это сделаю, я хочу иметь
возможность сделать как можно быстрее и эффективнее.
-- Да, сэр, -- повторил Гровс.
В этом был смысл: иметь как можно больше вариантов, пригодных на
возможно более долгий срок.
-- Хорошо, -- сказал Халл, принимая как должное, что Гровс все сделает,
как приказано. Президент вытянул толстый указательный палец. -- Генерал, я
здесь все еще словно в шорах. Что еще следует мне знать об этом месте, что
мне, возможно, неизвестно?
Гровс с минуту обдумывал вопрос, прежде чем попытался ответить. Это был
еще один хороший вопрос, но тоже с недостатком: Гровс не знал, что Халлу уже
известно, а что -- нет.
-- Мистер президент, может быть, никто не сказал вам, что мы выбрали
одного из наших физиков и послали его в Советский Союз, чтобы помочь русским
в их атомном проекте.
-- Нет, я этого не знал. -- Халл цыкнул зубом. -- Зачем русским
понадобилась помощь? Они взорвали свою атомную бомбу раньше нас, еще до
немцев, раньше, чем кто-либо.
-- Да, сэр, но им требуется помощь.
Гровс объяснил, как русские сделали бомбу из ядерного материала,
захваченного у ящеров, и как часть этого самого материала помогла немцам и
Соединенным Штатам. Он подвел итог:
-- Но мы -- а также нацисты, -- изучив трофей, смогли понять, как
сделать плутоний самим. Русские, похоже, с этим не справились.
-- Разве это не интересно? -- сказал Халл. -- При любых обстоятельствах
менее всего я хотел бы видеть с атомной бомбой Сталина -- если не брать в
расчет Гитлера. -- Он грустно рассмеялся. -- А теперь у Гитлера она есть, и
если мы не поможем Сталину, то ящеры наверняка разобьют его. Ну, хорошо,
поможем ему отправить ящеров на тот свет. Если мы их победим, тогда и будем
беспокоиться, не захочет ли он отправить и нас туда же. А пока что я не вижу
иного пути, кроме как помочь ему. Что здесь есть еще, что я должен знать?
-- Это самая важная вещь, по моему мнению, сэр, -- сказал Гровс и через
мгновение добавил: -- Могу я задать вам вопрос, мистер президент?
-- Валяйте, спрашивайте, -- сказал Халл. -- Я оставляю за собой право
не отвечать.
Гровс кивнул.
-- Конечно. Я тут подумал... Сейчас 1944 год, сэр. Как мы собираемся
провести выборы в ноябре, если ящеры оккупируют такую большую часть нашей
территории?
-- Мы, вероятно, проведем их точно так, как проводили ноябрьские выборы
в конгресс в последний раз, -- ответил Халл, -- иначе говоря, их просто не
будет. Чиновники, которые у нас есть, будут продолжать свою работу в течение
всего срока, и, похоже, это касается и меня. -- Он фыркнул. -- Я собираюсь
оставаться неизбранным еще довольно долгое время, генерал. Мне это не очень
нравится, но так все сложилось. Если мы выиграем эту войну, то Верховный суд
сможет затем провести "полевой день" -- и активно поработать. Но если мы
проиграем ее, мнение этих девяти пожилых людей в черных одеждах не будет
иметь никакого значения. Пока что я могу лишь содержать их, чтобы они смогли
выполнить свой долг в будущем. Что вы думаете об этом, генерал?
-- С инженерной точки зрения, это самое экономичное решение, сэр, --
ответил Гровс. -- Но с точки зрения реальности... не знаю, лучшее ли оно.
-- Я тоже не знаю, -- сказал Халл, -- но именно это мы собираемся
сделать. Древние римляне в крайней необходимости тоже использовали
диктаторов и считали, что лучшие из них те, кто менее всего желал занять
высокий пост. По этому признаку я подхожу, и выбора у нас нет.
Он поднялся на ноги. Он не был молодым и проворным, но он делал дело. И
еще, увидев президента не только стоящим, но и двигающимся, Гровс вспомнил,
что вещи никогда не повторяются.
-- Удачи вам, сэр, -- сказал он.
-- Благодарю вас, генерал; я возьму все, что смогу получить. -- Халл
направился к двери, затем остановился и посмотрел на Гровса. -- Вы помните,
что Черчилль сказал Рузвельту, когда только начался ленд-лиз? "Дайте нам
инструменты, и мы закончим работу". Это то самое, что Соединенным Штатам
требуется от Металлургической лаборатории. Дайте нам инструменты.
-- Вы получите их, -- обещал Гровс.
* * *
Белые утесы Дувра тянулись вдаль, причудливо изгибаясь. Шагая вдоль
них, можно было взглянуть вниз на море, обрушивающееся на основание этих
утесов. Дэвид Гольдфарб где-то прочел, что если действие волн будет
продолжаться без каких-либо других сдерживающих факторов сколько-то
миллионов лет -- он не мог вспомнить, сколько именно, -- го Британские
острова исчезнут, и воды Северного моря и Атлантического океана сольются
воедино.
Когда он сказал это вслух, Наоми Каплан подняла бровь.
-- На Британских островах достаточно дел, которыми следует заняться
прежде, чем пройдут миллионы лет, -- сказала она.
Ветер с Северного моря унес ее слова прочь. То же самое он попытался
сделать с ее шляпой. Наоми спасла шляпку и плотнее надела на голову.
Гольдфарб не знал, радоваться, что она поймала ее, или печалиться, что ему
не представился шанс проявить галантность и поймать ее. Конечно, ветер мог
перемениться и унести шляпку через утес, тогда с галантностью будет
плоховато.
Изображая удивление, он сказал:
-- Почему вы так решили? Только потому, что последние несколько лет нас
бомбили немцы и на нас напали ящеры? -- Он легкомысленно помахал рукой. --
Это мелочи. Теперь, если теперь одну из этих атомных бомб, или как там они
ее называют, сбросят на нас, как на Берлин...
-- Боже, не допусти! -- сказала Наоми. -- Вы правы: с нас уже хватит.
Ее акцент -- устойчивый верхнеанглийский, накладывающийся на немецкий,
-- очаровывал его. Многое в ней восхищало его, но в данный момент он
сосредоточился на произношении. Ее речь была улучшенным или более изысканным
вариантом его собственной: английский язык низшего или среднего класса,
наложенный на идиш, на котором он говорил до начала учебы в средней школе.
-- Я надеюсь, вы не очень замерзли?
Погода была свежей, в особенности вблизи моря, но далеко не такой
промозглой, как зимой. Только безудержный оптимист мог поверить, что весна
начнется в один из ближайших дней, пусть даже не сразу.
Наоми покачала головой.
-- Нет, все в порядке, -- сказала она. Словно желая опровергнуть ее
слова, ветер попытался задрать юбку из шотландки. Она лукаво улыбнулась,
поправляя одежду. -- Благодарю вас за приглашение погулять.
-- Благодарю вас за то, что вы согласились, -- ответил он.
Многие парни, которые заходили в "Белую лошадь", приглашали Наоми на
прогулку; некоторые делали ей и более откровенные предложения. Она всем
давала от ворот поворот, исключая Гольдфарба. Его зубы уже начинали стучать,
но он не признавался себе, что мерзнет.
-- Как приятно здесь, -- сказала Наоми, тщательно подобрав слова. -- До
того как я попала в Дувр, я никогда не видела и не могла себе представить
утесы, подобные этим. Горы я знаю по Германии, но утесов на краю земли,
обрывающихся вниз более чем на сотню метров, -- а там ничего, только море,
-- я не видела никогда.
-- Рад, что они вам понравились, -- сказал Гольдфарб с таким
удовольствием, будто он был персонально ответственным за самую знаменитую
природную достопримечательность Дувра. -- Трудно найти в эти дни приятное
место, куда можно пригласить девушку. Например, кино не работает из-за
отсутствия электричества.
-- И скольких девушек вы водили в кино и в другие приятные места, когда
было электричество? -- спросила Наоми.
Она могла вложить в этот вопрос некий дразнящий смысл. Тогда Дэвиду
было бы легче ответить. Но в вопросе прозвучали серьезность и любопытство.
Он не мог просто отшутиться. В его жизни была Сильвия. Ее он тоже не
водил в кино -- он укладывал ее в постель. Она относилась к нему достаточно
дружелюбно, когда он заглядывал в "Белую лошадь" за пинтой пива, но он не
знал, как она охарактеризует его, если Наоми спросит. Он слышал, что женщины
могут быть разрушительно искренними, когда говорят друг с другом о
недостатках мужчин.
Поскольку он сразу не ответил, Наоми наклонила голову набок и бросила
на него понимающий взгляд. Но вместо того, чтобы загнать спутника в угол,
она произнесла:
-- Сильвия сказала мне, что вы совершили что-то очень смелое, чтобы
выручить одного из ваших родственников -- кажется, кузена, она не была
уверена -- из Польши.
-- В самом деле? -- сказал он с радостным удивлением: возможно, Сильвия
не говорила о нем слишком уж плохо.
Но если Наоми уже знала о нем что-то, рассказать еще будет не вредно.
-- Да, это мой кузен, Мойше Русецкий. Помните? Я рассказывал вам
когда-то в пабе.
Она кивнула.
-- Да, вы рассказывали. Это тот, который вел передачи но радио для
ящеров, а затем против них, после того как увидел, каковы они на самом деле.
-- Правильно, -- сказал Гольдфарб. -- Они поймали его, посадили в
тюрьму в Лодзи и стали думать, что с ним делать дальше. Я пошел туда с
несколькими парнями, помог ему освободиться и переправил его сюда, в Англию.
-- У вас это прозвучало так просто, -- сказала Наоми. -- А вы не
боялись?
В том бою он впервые испытал себя в наземной битве, пусть даже ящеры и
польские тюремные охранники были застигнуты врасплох и не могли оказать
серьезное сопротивление. Но когда ящеры напали на Англию, он был призван в
пехоту. Тут все было гораздо хуже. Он просто не мог себе представить, как
люди, находящиеся в здравом уме, могут выбрать карьеру в пехоте.
Он сообразил, что не ответил на вопрос Наоми.
-- Боялся? -- спросил он. -- На самом деле я просто окаменел.
К его облегчению, она снова кивнула: он боялся, что чистосердечие
отпугнет ее.
-- Когда вы рассказываете мне о подобных вещах, -- сказала она, -- вы
напоминаете мне этим, что вы вовсе не англичанин. Немногие английские
солдаты заметят в разговоре с кем-то, кто не принадлежит к их кругу -- как
вы это называете? "В кругу своих товарищей"? -- что они чувствуют страх или
что-то такое личное.
-- Да, я замечал, -- сказал Гольдфарб. -- И я тоже этого не понимаю. --
Он рассмеялся. -- Но что я вообще знаю? Я всего лишь еврей, родители
которого сбежали из Польши. Я не смогу хорошо понимать англичан, если даже
доживу до девяноста лет, а это не особенно-то вероятно -- вон как пошатнулся
мир в наши дни. Может быть, только мои внуки научатся держаться, как
англичане.
-- И мои родители вовремя вывезли меня из Германии, -- сказала Наоми.
Ее озноб не имел ничего общего с бризом, дующим с моря. -- Там было плохо, и
мы сбежали до Хрустальной ночи [В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей
Германии прокатилась волна еврейских погромов. Погибли 36 человек. Из-за
огромного количества разбитых магазинных витрин эта ночь и получила такое
название. -- Прим. ред.]. А что... -- Она заколебалась, вероятно, из-за
того, что стала нервничать. Через мгновение она закончила вопрос: -- А как
это было в Польше?
Гольдфарб задумался.
-- Следует помнить, что нацисты оставили Лодзь примерно за год до того,
как я попал туда. Я думаю сейчас о том, что видел, и стараюсь представить,
что там творилось при немцах.
-- Ну? -- поторопила его Наоми.
Он вздохнул. Выдох в холодном воздухе поднялся облачком пара.
-- Из всего, что я видел, из всего, что я слышал... Если бы не пришли
ящеры, могло не остаться в живых ни одного еврея. Я не видел всей Польши,
конечно, только Лодзь и путь к морю и обратно, но если бы не пришли ящеры,
во всей стране могло не остаться ни одного еврея. Когда немцы говорили
"свободно от евреев", они ведь не шутили.
Наоми закусила губу.
-- То же самое я слышала по радио. Теперь я слышу это от того, кто, как
я знаю, видел все своими глазами. Ваши слова делают картину более
реалистичной. -- Она насупилась еще больше. -- И немцы, как сообщает радио,
снова наступают в глубь Польши.
-- Я знаю. Я тоже слышал. Мои друзья -- мои друзья-гои -- радуются
таким сообщениям. Когда я слышу их, я не знаю, что думать. Ящеры не смогут
выиграть войну, но и проклятые нацисты -- тоже.
-- Не должны, -- сказала Наоми -- с точностью человека, изучавшего
английский язык специально, а не выросшего среди него. -- Они могут. Ящеры
могут. Немцы могут. Но не должны. -- Она с горечью рассмеялась, -- Когда я
была маленькой девочкой и ходила в школу, до прихода Гитлера к власти, меня
учили, что я немка. И я верила в это. Разве не странно -- если подумать об
этом теперь?
-- Это более чем странно. Это... -- Гольдфарб стал искать подходящее
слово. -- Как называются такие странные картины, где идет дождь из буханок
хлеба или на которых вы пилите часы, капающие вниз с чурбана, словно они
сделаны изо льда и тают?
-- Сюрреалистические, -- сразу же ответила Наоми. -- Да, это так и
есть. Совершенно точно. Я -- немка? -- Она снова засмеялась, затем встала по
стойке смирно, вытянув прямую правую руку. -- "Один народ, одно государство,
один фюрер!" -- громовым голосом имитировала она высказывание Гитлера, и это
была неплохая имитация.
Он подумал, что это шутка. Может быть, она и собиралась пошутить. Но
когда ее рука опустилась вниз, все ее тело задрожало. Лицо скривилось. Она
заплакала.
Гольдфарб обнял ее.
-- Все в порядке, -- сказал он.
Конечно же, нет. Они оба знали, что не все в порядке. Но если
вспоминать о прошлом слишком долго, как можно продолжать жить? Дэвиду стало
ясно, что он гораздо ближе к "истинному британцу", чем он себе представлял.
Наоми прильнула к нему, словно к спасательному кругу. Будто она была
матросом корабля, в который только что попала торпеда подводной лодки. Он
прижимал ее к себе с таким же отчаянием. Когда он наклонился, чтобы
поцеловать ее, ее губы раскрылись. Глубоко в горле девушки родился стон, и
она притянула его к себе.
Наверное, это был самый странный поцелуй в его жизни. Он не пробудил в
нем вожделения, как многие менее значимые поцелуи с девушками, о которых он
заботился меньше. Тем не менее он был рад поцелую и почувствовал сожаление,
когда тот закончился.
-- Я должен проводить вас обратно к вашему жилью, -- сказал он.
-- Да, наверное, стоит, -- ответила Наоми. -- Вы сможете познакомиться
с моими родителями, если пожелаете.
Он боролся с ящерами с оружием в руках. Неужели теперь он струсит?
Неужели он побоится принять такое предложение? Конечно, нет.
-- Превосходно, -- сказал он, изо всех сил стараясь говорить обычным
тоном.
Наоми взяла его под руку и улыбнулась ему так, словно он только что
сдал экзамен. Может быть, он и в самом деле сдал экзамен.
* * *
Большая группа темнокожих Больших Уродов стояла неровными рядами на
травянистой поляне рядом с флоридской авиабазой. Теэрц увидел еще одного
тосевита такого же цвета, который вышагивал перед ними. Пилот вздрогнул.
Своим бессмысленным расхаживанием и свирепым видом Большой Урод с тремя
полосками на каждом рукаве покрытия верхней части тела напоминал ему майора
Окамото, который был его переводчиком и тюремщиком в японском плену
Самец с полосками на рукаве прокричал два слога на своем языке.
Остальные тосевиты резко застыли в вертикальном положении, плотно
прижав руки к бокам. Теэрцу это казалось нелепым, но, похоже, вполне
устроило или по крайней мере успокоило Большого Урода с полосатым покрытием
верхней части тела.
Этот самец снова прокричал что-то, на этот раз целую фразу полнейшей
чепухи. Теэрц в японском плену научился понимать тосевитский язык, но во
Флориде это не помогло. В Империи на всех трех мирах использовался один и
тот же язык: встреча с планетой, на которой говорили на десятках различных
языков, требовала от самцов Расы значительного умственного напряжения.
Темнокожие Большие Уроды маршировали туда и сюда по травянистому полю,
повинуясь командам, которые подавал самец с полосками. Даже их ноги
двигались назад и вперед в одинаковом ритме. Когда они сбивались,
командовавший самец сердито кричал на тех, кто ошибался. Теэрцу не надо было
быть ученым по психологии других видов, чтобы понять, что командующий самец
был не очень доволен.
Теэрц повернулся к другому самцу Расы, который также наблюдал за
упражнениями тосевитов. У него была раскраска тела, положенная специалисту
по разведке. По своему рангу он примерно соответствовал Теэрцу. Пилот
спросил:
-- Можем ли мы на самом деле доверять этим Большим Уродам бороться по
нашему поручению?
-- Наш анализ показывает, что они будут воевать храбро, -- ответил
самец из разведки. -- Другие местные тосевиты настолько плохо относились к
ним, что теперь они видят в нас гораздо лучшую альтернативу продолжительной
власти Больших Уродов с более светлой кожей.
Теэрцу показался знакомым голос этого самца.
-- Вы ведь Ааатос, не так ли? -- спросил он неуверенно.
-- Истинно так, -- отвечал самец. -- А вы Теэрц.
В отличие от Теэрца он не испытывал сомнений. Если бы он не знал, кто
есть кто на базе, он не смог бы отработать свое содержание -- или сохранить
репутацию разведки о всеведении.
Эта репутация сильно пострадала после того, как Раса пришла на Тосев-3.
Теэрц сказал:
-- Я надеюсь, вы простите меня, но я всегда нервничаю в присутствии
вооруженных Больших Уродов. Мы давали оружие местным жителям других частей
этой планеты, но, как я слышал, часто результаты оставляли желать лучшего.
Он не мог придумать более вежливого способа сказать, что Большие Уроды
имеют привычку поворачивать оружие против Расы.
-- Истинно так, -- снова сказал Ааатос. -- Мы улучшаем процедуры
контроля и не позволим этим тосевитам независимо перемещаться в больших
количествах и с оружием: мы будем постоянно использовать значительное
количество самцов Расы вместе с ними. Они предназначены дополнить наши меры
безопасности, а не заменить их. Таким образом, у нас не будет беспокойства,
о котором вы напомнили; сразу приходит в голову польское дело.
-- Польша -- да, это название я слышал, -- сказал Теэрц.
Он с трудом нашел бы ее на карте. Его познания в тосе-витской географии
ограничивались Манчьжоу-Го и Японией, причем он знал их гораздо лучше, чем
ему бы хотелось.
-- Ничего такого здесь случиться не может, -- сказал Ааатос, добавив
сочувственное покашливание.
-- Может, вы и правы, -- закончил разговор Теэрц.
Его личный опыт на Тосев-3 убедил его в двух вещах: Большие Уроды
гораздо более нечестны, чем большинство самцов Расы в состоянии представить,
пока не ткнутся в этот факт мордой, но пытаться убеждать самцов, пока они
сами не ткнутся в этот факт мордой, -- все равно что терять время на старте.
А на поляне продолжали маршировать Большие Уроды, они меняли
направление движения, поворачивая под прямым углом.
Самец с полосками на рукавах шагал рядом с ними, руганью добиваясь
более слаженного движения. Действительно, их ноги двигались так, словно
находились под контролем единого организма.
-- Это любопытно наблюдать, -- сказал Теэрц Ааатосу, -- но в чем смысл?
Любой самец, который применит эту тактику в настоящем наземном бою, будет
быстро уничтожен. Даже я, пилот истребителя, знаю, что самцы должны
рассеиваться и искать укрытия. Так диктует простой здравый смысл. -- Он
застыл с открытым ртом, -- Но здравый смысл для тосевитов не существует.
-- Мне дали понять, что эта маршировка способствует групповой
солидарности, -- ответил самец из разведки. -- Я не совсем понимаю, почему
так получается, но, кажется, это неоспоримо: все местные военные используют
подобную дисциплинирующую практику. Одна из теорий, популярных ныне,
объясняет, почему Большие Уроды, будучи видом унаследование менее
дисциплинированным, чем Раса, используют эти процедуры для внедрения порядка
и подчинения приказам.
Теэрц задумался. В этом было больше смысла, чем в большинстве теорий,
которые он слышал от разведки.
Он снова вернулся к наблюдению за марширующими тосевитами. Через
некоторое время они прекратили движение и остановились, образовав ровный
строй, снова неподвижно вытянувшись, в то время как самец с полосками
обращался к ним с речью. И время от времени они выкрикивали какие-то ответы
хором.
-- Вы понимаете их язык, -- спросил Теэрц Ааатоса, -- что они говорят?
-- Их лидер описывает качества боевых самцов, которые он хотел бы,
чтобы они приобрели, -- сказал Ааатос. -- Он спрашивает их. есть ли у них
желание иметь эти качества. Они отвечают утвердительно.
-- Да, я вижу, что они могут, -- сказал Теэрц, -- у нас никогда не было
случая сомневаться в боевых качествах тосевитов. Но я по-прежнему упорствую
в своих мыслях: будут ли эти качества использованы ради нас или против нас,
в конце концов?
-- Я не думаю, что опасность настолько велика, как вы полагаете, --
сказал Ааатос. -- В любом случае мы должны использовать эту возможность --
или рискуем проиграть войну.
Теэрц никогда не слышал столь прямого заявления, и это его обеспокоило
всерьез.
Городок Ламар, штат Колорадо, был хорош тем, что достаточно было отойти
на милю за границу предместья, и уже казалось, что он как бы и не
существует. Вокруг ничего, только вы, прерия и миллион звезд, заливающих вас
светом с неба, -- и еще человек, который вместе с вами отошел на милю за
окраину города.
Пенни Саммерс прижалась к Рансу Ауэрбаху и сказала:
-- Я хотела бы поступить в кавалерию, как это сделала Рэйчел. Тогда бы
завтра утром я скакала вместе с тобой, вместо того чтобы сидеть здесь.
Он обхватил ее за талию.
-- Я рад, что ты не в кавалерии, -- ответил он. -- Если бы я отдавал
тебе приказания, сейчас я поступил бы нечестно...
Он нагнулся и поцеловал ее. Поцелуй затянулся.
-- Тебе не нужно отдавать приказ, чтобы заставить меня захотеть этого,
-- сказала она чуть дыша, когда их губы наконец разделились. -- Мне это
нравится.
Затем она поцеловала его.
-- У-ух! -- сказал он немного погодя -- шумный выдох поднялся паром.
Весна была близка, но ночью этого не ощущалось. Зато холод давал ему
дополнительное оправдание, чтобы так крепко прижимать ее к себе.
После очередного поцелуя Пенни откинула назад голову и стала смотреть в
ночное небо чуть прикрытыми глазами.
Она не могла бы сделать ему более явное предложение, даже если бы
выгравировала его на тарелке. Ее шея была белой, как молоко, в свете звезд.
Он начал нагибаться, чтобы поцеловать ее, затем остановился.
Она заметила это. Ее глаза широко раскрылись.
-- В чем дело? -- спросила она уже не хрипловатым, а несколько
сварливым голосом.
-- Здесь холодно, -- сказал он, что было правдой, но не всей правдой.
Теперь она негодующе выдохнула.
-- Нам не холодно, -- сказала она, -- особенно когда мы делаем... вы
знаете.
Он хотел ее. Они оба были в длинных теплых пальто. Но он помнил, через
что она прошла. Она, конечно, не героиня сказки о принцессе на горошине, но
у него и в мыслях не было стянуть с нее грубое одеяние и уложить девушку в
грязь, независимо от того, сколько он об этом думал, когда приглашал ее
прогуляться с ним.
Он пытался изложить это словами, понятными и ему, и ей.
-- Кажется, как-то не очень честно, не потому, что ты очень долго была
в таком бедственном положении. Я хочу быть уверен, что с тобой все в
порядке, прежде чем я...
"Прежде чем я -- что?"
Если бы он хотел уложить ее в постель, все было бы просто. Но его
безумно интересовала она сама.
-- Я прекрасно себя чувствую, -- негодующе сказала она. -- Да, я тяжело
перенесла смерть отца, но теперь я с этим справилась. Мне хорошо, как
никогда.
-- Я понимаю, -- сказал он.
Он не хотел спорить с ней. Но когда люди поднимаются из трясины к
облакам слишком быстро, они плохо отдают себе отчет в происходящем. Похоже,
ее поездка еще продолжалась.
-- Тогда решено, -- сказала она, как будто все и вправду было решено.
-- Постой, давай сделаем так, -- сказал он. -- Подожди, когда я вернусь
со следующего задания. Будет достаточно времени, чтобы сделать все, что мы
захотим.
"И у тебя будет больше возможностей разобраться с собой и убедиться,
что ты не просто бросилась на первого попавшегося парня".
Она надула губы.
-- Но ведь ты будешь отсутствовать долгое время. Рэйчел сказала, что
это следующее задание -- не просто рейд. Она сказала, что вы собираетесь
попытаться повредить космический корабль ящеров.
-- Ей не следовало говорить этого, -- рассердился Ауэрбах.
Секретность для него была естественной -- всю свою взрослую жизнь он
был солдатом. Он знал, что Пенни не побежит болтать к ящерам, но кому еще
Рэйчел рассказала о запланированном ударе? А куда пошел слух дальше? В
Соединенных Штатах люди не часто шли на сотрудничество с ящерами, по крайней
мере в тех местностях, которые оставались свободными, но и такое случалось.
И Рэйчел, и Пенни сталкивались с предателями. Тем не менее Рэйчел
проболталась. Это было не очень хорошо.
-- Может быть, ей и не следовало этого говорить, но она сказала, и
поэтому я знаю, -- сказала Пенни, качнув головой. Показалось, она добавила:
"Так что давай сейчас". -- А если я найду кого-нибудь еще, пока ты
отсутствуешь, мистер Ране Ауэрбах? Что тогда?
Ему хотелось рассмеяться. Он старался быть заботливым и разумным -- и
куда он попал? На сковородку.
-- Если ты это сделаешь, -- сказал он, -- ты не станешь рассказывать
ему о нас, не так ли?
Она посмотрела на него.
-- Думаешь, у тебя есть все ответы, не так ли?
-- Помолчи-ка минутку, -- сказал он.
Он не собирался обрывать разговор: причина была в другом.
Пенни собралась ответить резкостью, но затем она тоже услышала далекий
гул в небе. Он становился все громче.
-- Это самолеты ящеров, так ведь? -- спросила она, словно надеясь, что
он будет ей возражать. Ему бы хотелось, чтобы она ошиблась.
-- Наверняка они, -- сказал он. -- Очень много. Обычно они летят выше в
начале пути, затем снижаются, чтобы нанести удар. Не знаю, почему они на
этот раз действуют иначе, разве что...
Прежде чем он смог закончить предложение, начала бить зенитная
артиллерия, сначала к востоку от Ламара, а затем в самом городе. Трассы
снарядов и их разрывы осветили ночное небо, перекрыв сияние звезд. Даже
вдали от Ламара грохот стоял ошеломляющий. Шрапнель сыпалась вниз, словно
горячие зазубренные градины. Если такая попадет в голову, дело кончится
расколотым черепом. Ауэрбах пожалел, что на нем нет каски. Когда приглашаешь
красивую девушку на прогулку, обычно о таких вещах не беспокоишься.
Он увидел боевые самолетов ящеров только тогда, когда они закончили
бомбежку и обстрел ракетами Ламара. Он разглядел пламя, вырывавшееся из
труб. После нападения они встали на хвосты и взлетели ввысь, как ракеты. Он
насчитал девять машин, три звена по три.
-- Мне надо вернуться, -- сказал он и поспешил в сторону Ламара.
Пенни побежала рядом с ним, ее туфли вскоре стали чавкать по грязи так
же, как его сапоги.
Самолеты ящеров вернулись к Ламару раньше, чем гулявшие добрались до
цели. Самолеты нанесли по городу еще один удар, а затем улетели на восток.
Зенитная артиллерия продолжала палить и после того, как они улетели. Так
было всегда после воздушных налетов. А когда орудия били по настоящим целям,
попадали крайне редко.
Пенни тяжело дышала и едва переводила дух, когда они с Ауэрбахом
добрались до предместья Ламара, но держалась стойко.
-- Иди в госпиталь, чего ты ждешь? Там наверняка требуются лишние руки.
-- Хорошо, -- ответила она и поспешила прочь.
Он кивнул ей вслед. Если даже позднее она и не вспомнит о том, что
сходила по нему с ума, все равно лучше видеть ее занимающейся делом, чем
прячущейся в жалкой маленькой комнатке наедине с Библией.
Едва она исчезла за углом, как он сразу забыл о ней. Он рванулся к
баракам через хаос, воцарившийся на улицах: Цепочки людей передавали ведра с
водой и заливали огонь. Не каждый пожар можно было потушить: в эти дни Ламар
зависел от воды из колодцев, и ее было недостаточно, чтобы погасить пламя.
Раненые мужчины и женщины кричали и плакали. И раненые лошади тоже -- по
крайней мере одна бомба попала в конюшню. Несколько лошадей вырвалось
наружу. Они носились по улицам, шарахались от пожаров, лягались в панике,
мешая людям, которые старались помочь им.
-- Капитан Ауэрбах, сэр! -- прокричал кто-то прямо в ухо Раису.
Он подпрыгнул и повернулся на месте. Его помощник, лейтенант Билл
Магрудер, стоял рядом с ним. Свет пожара осветил лицо Магрудера, покрытое
таким слоем сажи, что его можно было принять за актера в гриме негра.
-- Рад видеть вас целым, сэр.
-- Я в полном порядке, -- сказал Ауэрбах. Как ни абсурдно, он
чувствовал себя виноватым за то, что не оказался под бомбежкой ящеров. --
Что происходит?
-- Сэр, все не очень хорошо, и мы понесли порядочные потери -- в людях,
лошадях...
Мимо пробежала лошадь с тлеющей гривой. Билл махнул рукой в ее сторону.
-- Боеприпасы, которые мы накопили, тоже пропали. Эти ублюдки так по
Ламару еще не били.
Он хлопнул руками по бедрам. Ауэрбах понял. Из-за того, что чужаки не
очень часто поступали по-новому, можно было подумать, что они вообще не
делают ничего нового. Такой вывод может стать последней ошибкой в жизни.
Потеря боеприпасов была невосполнима.
-- Похоже, мы можем забыть о завтрашнем задании, -- сказал Ауэрбах.
-- Боюсь, что так, капитан. -- Магрудер скривился. -- Пройдет немало
времени, прежде чем мы снова сможем об этом подумать. -- Его мягкий акцент
уроженца Виргинии делал его слова еще печальнее. -- Не знаю, как там с
производством, но доставка из одного места в другое теперь не слишком
сложна.
-- Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю, -- сказал Ауэрбах. Он
ударил кулаком по бедру. -- Черт побери, если бы мы взорвали один из их
космических кораблей, мы по-настоящему заставили бы их задуматься.
-- Я тоже так думаю, -- сказал Магрудер. -- Кто-то это сделает -- тут я
с вами согласен. Только, похоже, это будем не мы. -- Он процитировал военную
поговорку. -- "Никакой план не выживает после контакта с противником".
-- Досадная и печальная истина, -- сказал Ауэрбах. -- Враг, эта грязная
собака, идет и действует по собственным планам. -- Он рассмеялся, хотя
испытывал боль. -- Сегодня этому сукину сыну повезло.
-- Наверняка. -- Магрудер оглядел развалины, которые были Ламаром. --
Их нынешний ночной план сработал прекрасно.
Ламар превратился в развалины.
* * *
Зэки, пробывшие в гулаге рядом с Петрозаводском в течение какого-то
времени, описывали погоду, как девять месяцев лютой зимы и три -- плохого
катания на лыжах. А это ведь были русские, привыкшие к зиме в отличие от
Давида Нуссбойма. Он не мог понять, взойдет ли когда-нибудь солнце,
перестанет ли когда-нибудь падать снег.
Ночью было плохо. Даже когда в печи, стоявшей посередине барака, горел
огонь, его все равно донимал жестокий холод. Нуссбойм был новичком,
политическим заключенным, а не обычным вором, и вдобавок к тому еще и
евреем. За это ему достались нары на самом верху, вдали от печи и вплотную к
щелястой стене, так что ледяной сквозняк постоянно играл на его спине или
груди. Ему также досталась обязанность приносить среди ночи и высыпать в
печь угольную пыль -- а еще побои, если он не просыпался вовремя и остальные
тоже замерзали.
-- Заткни пасть, проклятый жид, или потеряешь право на переписку, --
предупредил его один из блатных, когда он застонал после пинка под ребра.
-- Как будто у меня есть кому писать, -- сказал он Ивану Федорову,
который попал в этот же самый лагерь и, не имея связей среди блатных,
получил такие же незавидные нары.
Хотя и наивный, как всякий русский, Федоров понимал лагерный язык
гораздо лучше Нуссбойма.
-- Ты -- глупый жид, -- сказал он без ненависти, которую вкладывал в
это слово блатной. -- Если тебя лишают права переписки, этот значит, что ты
слишком мертв, чтобы кому-то писать.
-- О! -- сказал Нуссбойм упавшим голосом.
Он крепко обхватил себя за бока и задумался, не сказаться ли больным.
Короткого размышления было достаточно, чтобы отбросить эту мысль. Если ему
не поверят, его опять побьют. А если поверят, так борщ и щи в больнице будут
еще более жидкими и водянистыми, чем та ужасная еда, которой они кормят
обычных зэков. Может быть, существует теория, согласно которой больной
человек не сможет переварить то, что дается при обычном питании. Так что
если зэк поступал в больницу слишком больным, живым он оттуда вообще не
выходил.
Он свернулся калачиком под потертым одеялом, не снимая одежды, и
постарался не обращать внимания на боль в ребрах и на вшей, которые ползали
по нему. Вши были у всех. Нет смысла переживать по этому поводу -- хотя это
и противно. Он никогда не думал о себе, что слишком привередлив, но
жизненные принципы, к которым он был приучен, слишком отличались от
гулаговских.
Постепенно он погрузился в тяжелую дремоту. Труба, возвестившая
утренний сбор, заставила его дернуться, словно он схватился за электрическую
изгородь. Лагерь возле Петрозаводска такой роскошью не обладал: колючей
проволоки было достаточно, чтобы удерживать подобных ему зэков.
Кашляя, ворча и ругаясь, зэки построились, чтобы охранники могли
пересчитать их и убедиться, что никто не исчез в разреженном воздухе.
Снаружи все было черно, как смола, стоял чертовский холод: Петрозаводск,
столица Карельской Советской Социалистической Республики, находился гораздо
севернее Ленинграда. Некоторые из охранников плохо считали и заставили
повторить перекличку. В результате процедура затянулась и стала еще
отвратнее. Охранников это не волновало. У них были теплая одежда, теплые
бараки и вдоволь еды. Что им было беспокоиться?
Щи из лагерной кухни, которые предстояло проглотить Нуссбойму, могли
быть горячими, но к моменту, когда их налили в его жестяную миску, они были
чуть теплыми: еще через пятнадцать минут они превратились бы в мороженое со
вкусом капусты. К щам он получил ломоть черствого черного хлеба -- обычный
паек, недостаточный, чтобы наесться. Часть хлеба он съел, остаток убрал в
карман своих ватных штанов на будущее.
-- Теперь я готов пойти рубить деревья, -- произнес он звенящим
голосом, который прозвучал бы фальшиво, даже если бы он позавтракал
бифштексами с яйцом, столько, сколько могло в него влезть.
Некоторые из зэков, понимавшие по-польски, рассмеялись. Это _было_
забавно. Было бы еще забавнее, если бы он не сидел на голодном пайке,
недостаточном даже для человека, которому не надо заниматься тяжелым
физическим трудом.
-- Работайте лучше! -- орали охранники.
Наверное, они ненавидели заключенных, за которыми должны были
наблюдать. Хотя им не приходилось работать самим, все равно они должны были
идти в холодный лес, вместо того чтобы вернуться в бараки.
Вместе с остальными людьми из своей группы Нуссбойм поплелся получать
топор: большой, неудобный, с тяжелым топорищем и тупым лезвием. Русские
могли бы более эффективно использовать труд зэков, если бы снабдили их
инструментом получше, но, похоже, о таких вещах они не беспокоились. Если
вам придется работать чуть дольше, значит, так и надо. А если вы повалитесь
в снег и умрете, другой заключенный встанет на ваше место на следующее утро.
Когда зэки двинулись в сторону леса, Нуссбойм вспомнил анекдот, который
он слышал, когда один немецкий охранник в Лодзи рассказывал его другому. Он
переделал его на советский лад.
-- Летят в самолете Сталин, Молотов и Берия. Самолет разбился. Никого в
живых. Кто спасся?
Иван Федоров наморщил лоб.
-- Раз никого в живых, как кто-то мог спастись?
-- Это шутка, дурак, -- присвистнул один из зэков и повернулся к
Нуссбойму. -- Ладно, еврей, сдаюсь. Так кто?
-- Русский народ, -- ответил Нуссбойм.
Федоров по-прежнему не мог понять. А второй зэк скривился, узкое лицо
его растянулось, чтобы вместить улыбку.
-- Неплохо, -- сказал он так, словно сделал большую уступку. --
Вообще-то надо поменьше болтать. Пошутишь там, где слишком много
политических, и кто-нибудь из них выдаст тебя охранникам.
Нуссбойм закатил глаза.
-- Я и так уже здесь. Что еще они могут сделать мне?
-- Ха! -- хохотнул второй зэк. -- Это мне нравится.
После некоторого размышления он протянул руку, одетую в рукавицу.
-- Антон Михайлов.
Как и большинство заключенных в лагере, он не употреблял отчество.
-- Давид Аронович Нуссбойм, -- ответил Нуссбойм, стараясь выглядеть
вежливым.
В лодзинском гетто он смог выделиться, может, удастся повторить это
чудо и здесь.
-- Пошевеливайтесь! -- закричал Степан Рудзутак, старший бригады. -- Не
сделаем нормы, будем голодать еще больше.
-- Да, Степан, -- хором ответили заключенные.
Прозвучало это покорно. Они покорились, те, кто был в гулаге с 1937
года и даже дольше, не то что новичок Нуссбойм. Даже обычного лагерного
пайка было недостаточно, чтобы поддерживать силы человека. Но его урезали,
если вы не выполняли норму, после чего очень скоро им приходилось бросать
вас в снег, чтобы сохранить тело, пока не оттает земля и можно будет
похоронить вас.
Антон Михайлов буркнул:
-- Даже если мы будем работать, как стахановцы, все равно сдохнем от
голода.
-- Meshuggeh, -- сказал Нуссбойм.
Тот, кто перевыполнял норму, получал прибавку хлеба. Но никакая
прибавка не соответствовала труду, который следовало затратить, чтобы
добиться перевыполнения при норме в шесть с половиной кубических ярдов на
человека в день.
-- Ты говоришь, как жид, -- сказал Михайлов.
Его серые глаза мигали над тряпкой, которой он закрывал от холода нос и
рот. Нуссбойм пожал плечами. Как и Федоров, Михайлов говорил без злости.
Возле деревьев снега намело по грудь. Нуссбойм и Михайлов стали
утаптывать его валенками. Без этих сапог из толстого войлока Нуссбойм давно
бы отморозил ноги. Без приличной обуви никто здесь не смог бы работать. Даже
охранники из НКВД понимали это. Они не хотели убивать вас сразу: они хотели,
чтобы вы вначале поработали.
Как только они утоптали снег ниже колен, то с топорами набросились на
сосну. Нуссбойм до Карелии не срубил в жизни ни одного дерева: его вполне бы
устроило, если бы ему и не пришлось их рубить. Но его желания, конечно,
никого не беспокоили. Если бы он не рубил деревья, его бы выкинули -- без
колебаний и жалости.
Он был по-прежнему неуклюж в работе. Рукавицы на вате мешали, хотя, как
и валенки, они защищали его во время работы от холода. Топор часто
поворачивался в его неопытных руках, и тогда он наносил удар по стволу не
лезвием топора, а плашмя. Когда так получалось, он чувствовал отдачу,
сотрясавшую его до самых плеч, а топорище жалило руки, словно рой пчел.
-- Неуклюжий дурак! -- кричал на него Михайлов с другой стороны сосны.
Затем то же самое случилось с ним, и он запрыгал по снегу, выкрикивая
ругательства. Нуссбойм оказался достаточно невоспитанным, чтобы громко
рассмеяться.
Дерево начало раскачиваться и стонать, затем внезапно повалилось.
-- Берегись! -- заорали они оба, чтобы предостеречь остальных членов
бригады и заставить их освободить путь.
Если бы сосна упала на охранников, это тоже было бы чертовски плохо, но
и они разбежались. Глубокий снег заглушил шум от падения сосны, хотя
несколько ветвей, покрытых толстым слоем льда, обломились со звуком
наподобие выстрелов.
Михайлов захлопал, Нуссбойм испустил ликующий вопль.
-- Нам меньше работы! -- одновременно воскликнули они.
Им еще предстояло отрубить ветви от ствола, и те, что обломились сами,
облегчили им жизнь. В гулаге это не часто случается. Работы и так оставалось
довольно много. Обломанные ветви следовало отыскать в снегу, отрубить
оставшиеся, а потом сложить все в общую кучу.
-- Удачно, -- сказал Нуссбойм.
Части тела, открытые морозу, замерзли. Но под ватником и ватными
штанами он был мокрым от пота. Он показал на снег, прилипший к зеленым,
наполненным соком сосновым сучьям.
-- Как вы можете их жечь по такой погоде?
-- Да их почти и не жгут, -- отвечал другой зэк. -- У ящеров есть
привычка бомбить все, что дымится, поэтому мы этого больше не делаем.
Нуссбойм был не против постоять и поговорить, но и замерзнуть он тоже
не хотел.
-- Пойдем возьмем пилу, -- сказал он. -- Чем скорее придем, тем больше
шансов выбрать хорошую.
У лучшей пилы ручки были окрашены в красный цвет. Она была не занята,
но Нуссбойм и Михайлов не взяли ее. Этой пилой могли пользоваться только
Степан Рудзутак и помощник бригадира, казах по фамилии Усманов. Нуссбойм
схватил другую пилу, которая, насколько он помнил, была вполне приличной.
Михайлов одобрительно кивнул, и они вернулись к поваленному дереву.
Туда и сюда, вперед и назад, все больше сгибаясь по мере того, как пила
врезалась глубже, вовремя убери ноги -- чтобы отпиленное дерево не
размозжило пальцы. Затем отодвинься вдоль по стволу на треть метра и повтори
все снова. Затем еще и еще. Через некоторое время превращаешься в поршень.
Во время работы вы слишком заняты и слишком утомлены, чтобы размышлять.
-- Перерыв на обед! -- заорал Рудзутак.
Нуссбойм поднял глаза в тупом недоумении. Что, прошло уже полдня?
Кухонные рабочие ворчали: им пришлось покинуть теплые кухни и выйти
наружу, чтобы накормить рабочие бригады так далеко в лесу. Теперь они орали
на зэков, веля поторапливаться, чтобы их драгоценные хрупкие организмы могли
вернуться обратно.
Некоторые лесорубы выкрикивали оскорбления кухонным работникам.
Нуссбойм видел, как Рудзутак закатил глаза. Он был новичком, но здесь учили
лучше, чем в лодзинском гетто. Повернувшись к Михайлову, он сказал:
-- Только дурак оскорбляет человека, который собирается кормить его.
-- Ты не так глуп, как кажешься, -- ответил русский.
Он ел суп -- на этот раз им дали не щи, а какую-то мещанину из крапивы
и других трав, -- торопясь, чтобы не упустить остатки тепла в жидкости,
затем пару раз откусил от своего ломтя хлеба и спрятал остаток в карман
штанов.
Нуссбойм съел весь свой хлеб. Поднявшись с места, он почувствовал, что
окоченел. Это случалось почти каждый день. Несколько минут работы с пилой
вылечили его. Туда и сюда, вперед и назад, нагибайся ниже, отдерни ноги,
сдвинься дальше по стволу... Разум спал. Когда Рудзутак закричал бригаде о
конце смены, ему пришлось посмотреть вокруг, чтобы понять, сколько поленьев
он нарезал. Достаточно, чтобы они с Михайловым выполнили норму, -- да и
остальные в бригаде тоже поработали неплохо. Они погрузили кругляки на сани
и поволокли их в лагерь. Поверх расположилась пара охранников. Зэки не
сказали ни слова. А если бы сказали, те могли бы сесть им на шею.
-- Может, сегодня вечером к каше дадут еще и селедки, -- сказал
Михайлов.
Нуссбойм кивнул, шагая впереди. Так или иначе, есть что предвкушать.
* * *
Кто-то постучал в дверь маленькой комнатки Лю Хань в пекинских
меблирашках. Ее сердце подпрыгнуло. Нье Хо-Т'инг отсутствовал в городе
долгое время -- то по одному делу, то по другому. Она знала, что он ведет с
японцем переговоры, которые возмущали ее, но она не смогла переспорить его
до отъезда. Военная необходимость была для него важнее всего остального,
даже ее самой.
В этом он был совершенно честным. Она понимала, что он не может
принадлежать ей, и тем не менее продолжала заботиться о нем. Большинство
мужчин, которых она видела, обещали -- и нарушали свои обещания, после чего
отрицали, что они что-то обещали или сделали то, что сделали, или же и то и
другое одновременно. "Обычно и то и другое", -- подумала она, поджав губы.
Стук раздался снова -- громче и настойчивее. Она поднялась на ноги.
Если стучал Нье, значит, он не улегся в постель с какой-нибудь первой же
легкомысленной девчонкой, с которой встретился, когда его рожок потяжелел.
Если так, это хорошо характеризует его -- и означает, что она обязана быть
теперь особенно благодарной.
Улыбаясь, она поспешила к двери, подняла запор и распахнула ее. Но в
коридоре оказался не Нье, а его помощник, Хсиа Шу-Тао. Улыбка исчезла с ее
лица, она поспешила вытянуться, как солдат, пряча аппетитное покачивание
бедрами, которое приготовила для Нье.
Но она опоздала. Широкое уродливое лицо Хсиа расплылось в распутной
улыбке.
-- Какая привлекательная женщина! -- сказал он и сплюнул на пол.
Он никогда и никому не давал позабыть, что происходит из крестьян, и
считал малейшее проявление вежливости буржуазным притворством и признаком
контрреволюционности.
-- Что вы хотите? -- холодно спросила Лю Хань.
Она знала наиболее вероятный ответ, хотя могла и ошибаться. Был по
крайней мере шанс, что Хсиа пришел сюда по партийным делам, а не в надежде
вдвинуть свой Гордый Пестик в ее Яшмовые Ворота.
Она не отодвинулась, чтобы пропустить его в комнату, но он все равно
вошел. Он был приземистый и широкоплечий -- сильный, как бык. Он мог бы
пройти прямо по ней, если бы она не уступила ему дорогу. Впрочем, он
по-прежнему старался говорить приветливо:
-- Вы прекрасно сработали, помогая взорвать маленьких чешуйчатых
дьяволов бомбами в оборудовании зверинцев. это было умно придумано, и я это
отмечаю.
-- Это ведь было очень давно, -- сказала Лю Хань. -- К чему выбирать
это время, чтобы прийти и говорить мне комплименты?
-- Любое время -- хорошее время. -- ответил Хсиа Шу-Тао.
Небрежным пинком он захлопнул дверь. Лю Хань точно знала, что это
означает. Она начала беспокоиться. В послеполуденное время в меблирашках
находилось мало народа. Она пожалела, что открыла дверь. Хсиа продолжил:
-- Я уже давно положил на вас глаз, вы знаете это?
Лю Хань знала это очень хорошо.
-- Я не ваша женщина. Мой друг -- Нье Хо-Т'инг.
Может быть, это заставит его вспомнить, что не дело -- приходить сюда и
обнюхивать ее. Он уважал Нье и делал все, что тот приказывал -- во всяком
случае, когда эти приказы не относились к женщинам.
Хсиа рассмеялся. Лю Хань ничего забавного не видела.
-- Он ведь хороший коммунист, наш Нье. Он не откажется поделиться тем,
чем обладает.
И он набросился на нее.
Она попыталась оттолкнуть его. Он снова засмеялся -- он был гораздо
сильнее. Когда он попытался поцеловать ее, она попробовала кусаться. Без
малейшего видимого гнева он ударил ее по лицу. Его член, большой и толстый,
упирался ей в бедро. Он швырнул ее на сваленные в углу комнаты постельные
принадлежности, опустился на пол рядом и начал стягивать с нее черные
хлопчатобумажные брюки.
Чувствуя боль и ошеломление, она некоторое время лежала, не
сопротивляясь. В мыслях она унеслась к тем печальным дням на самолете
маленьких чешуйчатых дьяволов, самолете, который никогда не садится на
землю. Маленькие дьяволы приводили мужчин в ее металлическую клетку, и те
делали свое дело независимо от того, хотела она их или нет. Она была
женщиной: чешуйчатые дьяволы умертвили бы ее, если бы она сопротивлялась.
Что ей оставалось делать? Она была невежественной крестьянкой, которая умела
только подчиняться, что бы ни требовали от нее.
Больше она такой не была. Вместо страха и покорности теперь ее охватила
ярость -- кровоточащая и огненная, как взрыв. Хсиа Шу-Тао стянул ее брюки и
швырнул в стену. Затем стянул до половины свои собственные штаны. Головка
его органа ткнулась в голое бедро Лю Хань.
Она согнула колено и изо всех сил ударила его в пах.
Его глаза широко раскрылись и стали круглыми, как у иностранного
дьявола -- с белой полосой вокруг радужки. Он издал наполовину стон,
наполовину крик и согнулся, как карманный нож, обхватив руками драгоценные
части, которые она повредила.
Если бы она дала ему возможность опомниться, он бы покалечил ее --
может быть, даже убил. Не беспокоясь о том, что она наполовину обнажена, она
отползла от него, схватила длинный острый нож с нижней полки шкафа у окна и
приставила лезвие ножа к его толстой, как у быка, шее.
-- Сука, проститутка, ты... -- Он отвел руку, чтобы попытаться ударить
ее сбоку.
Она взмахнула ножом. Из раны хлынула кровь.
-- Будьте очень спокойны, товарищ, -- прошипела она, вкладывая в это
слово все свое презрение. -- Если вы думаете, что мне не понравится увидеть
вас мертвым, то вы гораздо глупее, чем я думала.
Хсиа замер. Лю Хань чуть глубже вдавила нож.
-- Осторожнее, -- сказал он тонким сдавленным голосом: чем сильнее
двигался его кадык, тем глубже врезался нож.
-- Это еще почему? -- прорычала она.
Она подумала, что вообще-то вопрос неплохой. Чем дольше длится эта
сцена, тем больше вероятность того, что Хсиа Шу-Тао придумает, как
вывернуться. Если его сейчас убить, она окажется в безопасности. Если же она
оставит его в живых, то ей придется двигаться очень проворно, пока он не
оправился от шока и боли, чтобы ясно соображать.
-- Вы собираетесь повторить сегодняшнее? -- потребовала она ответа.
Он начал качать головой, но лезвие ножа еще больше врезалось в его
горло.
-- Нет, -- прошептал он.
Она хотела спросить его, будет ли он проделывать это с другими
женщинами в дальнейшем, но передумала еще до того, как вопрос сорвался с
губ. Конечно, он скажет "нет", по, несомненно, солжет. После первой лжи
легко придумать и вторую. Поэтому она приказала:
-- Встаньте на четвереньки -- и немедленно. Не делайте ничего, иначе я
зарежу вас, как свинью.
Он подчинился. Он двигался неуклюже не только из-за боли, но и из-за
того, что одежда его была в беспорядке. На это, в частности, и рассчитывала
Лю Хань: даже если он захочет схватить ее, штанины, спущенные до лодыжек,
помешают ему двигаться быстро.
Она убрала нож от шеи и слегка ткнула в его спину.
-- Теперь ползите к двери, -- сказала она, -- и если вы думаете, что
сможете сбить меня с ног, прежде чем я успею воткнуть его до упора, то
валяйте, попробуйте.
Хсиа Шу-Тао пополз. По приказу Лю Хань он открыл дверь и выполз в
коридор. Ей хотелось пнуть его напоследок, но она удержалась. После такого
унижения ей придется убить его. Он, не задумываясь, подверг ее унижению, но
она не могла позволить себе быть такой бесцеремонной.
Она захлопнула дверь и с грохотом наложила засов. И только после этого
ее затрясло. Она посмотрела на нож в руке. Больше никогда она не выйдет из
комнаты безоружной. И нож в шкафу во время сна тоже больше держать не будет.
Он будет в ее постели.
Она вернулась в комнату, взяла брюки и принялась было одеваться. Затем
на мгновение задумалась и снова бросила их. Взяла тряпку, смочила ее из
кувшина, стоявшего на шкафу, и стала тереть кожу, о которую терся пенис Хсиа
Шу-Тао. Только после этого она оделась.
Через пару часов кто-то постучал в дверь. Холодок пробежал по спине Лю
Хань. Она схватила нож.
-- Кто там? -- спросила она, держа оружие в руке.
Она подумала, что это для нее добром не кончится. Если у Хсиа пистолет,
он может выстрелить в нее сквозь дверь, убить или оставить умирающей без
какого-либо риска для себя.
Но прозвучал быстрый и четкий ответ:
-- Нье Хо-Т'инг.
Со вздохом облегчения она сняла брус с двери и впустила его.
-- О, как хорошо снова оказаться в Пекине, -- воскликнул он. Но когда
двинулся к ней, чтобы обнять, увидел в ее руке нож. -- Что это такое? --
спросил он, подняв бровь.
Лю Хань думала, что сможет промолчать о нападении Хсиа, но после
первого же вопроса рассказ безудержно полился из ее уст. Нье слушал
бесстрастно: он молчал, лишь задал пару наводящих вопросов.
-- Что мы сделаем с этим человеком? -- потребовала ответа Лю Хань. -- Я
знаю, что я не первая женщина, с которой он так обошелся. От мужчин у себя в
деревне я ничего другого и не могла бы ожидать. Неужели в
Народно-освободительной армии люди себя ведут так же, как в моей деревне?
-- Не думаю, что Хсиа побеспокоит тебя подобным образом еще раз, --
сказал Нье, -- а если он повторит это, то будет законченным дураком.
-- Этого недостаточно, -- сказала Лю Хань. Воспоминание о том, как Хсиа
Шу-Тао сдирал с нее одежду, вызвало у нее почти такую же ярость, как при
самом нападении. -- Это касается не только меня, он должен быть наказан так,
чтобы больше не мог повторить этого ни с кем.
-- Единственный верный способ сделать это -- выгнать его, но для дела
он нужен, хотя он и не из лучших, -- ответил Нье Хо-Т'инг. Он поднял руку,
предупреждая гневный вопрос Лю Хань. -- Посмотрим, что сможет сделать наша
революционная юстиция. Приходи вечером на собрание исполнительного комитета.
-- Он сделал паузу, задумавшись. -- Это будет также случай еще раз изложить
твои взгляды. Ты ведь очень умная женщина. Возможно, ты вскоре станешь
членом исполкома.
-- Я приду, -- сказала Лю Хань, скрывая удовлетворение.
Она уже выступала раньше перед исполнительным комитетом, когда
отстаивала и уточняла свой план уничтожения маленьких чешуйчатых дьяволов во
время празднеств. Больше ее не приглашали -- до настоящего момента. Может
быть, Нье и собирался использовать ее в качестве куклы, но у нее были
собственные амбиции.
Большинство дел в исполнительном комитете показались ей удивительно
скучными. Она не подпускала к себе тоску, глядя через стол на Хсиа Шу-Тао.
Он старался не встречаться с ней взглядом, от чего ее собственные глаза
сверкали все неистовей.
Нье Хо-Т'инг вел заседание в безжалостной эффектной манере. После того
как комитет согласился ликвидировать двух торговцев, о которых было
известно, что они передают информацию маленьким дьяволам (и гоминьдану), он
сказал:
-- Печально, но это правда: мы, бойцы Народно-освободительной армии,
всего лишь существа из плоти и крови, и все мы совершаем ошибки. Последний
пример такой слабохарактерности -- случай с товарищем Хсиа. Товарищ?
Он посмотрел в сторону Хсиа Шу-Тао -- Лю Хань на ум пришло сравнение --
"как помещик, который поймал крестьянина, обманувшего его при расчете".
Подобно провинившемуся крестьянину, Хсиа смотрел вниз, а не на своего
обвинителя.
-- Извините меня, товарищи, -- пробормотал он. -- Я признаю, что я
подвел Народно-освободительную армию, подвел партию и революционное
движение. Из-за вожделения я попытался приставать к верному и лояльному
последователю революционных шагов Мао Цзэдуна, к нашему бойцу Лю Хань.
Самокритика продолжалась некоторое время. Хсиа Шу-Тао рассказал с
унизительными подробностями, как он делал предложения Лю Хань, как она
отказала ему, как он попытался взять ее силой и как она защитила себя.
-- Я ошибался во всем, -- сказал он. -- Наш боец Лю Хань никогда не
показывала признаков того, что она приманивает меня каким-либо способом. Я
ошибался, стараясь использовать ее для своего собственного удовольствия, и
ошибся еще раз, игнорируя ее, когда она открыто показала, что не хочет меня.
Она была права, отказав мне, и еще раз права в том, что смело сопротивлялась
моему предательскому нападению. Я рад, что это ей удалось.
Самое странное, что Лю Хань поверила ему. Он бы мог радоваться
по-другому, если бы ему удалось изнасиловать ее, но теперь идеология привела
его к признанию, что сделанное им было ошибкой. Она не знала точно,
идеология ли заставляет больше уважать ее или сила.
Когда Хсиа Шу-Тао закончил каяться, он посмотрел на Нье Хо-Т'инга,
чтобы понять, достаточно ли этого.
"Нет", -- подумала Лю Хань, но была не ее очередь высказываться.
Через мгновение Нье сказал суровым тоном:
-- Товарищ Хсиа, это не первая ваша ошибка подобного рода -- худшая,
да, но далеко не первая. Что вы скажете на это?
Хсиа снова наклонил голову.
-- Я согласен с этим, -- покорно ответил он. -- С этого момента я буду
бдительно уничтожать этот недостаток в моем характере. Больше я никогда не
опозорю себя с женщинами. И если я должен, то готов понести наказание,
которое назначит революционная юстиция.
-- Посмотрим, как вы запомнили то, что сказали здесь сегодня, --
предупредил Нье Хо-Т'инг, голос которого звучал, словно гонг.
-- Женщины -- тоже часть революции, -- добавила Лю Хань, на что Нье,
другие члены исполкома и даже Хсиа Шу-Тао согласно кивнули.
Больше она ничего не сказала, но все кивнули еще раз: сказанное ею было
правдой, но не содержало упрека в их адрес. В один прекрасный день, до
которого, вероятно, не так далеко, исполнительному комитету понадобится
новый член. Они могут вспомнить ее здравый ум. Благодаря этому и с
поддержкой Нье она могла бы стать постоянным членом.
"Да, -- думала она. -- Мое время придет".
* * *
Джордж Бэгнолл с восхищением смотрел на устройство, которое ящеры
передали вместе с пленными немцами и русскими в обмен на своих пленников.
Небольшие диски были изготовлены из какой-то пластмассы с металлической
отделкой, в которой играла радуга. Когда такой диск вставляли в читающее
устройство, экран наполнялся цветными изображениями, более живыми, чем в
кино.
-- Ох, черт возьми, как же они это делают? -- спрашивал он чуть ли не в
десятый раз.
Шипящий разговор ящеров раздавался из громкоговорителей по обе стороны
экрана. Как ни малы они были, но воспроизводили звук с большей верностью,
чем любые громкоговорители, изготовленные людьми.
-- Ну что ты, инженер, тянешь из нас жилы? -- сказал Кен Эмбри. --
Считается, что это вы должны объяснить нам, бедным невеждам, как это
делается.
Бэгнолл закатил глаза. Сколько столетий научного прогресса человечества
отделяет авиационные двигатели, за которыми он присматривает, от этих
невинного вида магических дисков? Сотни? Может быть, многие тысячи.
-- Даже объяснения, которые мы получили от пленных ящеров, немногого
стоят -- не каждый здесь, в Пскове, прилично говорит на их языке, -- сказал
Бэгнолл. -- И что за чертовщина этот "скелкванк"? Что бы это ни было, но оно
вытаскивает картинки и звуки из этих маленьких кружков, но пусть меня
изнасилуют, если я знаю -- как.
-- Мы даже не знаем, как задавать правильные вопросы, -- грустно сказал
Эмбри.
-- Твоя правда, -- согласился Бэгнолл. -- И даже если мы видим эти
сюжеты и слышим звук, сопровождающий их, все это большей частью не имеет для
нас никакого смысла: ящеры просто очень странные. И знаешь что? Я не думаю,
что они хоть чуточку понятнее немцам или большевикам, чем нам.
-- Аналогично тому, что понял бы ящер из "Унесенных ветром", -- сказал
Эмбри. -- Ему понадобились бы подробные комментарии, примерно такие, какие
мы даем в виде сносок к каждому третьему слову у Чосера, даже хуже.
-- Этот кусок в одном из сюжетов, где ящер осматривает веши, -- и на
экране, на который он смотрит, появляются одно за другим изображения...
Какого черта может это означать?
Эмбри покачал головой.
-- Будь я проклят, если знаю. Может быть, это что-то глубокое и
символическое, а может быть, мы не понимаем, что видим, а может быть, ящер,
который делал этот фильм, сам не понимал, что снимает. Как мы можем узнать
это? Как мы можем даже предполагать?
-- Знаешь, чего мне хочется после этого? -- спросил Бэгнолл.
-- Если того же, что и мне, то тебе хочется вернуться в наш дом и
напиться до обалдения этого чистейшего картофельного спирта, который
изготовляют русские, -- сказал Эмбри.
-- Попал точно в цель, -- сказал Бэгнолл. Он взял еще один диск и стал
рассматривать движение мерцающих радуг. -- Меня больше всего беспокоит, что
все это попадет нацистам и русским. Не смогут ли они разобраться в этом
лучше, чем мы? Ведь тогда они узнают вещи, которых мы в Англии не будем
знать.
-- Мне тоже в голову приходила эта мысль, -- отметил Эмбри. -- Однако
ящеры должны будут бросить свое барахло здесь, если провалится их нашествие.
Я буду очень удивлен, если нам не достанется порядочное количество этих
"скелкванков" и дисков к ним.
-- Ты прав, -- сказал Бэгнолл. -- Проблема, конечно, в том, что это
очень похоже на библиотеку, раскиданную по местности случайным образом.
Никогда не скажешь заранее, в какой из книг окажется картинка, которую ты
ищешь.
-- Я скажу, чего бы хотелось мне. -- Эмбри понизил голос: некоторые
красные и многие немцы понимали английский. -- Я хотел бы увидеть, как немцы
и русские -- не говоря уж о проклятых ящерах -- рассеяны по местности
случайным образом. Ничто не доставит мне большего счастья.
-- И мне тоже.
Бэгнолл оглядел обвешанную картами комнату, где они регулярно
удерживали нацистов и большевиков, чтобы те не вцепились друг другу в
глотки. Читающее устройство и диски были сложены здесь еще и потому, что это
была относительно нейтральная территория, с которой ни одна из сторон не
попытается стянуть что-то для себя. Он вздохнул.
-- Интересно, увидим ли мы снова когда-нибудь Англию? Боюсь, вряд ли.
-- Вероятно, ты прав. -- Эмбри тоже вздохнул. -- Мы обречены
состариться и умереть здесь -- или, скорее всего, обречены не дожить до
старости и вскоре умереть. Только слепой случай пока хранит нас.
-- Слепой случаи да еще отсутствие увлечения снайперами женского пола,
как это случилось с бедным Джоунзом, -- сказал Бэгнолл.
Они оба рассмеялись, хотя ничего забавного в этом не было. Бэгнолл
добавил:
-- Вблизи от прекрасной Татьяны вероятность состариться и умереть в
Пскове катастрофически возрастает.
-- Точно! -- с чувством сказал Эмбри.
Он бы еще поговорил на эту тему, но Александр Герман выбрал этот
момент, чтобы войти в комнату. Эмбри перешел с английского на спотыкающийся
русский.
-- Добрый день, товарищ начальник.
-- Привет.
Герман не выглядел начальником. Со своими рыжими усами, длинными
нечесаными космами и сверкающими черными глазами он выглядел наполовину
бандитом, наполовину ветхозаветным пророком (что вдруг заставило Бэгнолла
задуматься, насколько велики отличия между ними). Он взглянул на
воспроизводящее устройство ящеров.
-- Чудесные штуки. -- Он сказал это вначале по-русски, затем на идиш,
который Бэгнолл понимал лучше.
-- Да, это так, -- ответил Бэгнолл по-немецки, который партизанский
начальник Герман также понимал.
Бригадир подергал себя за бороду. Он задумчиво продолжил на идиш:
-- Вы знаете, до войны я не был ни охотником, ни кем-то в этом роде. Я
был аптекарем здесь, в Пскове, и готовил лекарства, которые приносили не
слишком много пользы.
Бэгнолл не знал этого: Александр Герман мало рассказывал о себе. Не
отрывая глаз от воспроизводящего устройства, он продолжил:
-- Я был мальчишкой, когда в Пскове появился первый самолет. Я помню,
как появилось кино, радио, звуковое кино. Что может быть более современным,
чем звуковое кино? И вот пришли ящеры и показали нам, что мы просто дети,
забавляющиеся игрушками.
-- Эта мысль появилась у меня уже давно, -- сказал Бэгнолл. -- У меня
она возникла, когда первый истребитель ящеров пролетел мимо моего
"ланкастера". Тогда было хуже.
Александр Герман снова погладил бороду.
-- Правильно, вы ведь летчик. -- Его смех обнажил испорченные зубы и
пустоты на месте выпавших. -- Очень часто я забываю об этом. Вы и ваши
товарищи, -- он кивнул на Эмбри, имея в виду и Джоунза, -- делали такую
хорошую работу, поддерживая в нас и нацистах большую злость на ящеров, чем
друг на друга, что мне кажется, что именно затем вы и прибыли в Псков.
-- Временами и нам так кажется, -- сказал Бэгнолл. Эмбри сочувственно
кивнул.
-- Вы никогда не пытались поступить в советские ВВС? -- спросил Герман.
Прежде чем кто-то из англичан смог ответить, он ответил на свой вопрос сам:
-- Нет, конечно нет. Единственные наши самолеты -- это "кукурузники", а для
иностранных специалистов эти небольшие простые машины интереса не
представляют.
-- Думаю, нет, -- сказал Бэгнолл и вздохнул.
Эти бипланы выглядели так, будто летали сами по себе, будто их мог
чинить любой, кто имеет отвертку и разводной ключ.
Александр Герман рассматривал его в упор. Немало русских и немцев
изучающе рассматривали его с тех пор, как он попал в Псков. В большинстве
случаев он прекрасно понимал, что они при этом думают: "Как бы использовать
этого парня для моих целей?" У всех это было настолько очевидно, что он даже
не расстраивался. Но читать по лицу партизанского командира было не так
легко.
Наконец Александр Герман сказал:
-- Если вы не можете использовать вашу подготовку против ящеров здесь,
вы неплохо сделаете, если используете ее где-то в другом месте. Это
возможно.
И снова он не стал ожидать ответа. Почесывая голову и бормоча про себя,
он вышел из комнаты. Бэгнолл и Эмбри посмотрели ему вслед.
-- Ты не считаешь, что он имел в виду возможность вернуть нас обратно в
Англию, а? -- спросил Эмбри шепотом, словно боясь высказать такую мысль
вслух.
-- Сомневаюсь, -- ответил Бэгнолл, -- он, скорее, думает, не может ли
он сделать из нас пару сталинских соколов. Даже это не так уж плохо -- хоть
какая-то перемена. Что же до остального... -- Он покачал головой. -- Даже не
смею думать.
-- Интересно, что там сейчас осталось от родины, -- проговорил Эмбри.
Бэгнолл тоже задумался над этим. Теперь он знал, что не сможет
избавиться от этих мыслей -- не думать о том, есть ли в действительности
путь домой. Нет смысла думать над тем, что, как вы знаете, невозможно. Но
если мысль пришла, значит, надежда вышла из своего убежища. Она может
обмануть его ожидания, но она его никогда не покинет.
* * *
Тосевитский детеныш снова вылез из коробки, и только всевидящие духи
Императоров прошлого знали, когда он заберется в следующую. Даже со своими
поворачивающимися глазами Томалсс все чаще испытывал трудности в
отслеживании детеныша, когда тот принимался ползать по полу лаборатории.
Он удивлялся, как самки Больших Уродов, у которых поле зрения гораздо
более ограничено, чем у него, справлялись с тем, чтобы уберечь детенышей от
беды.
Многие не справлялись. Он знал это. Даже в их наиболее технологически
развитых не-империях Большие Уроды теряли огромное количество детенышей
из-за болезней и несчастных случаев. В менее развитых областях Тосев-3 от
одной трети до половины всех детенышей, которые вышли из тел самок, умирали
в течение одного медленного оборота планеты вокруг звезды.
Детеныш пополз к двери в коридор. У Томалсса от удивления открылся рот.
-- Нет, тебе нельзя выходить наружу, теперь нельзя, -- сказал он.
Словно поняв его, детеныш стал издавать неприятные звуки, которыми он
выражал усталость или раздражение. Томалсс велел технику подготовить
проволочную сетку, которую он мог помещать в дверном проеме, прикрепив к
обоим косякам. У детеныша не было достаточно сил, чтобы стянуть вниз
проволоку, или достаточно ума, чтобы отвинтить крепления. На время он
становился узником.
-- И у тебя не будет риска быть уничтоженным, если заползешь на
территорию Тессрека, -- сказал ему Томалсс.
Это могло показаться забавным, но на деле ничего забавного не было.
Томалсс, как большинство самцов Расы, не видел особой пользы в Больших
Уродах. Но Тессрек ощущал ядовитую ненависть к ним, особенно к детенышу --
из-за его воплей, из-за его запахов и просто из-за его существования. Если
детеныш снова окажется на его территории, то Томалсс может получить
замечание. Томалсс не хотел, чтобы это случилось -- и помешало его
исследованию.
Детеныш ничего этого не знал. Детеныш не знал ничего ни о чем: в этом
была его проблема. Схватившись за проволоку, он встал прямо и выглянул в
коридор. Он продолжал издавать слабые ноющие звуки. Томалсс знал, что они
означают: "Я хочу выйти".
-- Нет, -- сказал он.
Ноющие звуки стали громче: слово "нет" детеныш понимал, хотя обычно и
игнорировал его. Он ныл еще некоторое время, затем добавил нечто, похожее на
сочувственное покашливание: "Я в самом деле хочу выйти наружу".
-- Нет, -- снова сказал Томалсс.
Детеныш перешел от нытья к крикам. Он кричал, когда ему не давали то,
чего он хотел. Когда он кричал, исследователи со всего коридора объединялись
в ненависти к нему и к Томалссу.
Он подошел и взял его на руки.
-- Мне жаль, -- солгал он, утаскивая детеныша от двери. Он отвлек его
мячиком, который взял из комнаты для упражнений. -- Смотри, видишь? Эта
глупая штучка прыгает.
Детеныш смотрел с очевидным удивлением. Томалсс почувствовал
облегчение. Теперь его нелегко было отвлекать: он помнил, что он делал и что
хотел делать.
Но мячик показался интересным. Когда он перестал прыгать, детеныш
подполз к нему, схватил и поднес ко рту. Томалсс был уверен, что детеныш
сделает это, и заранее вымыл мяч. Он знал, что детеныш тянет в рот все
подряд, и научился не давать ему в руки предметы настолько малые, чтобы они
могли проникнуть внутрь него. Совать руку в маленький скользкий ротик, чтобы
вытащить посторонний предмет, было для него не самым приятным делом, а ему
пришлось проделать это не раз.
Коммуникатор пронзительно заверещал. Прежде чем подойти для ответа,
Томалсс быстро осмотрел место, где сидел тосевит, убеждаясь, что поблизости
нет ничего такого, что он мог бы проглотить. Удовлетворившись осмотром, он
нажал кнопку.
С экрана на него смотрело лицо Ппевела.
-- Благородный господин, -- сказал он, включая видео.
-- Я приветствую вас, психолог, -- сказал Ппевел. -- Я должен
предупредить вас, что существует повышенная вероятность, что от вас
потребуется вернуть тосевитского детеныша, на котором вы проводите
исследование, самке Больших Уродов, из тела которой он вышел. Будьте не
просто готовы к этой необходимости: рассматривайте ее как реальность
ближайшего времени.
-- Будет исполнено, -- сказал Томалсс: в конце концов, он был самцом
Расы. Хотя он и повиновался, но почувствовал упадок духа. Он поступил не
лучшим образом, когда спросил: -- Благородный господин, что привело к такому
поспешному решению?
Ппевел тихо зашипел: "поспешный" было запрещенным словом для Расы. Но
ответил он вполне спокойно:
-- Самка, из тела которой вышел этот детеныш, получила повышенный
статус в Народно-освободительной армии, в тосевитской группе Китая,
ответственной за большую часть партизанской активности против нас в этой
области. Таким образом, умилостивить ее -- задача повышенного приоритета по
сравнению с прошлым временем.
-- Я... понял, -- медленно ответил Томалсс.
Он задумался, но тосевитский детеныш начал хныкать. Он уже долгое время
находился вне поля зрения Томалсса. Изо всех сил стараясь не обращать
внимания на визжащее существо, он сосредоточился на разговоре.
-- Если статус этой самки в незаконной организации понизится, тогда,
благородный господин, давление на нас также, в свою очередь, уменьшится --
разве это не верно?
-- В теории -- да, -- ответил Ппевел. -- Как вы можете надеяться
совместить теорию с практикой в этом частном случае, для меня трудно
постижимо. Наше влияние на любую тосевитскую группу, даже на ту, которая
внешне благожелательно относится к нам, более ограничено, чем нам бы
хотелось; наше влияние на тех, кто находится в активной оппозиции к нам,
ради любых практических целей, равно нулю, исключая военные меры
Конечно, он был прав. Большие Уроды склонны верить, что когда они
чего-то хотят, это непременно осуществится, потому что им этого хочется Расы
подобные заблуждения касались в меньшей степени "И тем не менее, -- думал
Томалсс, -- должен быть выход" Все шло бы не так, если бы самка Лю Хань не
имела контакта с Расой, прежде чем родить этого детеныша. Маленькое существо
было задумано на звездном корабле, находившемся на орбите, а его мать была
частью основы начального изучения Расой странной природы тосевитской
сексуальности и поведения при спаривании. И тут рот Томалсса открылся.
-- Вы смеетесь надо мной, психолог? -- спросил Ппевел тихим и опасным
голосом.
-- Ни в коем случае, благородный господин, -- поспешно ответил Томалсс.
-- Однако мне кажется, что я придумал способ понизить статус самки Лю Хань.
В случае успеха, как вы сказали, это понизит ее ранг и престиж в
Народно-освободительной армии и позволит продолжить мою жизненно важную
исследовательскую программу.
-- Я убежден в том, что вы смещаете приоритеты, -- сказал Ппевел.
И поскольку это было правдой, Томалсс не ответил. Ппевел продолжил:
-- Я запретил обсуждать военные действия или убийство самки. Любой из
этих тактических приемов, даже в случае успеха, скорее повысит, чем понизит
ее статус. Некоторые самцы приобрели привычку небрежных тосевитов
подчиняться только тем приказам, которые им нравятся. Вы были бы чрезвычайно
неразумны, психолог, если бы оказались среди них в данном конкретном случае.
-- Все будет исполнено, как вы сказали, во всех подробностях,
благородный господин, -- пообещал Томалсс. -- Я не предлагаю насильственных
планов против Больших Уродов. Я планирую понизить ее статус путем насмешек и
унижений.
-- Если это может быть сделано, попытайтесь, -- сказал Ппевел. -- Но
заставить Больших Уродов даже заметить, что они унижены, трудное дело.
-- Не во всех случаях, благородный господин, -- сказал Томалсс. -- Не
во всех случаях.
Он попрощался, проверил детеныша -- который, на удивление, не попал ни
в какую неприятность -- и затем отправился работать на компьютере. Он знал,
где искать последовательность данных, которые он вспомнил.
* * *
Нье Хо-Т'инг повернул к югу от Чан Мьен Та на улицу, которая вела от
западных ворот в китайский деловой центр Пекина, и дальше -- на Ниу Шье.
Район, центром которого была Коровья улица, населяли мусульмане. Нье был не
очень высокого мнения о мусульманах: их устаревшая вера заслоняла от них
истину диалектики. Но в борьбе против маленьких чешуйчатых дьяволов
идеологией можно было на время поступиться.
Он отнюдь не выглядел истощенным, что заставляло владельцев антикварных
лавок, стоявших в дверях своих заведений, окликать его и активно размахивать
руками, когда он проходил мимо. Девять из каждого десятка людей,
занимающихся этим ремеслом, были мусульманами. Вид барахла, которым они
торговали, подкреплял мнение большинства китайцев о мусульманском
меньшинстве: их честность не всегда безупречна.
Дальше по Ниу Шье, на восточной стороне улицы, находилась самая большая
мечеть в Пекине. Сотни, может быть, тысячи верующих ежедневно молились
здесь. Кади, которые руководили молитвой, имели под рукой большую группу
рекрутов, которые могли бы сослужить добрую службу Народно-освободительной
армии -- если бы согласились.
Вокруг собралась большая толпа мужчин...
-- Нет, они не внутри мечети, они перед нею, -- громко проговорил Нье.
Он заинтересовался, что там происходит, и поспешил подойти, чтобы
разобраться.
Он увидел, что чешуйчатые дьяволы установили на улице одну из своих
машин, которая могла создавать трехмерное изображение в воздухе. Временами
они пытались вести с помощью таких машин свою пропаганду. Нье никогда не
беспокоился о том, чтобы помешать им: насколько он знал, пропаганда
чешуйчатых дьяволов была до того смехотворно слабой, что только усиливала
отчуждение их от народа.
Но теперь они предприняли что-то новенькое. Изображение, плавающее в
воздухе над машиной, вообще не было пропагандой в обычном понимании этого
слова. Это была просто порнография: китайская женщина прелюбодействовала с
мужчиной, который был слишком волосат и имел слишком большой нос, чтобы не
признать в нем иностранца.
Нье Хо-Т'инг перешел Коровью улицу, направляясь поближе. Сам Нье
отличался строгостью нравов и подумал, что маленькие дьяволы надеются
спровоцировать аудиторию на проявление низменных инстинктов. Шоу, которое
они устроили здесь, было отвратительным и явно бессмысленным.
Когда Нье приблизился к машине, иностранный дьявол, который до этого
наклонился, чтобы подергать сосок женщины своим языком, поднял голову. Нье
резко остановился, и рабочий с ведрами на коромысле через плечо едва не
наткнулся на него и сердито закричал. Нье игнорировал крики парня: он узнал
иностранного дьявола. Это был Бобби Фьоре -- отец ребенка Лю Хань.
Когда женщина, бедра которой сжали бока Бобби Фьоре, повернула лицо в
сторону Нье, он увидел, что это Лю Хань. Он закусил губу. Ее лицо было
расслаблено похотью. Изображение сопровождалось звуком. Он слышал легкие
вздохи удовольствия, словно сам держал ее в руках.
На картине Лю Хань стонала. Бобби Фьоре хрипел, как свинья под ножом.
Оба они блестели от пота. Китаец -- послушная собачка маленьких чешуйчатых
дьяволов -- комментировал звуки экстаза, объясняя толпе:
-- Здесь мы видим знаменитую народную революционерку Лю Хань, когда она
отдыхает между убийствами. Разве вы не гордитесь, что у вас есть такая
личность, объявляющая, что представляет вас? Разве вы не надеетесь, что она
получит все, чего хочет?
-- Э-э, -- сказал один из зрителей, -- я думаю, она получает все, что
хочет. Этот иностранный дьявол, он -- как осел.
Все, кто слышал его, рассмеялись -- включая и Нье Хо-Т'инга, хотя
усилия, понадобившиеся, чтобы растянуть губы и издать горлом соответствующие
звуки, заставили его страдать, словно с него ножами сдирали кожу.
Машина начала показывать новый фильм о Лю Хань -- на этот раз уже с
другим мужчиной.
-- Вот это и есть настоящий коммунизм, -- сказал комментатор. -- От
каждого по способности, каждому по его потребности.
Толпа бездельников и на это отреагировала гоготом. И снова Нье Хо-Т'инг
заставил себя присоединиться к окружающим. Первым правилом было не выглядеть
подозрительным. Смеясь, он пришел к выводу, что комментатор был, вероятно,
гоминдановцем: чтобы использовать марксистскую риторику в пародийной форме,
надо быть с ней знакомым. Он запомнил этого человека, чтобы впоследствии
убить, если удастся.
Постояв пару минут, Нье вошел в мечеть. Он искал человека по имени Су
Шун-Чин и обнаружил его подметающим пол. Это говорило об искренности и
посвящении себя долгу. Если бы Су Шун-Чин занимался своим делом
исключительно ради прибыли, то неприятную часть работы приказал бы делать
подчиненному.
Он посмотрел на Нье без особой радости.
-- Как вы можете ожидать, что мы будем работать с людьми, которые не
только безбожны, но еще и ставят грязных девок в положение властителей? --
строго спросил он. -- Чешуйчатые дьяволы готовы издеваться над вами.
Нье не упомянул, что они с Лю Хань были любовниками. Вместо этого он
сказал:
-- Бедная женщина была схвачена маленькими чешуйчатыми дьяволами,
которые под страхом смерти заставили ее отдавать свое тело этим мужчинам.
Что удивительного, если она теперь горит желанием мести? Они стараются
дискредитировать ее, чтобы понизить ее эффективность как революционного
лидера.
-- Я видел некоторые из картинок, которые показывают эти маленькие
дьяволы, -- ответил Су Шун-Чин. -- На одной или двух -- да, действительно
женщина Лю Хань выглядит так, будто ее насилуют. Но на других -- тех, где
она с иностранным дьяволом с пушистой спиной и грудью, -- она только
наслаждается. Это очень заметно.
Лю Хань была влюблена в Бобби Фьоре. Может быть, поначалу это была лишь
близость двух униженных людей, у которых не было другого утешения, кроме
друг друга, но потом между ними возникло настоящее чувство. Нье знал это. Он
также знал, что иностранный дьявол тоже любил ее, даже если и не старался
сохранять ей верность.
Неважно, насколько верным все это было, но для кади это не имело
никакого значения. Нье попробовал другой способ.
-- Чего бы она ни делала в прошлом -- и что маленькие дьяволы
показывают теперь, она делала только потому, что иначе ее бы уморили
голодом. Возможно, она не все ненавидела; возможно, этот иностранный дьявол
вел себя прилично по отношению к ней в таком месте, где трудно найти что-то
приличное. Но что бы она ни сделала, это грех чешуйчатых дьяволов, а не ее,
и она раскаивается в том, что сделала.
-- Возможно, -- сказал Су Шун-Чин.
По китайским понятиям его лицо было слишком длинным и костистым,
возможно, среди дальних предков он имел одного или двух иностранных
дьяволов. Черты его лица отражали лишь суровое неодобрение.
-- Вы знаете, что еще чешуйчатые дьяволы сделали с женщиной Лю Хань? --
сказал Нье. Когда кади покачал головой, он объяснил: -- Они фотографировали,
как она рожает ребенка, сфотографировали, как ребенок выходит наружу между
ее ног. Затем они украли его, чтобы использовать для своих целей, как будто
он вьючное животное. Такие картинки они вам не покажут, могу поклясться.
-- Это в самом деле так? -- спросил Су Шун-Чин. -- Вы, коммунисты,
мастера придумывать ложь, чтобы помочь своему делу.
Нье сам считал все религии ложью, но возражать не стал.
-- Это в самом деле так, -- тихо ответил он. Кади изучающе посмотрел на
него.
-- Теперь вы мне не лжете, -- сказал он наконец.
-- Теперь я вам не лгу. -- согласился Нье.
Он не хотел придираться к последним словам; затем он увидел, что Су
Шун-Чин печально кивает, словно одобряя его признание в прежней лжи. Нье
продолжил:
-- На самом деле женщина Лю Хань после картинок, которые показывают
чешуйчатые дьяволы, приобретает лицо, а не теряет его. Это доказывает, что
маленькие дьяволы так боятся ее, что хотят дискредитировать любыми
средствами, какие у них есть.
Су Шун-Чин пожевал губами, словно человек, обгладывающий мясо с куска
свинины с множеством хрящей.
-- Возможно, в этом есть доля правды, -- сказал он после длинной паузы.
Нье стоило больших трудов скрыть облегчение, которое он испытал, когда
кади добавил:
-- Я расскажу верующим, как вы объясняете эти картинки, чего бы это ни
стоило.
-- Это будет очень хорошо, -- сказал Нье. -- Если мы будем бороться
народным фронтом сообща, мы сможем побить маленьких чешуйчатых дьяволов.
-- Возможно, есть доля правды и в этом, -- повторил Су, -- но только
некоторая. Когда вы говорите -- "народный фронт", вы имеете в виду ваш
личный фронт. Вы не верите в равное партнерство.
Нье Хо-Т'инг постарался вложить в свой ответ как можно больше
возмущения:
-- Вы ошибаетесь. Это неправда.
К его удивлению, Су Шун-Чин рассмеялся. Он поводил пальцем перед лицом
Нье.
-- Ах, теперь вы снова мне лжете, -- сказал он.
Нье начал было отрицать это, но кади жестом предложил ему молчать.
-- Не обращайте внимания. Я понимаю, вы должны говорить то, что вы
должны. Даже если я знаю, что это неверно, вы все равно будете спорить.
Идите же, и может быть, Бог, сострадающий и всемилостивый, когда-нибудь
вложит мудрость в ваше сердце.
"Старый дурак и ханжа", -- подумал Нье. Но Су Шун-Чин показал, что он
вовсе не дурак, он собирался работать с коммунистами и бороться против
пропаганды маленьких дьяволов. В одном он был прав: если
Народно-освободительная армия станет частью народного фронта, то народный
фронт придет на позиции коммунистической партии.
После того как Нье вышел из мечети, он пошел бродить по улицам и узким
"хутунам" Пекина. Чешуйчатые дьяволы установили множество своих машин.
Изображения Лю Хань плавали над каждой, вместе с одним или другим мужчиной:
обычно с Бобби Фьоре, но не всегда. Маленькие чешуйчатые дьяволы увеличивали
громкость звука в моменты, когда она достигала Облаков и Дождя, и громко
транслировали комментарии их китайского лакея.
Кое-чего чешуйчатые дьяволы все-таки добились. Многие мужчины,
наблюдавшие, как проникают в Лю Хань, называли ее сукой и проституткой
(точно так, как Хсиа Шу-Тао) и насмехались над Народно-освободительной
армией за то, что ее подняли там до уровня лидера.
-- Я знаю, до какого положения я хотел бы ее поднять, -- отпустил шутку
один остряк, вызвав громкий смех.
Но не все мужчины реагировали подобным образом. Некоторые выражали
симпатию к ее бедственному положению и высказывались об этом громко. Нье
показалась особенно интересной реакция женщин, которые смотрели записи
падения Лю Хань. Почти все без исключения они говорили одно и то же:
-- Ох, бедняжка!
Они говорили эти слова не только друг другу, но также своим мужьям,
братьям и сыновьям. По китайскому обычаю женщины держались на заднем плане,
но это не означало, что у них не было способов заставить услышать их мнение.
Если они решили, что маленькие чешуйчатые дьяволы угнетали Лю Хань, то они
говорили это и своим мужчинам -- и, раньше или позже, мнение мужчин начнет
изменяться.
Партийная контрпропаганда от этого тоже не пострадает. Нье улыбнулся.
Маленькие чешуйчатые дьяволы нанесли себе такой удар, которого партия
нанести бы не смогла.
-- Ну так, черт побери, и где же этот ад?
И гудящий баритон, и эта наглость "посмотри-ка-мир-вот-он-я", могли
принадлежать только одному человеку из знакомых Генриха Ягера. И он никак не
ожидал, что услышит его голос во время кампании против ящеров в западной
Польше.
Он вскочил на ноги, стараясь не перевернуть небольшую алюминиевую
печку, на которой подогревался его ужин.
-- Скорцени! -- воскликнул он. -- Какого дьявола вы тут делаете?
-- Дьявольскую работу, мой мальчик, дьявольскую работу, -- ответил
штандартенфюрер СС Отто Скорцени, заключая Ягера в медвежьи объятия,
сокрушающие ребра.
Скорцени возвышался над Ягером сантиметров на пятнадцать, но
доминировал над большинством людей за счет не роста, а чисто физического
присутствия. Если вы подпадали под его чары, вы соглашались выполнить все,
чего он добивался, независимо от того, насколько невозможным казалось это
вашему разуму.
Ягер участвовал в нескольких операциях вместе со Скорцени: в России, в
Хорватии, во Франции. Он удивлялся, как ему удалось уцелеть. Еще больше он
удивлялся тому, что уцелел Скорцени. Он изо всех сил старался противиться
уговорам Скорцени в каждом таком случае. Когда смотришь на эсэсовца снизу
вверх, тебя уважают, если нет -- тебя просто переедут.
Скорцени хлопнул себя по животу. Шрам на левой щеке искривил угол его
рта, когда он спросил:
-- В этих местах имеется какая-нибудь еда, или вы собираетесь уморить
меня голодом?
-- Ты не очень-то бедствуешь, -- сказал Ягер, бросив на него
критический взгляд. -- У нас есть немного свинины, брюква и эрзац-кофе.
Устроит это ваше величество?
-- Как, фазана с трюфелями нет? Ладно, сойдет и свинина. Но к черту
эрзац-кофе и дохлую лошадь, которая им пописала. -- Скорцени вытащил из-за
пояса фляжку, отвинтил пробку и передал фляжку Ягеру. -- Глотни.
Ягер отпил с настороженностью. С учетом чувства юмора, которым обладал
Скорцени, предосторожность была не лишней.
-- Иисус, -- прошептал он. -- Откуда это у тебя?
-- Неплохой коньяк, а? -- самодовольно ответил Скорцени. --
"Courvoisier VSOP" ["Very Superior Old Pale" -- коньяк "Курвуазье" с
выдержкой от 18 до 25 лет. -- Прим. перев.], пять звездочек, нежнее, чем
девственница внутри.
Ягер сделал еще один глоток, на этот раз с уважением, затем отдал
обтянутую фетром алюминиевую фляжку Скорцени.
-- Я передумал. Я не хочу знать, где ты его добыл. Если ты признаешься,
я дезертирую и побегу туда. Где бы оно ни было, там все равно лучше, чем
здесь.
-- В аду тоже лучше -- пока ты туда не попал, -- сказал Скорцени. --
Ну, где же это мясо?
Наполнив металлическую крышку своего котелка, он быстро проглотил еду и
запил коньяком.
-- Стыдно перебирать, но этот напиток обидится, если я его не выпью, а?
-- И он ткнул локтем Ягера под ребра.
-- Как скажешь, -- ответил Ягер.
Позволь эсэсовцу подавить тебя -- и окажешься в трудном положении: он
об этом никогда не забудет. Конечно, раз уж Скорцени оказался здесь, вскоре
должны последовать неприятности: Скорцени принес их с собой вместе с
божественным коньяком. Какие именно неприятности будут -- неизвестно, в
разных операциях они не повторялись. Ягер поднялся на ноги и потянулся как
можно более лениво, затем предложил:
-- Не прогуляться ли нам?
-- О, ты просто хочешь побыть со мной наедине, -- пропищат Скорцени
пронзительным лукавым фальцетом.
Танкисты, которые еще ужинали, радостно заржали. Гюнтер Грилльпарцер
подавился едой и стал задыхаться -- кто-то колотил его по спине, пока он не
пришел в себя.
-- Если бы я опустился до такого большого уродливого болвана, как ты.
то, думаю, прежде застрелился бы, -- парировал Ягер.
Танкисты снова засмеялись. И Скорцени тоже. Он мог заварить кашу, но
мог и проглотить.
Они с Ягером отошли от лагеря -- не слишком далеко, чтобы не
заблудиться, но подальше от солдатских ушей. Их сапоги чавкали по грязи.
Весенняя распутица замедлила немецкое наступление в той же степени, что и
ответные меры ящеров.
В луже неподалеку громко и печально квакнула первая лягушка.
-- Она еще пожалеет, -- тревожно сказал Скорцени. -- Сова или цапля
схватят ее.
Ягеру не было никакого дела до лягушек.
-- Ты сказал -- дьявольская работа. Какую чертовщину ты имел в виду и
что я должен с этим делать?
-- Даже не знаю, понадобишься ты или нет, -- ответил Скорцени. -- Надо
посмотреть, как пойдут дела. Просто я был по соседству, подумал, брошу все,
приду и скажу -- привет. -- Он поклонился в пояс. -- Привет.
-- Ты невозможен, -- фыркнув, сказал Ягер. Скорцени засиял, он принял
это за комплимент. Призвав все свое терпение, Ягер начал снова:
-- Попробуем еще раз. Чего ради ты появился тут по соседству?
-- Я собираюсь доставить подарок, как только найду наилучший способ
сделать это, -- сказал эсэсовец.
-- Зная, какие именно подарки ты доставляешь, уверен, что ящеры
обрадуются, получив его, -- сказал ему Ягер. -- Если я могу завязать бант на
упаковке, только скажи.
Вот так. Он сам сказал это. Чему быть, того не миновать.
Он ожидал, что штандартенфюрер СС пустится описывать экстравагантные,
вероятно, даже непристойные подробности своего плана. Скорцени, как ребенок,
радовался своим кошмарным придумкам. Ягеру он вдруг представился ребенком
лет шести, в коротких штанишках, открывающим коробку с оловянными
солдатиками: почему-то Скорцени и в образе ребенка тоже имел шрам на лице.
Но тут, прежде чем ответить, он бросил на Ягера короткий взгляд.
-- Ящеры тут ни при чем.
-- Нет? -- Ягер поднял бровь. -- Хорошо, выходит дело во мне? Почему же
ты честно меня предупреждаешь?
Он вдруг протрезвел: было известно, что офицеры, которыми недовольно
высшее командование, исчезали с лица земли, словно и не существовали вовсе.
Чем же он не угодил кому-то, исключая противника?
-- Если у тебя пистолет с одной пулей, скажите хотя бы -- за что?
-- Ну ты додумался! Богом на небесах клянусь, ты ошибаешься! --
Скорцени поднял вверх правую руку. -- Ничего подобного, клянусь. Ни ты, и
никто из твоих подчиненных или командиров -- вообще никто из немцев.
-- Хорошо, -- сказал Ягер с огромным облегчением. -- Что же ты тогда
так скромничаешь? Враги рейха остаются врагами рейха. Мы сметем их и
двинемся дальше.
Лицо Скорцени снова стало непроницаемым.
-- Ты говоришь это теперь, но ты не всегда поешь эту песню. Евреи --
враги рейха, не правда ли?
-- Если они и не были ими раньше, мы определенно сделали все, чтобы они
ими стали, -- сказал Ягер. -- Но все равно мы хорошо сотрудничали с евреями
Лодзи, которые не позволили ящерам использовать город в качестве опорного
пункта против нас. Если разобраться, они вполне человеческие существа, так
ведь?
-- Мы сотрудничали с ними? -- сказал Скорцени, не отвечая на вопрос
Ягера. -- Я скажу тебе, с кем они сотрудничали: с ящерами, вот с кем. Если
бы евреи не наносили нам ударов в спину, мы захватили бы гораздо большую
часть Польши, чем имеем сейчас.
Ягер сделал усталый жест.
-- Зачем нам это? Ты знаешь, что мы делали с евреями в Польше и в
России. Разве удивительно, что они не любят нас за то, что мы такие хорошие
христиане?
-- Вероятно, неудивительно, -- сказал Скорцени, и -- как услышал Ягер
-- без всякой злобы. -- Но если они хотят играть с нами в эти игры, они
должны заплатить за это. А теперь -- хочешь, чтобы я продолжил то, что
должен сказать, или предпочтешь не слышать -- и не знать, о чем идет речь?
-- Продолжай, -- сказал Ягер. -- Я не страус, чтобы прятать голову в
песок.
Скорцени улыбнулся. Шрам на щеке стянул половину лица в гримасу,
которая могла бы принадлежать горгулье, сидящей высоко на средневековом
соборе, -- а может быть, сработало воображение Ягера, ощутившего ужас,
слушая слова эсэсовца.
-- Я собираюсь взорвать самую большую бомбу с нервно-паралитическим
газом, которую только видел мир, и сделать это в самом центре лодзинского
гетто. Что ты думаешь об этом? Ты -- полковник или лидер скаутов во взрослом
мундире?
-- ...твою мать, Скорцени, -- спокойно сказал Ягер.
Едва эти слова слетели с его губ, он вспомнил партизана еврея, который
использовал это выражение в каждом втором предложении. Эсэсовцы расстреляли
еврея -- Макса, так его звали -- в местности под названием Бабий Яр,
неподалеку от Киева. Они плохо сделали свою работу, иначе Макс не смог бы
рассказать свою историю. Один бог знает, со сколькими они эту работу сделали
хорошо.
-- Это не ответ, -- сказал Скорцени, такой же неуязвимый для
оскорблений, как танк ящеров для пулемета. -- Скажите мне, что ты думаешь.
-- Я думаю, это глупо, -- ответил Ягер. -- Евреи в Лодзи помогали нам.
Если вы начнете убивать людей, которые делают это, вы быстро останетесь без
друзей.
-- А-ай, эти ублюдки играют с обоих краев в середину, и ты это знаешь
так же хорошо, как и я, -- сказал Скорцени. -- Я получил приказ, и я намерен
выполнить его.
Ягер выпрямился по стойке смирно и выбросил вперед правую руку.
-- Хайль Гитлер! -- сказал он.
Он отдал должное Скорцени: забияка увидел в этом жесте сарказм, а не
молчаливое согласие. Более того, реакция Ягера даже показалась ему забавной.
-- Ладно, не надо портить мне настроение, -- сказал он, -- мы ведь не
раз были вместе. И на этот раз ты можешь оказать мне большую помощь.
-- Да, я смог бы сделать для тебя прекрасного еврея, -- невозмутимо
сказал Ягер. -- Как ты думаешь, сколько времени надо, чтобы оправиться после
обрезания?
-- Тебе не к лицу непристойности, -- сказал Скорцени, качаясь на
каблуках и сунув большие пальцы в карманы брюк -- это придавало ему вид
молодого бездельника на углу улицы. -- Должно быть, старость приходит, а?
-- Ты так думаешь? И чем, интересно, я могу помочь? Я никогда не был в
Лодзи. Наступление далеко обошло город, так что мы не увязли в уличных боях.
Мы не можем позволить себе терять танки от "коктейля Молотова" и тому
подобного: мы и так потеряли слишком много машин в боях с ящерами.
-- Да, именно такое сообщение ты послал в дивизию, дивизия -- в штаб
армии, и высшее командование купилось, -- кивнув, сказал Скорцени. -- Браво.
Может быть, ты получишь красные лампасы на брюки как офицер генерального
штаба.
-- И ведь это сработало, -- сказал Ягер. -- Я видел в России уличных
боев больше, чем мне хотелось бы. Ничто в мире не перемалывает людей и
машины так, как эти бои, а мы не должны были нести лишние потери.
-- Да, да, да, -- сказал Скорцени с преувеличенным терпением. Он
наклонился вперед и посмотрел на Ягера. -- А я вот узнал, что мы обошли
Лодзь двумя потоками потому, что ты заключил сделку с местными еврейскими
партизанами. Что вы скажете на это, господин офицер генерального штаба?
Несмотря на мороз, Ягер чувствовал, как горит его лицо. Если знает
Скорцени, значит, это есть где-то в эсэсовских досье... что не сулит ничего
хорошего в его дальнейшей жизни, не говоря уже о карьере. Тем не менее он
ответил таким холодным тоном, как только смог:
-- На это я скажу, что была военная необходимость. Таким образом мы
привлекли партизан на свою сторону и довели до бешенства ящеров вместо
очередной схватки. Сработало это чертовски хорошо, а потому твое "я вот
узнал" -- в ватерклозет.
-- Ты должен понять, вообще-то я тебя не осуждаю. Но это означает, что
у тебя есть связи с евреями. Ты обязан использовать их, чтобы помочь мне
доставить мою маленькую игрушку в центр города.
Ягер уставился на него.
-- И впоследствии ты заплатишь мне тридцать сребреников, не так ли? Я
не разрываю такие связи. И я не убиваю. Почему ты просишь меня о
предательстве?
-- Тридцать сребреников? Неплохо. Но помни, Христос был проклятым
жидом. И это не принесло ему ничего хорошего. Вот так. -- Скорцени изучающе
смотрел на Ягера. -- Чем больше помощи мы получим от этих ребятишек, тем
легче будет работа, а я предпочитаю более легкую работу, если это возможно.
Мне платят за то, что я рискую своей шеей, но мне не платят за то, чтобы я
высовывал ее лишний раз.
Это сказал человек, который взорвал танк ящеров, вспрыгнув на него и
забросив сумку со взрывчаткой между башней и корпусом. Может быть, Скорцени
считал это необходимым видом риска -- Ягер не знал.
-- Ты взорвешь там бомбу с нервно-паралитическим газом, ты собираешься
убить множество людей, которые не имеют отношения к войне.
-- Ты воевал в России, как и я. И что же? -- На этот раз Скорцени
отрывисто рассмеялся. Он ткнул Ягера в грудь указательным пальцем. --
Слушай, причем внимательно. Я сделаю это, с тобой или без тебя. Мне будет
легче, если и буду с тобой. Но моя жизнь была трудной и раньше. Если она
будет трудной и в дальнейшем, я все равно справлюсь, поверь мне. Так что
скажешь?
-- Прямо сейчас я не скажу ничего, -- ответил Ягер. -- Я подумаю.
-- Ладно, валяй. -- Большая голова Скорцени закачалась вверх и вниз,
пародируя вежливый жест. -- Думай, что хочешь, только недолго.
* * *
Охранник направил автомат в живот Мойше Русецкому.
-- Вперед, двигайся, -- сказал он грубым безжалостным голосом.
Русецкий поднялся с койки.
-- Нацисты загнали меня в гетто, ящеры посадили в тюрьму, -- сказал он.
-- Никогда не думал, что и евреи будут обращаться со мной таким же образом.
Если он надеялся задеть охранника, его постигло разочарование.
-- Жизнь везде тяжела, -- ответил тот безразлично и сделал жест
автоматом. -- А теперь вперед.
Он вполне мог быть эсэсовцем. Мойше подумал, не обучался ли он своим
повадкам по первоисточникам. Так получилось в Польше, после того как евреи и
поляки помогли ящерам выгнать немцев. Некоторые евреи, неожиданно став
солдатами, подделывались под самых внушительных, самых жестоких человеческих
воинов, каких могли себе представить. Сделай им замечание, и рискуешь быть
убитым. Мойше осмотрительно хранил молчание.
Он не знал точно, где находится. Конечно, где-то в Палестине, но его с
семьей доставили сюда в путах, с повязками на глазах и спрятали под
соломенным навесом. Внешние стены двора были слишком высокими, чтобы можно
было заглянуть через них. По звукам, которые доносились сквозь золотой
песчаник, он определил, что находится в городе: кузнецы ударяли по металлу,
стучали повозки, слышался отдаленный шум базара. Где бы он ни был, он
наверняка ходил по земле, о которой говорилось в Торе. Каждый раз, когда он
вспоминал это, его охватывало благоговение.
Большую часть времени голова его была занята другими заботами. Главным
образом -- как удержать ящеров от проникновения в эту святую землю. Он
цитировал Библию еврейским подпольным лидерам: "Ты полагаешься на посох из
этого сломанного тростника". Исайя говорил о египтянах, а теперь в Египте
были ящеры. Русецкий не хотел, чтобы они последовали путем Моисея -- через
Синай в Палестину.
Самое печальное, что очень немногие люди беспокоились о том же. Местные
евреи, настоящие глупцы, считали британцев такими же угнетателями, как
нацистов в Польше, -- или, по крайней мере, они так говорили. Те из них. кто
бежал из Польши после захвата ее нацистами, должны были бы соображать лучше.
-- Поворот, -- сказал охранник.
Необходимости в подсказках не было -- Мойше знал путь в комнату
допросов так же хорошо, как крыса в знакомом лабиринте. Однако за то, что он
бежал правильно, он никогда не получал кусочек сыра: возможно, его
похитители ничего не слышали о Павлове.
Когда он дошел до нужной двери, охранник встал позади и дал ему знак
открыть замок. Подумать только: похитители считали его опасным человеком,
который при малейшем шансе может выхватить оружие у сопровождающего и
учинить разгром. "Если бы только так было", -- ехидно подумал он. Дайте ему
полотенце, и он станет опасным для мух. А потом... на "потом" у подпольщиков
не хватало воображения.
Он открыл дверь, шагнул в комнату и застыл в ужасе. За столом вместе с
Бегином, Штерном и другими известными следователями сидел ящер. Чужак
повернул в его сторону один глаз.
-- Это он? Я не очень уверен, -- сказал он на отличном немецком.
Мойше вгляделся. Раскраска тела была более бледной, чем та, которую
помнил Мойше, но голос, несомненно, был знакомым.
-- Золрааг!
-- Он знает меня, -- сказал бывший губернатор Польши. -- Или вы его
хорошо натренировали, или же он в самом деле тот самец, из-за которого у
Расы были такие трудные времена в Польше.
-- Это -- Русецкий, на самом деле, -- сказав Штерн. Это был крупный
темноволосый мужчина, скорее боец, чем мыслитель, если внешний вид не
обманывал. -- Он говорит, что мы должны держаться подальше от вас, не важно
в чем.
Он тоже говорил по-немецки, но с польским акцентом.
-- А я говорю, что мы много дадим за то, чтобы он снова попал в наши
когти, -- ответил Золрааг. -- Он предал нас, предал меня, и он заплатит за
свое предательство.
У ящеров немногое отражается на лице, но Мойше не понравилось, как
выглядел и говорил Золрааг. Он и не думал, что Раса способна беспокоиться о
таких вещах, как месть. Если он ошибался, лучше ему об этом и не знать.
-- Никто не говорил о возвращении его вам, -- сказал Менахем Бегин на
идиш. -- И не для этого мы доставили вас сюда. -- Он был невысоким и щуплым,
ненамного выше ящера, просто не на что смотреть. Но когда он говорил, его
поневоле воспринимали серьезно. Он погрозил пальцем Золраагу. -- Мы
послушаем, что скажете вы, послушаем, что есть сказать у него, и только
потом решим, что делать.
-- Вам следовало бы посоветовать воспринимать Расу и ее желания более
серьезно, -- ответил Золрааг ледяным тоном.
В Польше он полагал, что его мнение важнее мнения людей просто потому,
что это было его собственное мнение. Будь он блондином с голубыми глазами, а
не зелено-бурым чешуйчатым существом, из него получился бы неплохой
эсэсовец: Раса определенно оценила бы теорию "нации господ".
Но произвести впечатление на Бегина он не сумел.
-- Я посоветовал бы вам помнить, где вы находитесь, -- невозмутимо
ответил лидер подпольщиков. -- Мы всегда можем продать вас англичанам и,
возможно, получим за вас больше, чем ваши заплатят за Русецкого.
-- Я шел на риск, когда согласился, чтобы вы доставили меня в эту часть
континентальной массы, -- сказал Золрааг: он был, несомненно, смелым
существом. -- Впрочем, я по-прежнему питаю надежду, что смогу убедить вас
найти общий язык с Расой, неминуемым победителем в этом конфликте, что в
дальнейшем сослужит вам большую пользу.
Мойше впервые подал голос:
-- На самом деле он надеется вернуть свой прежний ранг. Раскраска тела
у него ныне крайне скромная.
-- Да, и это по вашей вине, -- проговорил Золрааг с сердитым шипением,
словно ядовитый змей. -- Это ведь благодаря вам провинция Польша из мирной
превратилась в сопротивляющуюся, а вы повернулись против нас и стали
поносить нас за политику, которую прежде превозносили.
-- Разбомбить Вашингтон -- это не то же самое, что разбомбить Берлин,
-- ответил Мойше, использовав старый аргумент. -- И теперь вы уже не можете
под дулом винтовки заставить меня возносить вам хвалу, а в случае моего
отказа извратить мои слова. Я был готов умереть, чтобы сказать правду, и вы
не дали мне сказать ее. И конечно, как только у меня появилась возможность,
я рассказал всем, что случилось.
-- Готов умереть, чтобы сказать правду. -- эхом отозвался Золрааг. Он
повернул свои глаза в сторону евреев, которые могли привести Палестину к
мятежу против англичан во имя своего народа, -- Вы понятливы, рациональные
тосевиты. Вы должны видеть фанатизм и бессмысленность такого поведения.
Мойше засмеялся. Он не хотел, но не смог удержаться. Просто дух
захватывало от того, насколько Золрааг не понимал людей вообще и евреев в
особенности. Народ, который дал миру Масада [Легендарный гарнизон, воины
которого перебили друг друга, вместо того чтобы сдаться римлянам. -- Прим.
перев.], который упрямо хранил веру, когда его уничтожали из развлечения или
за отказ обратиться в христианство... и ящер ожидал, что этот народ выберет
путь целесообразности?
Нет, Русецкий не мог удержаться от смеха.
Затем засмеялся Менахем Бегин, к нему присоединились Штерн, а затем и
остальные лидеры подполья. Даже мрачный охранник с автоматом и тот
подхихикнул вместе со всеми. Мысль о еврее, предпочитающем разумность
жертвенности, была полна скрытого абсурда.
Теперь лидеры подполья посмотрели друг на друга. Как объяснить Золраагу
эту непреднамеренную иронию? Никто и не пытался. Вряд ли он смог бы понять.
Разве это не доказывает существенное различие ящеров и людей? Мойше так и
подумал.
Прежде чем вернуться к теме, Штерн сказал:
-- Мы не вернем вам Русецкого, Золрааг. Свыкнитесь с этой мыслью. Мы
позаботимся о себе сами.
-- Очень хорошо, -- ответил ящер. -- Мы тоже. Я считаю, что вы ведете
себя упрямее, чем следовало бы, но я понимаю это. Хотя ваша радость
находится за пределами моего понимания.
-- Вам следовало бы лучше ознакомиться с нашей историей, чтобы вы
смогли понять причину нашей радости.
Золрааг снова издал звук кипящего чайника. Русецкий скрыл улыбку. У
ящеров история уходила далеко в глубины времени, когда люди еще жили в
пещерах, а огонь был величайшим открытием. И с их точки зрения у
человечества не было истории, о которой стоило бы говорить. Мысль о том, что
им следует считаться и с человеческой мимолетностью, действовала им на
нервы.
Менахем Бегин обратился к Золраагу.
-- Предположим, мы поднимем восстание против англичан. Предположим, вы
поможете нам в борьбе. Предположим, это поможет вам впоследствии прийти в
Палестину. Что мы получим, кроме нового хозяина, который захватит ее и будет
властвовать над нами после хозяина, которого мы имеем сегодня?
-- Вы теперь так же свободны, как остальные тосевиты на этой планете?
-- спросил Золрааг, добавив вопросительное покашливание в конце предложения.
-- Если бы было так, англичане не были бы нашими хозяевами, -- ответил
Штерн.
-- Именно так, -- ответил ящер. -- Но когда завершится завоевание
Тосев-3, вы подниметесь до равного статуса с любой другой нацией под нашей
властью. Вы получите высшую степень -- как это называется? -- да, автономии.
-- Это не так много, -- вмешался Мойше.
-- Помолчите! -- сказал Золрааг с усиливающим покашливанием.
-- Почему? -- насмешливо спросил Мойше, поскольку никто из лидеров
подполья не выступил в поддержку сказанного ящером. -- Просто я правдив, что
разумно и рационально, не так ли? Между прочим, кто знает, когда завершится
завоевание Тосев-3? Пока что вы нас не победили, а мы нанесли вам порядочный
ущерб.
-- Истинно так, -- отметил Золрааг, и Мойше на мгновение смутился. Ящер
продолжал говорить. -- Среди тосевитских не-империй, которые нанесли нам
наибольший ущерб, есть Германия, которая наносит наибольший ущерб и вам,
евреям. Вы теперь приветствуете Германию, с которой боролись прежде?
Мойше постарался не поморщиться.
Золрааг мог не иметь представления об истории евреев, но он знал, что
упоминание о нацистах для евреев было подобно размахиванию красным флагом
перед быком. Он хотел, чтобы они утратили способность к рациональному
мышлению. Счесть дураком его никак нельзя.
-- Сейчас мы говорим не о немцах, -- сказал Мойше, -- с одной стороны,
мы говорим об англичанах, которые, в общем, обращались с евреями неплохо, а
с другой -- о ваших шансах завоевать мир, которые выглядят не так уж хорошо.
-- Конечно, Тосев-3 мы завоюем, -- сказал Золрааг. -- Так приказал
Император, -- он на мгновение склонил голову, -- и это будет исполнено.
Эти его слова не показались разумными или рациональными. Они звучали
так, словно их произнес сверхнабожный еврей, почерпнувший все свои знания из
Торы и Талмуда и отвергающий любую светскую науку: вера отрицала любые
препятствия. Временами это позволяло пережить плохие времена. Временами
ослепляло.
Мойше изучал тех, кто захватил его в плен. Видят они ошибку Золраага
или ослеплены? Он пустил в ход другой аргумент:
-- Если вы выберете сделку с ящерами, то всегда будете для них мелкой
рыбешкой. Вы можете думать, что сейчас мы им полезны, но что случится после
того, как они захватят Палестину и вы им больше не будете нужны?
Менахем Бегин оскалил зубы, хотя и не в веселой улыбке.
-- Тогда мы начнем устраивать им трудную жизнь, такую же, какую
устраиваем англичанам теперь.
-- В это я верю, -- сказал Золрааг, -- это будет примерно
соответствовать польскому образцу.
Говорил ли он с горечью? Об эмоциях ящеров трудно судить.
-- Но если Раса завоюет весь мир, кто будет поддерживать вас в борьбе с
нами? -- спросил он Бегина. -- Чего вы надеетесь достичь?
Теперь начал смеяться Бегин.
-- Мы -- евреи. Нас поддерживать не будет никто. И ничего мы не
достигнем. И тем не менее будем бороться. Вы сомневаетесь?
-- Ни в малейшей степени, -- ответил Мойше.
Захватчики и пленный отлично поняли друг друга. Мойше был пленником и у
Золраага, но тогда между ними лежала полоса непонимания, широкая, словно
черное пространство космоса, отделявшее мир ящеров от Земли.
Золрааг не вполне понял, что происходит. Он спросил:
-- Каков же ваш ответ, тосевиты? Если вам так надо, если в вас есть
сочувствие к нему из-за того, что он -- из той же кладки яиц, что и вы,
оставьте себе этого Русецкого. Но что вы скажете в отношении куда более
важного вопроса? Вы будете бороться бок о бок с нами, когда мы двинемся сюда
и накажем англичан?
-- Разве вы, ящеры, принимаете решения с ходу? -- спросил Штерн.
-- Нет, но ведь мы и не тосевиты, -- ответил Золрааг с явным
удовольствием. -- А вы все делаете быстро, не так ли?
-- Не всегда, -- ответил, хмыкнув, Штерн. -- Об этом мы еще должны
поговорить. Мы отправим вас обратно в целости и сохранности...
-- Я надеялся вернуться с ответом, -- сказал Золрааг. -- Это не только
помогло бы Расе, но и улучшило бы мой статус.
-- Нас не волнует ни то ни другое, если только это не поможет нам, --
сказал Штерн. Он подозвал охранника Русецкого. -- Отведи его обратно в его
комнату. -- Он не назвал ее "камерой": даже евреи использовали напыщенные
выражения, чтобы подсластить пилюлю. -- Можешь разрешить ему навестить жену
и сына или только жену, если он захочет. Никуда их не выпускать.
-- Ясно. Вперед, -- скомандовал охранник, как обычно подкрепляя приказ
движением ствола автомата.
Когда они шли по коридору к камере, охранник проговорился:
-- Нет, вам никуда выходить нельзя -- живому.
-- Большое вам спасибо. Вы меня убедили, -- ответил Мойше.
И впервые с тех пор, как еврейское подполье выкрало его у англичан, он
услышал, как громко рассмеялся его грубый охранник.
* * *
По Москве-реке все еще плыл лед. Большая льдина ткнулась в нос гребной
лодки, в которой сидел Вячеслав Молотов, и оттолкнула ее в сторону.
-- Извините, товарищ народный комиссар иностранных дел, -- сказал
гребец, выправляя лодку против течения.
-- Ничего, -- рассеянно ответил Молотов.
Конечно, гребец был из НКВД. Он говорил с заметным "оканьем" -- акцент
местности вокруг города Горького, превращавший "а" в "о". Казалось, он
только что вернулся с пастбища, его невозможно было воспринимать серьезно.
Неплохая маскировка, что и говорить.
Через пару минут еще одна льдина натолкнулась на лодку. Телохранитель
хмыкнул.
-- Бьюсь об заклад, вы захотите доехать до колхоза в "панской" повозке,
а, товарищ?
-- Нет, -- холодно ответил Молотов. Рукой в перчатке он показал в
сторону берега.
"Панская" повозка, запряженная тройкой лошадей, медленно пробиралась
вдоль берега. Даже русские телеги с их большими колесами и дном, как у
лодки, с трудом преодолевали грязь весенней распутицы. Осенью
продолжительность сезона грязи определялась силой дождей. Весной же, когда
таял снег и лед, грязь всегда была настолько глубокой, что казалась
бездонной.
Ничуть не смутившись резкостью ответа, гребец хмыкнул снова. Он
демонстрировал искусство управляться с лодкой, уклоняясь от плывущих льдин
почти с ловкостью балерины. (Тут Молотов вспомнил о Микояне, который, будучи
на вечеринке, собрался выйти под дождь. Когда хозяйка испугалась, что он
промокнет, он только улыбнулся и сказал: "О нет, я буду танцевать между
каплями дождя". Если кто и мог такое сделать, то именно Микоян.)
Как и большинство расположенных у реки коллективных хозяйств, "колхоз
No 118" имел свой шаткий причал -- мостки, выступающие от берега к середине
мутной коричневой реки. Охранник привязал лодку к мосткам, затем
вскарабкался на них, чтобы помочь Молотову выйти из лодки. Когда Молотов
направился к зданиям колхоза, гребец остался на месте. Народный комиссар
удивился бы, если тот бы последовал за ним. Он мог быть работником НКВД, но
наверняка не имел секретного допуска к атомному проекту.
Мычали коровы, заставляя Молотова вспомнить интонации гребца. Хрюкали
свиньи: их грязь не беспокоила -- наоборот, была приятна. Куры
передвигались, вытаскивая из навоза одну ногу, затем другую, смотрели вниз
бусинками черных глаз, словно удивляясь, чего это земля пытается хватать их.
Молотов наморщил нос. У колхоза был запах скотного двора, вне всякого
сомнения. Его строения были типичны для коллективных хозяйств -- деревянные,
некрашеные или плохо окрашенные, они выглядели на десятки лет старше, чем
были на самом деле. Здесь и там расхаживали люди в матерчатых шапках,
рубахах без воротников и мешковатых штанах. Одни с вилами, другие с
лопатами.
Все это была маскировка, выполненная со всей русской тщательностью.
Молотов постучал в дверь коровника, и она тут же открылась.
-- Здравствуйте, товарищ народный комиссар иностранных дел, -- сказал
встречающий его человек и закрыл за ним дверь.
На мгновение нарком оказался в полной темноте. Затем встречающий открыл
другую дверь -- возможно, шлюзовой камеры, -- и яркий электрический свет
наполнил помещение изнутри.
Молотов оставил здесь пальто и сапоги. Игорь Курчатов кивнул
одобрительно. Ядерному физику было около сорока, на подбородке его резко
очерченного красивого лица торчала остроконечная борода, придававшая ему
почти сатанинское выражение.
-- Приветствую вас, -- поздоровался он еще раз с интонацией,
промежуточной между вежливой и льстивой.
Молотов проталкивал этот проект и удерживал Сталина от репрессий, когда
результаты появлялись медленнее, чем он того желал. Курчатов и все остальные
физики знали, что Молотов -- это единственный барьер между ними и гулагом.
Они были его людьми.
-- Добрый день, -- ответил он, как всегда не радуясь напрасной трате
времени на вежливость. -- Как дела?
-- Мы работаем, как бригада сверхстахановцев, Вячеслав Михайлович, --
отвечал Курчатов, -- наступаем на всех фронтах. Мы...
-- Вы уже производите металл плутоний, который будет обеспечивать
мощные взрывы, в которых так отчаянно нуждается Советский Союз? -- прервал
его Молотов.
Дьявольские черты лица Курчатова словно увяли.
-- Пока нет, -- отметил он. Его голос зазвучал громко и пронзительно.
-- Я предупреждал вас, когда проект только начинался, что на это уйдут годы.
Капиталисты и фашисты к моменту нашествия ящеров уже были впереди нас в
технике, они и теперь остаются впереди. Мы пытались, и у нас не получилось
выделить уран-235 из урана-238 [Интересно, а выделять золото из серебра они
не пробовали? Результат должен быть примерно тот же. -- Прим. ред.]. Лучшее
сырье -- шестифтористый уран, который ядовит, как горчичный газ, и вдобавок
ужасно едкий. У нас нет опыта, который требуется для реализации процесса
разделения. Нам пришлось искать другой способ производства плутония, который
также оказался трудным.
-- Уверяю вас, что с болью отдаю себе в этом отчет, -- сказал Молотов.
-- И Иосиф Виссарионович тоже с болью воспринимает это. Если американцы
добиваются успеха, если гитлеровцы добиваются успеха, то почему же у вас
продолжаются срывы?
-- Одна из задач -- создание необходимого реактора, -- ответил
Курчатов. -- В этом нам уже помогло прибытие американца. Работая один в
полную силу, Максим Лазаревич дал нам много ценных указаний.
-- Я на это надеялся, -- сказал Молотов.
Именно сообщение о прибытии Макса Кагана в колхоз No 118 привело его
сюда. Он пока не сказал Сталину, что американцы выбрали для посылки сюда
умного еврея. Сталин не был русским, но совершенно по-русски не переносил
тех, кого называл "безродными космополитами". Сам женатый на умной еврейке,
Молотов не разделял его чувств.
-- Это лишь одна проблема. Какие еще?
-- Самая худшая, товарищ нарком, это получение окиси урана и графита
для ядерного котла без примесей, -- сказал Курчатов. -- В этом Каган, хотя
он опытный специалист в своей области, помочь нам не может, как бы я этого
ни желал.
-- Вы знаете, какие меры должны предпринять производители, чтобы
поставить вам материалы требуемой чистоты? -- спросил Молотов. Когда
Курчатов кивнул, Молотов задал другой вопрос. -- Знают ли производители, что
подвергнутся высшей мере наказания, если не обеспечат выполнение ваших
требований?
Ему доводилось писать "ВМН" -- что означало "высшая мера наказания" --
против имен множества врагов революции и советского государства, и вскоре
после этого их расстреливали. Что заслужили, то и получайте -- без
снисхождения.
Но Курчатов сказал:
-- Товарищ комиссар иностранных дел, если вы ликвидируете этих людей,
их менее опытные преемники не смогут поставить улучшенные материалы. Вы
знаете, требуемая чистота находится на самом пределе того, чего достигли
советская химия и промышленность. Мы делаем все, что можем для борьбы против
ящеров. Временами того, что мы делаем, недостаточно. Ничего тут не поможет.
-- Я отказываюсь принять "ничего" от академика в кризисные моменты
точно так, как и от крестьянина, -- сердито сказал Молотов.
Курчатов пожал плечами.
-- Тогда вернитесь и скажите генеральному секретарю, чтобы он заменил
нас, и пожелаем большой удачи вам и родине с шарлатанами, которые займут эту
лабораторию.
Он и его люди были во власти Молотова, потому что только Молотов изо
всех сил сдерживал гнев Сталина. Но если Молотов лишит их своей защиты, он
нанесет вред не только физикам, но и советской родине. Это создавало
интересный и неприятный баланс между ним и личным составом лаборатории.
Он сердито выдохнул.
-- Есть у вас еще проблемы в создании этих бомб?
-- Да, одна небольшая имеется, -- ответил Курчатов с иронией в глазах.
-- Как только часть урана в атомном котле превратится в плутоний, мы должны
извлечь его и переработать в материал для бомбы -- и это надо сделать, не
допустив утечки радиоактивности в воздух или в реку. Мы это уже знали, но
Максим Лазаревич особенно настаивает на этом.
-- В чем тут трудность? -- спросил Молотов. -- Признаю, я не физик,
чтобы понять тонкие материи без объяснений.
Улыбка Курчатова стала совсем неприятной.
-- Этот вопрос не такой уж тонкий. Утечку радиоактивности можно
обнаружить. Если ее обнаружат, и это сделают ящеры, то вся эта местность
станет гораздо более радиоактивной.
Молотову понадобилось некоторое время, чтобы усвоить, что именно имел в
виду Курчатов. После этого он кивнул -- резко и коротко дернул головой.
-- Смысл вопроса ясен, Игорь Иванович. Вы можете пригласить Кагана сюда
или провести меня к нему? Я хочу выразить ему благодарность советских
рабочих и крестьян за его помощь нам.
-- Подождите, пожалуйста, здесь, товарищ народный комиссар иностранных
дел. Я приведу его. Вы говорите по-английски или по-немецки? Нет? Не важно,
я буду переводить.
Он поспешил по белому коридору, который так не вязался с топорным
внешним видом здания лаборатории.
Через пару минут Курчатов вернулся, ведя с собой парня в белом
лабораторном халате. Молотов удивился тому, как молодо выглядел Макс Каган:
на вид ему было чуть больше тридцати. Он был среднего роста, с вьющимися
темно-каштановыми волосами и умным еврейским лицом.
Курчатов заговорил с Каганом по-английски, затем обратился к Молотову.
-- Товарищ нарком, я представлю вам Максима Лазаревича Кагана, физика,
присланного на время из Металлургической лаборатории Соединенных Штатов.
Каган энергично пожал руку Молотова и пространно сказал что-то
по-английски. Курчатов взял на себя честь перевода.
-- Он говорит, что рад познакомиться с вами и что его цель -- загнать
ящеров в ад и уехать. Это -- идиома, и он интересуется тем, что вы думаете
по этому поводу?
-- Скажите ему, что разделяю его желания и надеюсь, что они будут
реализованы.
Он принялся изучать Кагана и изумился, увидев, что тот делает то же
самое. Советские ученые с почтением относились к человеку, который по рангу
был в СССР вторым после генерального секретаря ВКП(б). Если судить по
поведению Кагана, тот счел Молотова лишь очередным бюрократом, с которым
приходится иметь дело. В небольших дозах такое поведение забавляло.
Каган заговорил по-английски со скоростью пулемета. Молотов не мог
понять, о чем он говорит, но интонации чувствовались безапелляционные.
Курчатов неуверенно ответил на том же языке. Каган заговорил снова, ударив
кулаком по ладони для большей убедительности. И снова ответ Курчатова
прозвучал настороженно. Каган вскинул руки, выражая явное отвращение.
-- Переведите, -- велел Молотов.
-- Он жалуется на качество нашего оборудования, он жалуется на пищу, он
жалуется на сотрудника НКВД, который постоянно сопровождает его, когда он
выходит наружу. Он приписывает сотруднику нездоровые сексуальные привычки.
-- Во всяком случае, у него сложившееся мнение, -- заметил Молотов,
скрывая усмешку. -- Вы можете сделать что-нибудь с оборудованием, на которое
он жалуется?
-- Нет, товарищ нарком, -- ответил Курчатов, -- это самое лучшее, что
есть в СССР.
-- Тогда ему придется пользоваться им и получать максимум возможного,
-- сказал Молотов. -- Что касается остального, то "колхоз" и так имеет
лучшее снабжение продовольствием, чем большинство остальных, но мы
посмотрим, как можно его улучшить. И если он не хочет, чтобы сотрудник НКВД
сопровождал его, больше этого не будет.
Курчатов передал все это Кагану. В ответ американец разразился довольно
длинной речью.
-- Он постарается наилучшим образом использовать наше оборудование и
говорит, что может сконструировать получше, -- перевел Курчатов, -- и что он
в целом доволен вашими ответами.
-- И это все? -- спросил Молотов. -- Он сказал гораздо больше. Скажите,
что именно?
-- Пожалуйста, товарищ народный комиссар иностранных дел. -- Игорь
Курчатов заговорил с некоторым сардоническим удовольствием. -- Он сказал,
что, поскольку я ответствен за этот проект, я должен иметь возможность
решать эти вопросы сам. Он сказал, что я должен иметь достаточно власти,
чтобы подтирать свой зад без разрешения какого-то партийного функционера. Он
сказал, что шпионство НКВД в отношении ученых, как будто они вредители и
враги народа, может и на самом деле превратить их во вредителей и врагов
народа. И еще сказал, что угрожать ученым высшей мерой наказания за то, что
они не выполняют нормы, которые невозможно выполнить, -- это наибольшая
глупость, о которой он когда-либо слышал. Вот его точные слова, товарищ
нарком.
Молотов вперил ледяной взгляд в Кагана. Американец, и свою очередь,
смотрел на него, совершенно не понимая, что речь идет о его судьбе. Немножко
агрессии -- это ободряет. А вот если ее в Советском Союзе будет слишком
много, случится катастрофа.
Курчатов ведь тоже согласен с Каганом. Молотов это понял. Что ж, в
данное время государство и партия нуждаются и опыте ученых. Но может
наступить день, когда он не потребуется. Молотов это предвидит.
* * *
Если вы не собираетесь раздеваться, вряд ли можно получить большее
удовольствие, чем скачка на лошади по извилистой дороге через лес,
покрывшийся весенней листвой. Свежая, вселяющая надежду зелень пела для Сэма
Игера. Воздух был наполнен магическим пряным ароматом, который нельзя
ощутить ни в каком другом времени года: запахом живого и растущего.
Птицы пели так, словно завтра не будет.
Игер глянул на Роберта Годдарда. Если Годдард и чувствовал магию весны,
то внешне не показывал этого.
-- Вы в порядке, сэр? -- обеспокоено спросил Игер. -- Я так и знал, вам
надо было ехать в повозке.
-- Я в полном порядке, -- ответил Годдард голосом более высоким и
раздраженным, чем обычно. Лицо его было почти серым, а не розовым, как
должно было быть. Он вытер лоб рукавом, словно делая небольшую уступку
слабости, овладевшей его плотью. -- Как там, еще далеко?
-- Нет, сэр, -- ответил Сэм с возможно большим энтузиазмом. На самом
деле им предстоял еще один день езды верхом, а то и все два. -- Когда мы
доберемся до места, то прижмем хвост ящерам, так ведь?
Улыбка Годдарда получилась не совсем вымученной.
-- Таков план, сержант. Пока он не сработает, остается только ждать, но
надежда у меня есть.
-- Сработает, сэр, не может не сработать, -- сказал Игер. -- Должна же
у нас появиться возможность сбивать космические корабли ящеров не
чем-нибудь, а ракетами большой дальности. Слишком много уже смельчаков
погибло -- таковы факты.
-- И довольно грустные, -- сказал Годдард. -- Так что теперь посмотрим,
что мы сможем сделать. Единственная проблема -- наведение ракет должно быть
во много раз точнее. -- Он криво ухмыльнулся. -- А этого не так-то просто
добиться -- и это еще один факт.
-- Да, сэр, -- сказал Игер.
Тем не менее он по-прежнему чувствовал себя как герой рассказа Джона
Кэмпбелла: изобрети оружие сегодня, испытай его завтра и пусти в массовое
производство послезавтра. С ракетами дальнего действия Годдарда все обстояло
куда сложнее. При их конструировании ему потребовалась помощь не только от
ящеров, но и от немцев. И ракеты еще не были готовы к тому дню, когда
разбомбили Рим. Но потом работа пошла быстрее, и Сэм радовался, что и он
приложил к ним руку.
Как он и опасался, они не смогли добраться до Фордайса к закату солнца.
Это означало ночевку на обочине шоссе 79. За себя Игер не беспокоился. Но он
волновался из-за того, как скажутся походные условия на Годдарде, даже при
наличии в их снаряжении спальных мешков и палатки. Ученому-ракетчику
требовались все возможные удобства, но в разгар войны на многое он
рассчитывать не мог.
Когда они остановились, он чувствовал себя как загнанная дичь, но не
жаловался. Он с трудом глотал паек, который они открыли, но зато выпил пару
чашек напитка из цикория, который заменял кофе. Он даже шутил по поводу
комаров, хлопая по открытым участкам кожи. Сэм тоже шутил, но при этом не
обманывался. Когда после ужина Годдард забрался в свой спальный мешок, то
уснул как мертвый.
На следующее утро даже дополнительная порция цикорного эрзаца не
взбодрила его. Тем не менее, после того как ему удалось забраться в седло,
он сказал:
-- Сегодня мы преподнесем ящерам сюрприз.
Похоже, что это помогло ему больше, чем все остальное, в том числе и
ненастоящий кофе.
Фордайс, Арканзас, развивался бурно, после нашествия ящеров Игер видел
нечто подобное всего в нескольких городах. Город гордился несколькими
лесопилками, хлопкоочистительными предприятиями и фабрикой гробов. Телеги
увозили продукцию последнего из названных предприятий, нот уж у кого никогда
не было простоя, даже в бесполезные дни мира. Вероятно, оно продолжает
действовать и поныне.
Местность к югу и западу от Фордайса -- вдоль шоссе 79 -- казалась
настоящим раем для охотников: заросли дуба и сосны должны были кишеть
оленями, индюками и другим зверьем. Перед выездом из Хот-Спрингса Сэму дали
автомат "томпсон". Охотиться с ним неспортивно, но когда охотишься ради
пропитания, спорт как-то уходит на задний план.
В четырех или пяти милях от Фордайса на ржавом капоте брошенного
"паккарда" сидел парень, обстругивавший сосновую палку. На нем были
соломенная шляпа и потрепанный комбинезон, он выглядел как фермер, хозяйство
которого видало гораздо лучшие дни, но в голосе, когда он заговорил с Игером
и Годдардом, не было ни медлительности, ни деревенской гнусавости.
-- Мы ждем вас, -- сказал он с чистым бруклинским выговором.
-- Капитан Ханрахан? -- спросил Игер, и замаскированный ньюйоркец
улыбнулся.
Он повел Годдарда и Игера от шоссе в лес. Через некоторое время им
пришлось спешиться и привязать лошадей. Солдат в оливковой форме, возникший
словно ниоткуда, остался присмотреть за животными. Сэм беспокоился о
состоянии Годдарда. Ходьба по лесу была серьезным испытанием его
выносливости.
Минут через пятнадцать они вышли на поляну. Ханрахан помахал в сторону
чего-то замаскированного под деревьями на дальней стороне поляны.
-- Прибыл доктор Годдард, -- закричал он.
Уважение, которое слышалось в его голосе, прозвучало почти как "прибыл
Господь". Через мгновение Сэм услышал звук, который с этого момента он
перестал считать чем-то само собой разумеющимся: звук запуска мощного
дизельного двигателя.
Тот, кто был внутри кабины, прогревал его минуту или две, затем вывел
на середину поляны _нечто_. События начали развиваться очень быстро.
Откуда-то выскочили солдаты, стащили со странного сооружения брезент,
заваленный ветвями, и обнажили заднюю часть грузовика.
Капитан Ханрахан кивнул Годдарду, затем показал на ракету,
обнаружившуюся после удаления брезента.
-- Вот ваш малютка, сэр, -- сказал он.
Годдард улыбнулся и покачал головой.
-- Малыш был усыновлен американской армией. Я лишь пришел с визитом,
чтобы убедиться, что вы, мальчики, знаете, как заботиться о нем. Я ведь
дальше не могу этого делать.
Плавный бесшумный гидравлический подъемник начал поднимать ракету,
перемещая ее из горизонтального в вертикальное положение. Она двигалась
гораздо медленнее, чем хотелось бы Сэму. Каждая секунда, пока они находились
на открытом пространстве, означала еще один шанс для ящеров обнаружить их с
воздуха или с одной из этих набитых приборами искусственных лун, которые они
поместили на орбите вокруг Земли. Пару запусков назад истребитель обстрелял
лес, заставив их порядком поволноваться: только по глупой случайности ракеты
не повредили большую часть этого собранного по крохам оборудования.
Как только ракета встала вертикально, подъехали два небольших
грузовика-заправщика.
-- Погасите окурки, -- закричал сержант в комбинезоне, хотя никто не
курил.
Двое солдат втащили шланги по лестницам, составлявшим часть рамы
пусковой установки. Заработали насосы. В один из баков пошел жидкий
кислород, в другой -- чистый спирт.
-- С древесным спиртом мы получили бы чуть большую дальность, но со
старым добрым этанолом легче обращаться, -- сказал Годдард.
-- Да, сэр, -- сказал Ханрахан, снова кивая. -- Поэтому вся команда
получит выпивку, когда мы все сделаем. Ей-богу, мы заслужили это. А ящеры у
Гринвилла получат подарочек.
"Девяносто миль, -- подумал Игер. -- Может, чуть больше".
Как только она взлетит -- если только не сотворит какой-нибудь глупости
вроде взрыва на пусковой установке, -- то пересечет Миссисипи и весь штат за
пару минут. Он покачал головой. Если это не научная фантастика, то что же
это?
-- Заправлено! -- пропел водитель грузовика с пусковой установкой --
перед ним были приборы, которые позволяли ему видеть, что происходит с
ракетой.
Солдаты отсоединили шланги, спустились и исчезли. Заправщики уехали
обратно в глубь леса.
Пусковая установка у основания имела поворотный стол. Гироскоп азимута
установили на запланированный курс -- на восток, к Гринвиллу. Водитель
высунул из окна кулак, подняв большой палец кверху: ракета была готова к
полету.
Годдард повернулся к капитану Ханрахану.
-- Вот -- вы видите? Я вам здесь не нужен. Я мог бы оставаться в
Хот-Спрингсе, играя в блошки с сержантом Игером.
-- Да, когда все идет хорошо, получается здорово, -- согласился
Ханрахан. -- Но если что-то не заладится, полезно иметь парня, который до
тонкостей обдумал всю штуку, понимаете, что я имею в виду?
-- Раньше или позже, но вы будете все это делать без меня, -- сказал
Годдард, рассеянно почесывая горло сбоку. Сэм посмотрел на него, подумав,
что же он имел в виду. Возможно, _оба смысла_ -- он знал, что он больной
человек. Ханрахан понял высказывание буквально.
-- Как скажете, доктор. Теперь вот что я скажу -- нам надо убраться
отсюда?
Но вначале Ханрахан подключил провод. Таща его за собой, он вприпрыжку
побежал под покров леса, где его ждала остальная часть команды. Годдард шел
медленными, но уверенными шагами. Сэм держался рядом с ним. Когда они
покинули поляну, Ханрахан вручил Годдарду пульт управления.
-- Вот, сэр. Вы хотите оказать нам честь?
-- Благодарю, я это уже делал прежде. -- Годдард передач пульт Сэму. --
Сержант, может быть, теперь ваша очередь?
-- Я? -- проговорил Сэм удивленно.
Почему бы и нет? Не требуется знать атомную физику, чтобы понять, как
работает пульт. На нем была одна большая красная кнопка, в самом центре.
-- Благодарю вас, доктор Годдард. -- И он сильно надавил на кнопку.
Из-под основания ракеты вырвалось пламя, вначале голубое, затем желтое,
как солнце. Рев двигателя ударил в уши Игеру. Казалось, что ракета
неподвижно зависла над пусковой установкой. Сэм нервно подумал, достаточно
ли далеко они стоят -- когда взрывается одна из этих малюток, то зрелище
получается внушительным. Но она не взорвалась. Наконец она перестала висеть,
а взлетела как стрела, как пуля, как нечто ни с чем не сравнимое. Рев
постепенно затих.
Защитный экран в основании пусковой установки уберег траву от пламени.
Водитель побежал к кабине грузовика. Пусковая установка снова приняла
горизонтальное положение.
-- Теперь надо убираться отсюда, -- сказал Ханрахан. -- Идемте, я
отведу вас к лошадям.
Он пошел быстрым шагом. Игера не требовалось подгонять. И Годдарда
тоже, хотя он тяжело дышал, когда они добрались до солдата, охранявшего
животных. Игер едва успел поставить ногу в стремя, как над головой загудело
звено вертолетов и принялось обстреливать поляну, с которой была запущена
ракета, и окружающий лес снарядами и небольшими ракетами.
Ни один снаряд не лег рядом с ними. Сэм улыбнулся Годдарду и капитану
Ханрахану, когда вертолеты улетели на восток -- в сторону Миссисипи.
-- Они нас не любят, -- сказал он.
-- Эй, не ругайте меня, -- сказал Ханрахан. -- Это ведь вы пустили эту
ракету.
-- Да, -- сказал Игер почти мечтательно. -- И как оно?
* * *
-- Это невыносимо, -- заявил Атвар. -- Одно дело, когда по нам бьют
ракетами дойч-тосевиты. Но теперь и другие Большие Уроды овладели этим
искусством, что ставит нас перед серьезными трудностями.
-- Истинно так, благородный адмирал, -- сказал Кирел. -- Эта ракета
взорвалась совсем близко от корабля "Семнадцатый Император Сатла" и
наверняка уничтожила бы его, если была бы лучше нацелена. -- Он сделал
паузу, затем постарался увидеть в случившемся и светлую сторону: -- Подобно
немецким ракетам, она очень неточна -- это оружие скорее для ударов по
площади, чем для точечного попадания.
-- Если они будут запускать их в большом количестве, то это уже не
имеет значения, -- взорвался Атвар. -- Немцы взорвали звездный корабль, хотя
я не верю, что их разведка поняла это: иначе они усилили бы удары. Но таких
потерь мы никак не можем себе позволить.
-- Так же, как не можем надеяться полностью предотвратить их, -- сказал
Кирел. -- Мы израсходовали последние наши противоракетные средства, а
системы ближнего боя имеют лишь ограниченные возможности по сбиванию цели.
-- Я слишком болезненно воспринимаю эти факты. -- На поверхности
Тосев-3 Атвар чувствовал себя некомфортно, небезопасно. Его глаза нервно
поворачивались то туда, то сюда. -- Я знаю, что мы находимся на большом
расстоянии от ближайшего моря, но что будет, если Большие Уроды установят
свои ракеты на корабли, которые они используют с такой назойливостью? Мы не
в состоянии потопить их все. Корабль, вооруженный ракетами, может уже
приближаться к Египту, в то время как мы ведем этот разговор.
-- Благородный адмирал, это действительно возможно, но мне кажется
маловероятным, -- сказал Кирел. -- У нас достаточно забот для обсуждения,
чтобы придумывать новые.
-- Тосевиты используют ракеты. Тосевиты используют корабли. Тосевиты
возмутительно изобретательны. Это не кажется мне придуманной заботой, --
сказал Атвар, добавив усиливающее покашливание. -- Весь этот
североафриканский регион имеет более здоровый для нас климат, чем любой
другой на этой планете. Если бы весь Тосев-3 был таким, он был бы гораздо
более приятным миром. Я не хочу, чтобы наши будущие поселения здесь были в
опасности от ударов Больших Уродов с моря.
-- И никакой другой самец, благородный адмирал. -- Кирел не принял
подразумеваемой критики Атвара. -- Одним из способов усилить наш контроль
над территорией был бы захват местности к северо-востоку от нас, известной
под названием Палестины. Я сожалею, что Золрааг не добился лояльности
местных мятежных самцов: если бы они выступили против англичан, уменьшились
бы потребности в наших собственных ресурсах.
-- Истинно, -- сказал Атвар, -- но лишь отчасти. Тосевитские союзники
легко становятся и тосевитскими врагами. Посмотрите на мексиканцев;
посмотрите на итальянцев; посмотрите на евреев и поляков. Неужели все эти
Большие Уроды -- евреи?
-- Они евреи, благородный адмирал, -- ответил Кирел. -- Как эти евреи
появляются в таких далеких друг от друга местах -- это выше моего понимания,
но это так.
-- Это в самом деле так, и, где бы они ни появлялись, они везде создают
неприятности, -- сказал Атвар. -- Поскольку евреи в Польше оказались
ненадежными, я не питаю больших надежд, что и в Палестине мы сможем на них
положиться. Например, они не вернут Мойше Русецкого Золраагу, что заставляет
меня сомневаться в их добропорядочности. Однако во многом они стараются
приписать свой провал групповой солидарности.
-- Тем не менее мы можем использовать их, хотя и не можем им доверять,
-- высказал Кирел сентенцию, которую Раса использовала в отношении многих
видов Больших Уродов после нашествия на Тосев-3. Командир корабля вздохнул.
-- Жаль, что евреи обнаружили поисковое устройство, которое Золрааг спрятал
в комнате, где проходила встреча, иначе мы могли бы отыскать здание, в
котором оно было установлено, и отобрать у них Русецкого.
-- Действительно жаль, учитывая, что устройство было настолько
миниатюрным, что их грубая технология не может даже приблизиться к тому,
чтобы повторить его, -- согласился Атвар. -- Они должны быть такими же
подозрительными по отношению к нам, как мы к ним. -- Его рот открылся в
кривой ухмылке. -- И еще у них плохое чувство юмора.
-- Истинно так, благородный адмирал, -- сказал Кирел. -- То, что
обнаруженное ими устройство привело непосредственно к крупнейшей британской
базе в Палестине, было разочарованием.
После прихода на Тосев-3 самцы Расы говорили это же самое и о множестве
других вещей.
* * *
Когда Мордехай Анелевич покидал Лодзь -- как некогда Варшаву, -- он
вспомнил, что евреи, прежде многочисленные, оставались в меньшинстве. Многие
из них теперь были вооружены и могли создать свою милицию, которая
располагала более мощным вооружением, но они были немногочисленны.
Поэтому перспектива сотрудничества с поляками -- особенно в сельской
местности -- заставляла его нервничать. Большинство поляков либо
бездействовали, либо аплодировали, когда нацисты загоняли евреев в гетто
больших городов или уничтожали их в поселках и деревнях. Большинство поляков
ненавидели ящеров не за то, что они изгнали немцев, а за то, что вооружили
евреев, которые помогали им.
И теперь, когда в Лодзь пришло сообщение о том, что польскому
крестьянину срочно требуется поговорить с ним, Мордехай боялся, не идет ли
он прямо в ловушку. Затем он задумался: кто бы мог подготовить ее -- если
она вообще существовала. Его скальп могли захотеть получить поляки. А также
ящеры. А также и немцы -- если они хотели лишить евреев боевого лидера. И
евреи, которые больше боялись нацистов, чем ящеров, могли пожелать отомстить
тому, кто отправил Давида Нуссбойма к русским.
Когда пришло предложение встретиться, Берта Флейшман разложила по
косточкам все эти возможности.
-- Не ходи, -- убеждала она. -- Подумай, какими большими неприятностями
это нам может грозить и как немного может быть хорошего.
Он рассмеялся. Легко было смеяться, находясь внутри бывшего еврейского
гетто в Лодзи, среди своего народа.
-- Мы не вырвались бы из-под власти нацистов, если бы боялись
рисковать, -- сказал он.
Он переубедил ее, и вот теперь он находился здесь, где-то севернее
Лодзи, неподалеку от места, где ящеры пропустили немцев.
И глубоко раскаивается, что пошел. Здесь, где на полях работали
исключительно поляки, каждый бросал на чужака подозрительный взгляд. Сам он
не выглядел типичным евреем, но в предыдущих путешествиях он убедился, что
сойти среди них за поляка не сможет.
-- Четвертая грунтовая дорога на север от этого жалкого городишка,
повернуть на запад, пятая ферма по левой стороне. Спросить Тадеуша, --
сказал он сам себе
Он надеялся, что правильно посчитал дороги. Вот эта узкая тропинка
считается дорогой или нет? Непонятно. Его лошадь иноходью направилась к
пятому крестьянскому дому по левой стороне.
Крупный здоровенный светловолосый мужик в комбинезоне накладывал вилами
свекольную ботву в кормушку для коров. Он и бровью не повел, когда подъехал
Мордехай с немецкой винтовкой за спиной. Винтовка "маузер", такая же как у
Анелевича, лежала возле коровника. Парень в комбинезоне при необходимости
мог бы тут же взять ее в руки. Он воткнул вилы в землю и оперся на них.
-- Вам что-нибудь надо? -- спросил он низким голосом, настороженным, но
вежливым.
-- Я ищу Тадеуша, -- ответил Анелевич. -- Я должен передать ему привет
от Любомира.
-- К черту приветы! -- сказал поляк, скорее всего Тадеуш, с громким
раскатистым смехом. -- Где те пять сотен злотых, что он мне должен?
Анелевич соскочил с коня: это был пароль. Он потянулся. В спине что-то
хрустнуло. Он потер поясницу со словами:
-- Побаливает.
-- Я не удивляюсь. Вы ехали, как увалень, -- беззлобно сказал Тадеуш.
-- Послушайте, еврей, у вас, должно быть, множество тайных связей. Во всяком
случае я не слышал ни о каком другом обрезанном, которого мог искать
немецкий офицер.
-- Немецкий офицер? -- на мгновение вытаращил глаза Мордехай. Затем его
голова снова заработала. -- Танкист? Полковник?
Он не настолько доверял этому большому поляку, чтобы называть имена.
Голова Тадеуша закачалась вверх и вниз, при этом его густая золотистая
борода то открывала, то закрывала верхнюю латунную застежку комбинезона.
-- Именно такой, -- сказал он. -- Он сам хотел встретиться с вами, но
тогда он бы спалился.
-- Спалился... Попался ящерам? -- спросил Мордехай, по-прежнему
стараясь понять, о чем идет речь.
Теперь голова Тадеуша стала качаться из стороны в сторону.
-- Не думаю. О нем расспрашивал какой-то другой вонючий нацист. --
Поляк плюнул на землю. -- Черт с ними со всеми, так я скажу.
-- Послать их всех к черту легко, но мы должны иметь дело с некоторыми
из них, хотя -- видит бог -- я не желал бы этого, -- сказал Анелевич. С
севера и с востока донесся гул артиллерийской канонады. Мордехай показал в
ту сторону. -- Слышите? Это немцы, вероятно, бьют по железной дороге или по
лодзинскому шоссе. У ящеров трудности с доставкой военных грузов, они уже
черт знает сколько времени не могут вырваться с ними из города -- и к этому
приложили руку мы.
Тадеуш кивнул. Его поразительно яркие голубые глаза, затененные
бесформенной шапкой из почти бесцветной ткани, были весьма проницательными.
Мордехай подумал: был ли он крестьянином до войны? Нет, скорее кем-нибудь
вроде армейского майора. Во время германской оккупации польские офицеры
должны были проявлять недюжинную изобретательность, чтобы сделаться
невидимыми.
Его подозрения усилились, когда Тадеуш сказал:
-- Не только у ящеров будут трудности с доставкой военных грузов.
Начнут голодать и ваши люди.
-- Это так, -- заметил Мордехай. -- Приверженцы Румковского заметили
это -- он собирает все запасы, предвидя тяжелые времена. Ублюдок будет
лизать сапоги любому, кто стоит над ним, но он умеет чуять опасность, надо
отдать должное этому старому пачкуну.
Тадеуш без труда понял в польской речи пару слов на идиш.
-- Не худшая для человека способность, -- заметил он.
-- Да уж, -- неохотно ответил Анелевич. Он постарался повернуть
разговор к прежней теме. -- Как вы думаете, кто этот нацист? Если бы я знал
больше, то попробовал бы сообразить, почему этот офицер-танкист пытается
предупредить меня. Что вы знаете?
"Что вы согласитесь сказать мне?" Если Тадеуш был польским офицером и
аристократом, который так низко пал, то вполне возможно, что он в полной
мере чувствует презрение к евреям. С другой стороны, если он настоящий
крестьянин, он может быть даже более склонным к простой, но более явной
ненависти, струящейся в его жилах. И тем не менее, если это в самом деле так
и было, прежде всего он не передал бы послание Ягера. Мордехай не мог
позволить своему укоренившемуся недоверию к полякам проявиться вновь.
Тадеуш почесал бороду, прежде чем ответить.
-- Имейте в виду, я узнал это через четвертые или даже пятые руки. Я
сам не знаю, насколько можно этому доверять.
-- Да, да, -- нетерпеливо ответил Анелевич. -- Просто расскажите мне,
что вы узнали, а я постараюсь связать все обрывки в единое целое. Этот немец
вряд ли мог приспособить полевой телефон, чтобы позвонить прямо в Лодзь, так
ведь?
-- Иногда случаются довольно странные вещи, -- сказал Тадеуш, и
Мордехай кивнул в ответ на это, вспомнив телефонные звонки из-за пределов
города. -- Ладно, вот все, что мне сказали. То, что должно произойти -- я не
знаю, что именно, -- произойдет в Лодзи и коснется это вас, евреев. Говорят,
там прислали одного необыкновенного эсэсовца с множеством зарубок на оружии,
чтобы выполнить эту работу.
-- Это самая безумная вещь, какую я когда-либо слышал, -- сказал
Мордехай. -- Мы сейчас не воюем с нацистами, хуже того -- мы помогаем им,
спаси нас бог. Ящеры оказались не в состоянии устроить контратаку из Лодзи,
и это не потому, что они не пытались.
Вначале ему показалось, что Тадеуш смотрит презрительно, и только потом
он понял, что во взгляде поляка сквозила жалость.
-- Я могу назвать две причины, почему нацисты делают то, что делают.
Во-первых, вы -- евреи, и во-вторых, вы еще раз евреи. Вы ведь знаете о
Треблинке? -- Не дожидаясь ответа Анелевича. он закончил: -- Их не беспокоит
то, что вы делаете, их беспокоит то, что вы существуете.
-- Что ж, я не стану спорить, -- ответил Анелевич. На поясе у него была
польская армейская фляжка. Он отцепил ее с пояса, отвинтил пробку и протянул
Тадеушу. -- Вот, смойте вкус этих слов с вашего языка.
Кадык поляка задвигался, он сделал несколько больших глотков. "Shikker
iz ein goy", -- пронеслось в голове Мордехая: иноверец -- это пьяница. Но
Тадеуш остановился до того, как фляжка опустела, и вернул ее хозяину.
-- Худшее яблочное бренди, которое я когда-либо пил. -- Он похлопал
себя по животу: звук получился таким, словно кто-то колотил по толстой
твердой доске. -- Впрочем, даже и худшее лучше, чем никакое.
Мордехай глотнул из фляжки. Самогон обжег пищевод и взорвался в
желудке, как снаряд.
-- Да, одним перегаром от него можно смывать краску, не так ли? Но пока
он действует, вы получаете то, что надо. -- Он почувствовал, как запылала
его кожа, сердце забилось чаще. -- Ну, и что же я должен делать, если этот
эсэсовец появится в городе? Пристрелить его на месте? Не самая плохая идея.
Тадеуш слегка окосел. Он принял порядочную дозу на пустой желудок и,
возможно, не сразу понял, насколько крепким было зелье. С людьми, которые
много пьют, иногда такое случается: привыкнув пить крепкие напитки, они не
сразу замечают действие очень крепких. Брови поляка сдвинулись вместе, когда
он попытался собраться с мыслями.
-- Так, что же еще говорил ваш нацистский приятель... -- вслух
задумался он.
-- Он мне не приятель, -- с негодованием сказал Анелевич.
Возможно, он был несправедлив. Если бы Ягер не считал, что между ними
что-то есть, он не стал бы посылать сообщение в Лодзь, даже в искаженном
виде. Анелевич должен с уважением отнестись к его поступку, что бы он ни
думал о мундире, который носит Ягер. Он сделал еще один осторожный глоток и
подождал, пока мозги Тадеуша снова придут в рабочее состояние. Через
некоторое время так и произошло.
-- Теперь я вспомнил, -- сказал поляк, просветлев лицом. -- Правда, я
не знаю, насколько этому можно верить. Как я уже сказал -- это прошло через
множество ртов, прежде чем дошло до меня. -- Он громко и отчетливо икнул. --
Только Бог, Святая Дева и все святые знают, каким путем оно добиралось.
-- Ну? -- сказал Мордехай, понукая Тадеуша двигаться вперед, не
отклоняясь в сторону.
-- Ладно, ладно. -- Поляк сделал отталкивающий жест. -- Если по дороге
ничего не переврали, я должен сказать следующее: когда вы встретитесь с ним
в следующий раз, не верьте ни единому слову, потому что он должен будет
солгать.
-- Он послал мне сообщение, что будет лгать? -- Анелевич почесал в
затылке. -- Что бы это означало?
-- Слава богу, это не моя проблема, -- ответил Тадеуш.
Мордехай посмотрел на него, повернулся, вскочил на лошадь и, не говоря
больше ни слова, поехал в сторону Лодзи.
Лесли Гровс не помнил, когда в последний раз он был так далеко от
Металлургической лаборатории. Поразмышляв, он сообразил, что не разлучен с
лабораторией с того дня, когда принял груз плутония, украденный вначале у
ящеров, а затем у немцев -- на корабле британских королевских военно-морских
сил "Морская нимфа". С тех пор он постоянно жил, дышал, ел и спал с атомным
оружием.
И вот теперь он находился здесь, далеко к востоку от Денвера, за многие
мили от забот о чистоте графита и поперечном сечении поглотителя нейтронов
(когда он изучал физику в колледже, никто даже и не слышал о нейтронах) и
еще о том, чтобы не выпустить радиоактивный пар в атмосферу. Если ящеры
засекут радиацию, второго шанса уже не будет -- и Соединенные Штаты почти
наверняка проиграют войну.
Но были и другие возможности проиграть войну -- и без атомных бомб
ящеров, которые могут свалиться ему на голову. Вот почему он находился
здесь.
-- Вроде отпуска, -- пробормотал он.
-- Мне неприятно говорить вам, но если вы хотите в отпуск, генерал, то
вы подписали контракт, неправильно поняв его, -- сказал генерал-лейтенант
Омар Брэдли.
Улыбка на длинном лошадином лице превращала упрек в шутку: он знал, что
Гровс в одиночку делает работу целого взвода.
-- Да, сэр, -- ответил Гровс. -- Знаете, то, что вы мне показали,
произвело на меня потрясающее впечатление. Надеюсь, оно покажется ящерам
таким же беспощадным, как это кажется нам.
-- Вам, мне и всем Соединенным Штатам, -- ответил Брэдли. -- Если ящеры
разгромят эти заводы и захватят Денвер, у нас у всех будет множество
неприятностей. Если они подойдут настолько, что смогут открыть по вашим
предприятиям артиллерийский огонь, мы огребем еще большие неприятности. Наша
работа состоит в том, чтобы не допустить этого, израсходовав как можно
меньше жизней. Жители Денвера повидали уже достаточно.
-- Да, сэр, -- снова сказал Гровс. -- Еще в сорок первом году я видел в
кинохронике, как женщины, дети и старики шагают из Москвы с лопатами на
плечах, чтобы рыть противотанковые рвы и окопы и задержать наступление
нацистов. Я никогда не думал, что такое может однажды случиться здесь, в
Штатах.
-- И я тоже. Никто так не думал, -- сказал Брэдли.
Он казался несговорчивым и изнуренным, это впечатление усиливалось
миссурийской гнусавой речью и тем, что вместо обычного офицерского личного
оружия он имел при себе винтовку М-1. Он был метким стрелком, еще с тех
времен, когда ходил на охоту с отцом, и никому не давал забыть об этом.
Доходили слухи, что он успешно использовал свою М-1 в первом
контрнаступлении против ящеров в конце 1942 года.
-- Мы сделали тогда больше, чем Красная Армия, -- сказал Брэдли. -- Мы
не просто месили грязь. Линия Мажино в подметки не годится нашей работе. Эта
глубокая защитная зона, примерно такая, как линия Гинденбурга в прошлой
войне. -- Он снова сделал паузу, на этот раз чтобы откашляться. -- Не то
чтобы я сам видел линию Гинденбурга, но, черт возьми, я тщательнейшим
образом изучил отчеты.
-- Да, сэр, -- сказал Гровс в третий раз. Он слышал, что Брэдли очень
переживает из-за того, что не был "там" во время Первой мировой войны. Он
поднялся на парапет и посмотрел вокруг. -- Несомненно, ящеры разобьют себе
морду, если попрут против этого.
Голос Брэдли прозвучал сурово.
-- Не "если", а гораздо хуже -- "когда". Мы не сможем остановить их
неподалеку от наших укреплений. Ламар потребовалось эвакуировать на
следующий день, вы знаете?
-- Да, я слышал об этом, -- сказал Гровс: холодок прошел по его спине.
-- Но, глядя на все это, я чувствую себя лучше, чем в момент получения
сообщения.
Было сделано все возможное по превращению прерии в настоящую защитную
территорию. Окопы и глубокие широкие противотанковые рвы охватывали Денвер к
востоку па целые мили. Широкие полосы колючей проволоки могли
воспрепятствовать пехоте ящеров, но не броне.
Огневые точки защищали бетонные колпаки. В некоторых из них находились
пулеметы, другие предназначались под "базуки".
Вместе с противотанковыми рвами высокие бетонные зубья и крепкие
стальные столбы предназначались для того, чтобы направить бронированные силы
ящеров в сторону позиций ракетчиков. Если бы танк попытался форсировать
препятствия, вместо того чтобы обойти их, он подставил бы более слабую броню
на днище противотанковым орудиям, ожидающим именно такого поворота событий.
Просторы прерий выглядели невинными, но в действительности были нашпигованы
минами; ящерам предстояло заплатить высокую цену за попытку пересечь их.
-- Выглядит грандиозно, ничего не скажешь, -- заметил Брэдли. -- Но я
беспокоюсь о трех вещах. Хватит ли у нас людей для этих укреплений, чтобы
они стали максимально эффективными? Достаточно ли у нас боеприпасов, чтобы
заставить ящеров завопить "караул!", когда они обрушатся на нас со всем, что
есть у них? И достаточно ли у нас продовольствия, чтобы содержать наши
войска в укреплениях день за днем, неделя за неделей? Единственный ответ,
который я могу дать на любой из этих вопросов, -- "надеюсь".
-- Принимая во внимание, что на любой ваш вопрос -- или на все сразу --
можно ответить "нет", все-таки это лучше, чем могло бы быть, -- сказал
Гровс.
-- Но все же не слишком хорошо. -- Брэдли поскреб подбородок, затем
повернулся к Гровсу. -- На ваших предприятиях приняты соответствующие
предосторожности?
-- Да, сэр, -- ответил Гровс. Он был уверен, что Брэдли и так все знал.
-- Как только начались бомбежки Денвера и окрестностей, мы ввели в действие
наш план дезинформации. Мы разжигали костры возле наиболее важных зданий и
под покровом дымовой завесы закрывали их брезентом, раскрашенным так, что с
воздуха они выглядят как руины. До настоящего времени мы не имели прямых
попаданий, так что, похоже, наш план себя оправдал.
-- Хорошо, -- сказал Брэдли. -- Он оправдался даже в большей степени.
Ваши предприятия -- вот то, ради чего мы будем биться до последнего
человека, защищая Денвер, и вы это знаете не хуже, чем я. О, мы будем
сражаться за него в любом случае -- видит бог, мы не хотим, чтобы ящеры
распространили свою власть на пространстве Великой равнины, -- но здесь, с
учетом Металлургической лаборатории, мы не имеем права потерпеть поражение.
-- Да, сэр, я понимаю это, -- сказал Гровс. -- Физики рассказали мне,
что в ближайшие две недели мы получим еще одну маленькую игрушку. Хотелось
бы отогнать ящеров от Денвера без нее, я думаю, но если дело дойдет до
выбора: использовать ее или потерять город, то...
-- Я надеялся, что вы мне сообщите что-то вроде этого, генерал, --
ответил Брэдли. -- Как вы сказали, мы сделаем все, чтобы удержать Денвер, не
обращаясь к ядерному оружию, потому что ящеры отыграются на мирном населении
Но если дело дойдет до выбора между потерей Денвера и возможностью его
сохранения, я знаю, что надо выбрать.
Самолеты ящеров визжали в воздухе. Зенитки били по ним. Время от
времени они подбивали истребитель-бомбардировщик, но слишком редко. На их
стороне была лишь слепая удача. Бомбы падали на американские укрепления:
взрывы терзали Гровсу уши.
-- Что бы они там ни разрушили, понадобится порядочно поработать
лопатами, чтобы восстановить все снова. -- Омар Брэдли выглядел несчастным.
-- Вряд ли это честно по отношению к бедным трудягам, которые проделали всю
эту тяжелую работу, а теперь видят, как плоды их трудов разлетаются дымом.
-- Разрушать легче, чем строить, сэр, -- ответил Гровс.
"Вот почему легче стать солдатом, чем инженером", -- подумал он. Вслух
он этого не сказал. Легкая грубость в разговоре с подчиненными может
временами подстегнуть их работать лучше. Если же вы рассердили своего
начальника, он может понизить вас в самый неподходящий момент.
Гровс поджал губы и мечтательно кивнул. В определенном смысле это тоже
было инженерным делом.
* * *
Людмила Горбунова держала руку на рукоятке автоматического пистолета
системы Токарева.
-- Вы используете меня неверно, -- сказала она командиру партизанского
отряда, упрямому худому поляку, который отзывался на имя Казимир.
Для верности она сказала это сначала по-русски, потом по-немецки и
затем на том, что, по ее мнению, было польским языком.
Он смотрел на нее злобно.
-- Конечно, нет, -- сказал он. -- Ты по-прежнему в одежде.
Она выхватила из кобуры пистолет.
-- Свинья! -- закричала она. -- Идиот! Вытащи мозги из штанов и
послушай! -- Она ударила рукой по лбу. -- Боже мой! Если бы ящеры догадались
провести вокруг Хрубешова голую проститутку, они заманили бы тебя и каждого
из твоих бабников в лес и там прикончили.
Вместо того чтобы ударить ее, он сказал:
-- Ты очень красива, когда сердишься.
Видимо, он позаимствовал эту фразу из плохо переведенного американского
фильма. Она едва не пристрелила его на месте. Вот что она получила, оказав
услугу "культурному" генералу фон Брокдорф-Алефельдту: банду партизан, у
которых не хватило ума очистить от деревьев посадочную полосу и которые не
имели ни малейшего представления, как использовать квалифицированного
специалиста.
-- Товарищ, -- сказала она, стараясь воспринимать все как можно проще,
-- я -- пилот. И у меня здесь нет исправного самолета. Если использовать
меня в качестве солдата, то я могу сделать меньше, чем в другом качестве. Вы
не знаете о каком-нибудь еще самолете, на котором я могла бы летать? Казимир
сунул руку под рубашку и почесал живот. Он был волосат, как обезьяна. "И не
намного умнее", -- подумала Людмила. Она не ожидала ответа и пожалела, что
не сдержалась, -- но не слишком сильно. Он все-таки ответил:
-- Я знаю отряд, который или имеет, или знает, или может добыть
какой-то немецкий самолет. Если мы доставим вас к ним, вы сможете на нем
летать?
-- Я не знаю, -- сказала она. -- Если он исправен, я, наверное, смогу
летать на нем. Непохоже, что вы много знаете. -- Через мгновение она
добавила: -- Об этом самолете, я имею в виду. Какого он типа? Где он? Он в
исправном состоянии?
-- Я не знаю, о чем вы говорите. Я не знаю, существует ли он вообще. А
вот где? Это я знаю. Довольно далеко отсюда, на северо-запад от Варшавы,
недалеко от места, где снова действуют нацисты. Если вы захотите отправиться
туда, это, наверное, можно организовать.
Она задумалась: существует этот самолет или же Казимир просто хочет
отделаться от нее? И старается загнать ее еще дальше от Родины. Он хотел,
чтобы она ушла, потому что была русской. В его отряде было несколько
русских, но они не показались ей идеальными образцами советских людей. С
другой стороны, если самолет действительно есть, она сможет сделать с ним
что-то полезное. Здесь она убила зря слишком много времени.
-- Хорошо, -- оживленно сказала она, -- ладно. Какие проводники и
пароли понадобятся мне, чтобы добраться до этого таинственного самолета?
-- Мне понадобится некоторое время для подготовки, -- сказал Казимир.
-- Ее можно ускорить, если вы...
Он замолк: Людмила подняла пистолет и прицелилась ему в голову. У него
хватило выдержки -- и голос его не дрогнул:
-- С другой стороны, может, и обойдется.
-- Хорошо, -- снова сказала Людмила и опустила пистолет.
Она не снимала его с предохранителя, но Казимир об этом не знал. Она
даже не особенно сердилась на него. Он мог не быть "культурным", но он
понимал слово "нет", когда смотрел в дуло пистолета. Некоторые мужчины --
тут же вспомнился Георг Шульц -- нуждаются в куда более серьезных намеках,
чем этот.
Возможно, пистолет, направленный в лицо, убедил Казимира, что и в самом
деле лучше быстро избавиться от Людмилы. Два дня спустя она в сопровождении
двух провожатых -- еврея по имени Аврам и поляка по имени Владислав --
направилась на северо-запад в старой телеге, которую тянул старый осел.
Людмила колебалась, не стоит ли ей избавиться от летного снаряжения, но,
посмотрев, во что одеты поляк и еврей, отказалась от этого намерения.
Владислав вполне мог сойти за красноармейца, хотя за спиной у него была
немецкая винтовка "маузер-98". А крючковатый нос Аврама и густая седеющая
борода казались совершенно неуместными под козырьком каски, похожей на
перевернутое ведро для угля, которое уже никогда не понадобится неизвестному
солдату вермахта.
Пока телега тряслась по холмистой местности к югу от Люблина, она
успела заметить, насколько обычной была такая смесь предметов одежды, не
только среди партизан, но и у обычных граждан -- если предположить, что
такие еще существовали в Польше. Каждый второй мужчина и примерно каждая
третья женщина имели при себе винтовку или автомат. С одним лишь пистолетом
Токарева у бедра Людмила чувствовала себя почти голой.
Она также смогла получше присмотреться к ящерам: то проезжала мимо
колонна грузовиков, поднимая тучи пыли, то танки калечили дорогу, делая ее
еще хуже. Случись такое в Советском Союзе, пулеметы этих танков уже давно бы
разделались с телегой и тремя вооруженными людьми в ней, но эти проезжали
мимо, пугающе тихие, даже не притормаживая.
На довольно приличном русском языке -- Аврам и Владислав оба говорили
на нем -- еврей сказал:
-- Они не знают, с ними мы или против них. Вдобавок они научились, что
не надо разбираться в этом. Каждый раз, когда они ошибались и стреляли в
людей, которые были их друзьями, они превращали множество своих сторонников
во врагов.
-- Почему в Польше так много добровольных изменников человечества? --
спросила Людмила. Эта фраза из передач московского радио сорвалась с ее губ
автоматически, и только потом она подумала, что ей следует быть более
тактичной.
К счастью, ни Владислав, ни Аврам не рассердились. Напротив, они начали
смеяться и принялись отвечать в один голос. Картинным жестом Аврам
предоставил слово Владиславу. Поляк пояснил:
-- После того как поживешь некоторое время под нацистами и некоторое
время под красными, то ни нацисты, ни красные большинству народа не кажутся
хорошими.
Теперь они совсем распоясались и оскорбили ее лично или по крайней мере
ее правительство. Она сказала:
-- Но я помню, что говорил товарищ Сталин в своем выступлении по радио.
Единственная причина, по которой Советский Союз занял восточную половину
Польши, состояла в том, что польское государство было внутренним банкротом,
правительство разбежалось, украинцы и белорусы в Польше -- братья советского
народа -- были оставлены на произвол судьбы. Советский Союз избавил польский
народ от войны и дал ему возможность вести мирную жизнь, пока фашистская
агрессия не наложила свою длань на всех нас.
-- Именно так и говорилось по радио, в самом деле? -- изумился Аврам.
Людмила выпятила вперед подбородок и упрямо кивнула. Она
сосредоточилась и приготовилась к изощренным, беспощадным идеологическим
дебатам, но Аврам и Владислав не были склонны спорить. Вместо этого они
засмеялись душераздирающим смехом, как пара свихнувшихся волков, подвывающих
на луну. Они колотили кулаками по бедрам и кончили тем, что обняли друг
друга. Осел, которому надоело их поведение, хлопал ушами.
-- Что я сказала такого забавного? -- ледяным тоном осведомилась
Людмила.
Аврам не ответил напрямую. Он задал встречный вопрос:
-- Могу я научить вас Талмуду за несколько минут?
Она не знала, что такое Талмуд, и на всякий случай покачала головой.
-- Правильно. Чтобы выучить Талмуд, вы должны научиться смотреть на мир
по-новому и думать тоже по-новому -- по новой идеологии, если хотите. -- Он
снова сделал паузу. На этот раз она кивнула. Он продолжил: -- У вас уже есть
идеология, но вы настолько свыклись с ней, что даже не замечаете. Вот это-то
и забавно.
-- Но моя идеология -- научна и правильна, -- сказала Людмила.
Почему-то после этого у еврея и поляка начался очередной приступ смеха.
Людмила махнула рукой. С некоторыми людьми просто невозможно вести
интеллектуальную дискуссию.
Местность понижалась в сторону долины Вислы. Высокий песчаный берег,
прорезанный множеством оврагов, зарос ивами, ветви которых свисали до воды.
-- Весной сюда приходят влюбленные, -- заметил Владислав.
Людмила подозрительно глянула на него, но он умолк, так что, вероятно,
это не следовало понимать как предложение.
Некоторые здания вокруг рыночной площади были большими и, вероятно,
довольно интересными, когда были целыми, но месяцы боев оставили от
большинства из них обугленные руины. Синагога выглядела ненамного лучше
других развалин, но в нее входили и выходили евреи. Другие евреи --
вооруженная охрана -- стояли снаружи.
Людмила заметила, что Аврам взглянул на Владислава, ожидая реакции. Тот
промолчал. Людмила не могла понять, порадовало это еврейского партизана или
рассердило. Польская политика была слишком сложной для нее, чтобы попять.
Паром, перевозивший телегу через Вислу, выпустил целое облако угольного
дыма. Местность здесь была такой ровной, что напомнила Людмиле бесконечные
равнины вокруг Киева. Домики с соломенными крышами, с подсолнухами и
мальвами вокруг вполне могли стоять и у нее на родине.
В этот вечер они остановились на ночлег в крестьянском доме у пруда.
Людмила не удивилась тому, что они выбрали именно этот дом. Во-первых, он
расположился у воды, во-вторых, он был окружен старыми заросшими воронками
от бомб -- немцы, видимо, использовали его для учебного бомбометания, --
причем некоторые воронки, наиболее глубокие, постепенно наполнялись
грунтовыми водами, превращаясь в пруды.
Никто не спросил их имен и не назвал себя. Людмила поняла: то, чего не
знаешь, не сможешь и рассказать. Супружеская пара средних лет, которой
принадлежало хозяйство, с целой кучей детей напомнила ей "кулаков",
зажиточных крестьян, которые в Советском Союзе сопротивлялись присоединению
к славному равноправному колхозному движению и не желали расстаться со своей
собственностью, а поэтому исчезли с лица земли, когда она была еще ребенком.
Польша такого уравнивания еще не видела. Хозяйка дома, полная приятная
женщина с ярким платком на голове, похожая на русскую бабушку, сварила
большой горшок борща: свекольный суп со сметаной, который -- исключая
добавку тмина -- вполне мог принадлежать русской кухне Еще она подала на
стол тушеную капусту, картошку и пряную домашнюю колбасу, которую Людмила
нашла восхитительной, но к которой Аврам даже не прикоснулся.
-- Еврей, -- сказала женщина мужу, когда Аврам не слышал.
Они помогали партизанам, но это не означало, что они любили их всех
подряд.
После ужина Аврам и Владислав отправились спать в коровник. Людмиле
достался диван в горнице, честь, которую она без сожаления отклонила бы,
потому что диван был короткий, узкий и жесткий. Она металась, крутилась и в
течение этой мучительной ночи пару раз едва не свалилась на пол.
На следующий день, до заката, они пересекли реку Пилица, приток Вислы,
по восстановленному деревянному мосту и прибыли в город Варка. Владислав с
энтузиазмом восклицал:
-- Здесь делают самое лучшее пиво в Польше!
Неудивительно, что воздух был пропитан ореховым ароматом солода и
хмеля.
-- В Варке родился Пулаский [Казимеж Пулаский -- один из соратников
Тадеуша Костюшко и Августа Беньовского, активный деятель Польской
конфедерации, участник американской революции и войны за независимость.
Генерал, национальный герой США. -- Прим. ред.].
-- А кто это такой -- Пулаский? -- спросила Людмила.
Владислав испустил долгий покорный выдох.
-- Вас немногому учат в большевистской школе, так ведь? -- Увидев, как
она взъерошилась, он рассказал: -- Это был польский дворянин, который
пытался не дать пруссакам, австрийцам и вам, русским, нарезать нашу страну
на куски. Не смог. -- Он снова вздохнул. -- В таких делах мы всегда терпим
неудачу. Потом он отправился в Америку и помогал там Соединенным Штатам
бороться с Англией. Там его, беднягу, и убили. Он был совсем молодым
человеком.
У Людмилы сложилось мнение об этом Пуласком как о реакционном
приверженце коррумпированного польского феодального режима. Но помощь
революционному движению в Соединенных Штатах была, несомненно, прогрессивным
действием. Это удивительное сочетание лишило ее ниши, в которую можно было
бы поместить Пулаского, и вызвало какое-то неопределенное ощущение. Такое
случилось уже во второй раз с тех пор, как она покинула СССР. И оба раза ее
взгляды на мир оказывались не вполне адекватными.
"Несомненно, взгляд на мир по Талмуду должен быть еще хуже", --
подумала она.
Она заметила, что уже некоторое время подсознательно прислушивается:
тихий далекий гул с севера и запада.
-- Это не может быть гром! -- воскликнула она.
День был прекрасный, яркий и солнечный, лишь несколько пушистых белых
облачков медленно плыли с запада на восток.
-- Гром особого рода, -- ответил Аврам, -- особого рода. Это артиллерия
ящеров бьет по нацистам, а может быть, немецкая артиллерия бьет по ящерам.
Там, куда мы едем, легче уже не будет.
-- Я поняла одно, -- сказала Людмила, -- куда бы вы ни шли, легче не
будет нигде.
Аврам дернул себя за бороду.
-- Если вы это знаете, то, видимо, в конце концов, большевистские школы
не так уж и плохи.
* * *
-- Итак, послушайте, люди, что мы собираемся делать, -- произнес Ране
Ауэрбах в холодном мраке ночи, стоявшей над Колорадо. -- Сейчас мы находимся
где-то между Карвалем и Панкин-Центром.
Пара кавалеристов возле него тихо хмыкнула. Он сделал то же самое.
-- Да, вот такие названия давали в этой местности. До захода солнца
разведчики обнаружили посты ящеров к северу и западу от Карваля. Теперь мы
хотим заставить их думать, что нас гораздо больше, чем на самом деле. Если
мы сделаем это, мы замедлим их наступление на Денвер в этом направлении.
-- Да, но, капитан Ауэрбах, ведь между ними и Панкин-Центром, кроме
нас, никого нет, -- сказала Рэйчел Хайнс. В темноте она видела только
силуэты своих товарищей. -- И нас ведь осталось совсем немного.
-- Это знаете вы, и это знаю я, -- сказал Ауэрбах. -- И пока об этом не
знают ящеры, все прекрасно.
Его отряд -- или то, что от него осталось, плюс разный сброд и ошметки
других уничтоженных подразделений, присоединившиеся к нему, -- ответил тихим
смехом. Он добился своего: поднял моральный дух. В действительности ничего
забавного не было. Ящеры, рассчитывая на своего рода блицкриг, достигли куда
большего, чем нацисты. В самом начале наступления они размазали Ламар с
воздуха, затем продрались, черт подери, почти через половину Колорадо,
сметая на своем пути любые помехи. И будь оно все проклято, если Ауэрбах
знал, как остановить их, прежде чем они ударят по укреплениям перед
Денвером. Но он получил приказ попытаться и должен его выполнить.
Очень возможно, что в этой попытке он и погибнет. Что ж, это часть его
работы.
Лейтенант Билл Магрудер сказал:
-- Помните, мальчики и девочки, у ящеров есть штуки, которые позволяют
им видеть в темноте, как кошкам, -- когда они пожелают. Прячьтесь в
укрытиях, одна группа стреляет, чтобы они могли определить ее позицию, а
другая группа старается напасть на них с другого направления. Они не ведут
честную игру. Они и близко не знакомы с честной игрой. Если мы собираемся
побить их, мы тоже должны играть в грязные игры.
Кавалерия вообще не собиралась их бить. Любой из его кавалеристов, кто
не понимал этого, был глупцом. Правда, при неожиданных налетах и немедленных
отступлениях они порой могли добиться чего-то путного.
-- По коням, -- сказал Ауэрбах и направился к своей лошади.
Отряд выдавал свое присутствие лишь темными силуэтами, бряканьем
упряжи, случайным кашлем человека или фырканьем животного. Эту территорию он
не слишком хорошо знал и беспокоился о том, чтобы не наткнуться на пикеты
ящеров до того, как он выяснит, где они расположены. Если такое произойдет,
весь его отряд будет перемолот, без малейшей пользы делу и ущерба для
ящеров.
Но двое людей, которые ехали вместе с ними, были местными фермерами. На
них не было военной формы. Будь они в мундирах, плен означал бы верный
расстрел -- попади они в руки людей-врагов. Для ящеров такие тонкости
значения не имели. Эти фермеры, одетые в полукомбинезоны, знали местность
так же хорошо, как тела жен.
Один из них, Энди Осборн, скомандовал:
-- Здесь мы разделимся.
Ауэрбах принял на веру, что тот знает, где находится это "здесь". Часть
отряда поехала дальше под командованием Магрудера. Ауэрбах и Осборн повели
остальных к Карвалю. Через некоторое время Осборн сказал:
-- Если мы сейчас не спешимся, они нас обнаружат.
-- Коноводы! -- вызвал Ауэрбах.
Он набирал их по жребию перед каждым рейдом. Никто не выказывал желания
заняться этим делом, из-за которого нельзя участвовать в бою, в то время как
ваши товарищи бьются с ящерами. Но это обеспечивало безопасность -- во
всяком случае, некоторую безопасность -- всему отряду. Подбирать коноводов
по жребию казалось единственно честным решением.
-- Здесь есть пара небольших овражков, -- сказал Осборн, -- и, если нам
повезет, мы можем проскочить в тыл к ящерам, так что они даже не узнают, что
мы там, пока не откроемся сами. Мы с этим справимся, мы можем, черт возьми,
нанести по Карвалю ощутимый удар.
-- Да, -- сказал кто-то из темноты нетерпеливым шепотом.
У них были миномет и пара "базук" с достаточным количеством маленьких
ракет. Пытаться подбить танк ящеров в темноте было заранее проигрышным
делом, но они обнаружили, что "базуки" чертовски здорово крушат здания,
поскольку те не были бронированы и не могли перемещаться по местности.
Теперь главное -- подобраться поближе к бивуаку ящеров.
Минометчики отправились вперед одни -- лишь с парой солдат с автоматами
"томпсон" для огневого прикрытия. Им не надо было подходить к Карвалю так же
близко, как пулеметчикам и стрелкам из "базуки".
Ауэрбах хлопнул Осборна по плечу, дав сигнал вести их вниз к оврагу,
который был ближе всего к маленькому городку. Он и остальные бойцы двигались
вперед, низко пригнувшись.
Где-то к северу послышались выстрелы из стрелкового оружия. Они
прозвучали, как хлопушки в день Четвертого июля, а осветительные ракеты,
залившие огнем ночное небо, вполне могли сойти за фейерверк. Но фейерверки
обычно сопровождаются приветственными криками, а не приглушенной бранью
солдат.
-- Слишком рано их обнаружили, -- произнес кто-то.
-- Теперь они будут искать нас особенно тщательно, -- добавила Рэйчел
Хайнс с печальной уверенностью.
Как бы подтверждая ее слова, с низкого холма, на котором находились
пикеты ящеров, в небо взлетела осветительная ракета.
-- Хороший знак, -- сказал Ауэрбах. -- Значит, они не могут выследить
нас своими хитрыми штуками, поэтому и пробуют старый проверенный способ.
Он надеялся, что не ошибся.
Солдаты торопливо пробирались по дну оврага вслед за Осборном. Ракета
стала падать, гаснуть и исчезла вовсе. На севере ударил миномет. Эта
половина отряда еще не приблизилась к Карвалю, как планировалось, но -- что
делать -- отряд прошел столько, сколько смог. Бум! Бум! Если мины не
попадали на территорию этого небольшого города, то все равно промах был
незначительным.
Затем Ауэрбах услышал шум моторов машин. Звук смещался по периметру
Карваля. Во рту сразу пересохло. Не всегда получалось застать спящих ящеров
врасплох.
-- Здесь овраг кончается, -- объявил Энди Осборн.
Теперь Ауэрбах жалел, что не овладел Пенни Саммерс. Вряд ли у него
снова будет такая возможность. Он хотел вспомнить какой-нибудь счастливый
момент в жизни, чтобы отогнать страх, но вспомнить-то ему было нечего. Он
даже не знал, что случилось с Пенни. Последний раз он видел ее, когда она
помогала раненому, -- за день до того, как бронированная колонна ящеров
смела Ламар с лица земли. Они вывозили пострадавших -- ничего лучшего не
смогли придумать -- на крытых санитарных повозках, запряженных лошадьми: их
предки времен Гражданской войны были бы им признательны за такое испытание.
Предполагалось, что Пенни ушла вместе с ними. Он надеялся, что это ей
удалось, но наверняка не знал.
-- Итак, мальчики, -- сказал он громко. -- Минометчики ушли влево,
пулеметчики правее и вперед. "Базуки" -- прямо вперед. Удачи всем.
Сам он пошел вперед с двумя командами стрелков из "базуки". Им
понадобится вся огневая поддержка, которая только возможна, а винтовка М-1
за его спиной имела дальность больше, чем автомат "томпсон".
Позади них пикеты ящеров открыли стрельбу. Солдаты, которые прикрывали
минометчиков, вступили в перестрелку с ящерами. Затем застрочил еще один
пулемет ящеров, чуть ли не в лицо Ауэрбаху. Он не замечал вражеского
бронетранспортера, пока едва не попал под колеса: двигатели у ящеров были
почти бесшумными в отличие от построенных людьми. Ране распластался в грязи,
вокруг поднимались фонтанчики пыли и камешков.
Но пулемет выдал местоположение машины, на которой был установлен. В
нее выстрелила "базука". Ракета вылетела из трубы с львиным ревом. За
мчавшейся к бронированной машине ракетой тянулся хвост желтого пламени.
-- Немедленно убирайтесь к черту! -- закричал Ауэрбах этой состоящей из
двух человек команде.
Если они промахнулись, то враг уже обнаружил их по трассе полета
ракеты.
Они не промахнулись. Фронтальная броня танка ящеров и не дрогнула бы
под взрывчатой головкой снаряда "базуки", но бронетранспортер -- другое
дело. Из подбитой машины вырвалось пламя. Солдаты открыли огонь из
стрелкового оружия по ящерам, едва те показались в аварийных люках. Через
мгновение в ночную какофонию влился дробный стук пулемета.
-- Продолжать движение! Вперед! -- закричал Ауэрбах. -- В Карваль!
Минометчики позади него начали обстрел городка. Ране увидел, что одна
из мин вызвала пожар, осветивший местность. Что ж, пламя поможет уравнять
шансы.
Он задумал желание -- точь-в-точь как на Рождество. Дощатые дома
Карваля один за другим охватывало желтое пламя. По тому, как они горели,
было ясно, что пожар разгорелся надолго. Пламя перекидывалось с одного
здания на другое вдоль миниатюрной главной улицы. В зловещем маслянистом
свете метались силуэты ящеров, казавшиеся демонами в аду.
С расстояния более мили от города по целям, освещенным пожаром, начал
бить крупнокалиберный пулемет. Нельзя рассчитывать попасть с такого
расстояния одной пулей в одну цель, но если вы посылаете множество пуль во
множество целей -- некоторые попадания гарантированы. Когда же бронебойная
пуля крупного калибра попадает в цель из плоти и крови, эта цель (приятное и
безобидное слово для существа, которое думает и страдает, как и вы) падает и
остается лежать.
Ауэрбах заулюлюкал, как краснокожий индеец, увидев следующий
бронетранспортер ящеров. Теперь обе "базуки" начали беспорядочно бить
ракетами по Карвалю. Возникли новые пожары.
-- Операция закончена! -- закричал он, хотя его никто не мог услышать
-- даже он сам себя. Ящеры должны были подумать, что на них напала бригада
броневиков, а не потрепанный кавалерийский отряд.
Треск стрельбы скрывал шум приближающихся вертолетов, пока не стало
слишком поздно. Ауэрбах узнал о них, когда они начали бить ракетами по
"базукам". Картина снова напомнила Четвертое июля, только на этот раз
фейерверки двигались неправильно -- с воздуха на землю. Терзаемая земля
извергалась миниатюрными вулканами.
Взрыв поднял Ауэрбаха, затем швырнул вниз. Что-то мокрое потекло ему в
рот -- кровь, определил он по вкусу. Из носа. Интересно, не течет ли кровь
из ушей? Будь он поближе к месту взрыва -- или если бы он в этот момент
вдыхал воздух, а не выдыхал, -- то его легкие могли бы разорваться на куски.
Шатаясь, он поднялся на ноги и потряс головой, как нокаутированный
боксер, пытающийся заставить работать свой мозг. "Базуки" умолкли.
Крупнокалиберный пулемет переключился на вертолеты. Ему хотелось, чтобы
пулеметная очередь сбила хоть один вертолет. Но вертолеты тоже умели
стрелять. Он увидел, как ниточка трассирующих пуль протянулась к позиции
пулемета. Пулемет замолчал.
-- Отступаем! -- закричал Ауэрбах всем, кто мог его слышать.
Он посмотрел вокруг в поисках радиста. Тот был неподалеку -- мертвый, с
рацией на спине, превращенной в крошево. Что ж, всякий, у кою не хватит
разума отступить, если он потерпел поражение, не заслуживает жизни.
Где же Энди Осборн? Этот местный мог бы, вероятно, проводить его
обратно к оврагу -- хотя, если вертолеты начнут бить сверху, когда он
окажется на дне, овраг станет смертельной ловушкой, а не дорогой в
безопасность. Ящеры все еще продолжали стрелять. Так что теперь ни одной
дороги в безопасность не было вообще.
Силуэт в ночной тьме. Ране поднял оружие -- и понял, что это человек.
Он махнул в сторону северо-запада, показывая, что пора возвращаться домой.
Солдат сказал:
-- Да, сэр, мы уходим отсюда.
Словно издалека он узнал голос Рэйчел Хайнс.
Ориентируясь по звездам, они шли примерно в нужном направлении, не
зная, смогут ли найти лошадей, оставшихся под присмотром коноводов.
Возможно, это уже было бессмысленно: вертолеты превратят животных в собачий
корм, если доберутся туда первыми.
Внезапно позади снова заработал крупнокалиберный пулемет. Хотя стрелки
наверняка погибли, видимо, пулемет нашли другие бойцы и начали стрельбу.
Вероятно, они сумели зацепить вертолеты, потому что машины ящеров изменили
курс и повернули к пулемету.
Новые стрелки вели себя умнее: как только вертолеты приблизились, они
прекратили огонь. "Нет смысла объявлять: "подстрели меня прямо здесь!"", --
подумал Ауэрбах, спотыкаясь на ходу в темноте.
Вертолеты ящеров прочесали местность вокруг пулемета, затем начали
уходить. Сразу после этого солдаты снова открыли огонь.
Они вернулись для следующего захода. И снова, когда они сделали паузу,
пулеметчики на земле доказали, что они еще живы. Один из вертолетов казался
поврежденным. Ауэрбах надеялся, что бронебойные пули доконают его. Но машина
осталась в воздухе. После нового обстрела вертолетами пулемет больше не
стрелял.
-- Сукин сын! -- с отвращением сказала Рэйчел Хайнс. Она ругалась как
солдат, не замечая, что делает это. Затем она сказала совершенно другим
тоном: -- Сукин сын.
Два вертолета-охотника мчались в их сторону.
Он хотел спрятаться, но где можно спрятаться от летящей смерти, которая
видит в ночи? "Нигде", -- подумал он и приложил приклад М-1 к плечу. Пусть у
него нет никаких шансов, но что он сможет сделать -- он сделает. "Если
собираешься уйти навсегда, уходи с музыкой".
Пулеметы обоих вертолетов заработали. На мгновение он подумал, что они
прекрасны. Затем почувствовал мощный удар. И сразу его ноги не захотели
больше держать его. Он начал падать, но не мог понять, ударился он о землю
или нет.
* * *
Охранник открыл дверь в тесную камеру Уссмака.
-- Вы -- на выход, -- сказал он по-русски, который Уссмаку пришлось
учить.
-- Будет исполнено, -- сказал Уссмак и вышел.
Он всегда радовался, покидая камеру, которая поражала его плохим
устройством. Если бы он был тосевитом, то не смог бы встать во весь рост или
лечь, вытянувшись. Поскольку тосевиты выделяли и жидкие, и твердые отходы,
солома в камере вскоре стала бы у Большого Урода вонючей, разлагающейся
массой. Уссмак совершал туалет в уголке и не испытывал особых неудобств
из-за отсутствия смывающего устройства.
У охранника в одной руке был автомат, в другой -- фонарь. Фонарь светил
слабо и издавал неприятный запах, напоминавший Уссмаку о приготовлении пищи:
не используется ли в нем какой-то продукт животного или растительного
происхождения в качестве топлива вместо керосина, на котором двигаются
тосевитские танки и летают самолеты?
Он знал, что лучше не задавать таких вопросов. Результатом были только
большие неприятности, а он их и так имел вполне достаточно. Когда охранник
вел его в камеру для допросов, Уссмак мысленно обрушивал проклятья на пустую
голову Страхи. "Пусть его дух живет в послежизни без Императоров", --
подумал Уссмак. По радио бывший командир корабля с такой уверенностью вешал,
что Большие Уроды ведут себя цивилизованно по отношению к самцам, которых
они взяли в плен. Что ж, могучий когда-то командир корабля Страха не знал о
здешней жизни. К своему сожалению, Уссмак узнал все сам.
В камере для допросов его, как обычно, ждали полковник Лидов и Газзим.
Уссмак послал бесцветному переводчику взгляд, полный одновременно симпатии и
ненависти. Если бы не Газзим, то Большие Уроды не смогли бы выведать у него
так много и так быстро. Он сдал базу в Сибири с намерением рассказать самцам
СССР все, чем он мог помочь им: совершив измену, он собирался и дальше идти
по этой скользкой дорожке.
Но Лидов и другие самцы из НКВД исходили из предпосылки, что он враг,
склонный к утаиванию секретов, а не союзник, стремящийся раскрыть их. Чем
дольше они относились к нему с этой позиции, тем ближе они были к тому,
чтобы превратить свою ошибку в истину.
Может быть, Лидов начинал понимать ошибочность такого подхода.
Заговорив без помощи переводчика Газзима (это он изредка делал), он сказал:
-- Я приветствую вас, Уссмак. Здесь на столе есть нечто, от чего ваш
день пройдет, вероятно, более приятно. Он показал на блюдо, полное
коричневатого порошка.
-- Это имбирь, высокий господин? -- спросил Уссмак.
Он знал, что это так и есть: его хеморецепторы чувствовали наркотик
через всю комнату. Русские не давали ему имбиря -- он не знал, как давно.
Казалось, что целую вечность. Он хотел спросить: "Можно попробовать?" Но чем
ближе он знакомился с самцами из НКВД, тем реже высказывал то, что приходило
ему в голову.
Но сегодня Лидов казался общительным.
-- Да, конечно, это имбирь, -- ответил он. -- Пробуйте, сколько хотите.
Уссмак подумал, не пытаются ли Большие Уроды отравить его чем-то. Нет,
глупости. Если бы Лидов хотел дать ему другой наркотик, он бы так и сделал.
Уссмак подошел к столу, взял немного порошка в ладонь, поднес ко рту и
попробовал.
Это был не просто имбирь, он был обработан лимоном, что особенно
ценилось в Расе. Язык Уссмака высовывался снова и снова, пока последняя
крошка бесценного порошка не исчезла с ладони. Пряный вкус наполнил не
только рот, но и мозг. После столь долгого воздержания травка на него
подействовала очень сильно. Сердце колотилось, воздух бурными порывами
наполнял легкие и стремительно покидал их. Он чувствовал себя веселым,
проворным, сильным и ликующим, превосходящим тысячу таких, как Борис Лидов.
Уголок сознания предупреждал, что это ощущение -- обман, иллюзия. Он
видел самцов, которые не могли это понять и поэтому погибли, находясь в
полной уверенности, что их танки могут делать все, а их противники --
Большие Уроды -- не способны воспрепятствовать им ни в малейшей мере. Тот.
кто не убил себя в результате такой глупости, научился наслаждаться имбирем,
не становясь его рабом.
Но воспоминание пришло тяжело, в середине веселья, вызванного
наркотиком. Небольшой рот Бориса Лидова растянулся, изображая символ,
который тосевиты используют, чтобы показать дружеские чувства.
-- Продолжайте, -- сказал он. -- Пробуйте еще.
Уссмака не требовалось приглашать дважды. Самое худшее в имбире было
то, что, когда его действие заканчивалось, наступала черная трясина уныния.
Спасение было одно -- попробовать еще раз. Обычно одной дозой не
ограничивались. Но на этом блюде имбиря было достаточно, чтобы самец был
счастлив довольно долгое время. Уссмак радостно прильнул снова.
Газзим повернул один глаз в сторону с порошкообразным имбирем, а второй
-- к Борису Лидову. Каждая линия его тощего тела выдавала жуткую жажду, но
он не делал ни малейшего движения к блюду. Уссмак видел страстное желание
самца. Газзим явно опустился до самых глубин. Если он боялся попытаться
попробовать, значит, Советы делали с ним поистине страшные вещи.
Уссмак был привычен к подавляющему эффекту, который имбирь оказывал на
него. Но он не пробовал его уже долгое время, к тому же только что получил
двойную дозу сильного снадобья. Наркотик оказался сильнее, чем его
способность сдерживать себя.
-- Давайте дадим этому бедному дохлому самцу что-нибудь, чтобы он
ненадолго почувствовал себя счастливым, -- сказал он и сунул блюдо с имбирем
прямо под нос Газзима.
-- Нет! -- сердито закричат по-русски Борис Лидов.
-- Я не смею, -- прошептал Газзим, но язык оказался проворнее. Он
засновал между блюдом и зубами, снова, снова и снова, как бы стараясь
наверстать потерянное время.
-- Нет, говорю вам, -- снова сказал Лидов на этот раз на языке Расы,
добавив покашливание, чтобы подчеркнуть значение своих слов.
Ни Уссмак, ни Газзим не обратили на него ни малейшего внимания, и тогда
он шагнул вперед и выбил блюдо из рук Уссмака. Оно разбилось об пол, и
коричневатое облако имбиря повисло в воздухе.
Газзим набросился на самца из НКВД, вцепившись в него зубами и когтями.
Лидов издал булькающий крик и рванулся прочь, истекая кровью. Он поднял одну
руку, чтобы защитить лицо, другой схватился за пистолет, который висел у
него на поясе.
Уссмак прыгнул на него, навалившись на правую руку. Большой Урод был
ужасно силен, но мягкая без чешуи кожа делала его уязвимым: Уссмак
почувствовал, что его когти глубоко погрузились в плоть тосевита. Газзим
словно ополоумел. Его челюсти терзали горло Лидова, словно он хотел съесть
тосевита. Запах рассыпанного имбиря соединился с едким ароматом тосевитской
крови. Это сочетание довело Уссмака почти до животного состояния.
Крики Лидова становились слабее, его рука выпустила рукоятку пистолета.
Уссмак вытащил оружие из кобуры. Оно казалось тяжелым и неудобным.
Дверь в камеру допросов открылась. Уссмак ждал, что это произойдет
гораздо раньше, но Большие Уроды слишком примитивны, чтобы иметь
телевизионные камеры для надзора над такими местами. Газзим вскрикнул и
бросился на охранника, который остановился в дверях. Кровь текла с его
когтей и морды. Даже вооруженный, Уссмак не захотел бы сражаться с ним, даже
подбодренный наркотиком и не совсем в своем уме, как в этот момент.
-- Боже мой! -- закричал тосевит. Но он очень быстро сориентировался:
вскинув автомат, он выпустил короткую очередь, прежде чем Газзим смог
наброситься на него. Самец Расы, извиваясь, ударился об пол. Он был
наверняка мертв, но его тело пока не понимало этого.
Уссмак попытался выстрелить в охранника. Несмотря на то что не смог бы
убежать из этой тюрьмы, он все же был солдатом и имел в руках оружие.
Единственная проблема состояла в том, что он не мог заставить оружие
стрелять. Оно имело какой-то предохранитель, и он не понимал, как его снять.
Пока он неловко разбирался с оружием, ствол автомата Большого Урода
повернулся к нему. Пистолет охранника не испугал. Уссмак с отвращением
бросил тосевитское оружие на пол. Он смутно подумал, что охранник тут же
убьет его.
Но, к его удивлению, этого не произошло. Звуки выстрелов в тюрьме
привлекли других охранников. Один из них немного говорил на языке Расы.
-- Руки вверх! -- крикнул он.
Уссмак повиновался.
-- Назад! -- сказал тосевит.
Уссмак послушно отступил от Бориса Лидова, лежавшего в луже собственной
крови. "Она выглядит точно так, как у бедного Газзима", -- подумал Уссмак.
Двое охранников поспешили к лежащему советскому самцу. Они что-то
говорили на своем гортанном языке. Один из них посмотрел в сторону Уссмака.
Как и любой другой Большой Урод, он должен был повернуться к нему всем своим
плоским лицом.
-- Мертв, -- сказал он на языке Расы.
-- Что хорошего было бы в том, если бы я сказал -- сожалею, в
особенности если на самом деле я не сожалею? -- ответил Уссмак.
Похоже, никто из охранников ею не понял, что было, вероятно, тоже
хорошо. Они снова заговорили между собой.
Уссмак ждал, что кто-то из них поднимет свое оружие и начнет стрелять.
Этого не произошло. Он вспомнил, что сообщала разведка о самцах СССР:
они выполняют приказы почти так же тщательно, как и Раса. Пожалуй, это
казалось верным. Без приказа никто из них не хотел взять на себя
ответственность за уничтожение пленника.
Наконец тот самец, который привел его в комнату допросов, сделал
движение стволом своего оружия. Уссмак понял этот знак: он означал "вперед".
Он пошел. Охранник привел его обратно в камеру, как после обычного допроса.
Дверь за ним захлопнулась. Щелкнул замок.
Его рот разинулся от изумления. "Если бы я знал, что только это и
произойдет, если я убью Лидова, я бы убил его уже давно". Но он не думал,
что... о, нет. Имбирная эйфория покидала его, начиналась депрессия, и он
задумался: что же русские будут делать с ним теперь? Он обдумал все виды
неприятных возможностей, но был неприятно уверен, что действительность
окажется еще хуже.
* * *
Лю Хань шла мимо Фа-Хуа-Су, храма Славы Будды, затем на запад от него,
мимо развалин пекинского трамвайного парка Она вздохнула -- жаль, что
трампарк разрушили. Пекин распростерся на большой площади: храм и трампарк
находились в восточной части города, далеко от ее дома.
Неподалеку от трампарка находилась улица Фарфорового Рта, Цз'у Ч'и
К'оу, которая славилась своей знаменитой глиной. Она пошла по улице на
север, затем повернула в один и 5 хутунов -- бесчисленных переулков и аллей,
которые ответвлялись от главной артерии. Она запоминала свой путь сквозь
этот лабиринт: ей пришлось вернуться и пойти снова, прежде чем она нашла
Сиао Ши, Малый рынок. У этого рынка было и другое название, которое редко
произносили, но всегда помнили -- "Воровской рынок". Лю Хань знала: на рынке
продавалось не только ворованное. Кое-что из этих товаров на самом деле
добыто легально, но продается здесь, чтобы создать иллюзию выгоды у
покупателя.
-- Медные тарелки! Капуста! Палочки для еды! Фишки для маджонга! Лапша!
Лекарства, которые излечат вас от ушибов! Поросята и свежая свинина!
Гороховые и бобовые стручки!
Шум стоял оглушительный. Этот рынок мог считаться небольшим только по
пекинским меркам В большинстве городов он был бы центральным: Лю Хань он
казался таким же большим, как лагерь, в который маленькие чешуйчатые дьяволы
поместили ее после того, как увезли с самолета, который никогда не садится
на землю.
В бурлящей толпе она была одной из многих. Анонимность ее вполне
устраивала. Внимание, которое она привлекала к себе в эти дни, было совсем
не тем, какого бы она хотела.
Мужчина, продававший изящные фарфоровые чашки, которые определенно
выглядели ворованными, показал на нее пальцем и начал двигать бедрами вперед
и назад. Она подошла к нему с широкой улыбкой на лице. Он выглядел
одновременно ожидающим и опасающимся
Она заговорила голосом высоким и сладким, как девушка легкого
поведения. Все еще улыбаясь, она сказала:
-- Я надеюсь, он отгниет и отвалится. Я надеюсь, что он уйдет обратно в
твое тело, так что ты не сможешь найти его, если даже привяжешь нитку к его
маленькому кончику. Если ты найдешь его, я надеюсь, он у тебя никогда не
поднимется.
Он смотрел на нее с открытым ртом, затем потянулся под стол, на котором
стоял его товар. К тому моменту, когда он вытащил нож, Лю Хань уже целилась
из японского пистолета ему в живот.
-- Ты не хочешь сделать это, -- сказала она. -- Ты даже не хочешь
думать о том, чтобы попробовать
Мужчина глупо охнул, вытаращив глаза и разинув рот, словно золотая
рыбка в декоративном пруду недалеко отсюда Лю Хань повернулась к нему спиной
и пошла дальше. Как только толпа разделила их, он принялся выкрикивать
оскорбления в ее адрес.
Она испытывала соблазн вернуться и всадить пулю ему в живот, но если
убивать каждого человека в Пекине, который дразнил ее, потребуется множество
патронов, а ее крестьянская натура противилась напрасной трате.
Через минуту ее узнал еще один торговец. Он проводил ее глазами, но
ничего не сказал. По понятиям, привитым ей с детства, это была сдержанная
реакция. Она отплатила ему тем, что не стала обращать на него внимания.
"Раньше я беспокоилась только из-за Хсиа Шу-Тао, -- с горечью подумала
она. -- Благодаря маленьким чешуйчатым дьяволам и их подлому кино
развратников теперь сотни".
Великое множество мужчин видели, как она отдается Бобби Фьоре и другим
мужчинам на борту самолета, который никогда не садится на землю. Увидев это,
слишком многие решили, что она жаждет отдаться и им. Маленькие дьяволы
преуспели в создании ей в Пекине дурной славы.
Кто-то похлопал ее по спине. Она лягнула его башмаком и попала в
голень. Он грязно выругался. Ей было безразлично. Какой бы ни была ее слава
-- она не могла исчезнуть бесследно. Чешуйчатые дьяволы сделали все, чтобы
погубить ее как инструмент Народно-освободительной армии. Если они добьются
успеха, она никогда не увидит своей дочери.
У нее не было намерения позволить им добиться успеха
Они сделали ее объектом насмешек, как и запланировали. Но одновременно
они сделали ее объектом симпатии. Про некоторые из фильмов, которые
маленькие дьяволы сняли про нее, женщины могли уверенно сказать, что ее
насилуют. И Народно-освободительная армия развернула активную
пропагандистскую кампанию, чтобы информировать жителей Пекина, в равной
степени мужчин и женщин, об обстоятельствах, в которых она оказалась. Даже
некоторые мужчины прониклись к ней симпатией.
Раз или два она слышала выступления христианских миссионеров --
иностранных дьяволов, которые на плохом китайском языке рассказывали о
мучениках. В то время она не понимала: зачем страдать? А теперь она сама
стала жертвой.
Она подошла к небольшому прилавку, за которым стояла женщина,
продававшая карпов, похожих на уродливых золотых рыбок. Она взяла одного за
хвост.
-- Это свежая рыба? -- с сомнением спросила она.
-- Поймана сегодня утром, -- ответила женщина.
-- Почему вы думаете, что я поверю? -- Лю Хань понюхала карпа и
недовольным голосом сказала: -- Пожалуй, да. Сколько вы хотите за нее?
Они стали торговаться, но никак не могли сговориться Люди поглядывали
на них, затем снова возвращались к своим делам, убедившись, что ничего
интересного не происходит. Понизив голос, торговка сказала:
-- У меня есть сведения, которые вы ищете, товарищ.
-- Я надеялась, что у вас они есть, -- с нетерпением ответила Лю Хань
-- Говорите.
Женщина нервно огляделась.
-- То, что вы услышите, никто не должен знать, -- предупредила она. --
Маленькие чешуйчатые дьяволы не знают, что мой племянник понимает их
уродливый язык, иначе они не стали бы говорить при нем так свободно.
-- Да, да, -- сказала Лю Хань, сделав нетерпеливый жест -- Мы направили
многих наших людей к этим ящерам. Мы не выдаем наших источников. Иногда мы
даже воздерживаемся от каких-то действий, чтобы маленькие чешуйчатые дьяволы
не смогли определить, откуда мы получили информацию. Так что можете говорить
и не беспокоиться. И если вы думаете, что я буду платить вашу вонючую цену
за вашу вонючую рыбу, то вы дура! -- Последние слова она сказала громко,
потому что какой-то мужчина проходил слишком близко и мог подслушать их
разговор.
-- Чего ж вы тогда не уходите? -- завопила торговка карпами. Через
мгновение она снова понизила голос: -- Он говорит, что вскоре они сообщат
Народно-освободительной армии о желании продолжить переговоры по всем
вопросам. Помните, он всего лишь маленький человек, он не может объяснить
вам, что означает "все вопросы". Хотя вы, наверное, и сами это знаете, не
так ли?
-- Э? Да, наверное, -- ответила Лю Хань.
Если чешуйчатые дьяволы имели в виду то, что сказали, значит, они могут
вернуться к переговорам о возвращении ей ее дочери. Дочери теперь, по
китайским понятиям, было уже около двух лет: часть этого времени она провела
в чреве Лю Хань, а вторую -- за время после рождения. Как она теперь
выглядит? Как с ней обращался Томалсс? Возможно, как-нибудь через некоторое
время она все узнает.
-- Ладно, я беру, даже если ты воровка.
И словно рассердившись, Лю Хань швырнула монеты и пошла прочь.
Изображая гнев, она внутренне улыбалась. Торговка карпами была ее личным
источником новостей: она не думала, что женщина знала еще кого-то из
Народно-освободительной армии. Лю Хань будет поставлено в заслугу сообщение
центральному комитету о предстоящих переговорах.
Если повезет, то этого, вероятно, будет достаточно, чтобы обеспечить ей
место в комитете. Теперь Нье Хо-Т'инг ее поддержит: она была уверена в этом.
И когда она станет членом комитета, то будет поддерживать его -- в течение
какого-то времени. Но в один из этих дней у нее появится причина не
согласиться. После этого ей придется рассчитывать только на себя.
Она задумалась, как Нье примет это. Смогут ли они оставаться
любовниками после политической или идеологической ссоры? Она не знала. В
одном она была уверена: теперь она нуждалась в любовнике меньше, чем прежде.
Она встала на ноги и была способна противостоять миру, не нуждаясь в опоре
на мужчину. До нашествия маленьких чешуйчатых дьяволов она такого не могла
себе даже вообразить.
Она покачала головой. Странно, что все страдания, через которые провели
ее маленькие чешуйчатые дьяволы, не только сделали ее независимой, но и
привели к мысли, что она обязана быть независимой. Не будь их, она стала бы
одной из бесчисленных крестьянских вдов в растерзанном войной Китае, женщин,
которые стараются уберечься от голодной смерти и потому становятся
проститутками или сожительницами богачей.
Она прошла мимо человека, продававшего конические соломенные шляпы,
которые носили и мужчины, и женщины, чтобы защититься от солнца. Дома у нее
была такая. Когда маленькие чешуйчатые дьяволы только начали показывать свои
отвратительные фильмы о ней, она часто надевала ее. Когда она опускала ее на
лицо, то становилась почти неузнаваемой.
Но теперь она шла по улицам и хутунам Пекина с непокрытой головой и не
испытывая стыда. Когда она покидала Малый рынок, какой-то мужчина злобно
посмотрел на нее.
-- Берегись революционного суда, -- прошипела она.
Парень смущенно шарахнулся назад. Лю Хань пошла дальше.
Одну из своих машин, воспроизводящих изображение, маленькие чешуйчатые
дьяволы установили на углу. В воздухе огромная Лю Хань скакала верхом на
Бобби Фьоре, их кожа блестела от пота. Главное, что поразило ее, когда она
смотрела на себя чуть более молодую, было то, какой сытой и спокойной она
казалась. Она пожала плечами. Тогда она еще не принадлежала революции.
Один из зрителей посмотрел на нее. Он указал пальцем. Лю Хань нацелила
на него палец, словно он был дулом пистолета. Мужчина решил, что надо
заняться чем-то другим -- причем как можно скорее.
Лю Хань пошла дальше. Маленькие дьяволы по-прежнему изо всех сил
старались дискредитировать ее, но одновременно собирались вернуться к столу
переговоров и обсудить все вопросы. Для нее, возможно, это означало победу.
Год назад маленькие чешуйчатые дьяволы не испытывали желания вести
переговоры. Еще год назад они вообще не вели никаких переговоров, а только
сметали все на своем пути. Теперь жизнь для них стала труднее, и они
начинали подозревать, что она может стать еще тяжелее. Она улыбнулась. Она
надеялась, что так и будет.
* * *
Новички поступали в лагерь в крайнем замешательстве и страшно
запуганными. Это забавляло Давида Нуссбойма, который, сумев выжить в течение
первых нескольких недель, стал не новичком, а зэком среди зэков. Он
по-прежнему считался политическим заключенным, а не вором, но охранники и
сотрудники НКВД перестали цепляться к нему, как ко многим коммунистам,
попавшим в сети гулага.
-- Вы по-прежнему стремитесь помогать партии и советскому государству,
так ведь? Тогда вы, конечно, будете лгать, будете шпионить, будете делать
все, что мы вам прикажем.
Это все говорилось другими, более мягкими выражениями, но смысл не
менялся.
Для польского еврея партия и советское государство не намного
привлекательнее, чем гитлеровский рейх. Нуссбойм говорил со своими
товарищами по несчастью на ломаном русском и на идиш, а охранникам отвечал
по-польски, причем быстрыми фразами на сленге, чтобы они не могли понять
его.
-- Это хорошо, -- восхищенно сказал Антон Михайлов, когда охранник
только почесал лоб, услышав ответ Нуссбойма. -- Делай так и дальше, и через
некоторое время они оставят тебя в покое, когда поймут, что нет смысла к
тебе лезть, раз ты такой непонятливый.
-- Смысла? -- Нуссбойм закатил глаза к небу. -- Если бы вы, безумные
русские, хотели искать смысл, то никогда бы не начали с этих лагерей.
-- Ты думаешь? -- спросил другой зэк. -- Попробуй построить социализм
без угля и леса, который дают лагеря, без железных дорог, которые строят
зэки, и без каналов, которые мы роем. Без лагерей вся проклятая страна
просто развалилась бы.
Он говорил так, словно испытывал какую-то извращенную гордость за то,
что был частью такого жизненно важного и социально необходимого предприятия.
-- Может, и развалилась бы, -- согласился Нуссбойм. -- Эти ублюдки из
НКВД отделывают зэков, как нацисты евреев. Я повидал и тех и других, и
выбирать из них трудно. -- Он на мгновение задумался. -- Нет, беру свои
слова обратно. Здесь все-таки лишь трудовые лагеря. У вас нет конвейера
уничтожения, который нацисты запустили перед нашествием ящеров.
-- Зачем убивать человека, когда его можно до смерти замучить работой?
-- спросил Михайлов. -- Это... как бы получше сказать... неэффективно, вот
что.
-- Как? То есть то, что мы делаем здесь, ты считаешь эффективным?! --
воскликнул Нуссбойм. -- Можно ведь обучить шимпанзе делать такую работу.
Русский вор покачал головой.
-- Шимпанзе будут умирать, Нуссбойм. Их нельзя заставить выдержать
лагерь. Сердца у них разорвутся, и они погибнут. Их считают глупыми
животными, но они достаточно сообразительны, чтобы понять, когда дело
безнадежно. И это больше, чем можно сказать о людях.
-- Я о другом, -- сказал Нуссбойм. -- Посмотри, что они заставляют нас
делать сейчас, на бараки, которые мы строим.
-- Напрасно ты жалуешься на эту работу, -- сказал Михайлов. --
Рудзутаку чертовски повезло, что он получил ее для нашей бригады: это
намного легче, чем рубить деревья и снегу по пояс. И после такой работы
возвращаешься на пары не совершенно мертвым, а только наполовину.
-- Я и не спорю об этом, -- с нетерпением сказал Нуссбойм: иногда он
чувствовал себя единственным одноглазым зрячим в стране слепых. -- Но ты
хоть задумывался, что мы строим?
Михайлов посмотрел кругом и пожал плечами.
-- Бараки. Строим по плану. Охранники не ругаются. Раз их это
устраивает, то до остального мне дела нет. Если меня заставят делать бочки
для селедки, то жаловаться не буду. Буду делать бочки.
Нуссбойм от раздражения швырнул свой молоток.
-- Ты будешь делать бочки для сельди, в которых ее не будет?
-- Поосторожнее, -- предупредил его партнер. -- Сломаешь инструмент --
охранники тебя отметелят, и неважно, могут они с тобой говорить или нет. Они
считают, что пинок в ребра может понять любой, и в этом они почти правы.
Буду ли я делать бочки, зная, что в них не будут держать селедку? Буду, если
они мне прикажут. Ты думаешь, я из тех, кто скажет им, что они ошибаются? Я
что, сумасшедший?
Такое поведение типа "нагни-голову-и-делай-что-гово-рят" Нуссбойм видел
и в лодзинском гетто. В гулагах оно не просто существовало, оно
доминировало. Нуссбойму хотелось кричать: "А король-то голый!"
Вместо этого он подобрал молоток и стал забивать гвозди в остов нар,
которые делали они с Михайловым. Он колотил по гвоздям изо всех сил,
стараясь улучшить упавшее настроение.
Однако это не помогло. Протянув руку в ведро за очередным гвоздем, он
спросил:
-- Ты мог бы спать на нарах, которые мы делаем?
-- Я не люблю спать на тех нарах, которые у нас, -- ответил Михайлов.
-- Дай мне бабу, которая согласна, и мне будет все равно, где ты меня
положишь. Я здорово управлюсь.
И он забил гвоздь.
-- Бабу? -- застеснялся Нуссбойм. -- Об этом я не подумал.
Товарищ зэк с жалостью посмотрел на него.
-- Тогда ты просто дурак. Они носятся с этими бараками, как с писаной
торбой. А сколько колючей проволоки накрутили между этими бараками и нашими
-- хватит на заграждение против нацистов, чтобы не смогли границу перейти. Я
слышал, скоро должен прийти эшелон с "особыми пленниками". Ну, как,
приятель, изобразил я тебе картину?
-- Я не слышал о поступлении "особых пленников", -- сказал Нуссбойм. Он
знал, что многое из лагерной болтовни на блатном языке проходит мимо ушей
из-за не очень хорошего владения русским.
-- Да, они будут, -- сказал Михайлов. -- Нам повезет, если мы хотя бы
глазком глянем на них. Но охранники, конечно, будут трахаться, пока не
попадают, вонючие сукины сыны. Ну, еще повара, клерки -- все блатные. А ты,
обычный зэк, забудь и мечтать.
Нуссбойм, с тех пор как попал в лапы Советов, о женщинах и не помышлял.
Нет, неверно: он просто думал, что не увидит ни одной долго, очень долго, а
значит, они превратились в абстракцию. Теперь...
Теперь он сказал:
-- Даже для женщин эти нары слишком маты и очень близко друг от друга.
-- Значит, охранники будут пристраиваться сбоку, а не сверху, -- сказал
Михайлов. -- Им безразлично, что будут думать эти шлюхи, а ты просто глупый
жид, ты понял?
-- Я знаю, -- ответил Нуссбойм: по тону товарища можно было принять его
слова чуть ли не за комплимент. -- Ладно, сделаем все так, как нам сказано.
И если здесь будут женщины, нам не стоит говорить, что эту дрянь строили мы.
-- Это другой разговор, -- согласился Михайлов.
Бригада выполнила дневную норму. Это означало, что их накормят -- без
изысков, но почти достаточно для того, чтобы душа не рассталась с телом.
После супа и хлеба желудок некоторое время не беспокоил Нуссбойма. Вскоре в
животе снова взвоют тревожные сирены, но еще в Лодзи он научился лелеять эти
краткие моменты сытости.
Многие зэки испытывали то же чувство. Они сидели на парах, ожидая
приказа погасить лампы. В темноте они погружались в глубокий мучительный
сон. А пока они болтали или читали пропагандистские листовки, которые
временами раздавали лагерные уборщики (после чего возникали новые анекдоты,
большей частью сардонические или непристойные). Многие чинили штаны и
фуфайки, низко наклонясь над работой, чтобы что-то разглядеть в тусклом
свете.
Где-то вдали раздался гудок паровоза, низкий и печальный. Нуссбойм его
едва расслышал. Через несколько минут гудок повторился, на этот раз заметно
ближе.
Антон Михайлов вскочил на ноги. Все с удивлением смотрели на
непривычный всплеск энергии.
-- Особые пленники! -- воскликнул зэк.
Мгновенно весь барак пришел в волнение. Многие заключенные не видели
женщин годами, не говоря уже о физической близости. Надежд на нее не было,
зато им могли напомнить, что они мужчины.
Выходить наружу в промежутке от ужина до отбоя не запрещалось, хотя
из-за холодной погоды на улицу мало кто стремился. Теперь же десятки зэков
вышли наружу: Нуссбойм был среди них. Другие бараки тоже опустели. Охранники
кричали, пытаясь навести среди заключенных хоть какой-то порядок.
Но у них не очень-то получалось. Словно притянутые магнитом железные
опилки, люди распределились вдоль колючей проволоки, отделяющей их бараки от
новых. Бараки были готовы лишь наполовину, Нуссбойм знал об этом лучше
других, получалось, что это типичный пример советской неэффективности.
-- Смотрите! -- сказал кто-то с уважительным вздохом. -- Поставили
навес, чтобы бедняжки не обгорели на солнце.
-- И поэтому привезли их ночью, -- добавил кто-то еще. -- Ничего себе!
Что ж это такое творится?
Спустя несколько минут поезд остановился, проскрипев колесами по
рельсам. Охранники с автоматами и фонарями поспешили к столыпинским вагонам.
Когда двери открылись, то из вагонов первыми вышли охранники.
-- Ну их к черту! -- сказал Михайлов. -- Не хотим видеть эти уродливые
хари. Надоели уже. Где бабы?
Охранники орали и вопили, торопя пленников, чтобы те поскорее выходили,
и это вызвало у зэков смех, охвативший всю толпу.
-- Будьте осторожнее, дорогие, а то они пошлют вас на фронт, там будет
хуже, -- воскликнул кто-то пронзительным фальцетом.
В дверях одного из вагонов показалась голова. Дыхание толпы заключенных
вырвалось единым выдохом ожидания. Затем из легких вырвался остаток воздуха
-- теперь уже от удивления. Из вагона выпрыгнул ящер. Затем еще один, и еще,
и еще.
Давид Нуссбойм смотрел на них с не меньшей жадностью, чем на женщин. Он
говорил на их языке. Интересно, говорит ли на нем кто-нибудь еще во всем
лагере?
Остолоп Дэниелс смотрел на лодку без всякого энтузиазма.
-- Проклятье! -- с чувством сказал он. -- Когда нам сказали, что не
отправят нас из Элджина обратно в Чикаго, я прикинул, что самое плохое уже
позади. Показывает, как чертовски много я знаю, не так ли?
-- Вы правы, лейтенант, -- сказал сержант Генри Малдун. -- Когда они
говорят об этой операции, похоже на телеграмму с выражением глубокого
соболезнования. Я имею в виду, что вот-вот придет такая телеграмма. Я имею в
виду, возможно, придет, если, конечно, еще посылают такие телеграммы.
-- Хватит об этом, джентльмены, -- сказал капитан Стэн Шимански. -- Нам
доверили эту работу, и мы собираемся ее выполнить.
-- Да, сэр, -- ответил Остолоп.
Невысказанный хвостик фразы Шимански мог звучать только так: "...или
умереть, выполняя". Вполне вероятная перспектива -- что неприятно поразило
Остолопа. Понимал ли это Шимански, он не показал. Может быть, он был хорошим
актером -- а это свойство хорошего офицера, точно так же, как и хорошего
хозяина. Или, может быть, Шимански по-настоящему не верил в глубине души,
что его собственное личное "я" перестанет существовать. Стэну Шимански было
всего-навсего тридцать. Рядом с ним Остолоп чувствовал себя чуть ли не
королем Англии.
Сам Остолоп приближался к шестидесяти. Близость собственной гибели он
чувствовал весьма реально. Еще до нашествия ящеров слишком многие его
друзья, с которыми он познакомился в начале столетия и даже раньше, умерли у
него на руках от болезней сердца, от рака или туберкулеза. Добавить к этому
набору пули и осколки снарядов -- и поневоле придет в голову мысль, что он
живет на взятое взаймы время.
-- У нас будет преимущество в неожиданности, -- сказал Шимански.
"Конечно, будет, -- подумал Остолоп. -- Ящеры чертовски удивятся,
просто обалдеют от того, какими глупыми мы можем быть".
Вслух он ничего не сказал, чтобы не накликать беду.
Капитан Шимански вытащил из кармана многократно сложенный лист бумаги.
-- Посмотрим на карту, -- сказал он.
Дэниелс и Малдун подошли поближе. Карта была произведением армейского
корпуса инженеров. Остолоп узнал ее сразу: скопирована из дорожного атласа
Рэнда Мак-Нелли, того самого, которым пользовались водители автобусов, когда
перевозили провинциальные команды из одного городка в другой. Он и сам
пользовался этой картой, когда водителям случалось заблудиться, что
происходило с угнетающей регулярностью.
Шимански показал:
-- Ящеры удерживают территорию вот здесь, на восточном берегу реки
Иллинойс. Гавана -- на восточном берегу, где Ложка втекает в Иллинойс, --
ключ к их позициям вдоль этого участка реки, здесь они устроили лагерь для
военнопленных, сразу за пределами города. Наша цель -- прорваться туда и
освободить кое-кого. Если мы собираемся выиграть эту войну, то должны
разорвать их удушающие объятия на Миссисипи.
-- Сэр, давайте займемся пока нашей маленькой задачкой, -- сказал
Остолоп. -- Если мы справимся с ней, тогда наши начальники смогут подумать о
более масштабных делах.
Герман Малдун энергично кивнул. Через мгновение тот же жест повторил и
Шимански.
-- Разумно, -- сказал он. -- Мне обещали, что проведут чертовски
сильный отвлекающий удар, когда вечером мы отравимся работать. В этой
поддержке будет использовано нечто особое. Хотя мне и не сказали, что
именно.
-- Поддержка с воздуха? -- нетерпеливо спросил Малдун. -- Они не любят
сообщать о ней на тот случай, если кого-нибудь схватят и он проговорится.
-- Я не знаю. А чего не знаю -- того не могу рассказать и нам, --
ответил Шимански. -- Если вы хотите воодушевить ребят, валяйте. Но не
говорите солдатам ничего конкретного, потому что если на деле что-то
обернется не так, как вы расписывали, пострадает их моральный дух. Усвоили?
-- Да, сэр, -- сказал Малдун.
Остолоп молча кивнул.
Если не будет поддержки с воздуха или какого-то другого серьезного
отвлекающего маневра, пострадает не только моральный дух. Он не стал
говорить об этом. Шимански все еще оставался мальчишкой, хотя и не был
глупцом. Он мог разобраться и сам.
-- Вопросы есть? -- спросил Шимански. Остолоп и Малдун промолчали.
Капитан снова сложил карту и сунул в карман. -- Тогда все. Дождемся
наступления ночи и двинемся.
Он встал и отправился давать указания другому отделению.
-- У него это прозвучало так легко... -- сказал Остолоп.
Он смотрел сквозь завесу ивовых ветвей, свисавших до воды. Возможно --
ему хотелось в это верить, -- они не позволили ящерам на другой стороне
Иллинойса разобраться, что здесь появились американцы.
На дальнем берегу реки крякали утки. Здешние болота были национальным
заказником. Остолоп предпочел бы бродить с охотничьим ружьем вместо
имевшегося у него сейчас автомата "томпсон". В свое время здесь находился
наблюдательный пост -- на верхушке стальной башни высотой в сотню футов. Он
обеспечивал егерям прекрасный вид на браконьеров. В эти дни он обеспечивал
бы прекрасный обзор ящерам, но башня была взорвана в одном из боев за
центральный Иллинойс.
Солдаты рассредоточились вдоль реки, чтобы по возможности не выдать
себя, а если уж кого-то заметят, то примут за обычные патрули. Остолоп и
Малдун собрали людей, рассказав им то, что сообщил Шимански. Это не было
свежей новостью, они уже некоторое время готовились к операции. Хотя сказать
им еще раз о том, что предстоит делать, тоже не помешает. Множество -- не
сосчитать -- раз Остолоп видел, как игрок втихаря пытается нарушить правила
и сжульничать. Остолоп уже давно перестал искать лучшее в людях и в их
планах.
Наступили сумерки, затем темнота. Из воды выпрыгивали рыбы и с плеском
падали обратно. Когда-то Остолоп побывал в этих местах, тогда они выловили
из Иллинойса куда больше рыбы, чем из любой другой реки, кроме Колумбии. Эх,
сейчас бы в руки спиннинг или просто палку с ниткой и крючком.
Остолоп посмотрел на часы. Мягко светящиеся цифры и стрелки показали
ему: без четверти десять.
-- Лодки, -- прошептал он. -- И тише, ради бога, или мы станем мертвым
мясом, не успев отплыть.
Точно в десять по его часам он со своим отрядом начал грести вниз по
течению Иллинойса в сторону Гаваны. Весла, казалось, создавали страшный шум,
погружаясь в воду и выходя из нее снова, но ни один пулемет ящеров не начал
бить по дальнему берегу реки. Остолоп вздохнул с облегчением. Он боялся, что
они попадут в ловушку прямо на старте.
В 10.02 артиллерия, минометы и пулеметы открыли огонь по Гаване с
запада и юга.
-- Точно вовремя, -- сказал Остолоп: перекрытый неожиданным хаосом, шум
от движения лодок беспокоил его намного меньше.
Ящеры отреагировали быстро -- огнем артиллерии и стрелковым оружием.
Дэниелс старался определить, перемещают ли они войска из лагеря, который
находился севернее Гаваны, навстречу очевидной шумной угрозе, которую
создали американцы. Он надеялся -- его это устраивало больше, -- что так и
будет.
Горячее желтое свечение вспыхнуло на юго-западе и быстро
распространилось в сторону Гаваны. Остолопу хотелось ликующе завопить, но
здравый смысл продиктовал ему сказать спокойно:
-- Они на самом деле сделали это, парни. Они зажгли Ложку.
-- Сколько галлонов бензина и масла они в нее вылили перед тем, как
чиркнуть спичкой? -- спросил кто-то в лодке.
-- И насколько хватило бы этого топлива для танка или самолета?
-- Не знаю, -- ответил Остолоп. -- Я полагаю, раз они решили
использовать его против врага таким образом, они знали, что делали. И если в
результате ящеры забудут в меня стрелять, то я жаловаться не буду. А теперь,
парни, мы должны грести, как проклятые, и пересечь Иллинойс прежде, чем сюда
втечет огненная река. Не справимся, -- он шутливо хмыкнул, -- гусь сварится.
Высокие языки пламени, мечущиеся по воде, уже достигли места слияния
рек и начинали плыть по Иллинойсу. Языков пламени все прибавлялось. Ящеры не
использовали катера или другие плавучие средства, поэтому огонь не мог
создать для них настоящей опасности, но он заставлял их сосредоточиться на
Ложке и территории к западу от нее -- и отвлекал их внимание от лодок,
подплывающих к Гаване по Иллинойсу с севера.
-- Давайте, гребите сильнее, вперед, вперед...
Не договорив, Остолоп кувырнулся со своего сиденья -- лодка села на
грунт. Он рассмеялся. Если показал себя дураком перед подчиненными, смейся
первым. Он выскочил на берег. Грязь чмокнула под сапогами.
-- Сделаем перерыв в гребле.
Он отвел взгляд от горящей Ложки, чтобы глаза привыкли к темноте.
Черный силуэт впереди не был лесом -- лес вокруг давно спилили. Он взмахнул
рукой, дав людям знак следовать за ним, и направился к лагерю военнопленных,
устроенному ящерами.
Неподалеку послышался голос сержанта Малдуна:
-- Эй вы, глупые ублюдки, рассредоточьтесь! Хотите, чтобы вас запросто
перестреляли?
Лагерь для пленных был спроектирован для того, чтобы держать людей
внутри, а не препятствовать постороннему проникновению. Ничто не помешало
американцам подобраться к главным воротам, находившимся на северной стороне.
Остолоп было подумал, что они так и войдут внутрь, но тут пара ящеров
открыла по ним огонь из сторожевой будки.
Гранаты и огонь из автоматов быстро подавили сопротивление.
-- Вперед, быстрее, -- кричал Остолоп одно и то же, -- если у этих
чешуйчатых сукиных сынов была радиосвязь, подмога заявится сразу же!
Солдаты с ножницами набросились на острую, как бритва, проволоку у
входных ворот. Заключенные, мужчины и женщины, разбуженные стрельбой
(Остолоп надеялся, что никого из них не задели шальные пули), столпились у
ворот. Как только проход был готов, они хлынули наружу.
Капитан Шимански закричал:
-- Кто хочет присоединиться к борьбе с ящерами, идите к нам. Бог знает,
как мы вам будем рады. Остальные -- разбегайтесь, кто как может. Мы
поддерживаем связь с партизанами, и многие люди вокруг будут давать кров и
делиться тем, что имеют. Удачи вам всем.
-- Благослови вас Господь, -- сказал один мужчина.
К нему словно эхом присоединились многие другие. Часть людей окружала
спасителей, остальные исчезали в темноте ночи.
С юга донеслись выстрелы, звук их быстро приближался.
-- Развернутым строем вперед! -- закричал Остолоп. -- Задержим их,
сколько сможем, чтобы люди успели уйти.
Едва эти слова слетели с его губ, как в землю врезалось нечто вроде
большой бомбы и взорвалось прямо перед наступающими ящерами. Остолоп
заозирался: шум моторов самолета ниоткуда не доносился. С неба слышался лишь
долгий, постепенно затихающий гул рассекаемого воздуха: похоже, что
взрывчатка, или что там, прилетела быстрее, чем сопровождавший его шум.
-- Как будто американская реактивная бомба дальнего действия, -- сказал
капитан Шимански.
Что бы это ни было, но ящеры теперь уже не торопились вперед, как
минуту назад.
Вскоре взорвалась еще одна реактивная бомба, на этот раз -- судя по
звуку -- в паре миль от поля боя в районе Гаваны. Эти бомбы точными никак не
назовешь, они вполне могут упасть и на своих, не только на ящеров.
"Попробуй-ка остановить их, -- подумал Дэниелс, -- валяй, пробуй".
Он отыскал в темноте Шимански.
-- Сэр, думаю, самое время убираться отсюда к черту. Иначе многие из
нас погибнут.
-- Возможно, вы правы, лейтенант, -- сказал командир отряда. -- Нет, вы
определенно правы. -- Он возвысил голос: -- Обратно к реке, парни!
Взобраться в лодку, набитую спасенными пленниками, Остолопу было очень
приятно. Но возвращение через Иллинойс стоило ему хорошего пота. Если бы над
головой сейчас появился, постукивая, вертолет, на воде остались бы только
огонь да кровь. Все понимали это, а потому гребцы работали веслами, как
бешеные, пока не добрались до западного берега реки.
Выбравшись из лодки и запинаясь на ходу, Остолоп мельком подумал:
знаком ли Сэм Игер с этими необыкновенными ракетами (и жив ли еще Сэм,
встретятся ли они когда-нибудь). После забавных научно-фантастических
журналов, которые он постоянно читал, он должен был лучше понимать этот
безумный новый мир, оказавшийся так дьявольски близко.
-- Ни в чем нет больше никакого смысла, -- проговорил Дэниелс и занялся
размещением людей в укрытии.
* * *
В подвале Дуврского колледжа пыхтел работающий на угле генератор. Дэвид
Гольдфарб чувствовал дрожь во всех костях. Он мог слышать это пыхтение, но
только когда осознанно напрягал слух. И пока лампочки горели, радиоприемники
работали, а радар действовал, он вполне мог утверждать, что мир остался
таким же, как до нашествия ящеров.
Когда он произнес эту сентенцию вслух, Бэзил Раундбуш сказал:
-- По моему смиренному понятию... -- Ха! Он был таким же смиренным, как
еврей мог быть римским папой, -- такие игры не особенно-то помогают. Как
только мы покидаем лабораторию, реальный мир грубо подходит вплотную и дает
нам в зубы.
-- Это очень даже правильно, -- сказал Гольдфарб. -- Пусть на каждом
квадратном дюйме острова растет пшеница, картофель и кормовая свекла, но
лишь небесам ведомо, как мы собираемся прокормиться.
-- О, несомненно. -- Усы Раундбуша встопорщились, словно он подул в
них. -- Во время войны с немцами пайки и так были скучными. Теперь еще хуже
-- и янки не посылают необходимые нам излишки. Я слышал, излишков у них
больше нет.
Гольдфарб поворчал и кивнул. Затем взял видеоблюдце -- это название,
похоже, закрепилось за мерцающими дисками, на которых ящеры хранили
изображения и звуки, -- и вставил его в захваченную машину для проигрывания
дисков.
-- Что на нем? -- спросил Раундбуш.
-- Я не узнаю, пока не трону выключатель, который заставляет ее
работать, -- ответил Гольдфарб. -- Думаю, что они просто бросают в корзину
что попало и посылают нам сюда. У нас есть несколько штук, которые
действительно полезны для нас, а остальные видеоблюдца мы снабжаем ярлычками
и отсылаем тем, кому они могут показаться полезными.
-- Удивительно неэффективный способ работы, -- недовольно заметил
Раундбуш, но поленился взглянуть, что покажет это видеоблюдце.
Британцам их досталось немало во время изгнания ящеров с островов.
Некоторые были развлекательными, другие, казалось, содержали ведомости на
оплату или что-то подобное, некоторые служили эквивалентами инструкций к
пользованию. Эти последние были настоящим сокровищем.
Гольдфарб щелкнул выключателем: в отличие от ламповой электроники,
использовавшейся человечеством, аппаратура ящеров не требовала прогрева в
течение минуты или двух, а начинала работать сразу. На экране появилось
изображение танка ящеров. Столкнувшись с этими чудовищами в реальности,
Гольдфарб относился к ним весьма уважительно. Хотя, спрашивается, за что их
уважать?
Пару минут он смотрел на возникшее изображение, чтобы убедиться, что
это действительно руководство по обслуживанию танка, затем остановил его и
заставил проигрыватель выплюнуть блюдце. Сделав это, он завернул видеоблюдце
в бумагу, на которой записал комментарий о сюжете. Он взял еще одно и
вставил в машину. На нем оказались городские сцены на домашней планете
ящеров -- но был это рассказ о путешествии или какая-то драма, Дэвид сказать
не мог.
-- Я слышал, некоторые из них были с порнофильмами, -- заметил
Раундбуш, наблюдая, как Гольдфарб достает видеоблюдце и записывает на
бумаге, которую использовал для завертывания, возможную классификацию
сюжета.
-- О, небо, кому это надо? -- сказал Гольдфарб. -- Зрелище
совокупляющихся ящеров не доставит мне радости.
-- Ты неверно понял, старик, -- возразил Раундбуш. -- Я имею в виду
порнофильмы с людьми. Рассказывали, что в одном многое такое вытворяет
китайская женщина, а на еще одном она рожает ребенка.
-- Почему ящеров интересует это? -- сказал Гольдфарб. -- Ведь мы для
них такие уродливые, как они для нас. Бьюсь об заклад, это слухи, пущенные
начальством, чтобы мы тщательнее просеивали всю эту муть.
Раундбуш рассмеялся.
-- Я об этом не подумал. Не удивлюсь, если ты прав. Сколько этих блюдец
ты собираешься проверить на этот раз.
-- О, наверное, еще шесть или восемь, -- ответил Гольдфарб после
секундного размышления. -- Отвлекусь на какое-то время и смогу опять
ковыряться во внутренностях этого радара.
Он показал на множество электронных компонентов, разложенных на его
рабочем столе, как ему казалось, в логически разумном порядке.
Первые три видеоблюдца не содержали ничего для него полезного -- и
ничего полезного ни для кого, подумал он.
В двух были бесчисленные колонки каракулей ящеров: скорее всего,
механизированные эквиваленты платежных книжек дивизии. Третья показала
космический корабль ящеров и каких-то странных существ, которые не были
ящерами. Гольдфарб не понял, показаны там фактические события или же
изображены чужаки из такой же фантастики, как у Бака Роджерса или Флэша
Гордона. Может быть, кто-то из ученых сумеет определить точнее. Гольдфарб
был не в состоянии.
Он вынул блюдце и вставил новое. Как только включилась запись, Бэзил
Раундбуш радостно завопил и хлопнул приятеля по спине. На экране стоял ящер
со сравнительно скромной раскраской тела и разбирал реактивный двигатель,
лежащий на большом столе.
Моторы были специальностью Раундбуша, а не Дэвида, но он некоторое
время смотрел сюжет вместе с летчиком. Даже без знания языка ящеров он
многое понял по этой записи. Раундбуш с бешеной скоростью записывал.
-- Если бы только капитан Хиппл мог увидеть это, -- несколько раз
повторил он.
-- Мы говорим так уже долгое время, -- печально ответил Гольдфарб. --
Не думаю, что это произойдет.
Он продолжал смотреть видеоблюдце. Некоторые мультипликационные эпизоды
и трюковые снимки, которые инструктор-ящер использовал при объяснениях,
далеко превосходили все, что художники Диснея сделали в "Белоснежке" или
"Фантазии". Как же им это удалось? Однако они это сделали, и сделали таким
же само собой разумеющимся, как он щелкал выключателем на стене, чтобы в
лампочке на потолке появился свет.
Когда учебный фильм закончился, Раундбуш встряхнулся, как собака,
выскочившая из холодного ручья.
-- Это определенно надо сохранить, -- сказал он. -- Было бы совсем
хорошо, если бы нам помогли пленные ящеры, тогда мы бы поняли, что именно
рассказывал этот зануда. Например, вот то, что касалось турбинных лопаток,
-- он говорил техникам, что их можно поправлять или, наоборот, не
прикасаться к ним ни при каких обстоятельствах?
-- Не знаю, -- сказал Гольдфарб. -- Но мы должны разобраться и не
экспериментировать. -- Он заставил проигрыватель вернуть видеоблюдце,
завернул в бумагу, надписал ее и положил в стопку отдельно от других. Сделав
это, посмотрел на часы. -- Боже правый, неужели уже семь часов?
-- Так и есть, -- ответил Раундбуш. -- Похоже, что мы здесь взаперти
около тринадцати часов. Я бы сказал, что мы заслужили право встряхнуться.
Что ты на это скажешь?
-- Сначала я бы хотел посмотреть, что на оставшихся блюдцах, -- сказал
Гольдфарб. -- А уж потом беспокоиться о таких вещах, как еда.
-- Какая преданность делу, -- хмыкнул Раундбуш. -- Среди того, о чем
стоит побеспокоиться, если я, конечно, не ошибаюсь, должна быть еще пинта
или две в "Белой лошади".
Гольдфарб испугался, что его уши раскалились настолько, что будут
светиться, если он выключит свет. Он постарался ответить самым обычным
тоном:
-- Раз уж ты упомянул об этом, то да.
-- Не смущайся, старик. -- И Раундбуш громко захохотал. -- Поверь, я
тебе завидую. Эта твоя Наоми -- прекрасная девушка, и она уверена, что
солнце восходит и заходит ради тебя. -- Он ткнул Гольдфарба в ребра. -- Мы
ведь не будем разубеждать ее в этом, а?
-- Э-э... нет, -- ответил Гольдфарб, все еще смущенный.
Он по очереди вставлял оставшиеся видеоблюдца в проигрыватель.
Надеялся, что ни в одном не окажется ничего об обслуживании и питании
радара. И надеялся, что в них не будет порнофильмов с легендарной, в
представлении Раундбуша, китаянкой.
Ему везло. Пары минут просмотра было достаточно, чтобы убедиться: на
оставшихся видеоблюдцах нет ничего, относящегося к его работе или к
порнографии. Когда проигрыватель выкинул последнее из них, Бэзил Раундбуш
легонько толкнул Гольдфарба в спину.
-- Иди, старик. Я буду поддерживать огонь и постараюсь не спалить
здание.
Солнце все еще было в небе, когда Гольдфарб вышел на улицу. Он вскочил
на велосипед и покатил на север, в сторону "Белой лошади". Как и многие
другие заведения, паб содержал охранника, дежурившего снаружи, который
следил за тем, чтобы двухколесный транспорт не укатился куда-нибудь, пока
хозяева находились внутри.
А внутри в стенных канделябрах горели факелы. Приятный огонь пылал в
камине. Из-за того, что заведение было набито народом, его наполняли жар и
дым. Факелы требовались для освещения. Над огнем в камине готовились два
цыпленка. От аппетитного аромата у Гольдфарба потекли слюнки.
Он направился к бару.
-- Что желаешь, дорогой? -- спросила Сильвия.
Наоми с полным подносом кружек и стаканов обходила столики: увидев
сквозь толпу Гольдфарба, она помахала ему. Он махнул ей в ответ, затем
сказал Сильвии:
-- Пинту горького и еще -- эти птички уже заказаны целиком? -- И он
показал в сторону камина.
-- Нет, еще не все, -- ответила рыжеволосая барменша. -- Чем
интересуешься -- ножками или грудкой?
-- Что ж, думаю, что хотел бы нежное, нежное бедрышко, -- ответил он и
смутился под внимательным взглядом.
Сильвия расхохоталась. Налила ему пива. Он поспешно поднес кружку ко
рту, чтобы скрыть смущение.
-- Покраснел! -- ликующе воскликнула Сильвия.
-- Да нет! -- с негодованием ответил он. -- И даже если так, только
черт помог бы тебе увидеть это при свете камина.
-- Может быть, может быть, -- согласилась Сильвия, продолжая смеяться.
Она провела языком по верхней губе. Гольдфарб тут же вспомнил, что не
так давно они были любовниками. Она словно говорила ему: "Видишь, что ты
потерял?"
-- Принесу тебе цыпленка.
Направляясь к камину, она сильнее, чем прежде, раскачивала бедрами на
ходу.
Через минуту подошла Наоми.
-- О чем вы так смеялись? -- спросила она.
Гольдфарб почувствовал облегчение, услышав скорее любопытство, чем
подозрение в ее голосе. Он рассказал ей всю правду: если бы он этого не
сделал, она узнала бы все от Сильвии. Наоми рассмеялась тоже.
-- Сильвия такая забавная, -- сказала она, а затем, понизив голос,
добавила: -- Временами, может, даже и слишком забавная, ей во вред.
-- Кому во вред? -- спросила Сильвия, вернувшись с дымящейся куриной
ножкой на тарелке. -- Значит, мне. Я слишком много шучу, да? Клянусь
Иисусом, скорее всего так. Но я не шучу, когда говорю, что этот цыпленок
обойдется тебе в две гинеи.
Гольдфарб полез в карман за банкнотами. Со времени нашествия ящеров
цены головокружительно взмыли вверх, и жалование специалиста по радарам и
близко не соответствовало им. Но даже теперь бывали времена, когда паек,
который он получал, уже не лез в горло.
-- Между прочим, -- спросил он, положив деньги на стойку, -- а на что
получше я бы мог их истратить?
-- На меня, -- ответила Наоми.
Если бы такой ответ дала Сильвия, то он был бы откровенно корыстным.
Наоми же не беспокоило, что у него нет доходов маршала авиации. Это -- как и
многое другое -- и делало ее такой притягательной для Дэвида. Она спросила:
-- У тебя есть новые сведения о твоем кузене, о том, который делал
радиопередачи для ящеров?
Он покачал головой.
-- Моя семья выяснила, что он пережил нашествие, -- это все, что я
знаю. Но вскоре он, его жена и сын исчезли. Никто не знает, что с ними
стало.
-- Никто не знает, -- повторила с осуждением Наоми, а Гольдфарб
вцепился зубами в цыплячью ногу. -- Может быть, никто не говорит, но кто-то
ведь знает. В этой стране люди беспричинно не исчезают. Иногда я думаю: вы
не знаете, как вам повезло, что здесь все обстоит именно так.
-- Я -- знаю, -- сказал Гольдфарб, и через мгновение Наоми кивнула,
соглашаясь с ним. Он улыбнулся ей, хотя и кривовато. -- В чем же дело? Ты
снова принимаешь меня за англичанина?
Слегка волнуясь, она кивнула снова. Он перешел на идиш:
-- Если мы выиграем войну и у меня будут дети, а может быть, и внуки,
они будут принимать это как само собой разумеющееся. Мы... -- Он покачал
головой.
-- Если у тебя будут дети, а может быть, и внуки... -- начала Наоми и
остановилась.
Война ослабила моральные нормы всех, но они все же находились не на
передовой. Гольдфарб иной раз об этом жалел.
-- Не нальешь мне еще пинту, пожалуйста? -- попросил он.
Временами тихий разговор -- или короткие реплики, которыми они
обменивались в промежутках между обслуживанием других посетителей, -- был не
хуже любого другого, а может, даже и лучше.
О Сильвии он так думать не хотел. Сильвия вызывала у него
одно-единственное желание: стянуть с нее лифчик и трусики и... Он почесал
голову, раздумывая, в чем же разница между двумя девушками.
Наоми подала ему горького. Он отпил глоток и поставил кружку.
-- Должно быть, любовь, -- сказал он, но она не услышала.
* * *
Артиллерия изматывала Расу на базе Флориды огнем с севера. Большие
Уроды действовали с умом, перемещая орудия с боевых позиций до того, как
огонь контрбатарей нащупывал их, но против ударов с воздуха они мало что
могли предпринять. У Теэрца было две емкости для ракет под крыльями
истребителя. Ракеты относились к одному из простейших видов оружия в
арсенале Расы: они даже не имели средств наведения, но если с избытком
засыпать ими местность, они свое дело делали. Из-за простоты даже
тосевитские заводы могли выпускать их в больших количествах. Оружейники
теперь их любили, и не только потому, что их было в достатке.
-- Я нашел заданную цель визуально, -- доложил Теэрц своим командирам,
-- приступаю к пикированию.
Ускорение вдавило его в сиденье. Большие Уроды знали, что он уже здесь.
Зенитные снаряды стали рваться вокруг истребителя. Больше всего, как он
заметил, разрывов было позади. Несмотря на все старания, тосевиты редко
попадали в истребитель, когда палили по нему. Это помогало пилотам Расы
оставаться в живых.
Он опустошил всю первую емкость. Казалось, волна огня обрушилась от
самолета на позиции артиллерии. Машина слегка качнулась в воздухе, затем
выпрямилась. Автопилот вывел ее из пике. Теэрц сделал круг, чтобы осмотреть
нанесенный урон. Если бы он оказался недостаточным, пришлось бы сделать еще
один заход и опустошить вторую емкость.
На этот раз второго захода не понадобилось.
-- Цель уничтожена, -- сказал он с удовлетворением. Зенитки по-прежнему
били по нему, но он не беспокоился. -- Запрашиваю новую цель.
Голос, ответивший ему, не принадлежал руководителю полетов. Через
мгновение он его все же узнал: с ним говорил Ааатос, самец из разведки.
-- Командир полета Теэрц, у нас... возникла одна проблема.
-- В чем же непорядок? -- потребовал ответа Теэрц.
Вечность, которую он провел в японском плену -- не говоря уже о
привычке к имбирю, которую он приобрел на Тосев-3, -- выработала в нем
нетерпимость к напыщенному стилю речи.
-- Я рад, что вы в воздухе, командир полета, -- сказал Ааатос,
очевидно, не желая давать прямого ответа. -- Вы помните наш недавний
разговор на травянистой поверхности недалеко от взлетно-посадочной полосы?
Теэрц задумался.
-- Помню, -- сказал он. Внезапное подозрение охватило его. -- Вы же не
собираетесь сказать мне, что темнокожие Большие Уроды взбунтовались против
нас, правда?
-- Увы, -- печально сказал Ааатос. -- Вы были правы тогда в своем
недоверии к ним. Я соглашаюсь с этим. -- Для самца из разведки согласиться с
чем-либо было невероятной уступкой. -- Их отряд был развернут строем против
американских Больших Уродов, и, изображая бой, они пропустили вражеских
тосевитов к нам.
-- Дайте мне координаты, -- сказал Теэрц. -- У меня еще достаточно
боеприпасов и топлива. Могу я сделать вывод, что должен считать любых
тосевитов в этом районе враждебными Расе?
-- Это, несомненно, оперативное предположение, -- согласился Ааатос. Он
сделал паузу. -- Командир полета, вы позволите вопрос? Можете не отвечать,
но я был бы благодарен за ответ. Мы предположили, что темнокожие Большие
Уроды будут нам хорошо и верно служить в месте, которое мы им отвели. Эти
предположения были сделаны не случайно. Наши эксперты проиграли на
компьютере много сценариев. Но все они оказались неточными, а ваше опасение
-- правильным. Как бы вы могли это прокомментировать?
-- У меня впечатление, что ваши так называемые эксперты никогда не
имели возможности узнать, какими лгунами могут быть Большие Уроды, --
ответил Теэрц. -- И они никогда не бывали в ситуациях, когда по слабости они
должны говорить своим следователям то, что эти самцы хотят от них услышать.
А я бывал. -- И снова воспоминания о днях японского плена всплыли в памяти:
рука вцепилась в колонку управления самолета. -- Зная способности тосевитов
к вероломству, а также то, что следователи склонны к получению не
соответствующих истине данных, которые подтверждали бы желательные для них
версии, я и пришел к такому выводу.
-- Может быть, вы подумаете о переходе в разведывательные органы? --
спросил Ааатос. -- Точный анализ принес бы нам большую пользу.
-- Пилотируя истребитель, я тоже приношу пользу Расе.
Ааатос не ответил. Теэрц решил, что самец из разведки просто закончил
или же обиделся. Он выбросил это из головы. Эксперты исходили из глупых
предположений, основанных на их безупречной логике, и пришли к худшему
результату, чем тот, который получился бы, если бы они вообще ничего не
делали. Его рот открылся в горьком смехе. Так или иначе, но сюрпризом для
него все это не стало.
Дым от горящих лесов и полей показал, что он приближается к месту
достигнутого изменой прорыва американцев. Он видел несколько горящих танков
производства Расы и множество более медленных неуклюжих машин, используемых
Большими Уродами. Между ними были видны наступающие тосевиты. По их прямой
походке и резким движениям он безошибочно определил, что это именно они,
несмотря на то что пронесся над ними на большой скорости.
Он выпустил почти всю вторую емкость в самое большое скопление Больших
Уродов и отлетел подальше, чтобы развернуться для второго захода. Земля,
казалось, взорвалась мелкими желтыми язычками пламени выстрелов из ручного
оружия, которым уцелевшие пытались сбить его. Никто не отрицал, что тосевиты
проявляют большую смелость. Но временами одной смелости бывает недостаточно.
Теэрц сделал второй боевой заход. Столбы маслянистого черного дыма
отмечали погребальные костры -- боевым машинам тосевитов топливом служили
углеводородные соединения. Пилот тыкал когтем в кнопку "огонь" на колонке
управления, поливая местность артиллерийским огнем, пока световые сигналы не
предупредили о том, что осталось всего тридцать снарядов. По правилам теперь
он должен был прекратить огонь на случай нападения тосевитских самолетов при
возвращении на базу.
-- Чесотка на эти правила, -- пробормотал он и продолжил стрельбу, пока
у пушки не осталось боеприпасов совсем.
Он посмотрел на указатель топлива. Водород был тоже на исходе. Значит,
особой пользы от него на поле боя уже не будет. Он повернул к базе, чтобы
возобновить запасы топлива и боеприпасов. Если тосевитский прорыв не будет
ликвидирован к моменту, когда он закончит заправку, то, вероятно, его сразу
же снова пошлют в бой.
Самец Расы подвел заправщик к его истребителю, но разматывали шланг и
подключали к переходнику на носу машины двое Больших Уродов. Другие Большие
Уроды укладывали артиллерийские снаряды и прикрепляли две новые емкости с
ракетами под крылья самолета.
Во время работы тосевиты пели, эта музыка казалась чуждой слуховым
перепонкам самца, но глубокой, ритмичной и сильной. На них из одежды было
только то, что закрывало нижнюю часть тела, да еще обувь: их темнокожие
торсы блестели от охлаждающей влаги под лучами солнца, в которых даже Теэрц
чувствовал себя комфортно. Он настороженно смотрел на Больших Уродов. Очень
похожие самцы показали себя изменниками. Как он может быть уверен, что эти
парни, скажем, не уложат ракеты так, что они взорвутся раньше, чем будут
выпущены в воздух?
Он не может этого узнать наверняка, пока не выстрелит. Самцов Расы для
выполнения всего того, что требовалось, не хватало. Если бы не помогали
тосевиты, то все военные усилия давно захлебнулись бы. И близкий крах был
неминуем, если это осознают сами тосевиты.
Он постарался избавиться от этих мыслей. Электроника показала, что
истребитель готов к бою.
-- Докладывает командир полета Теэрц, -- сказал он. -- Я готов
вернуться в бой.
Вместо ожидаемого разрешения на взлет и нового приказа командир полетов
сказал:
-- Подождите, командир полета. Мы готовим для вас кое-что новое.
Оставайтесь на этой частоте.
-- Будет исполнено, -- сказал Теэрц, задумавшись, какая же чушь пришла
в головы его начальникам.
Поскольку было очевидно, что немедленно в бой его не пошлют, он вытащил
сосуд с имбирем из пространства между обшивкой кабины и ее стенкой и принял
хорошую порцию. Когда снадобье подействовало, он был готов выйти наружу и
убивать Больших Уродов голыми руками.
-- Командир полета Теэрц! -- загудел голос самца -- командира полетов в
звуковой таблетке, прикрепленной возле слуховой диафрагмы. -- С этого
момента вы освобождаетесь от службы на авиабазе Флориды. Вам приказано
направиться на нашу передовую базу в регионе, известном местным тосевитам
под названием Канзас, чтобы помочь Расе в захвате населенного центра,
носящего местное название Денвер. Полетные инструкции загружаются в ваш
бортовой компьютер во время данного разговора. Вам понадобится
дополнительный сбрасываемый бак водорода. Он будет вам предоставлен.
Естественно, к истребителю Теэрца подкатил еще один грузовик. Из него
вышли двое самцов, с помощью лебедки опустили на тележку бак в форме капли и
затем подвесили по под брюхо машины. Услышав стук когтей, Теэрц порадовался,
что Раса не доверила такую работу наемникам из Больших Уродов. Вероятность
несчастья была бы уж слишком высокой.
Он удивленно зашипел. Здесь, на этом фронте, тосевиты прорвались: он
прекрасно знал, что его бомбардировка их не остановила. Тем не менее
командир базы отправляет его служить на другой фронт. Означает ли это, что
Раса совершенно уверена, что остановит Больших Уродов здесь, или же что для
удара по... Денверу -- так, кажется, назвал его командир полетов? --
действительно отчаянно требуется его помощь? Наверняка спрашивать об этом
нельзя, но на месте он разберется сам.
Он проверил компьютер: действительно, в нем появилась информация,
необходимая для полета в Канзас. Очень кстати, сам он не знал даже, где на
этой планете находится названный регион. Техники закончили установку
сбрасываемого бака и вернулись в грузовик, тот отъехал.
-- Командир полета Теэрц, вам разрешается взлет, -- сказал начальник.
-- Сообщите передовой базе в Канзасе.
-- Будет исполнено.
Теэрц прибавил мощности двигателю и вырулил в конец взлетно-посадочной
полосы.
* * *
Когда бы в эти дни Джордж Бэгнолл ни входил в темноту псковского Крома,
он чувствовал, что и его собственный дух как бы погружается во мрак. Зачем
только Александр Герман упомянул о возможности отправить его, Кена Эмбри и
Джерома Джоунза обратно в Англию? Он уже смирился с пребыванием здесь, в
богом забытом уголке Советского Союза. Но крохотный лучик надежды на
возвращение домой сделал русский город и работу, которой он занимался,
совершенно невыносимыми.
Внутри Крома неподвижно застыли по стойке смирно немецкие часовые.
Стоявшие напротив них русские, большинство в мешковатой гражданской одежде,
а не в застиранных мундирах, не выглядели так щеголевато, но автоматы,
которые они держали в руках, были способны мгновенно перемолоть человека в
кашу.
Бэгнолл поднялся по лестнице в штаб-квартиру генерал-лейтенанта Курта
Шилла. На лестнице царила почти полная темнота: редкие окна-щели и масляные
лампы, попавшие сюда прямо из четырнадцатого столетия, давали света не
больше, чем надо, чтобы различить, куда поставить ногу. Каждый раз,
взобравшись наверх, он благодарил свою счастливую звезду за то, что не
сломал шею.
Он обнаружил, что Эмбри опередил его и теперь обменивается колкостями с
капитаном Гансом Делгером, адъютантом Шилла. Насколько Бэгнолл знал, Делгер
неодобрительно относился к англичанам, но держался корректно и вежливо.
Поскольку споры в Пскове часто разрешались не только словами, но и пулями,
вежливость была бесценной и бессмысленной редкостью.
Когда вошел Бэгнолл, Делгер приветствовал его первым.
-- Гутен таг, -- сказал он. -- Я уж подумал, что вы уподобились
партизанским командирам, но это было бы глупо. Скорее солнце сядет на
востоке, чем русский явится в оговоренное время.
-- Я думаю, что свойство опаздывать -- или по крайней мере не
беспокоиться о том, чтобы успеть вовремя, -- кроется в особенностях русского
языка, -- ответил по-немецки Бэгнолл. Он изучал немецкий язык в школе, а
русским овладел, только попав в Псков.
Многие немцы в Пскове, как это видел Бэгнолл, перестали считать русских
недочеловеками. Капитан Делгер не был в их числе.
Александр Герман прибыл с опозданием в двадцать минут, Николай Васильев
-- спустя еще двадцать минут. Ни один из них не выглядел ни обеспокоенным,
ни даже виноватым. В обществе партизан капитан Делгер был образцом военной
педантичности -- и неважно, что он говорил за их спинами. Бэгнолл воздал ему
должное за то, что он воплощал в себе те же черты, которые можно найти у
хорошего дворецкого.
Курт Шилл что-то буркнул, когда русские и англичане, которые должны
были смягчать советско-германские отношения, вошли в его кабинет. Судя по
бумагам, которыми был завален его стол, он не сидел без дела, пока ему
пришлось ждать.
Встреча была обычной перебранкой. Васильев и Александр Герман хотели,
чтобы Шилл направил на передовую больше солдат вермахта; Шилл хотел держать
их в резерве на случай прорыва, потому что они более мобильны и лучше
вооружены, чем их советские компаньоны. Это было похоже на начало шахматной
партии, когда какое-то время каждая сторона знает ходы, которые вероятнее
всего сделает другая, и знает, как на них ответить.
На этот раз -- неохотно, но убеждаемый Бэгноллом и Эмбри -- Курт Шилл
пошел на уступки.
-- Хорошо, -- утробно прогудел Николай Васильев. Его голос звучал,
словно рев медведя, проснувшегося после долгой зимней спячки. -- От вас,
англичан, есть кое-какая польза.
-- Я рад, что вы так считаете, -- сказал Бэгнолл, не ощущавший никакой
радости.
Если Васильев считал, что они здесь полезны, то, вероятно, и Александр
Герман тоже. Но если Александр Герман считает их полезными здесь, станет ли
он помогать им вернуться в Англию, как намекал?
По виду генерал-лейтенанта Шилла было ясно, что мир ему отвратителен.
-- Я по-прежнему настаиваю, что расходование нашего стратегического
резерва раньше или позже оставит вас без необходимых ресурсов на случай
кризиса, но мы будем надеяться, что данный конкретный случай не создаст
такой трудности. -- Он бросил взгляд в сторону Бэгнолла и Эмбри. -- Вы
свободны, джентльмены.
Он добавил это последнее слово для того, без сомнения, чтобы позлить
партизанских командиров, для которых "джентльменов" заменял на "товарищей".
Бэгнолл не стал задумываться над тонкостями языка, он поднялся с места и
быстро направился к двери. Следовало пользоваться любой возможностью уйти из
мрака Крома. Кен Эмбри без колебаний последовал за ним.
Яркий солнечный свет снаружи ослепил Бэгнолла. Всю зиму ему казалось,
что солнце ушло навсегда. Потом оно оставалось в небесах все дольше и
дольше, а с наступлением лета стало казаться, что оно вряд ли когда-либо
уйдет вообще. Река Пскова снова свободно несла свои воды. Лед весь растаял.
Земля бурно расцвела -- ненадолго.
На рыночной площади неподалеку от Крома сидели бабушки, они болтали
между собой, выставив для продажи или обмена яйца, свинину, спички, бумагу и
многие виды товаров, которые, по идее, давно уже должны были исчезнуть из
Пскова. Бэгнолл задумался: откуда они попадают к торговкам? Пару раз он даже
пытался спросить их об этом, но лица женщин тут же становились замкнутыми и
безразличными, и они делали вид, что не понимают вопросов. "Не ваше дело",
-- безмолвно говорили они.
С окраины города донеслось несколько редких выстрелов. На рыночной
площади все заволновались.
-- О, сумасшедший дом, -- воскликнул Бэгнолл: -- Неужели нацисты и
большевики снова лупят друг друга?
Звуки выстрелов звучали все ближе к площади. Вместе с ними приближался
тихий рев, который напомнил Бэгноллу о реактивных самолетах ящеров, но
доносился с высоты всего в несколько футов над землей. Нечто белое длинное и
тонкое пронеслось по рыночной площади, обогнуло церковь Михаила Архангела и
собор Троицы, а затем ударило в стену Крома. Взрыв сбил Бэгнолла с ног, и
тут же он увидел, как вторая белая стрела повторила курс своей
предшественницы и тоже ударила в Кром. Второй взрыв швырнул на землю Эмбри.
-- Летающие бомбы! -- закричал ему в ухо пилот.
Бэгнолл слышал Эмбри как с очень большого расстояния. После двух
взрывов его уши будто заткнуло ватой.
-- Долгое время они не трогали Кром. Должно быть, они нашли предателя,
который сообщил им, что штаб находился здесь.
Русский, обозленный необходимостью служить рядом с нацистами? Солдат
вермахта, вынужденный помогать войскам Красной Армии, которую он ненавидел
острее, чем любых ящеров? Бэгнолл не знал и догадывался, что никогда не
узнает. В конце концов, это не имеет значения. Главное -- это произошло,
разрушение сделано.
Он поднялся на ноги и побежал назад к крепости, которая когда-то была
сердцевиной, вокруг которой рос город Псков. Огромные серые камни устояли
против стрел и мушкетов. Против взрывчатых веществ, доставленных с большой
точностью, они были бесполезны, а может быть, даже хуже: когда они
обрушивались, то губили тех, кого пощадил взрыв. Во время блицкрига -- как
давно это было! -- кирпичные здания в Лондоне стали смертельными ловушками.
Над развалинами начал подниматься дым. Стены Крома были каменными, но
внутри находилось очень много дерева... и в каждой лампе горел огонь,
который теперь распространяется по горючему материалу.
Крики и стоны раненых достигли слуха ошеломленного Бэгнолла. Он увидел
руку, зажатую между двумя каменными блоками. Чертыхаясь, они с Эмбри
откатили один блок в сторону. Низ камня был в крови. Немецкий солдат,
раздавленный этими глыбами, уже не нуждался в помощи.
Мужчины и женщины, русские и немцы, бежали спасать своих товарищей.
Некоторые, более предусмотрительные, чем остальные, тащили бревна, чтобы
поднимать тяжелые камни. Бэгнолл присоединился к одной такой команде. С
грохотом вывернули камень. У парня, стонавшего внизу, была раздроблена нога,
но он еще мог выжить. Они нашли Александра Германа. Левая рука была
раздавлена, но в остальном он почти не пострадал. Красное месиво под
соседней глыбой размером с автомобиль -- все, что осталось от Курта Шилла и
Николая Васильева.
Между камнями начало пробиваться пламя. Слабое потрескивание, которое
сопровождало огонь, могло бы звучать весело, но оно вызывало ужас. Солдаты,
попавшие в каменные ловушки, кричали: пламя достигало их, прежде чем к ним
могли подобраться спасатели. Дым становился все гуще, он душил Бэгнолла,
заставляя течь слезы, и жег легкие так, словно они сами горели. Джордж
словно работал внутри дровяной печи. Все чаще он чувствовал запах горящего
мяса. Слабея -- потому что он знал, что это было за мясо, -- он все же
старался спасти как можно больше людей, сколько будет в его силах.
Мало, мало. Ручные насосы гнали воду в огонь из реки, но не
справлялись. Пламя заставляло спасателей отступать от пострадавших, спасая
собственную жизнь.
Бэгнолл в безнадежном отчаянии посмотрел на Кена Эмбри. Лицо пилота
было измученным и черным от сажи, на которой стекавшие капли пота прочертили
несколько чистых полосок. У него был ожог на щеке и порез под глазом с
другой стороны. Бэгнолл был уверен, что сам выглядит не лучше.
-- Какого черта мы теперь будем здесь делать? -- спросил он. Его рот
был полон дыма, словно он разом выкурил три пачки сигарет. Когда он сплюнул,
слюна оказалась темно-коричневой -- почти черной. -- Германский комендант
мертв, один из русских командиров тоже, второй ранен...
Эмбри вытер лоб тыльной стороной ладони. Поскольку она была такой же
грязной, как и лоб, цвет не изменился ни там, ни тут.
-- Будь я проклят, если знаю, -- устало ответил пилот. -- Собрать все
по кускам и продолжить, сколько сможем, я полагаю. А что еще?
-- Здесь -- ничего, -- сказал Бэгнолл. -- Но вот оказаться в Англии в
весеннее время...
Мечта улетучилась, размозженная, словно рука Александра Германа.
Остались только руины Пскова. Ответ Эмбри был лучшим из возможных. Несмотря
на то, что оставался гнусным.
* * *
Возвещавшие налет сирены вопили, как грешники в аду. о котором с таким
удовольствием рассказывали польские католические священники. Мойше Русецкий
не верил в вечное наказание. Теперь, пережив воздушные налеты в Варшаве,
Лондоне и Палестине, он начал подозревать, что ад в конечном счете может
оказаться чем-то реальным.
Дверь его камеры открылась. В проеме стоял угрюмый охранник. В обеих
руках он держал по автомату "стэн". Даже для него это было, пожалуй,
многовато. Затем, к удивлению Русецкого, охранник протянул один автомат ему.
-- Вот, возьмите, -- нетерпеливо сказал он. -- Вас освобождают.
Он вытащил из-за пояса пару магазинов и также отдал Русецкому. Судя по
их весу, они были полностью снаряжены.
-- Обращайтесь с ними бережно, как с женщиной, -- посоветовал охранник.
-- Они легко сгибаются, особенно в верхней части, и потом не получается
правильной подачи.
-- Что значит "освобождают"? -- потребовал ответа Мойше почти с
возмущением.
События опережали его. Даже с оружием в руках он не чувствовал
безопасности. Они что, выпустят его из этой камеры, позволят дойти до угла и
затем прошьют пулями? Подобные трюки устраивали нацисты.
Охранник раздраженно выдохнул.
-- Не будьте глупцом, Русецкий. Ящеры вторглись в Палестину, не
прерывая переговоров с нами. Похоже, они собираются победить здесь, поэтому
мы делаем все, чтобы продемонстрировать им свою лояльность, -- создаем
англичанам неприятности, которые придутся по вкусу этим тварям. Но мы не
хотим, чтобы вы оказались между нами и ящерами. Когда они потребуют выдать
вас после окончания боев, мы не хотим оказаться в ситуации, когда вынуждены
будем сказать либо "да", либо "нет". Вы -- не наш. Теперь дошло?
Каким-то безумным образом Мойше понял. Еврейское подполье могло
удерживать его, не признаваясь ящерам, что они это делают, но теперь это
стало слишком рискованно.
-- А моя семья? -- спросил он.
-- Я бы уже отвел вас к ним, если бы вы не тянули резину, -- сказал
охранник.
Мойше негодующе запротестовал, охранник попросту повернулся к нему
спиной, предоставив Мойше сделать выбор -- последовать за ним или остаться
здесь. Он пошел.
Он шел по коридорам, которых не видел прежде. До сих пор они всегда
сами приводили к нему Ривку или Рейвена, а не наоборот. Повернув за угол, он
почти наткнулся на Менахема Бегина.
-- Ну, вы были правы, Русецкий, -- сказал лидер подполья. -- Ящерам
нельзя доверять. Мы будем вести себя с ними как можно лучше и тем самым
сделаем их жизнь жалкой. Как вам это нравится?
-- Могло быть и хуже, -- ответил Мойше. -- Но могло быть и лучше. Вам с
самого начала следовало встать рядом с англичанами против ящеров.
-- И пойти на дно вместе с ними? А ведь они обязательно пойдут ко дну.
Нет, благодарю покорно.
Бегин двинулся по коридору.
-- Подождите, -- вслед ему сказал Мойше. -- Прежде чем вы меня
отпустите, по крайней мере скажите, где я нахожусь.
Лидер подполья и угрюмый охранник засмеялись.
-- Это верно, вы никак не могли узнать этого, -- сказал Менахем Бегин.
-- Теперь нам уже не повредит, если вы будете это знать. Вы в Иерусалиме,
Русецкий, неподалеку от стены храма, которая все еще стоит.
Неуклюже махнув рукой, он поспешил куда-то по своим делам.
Иерусалим? Мойше стоял, озираясь. Охранник исчез за углом, не заметив,
что его подопечный встал как вкопанный, затем выглянул из-за угла и
нетерпеливо помахал рукой. Словно проснувшись, Мойше двинулся вперед.
Охранник снял ключ с пояса и открыл дверь -- такую же, как и все
остальные.
-- Что вы хотите? -- воскликнула Ривка пронзительным от тревоги
голосом. Затем она увидела за широкой спиной рослого охранника своего мужа.
-- Что происходит? -- спросила она совершенно другим тоном.
Мойше быстро пересказал слова охранника. Он не знал, поверила ли она.
Он и сам не слишком верил в происходящее, хотя автомат в руках был мощным
аргументом в пользу того, что ему лгут не во всем.
-- Поторапливайтесь, -- сказал охранник. -- Вам надо уйти отсюда прямо
сейчас.
-- Дайте нам денег, -- сказала Ривка.
Мойше с досадой покачал головой. Он об этом даже не думал. В отличие от
охранника. Тот полез в карман брюк и вытащил свернутые в трубочку купюры,
которых до войны было бы достаточно, чтобы сделать человека богачом, а
теперь едва хватило бы на пропитание -- пока он не найдет работу. Мойше
передал деньги Ривке. Охранник фыркнул, а он нагнулся, чтобы обнять Рейвена.
-- Ты знаешь, где мы находимся? -- спросил он сына.
-- В Палестине, разумеется, -- насмешливо ответил Рейвен, удивляясь,
что это с отцом.
-- Не просто в Палестине -- в Иерусалиме, -- сказал Мойше.
Охранник снова фыркнул, на этот раз -- увидев, как удивленно
распахнулись глаза Рейвена. Он сказал только:
-- А теперь все уходим.
Короткие ножки мальчика едва поспевали за широкими шагами охранника,
выводившего их на улицу. Мойше взял Рейвена за руку, чтобы помочь сыну не
отставать.
"Как странно, -- думал он, -- держать Рейвена одной рукой и автомат
"стэна" другой". Он хотел бороться с ящерами с тех пор, как они в Польше
сделали его обманщиком. Он боролся с ними как врач и как журналист. Теперь
он взял в руки оружие. Мордехай Анелевич убеждал его. что это не лучшее для
него оружие, но все же это лучше, чем ничего.
-- Здесь.
Охранник отодвинул дверной засов. Двери и засов выглядели так, как
будто могли выстоять против всего, кроме танка. Охранник буркнул что-то
невнятное, отодвигая мощные створки лишь настолько, чтобы Мойше и его семья
смогли протиснуться в щель. Как только они оказались на улице, он сказал:
-- Желаю удачи.
Дверь за ними закрылась.
Лязг засова, возвращающегося на место, прозвучал финальным аккордом.
Мойше посмотрел вокруг. Быть в Иерусалиме и не осмотреться казалось
грехом. Вокруг царил хаос. Прежде он видел такое в Варшаве. В Лондоне хаоса
было меньше: англичане подвергались бомбежкам задолго до того, как он прибыл
туда, и научились справляться с этим, как умели... и во всяком случае они
были гораздо более флегматичными, чем поляки, или евреи, или арабы.
Семья Русецких прошла пару кварталов. Затем кто-то заорал на них:
-- Прочь с улицы, дураки!
Только когда Мойше добежал до арки, он понял, что кричали на
английском, а не на идиш или иврите. Солдат, одетый в хаки, вопреки
собственному совету, стрелял по самолетам ящеров над головой.
-- Он не сможет их сбить, папа, -- серьезно сказал Рейвен: за свою
короткую жизнь он уже стал специалистом по воздушным налетам. -- Он не знает
этого?
-- Знает, конечно, -- ответил Мойше. -- И все равно он старается,
потому что он смелый.
Бомбы падали, но не очень близко: война обострила слух Мойше. Он слышал
резкий свист в небе, затем снова взрывы. Стена, к которой он прислонился,
сотрясалась.
-- Это не бомбы, папа, -- воскликнул Рейвен -- да, теперь он стал
знатоком в подобных вещах. -- Это артиллерия.
-- Ты снова прав, -- сказал Мойше.
Если ящеры обстреливают Иерусалим артиллерийским огнем, значит, они
недалеко. Ему захотелось убежать из города, но как? Куда надо идти?
Ударила новая волна снарядов, на этот раз ближе к ним, в воздухе
свистели осколки. Дом напротив превратился вдруг в кучу щебня. Арабская
женщина с покрывалом на лице, платком на голове и в платье до земли
выскочила из двери соседнего дома и побежала в поисках нового убежища,
словно жук, прятавшийся под камнем, который затем потревожили. Всего в
нескольких метрах от нее в землю ударил снаряд. После этого она уже не могла
бежать. Она лежала, корчилась и кричала.
-- Она тяжело ранена, -- сказал Рейвен пугающим тоном знатока.
Мойше подбежал к ней. Он понимал, что без лекарств и инструментов мало
чем может помочь.
-- Осторожнее! -- закричала вслед ему Ривка.
Он кивнул, но усмехнулся про себя. Как он может быть здесь осторожным!
Это зависело от снарядов, а не от него.
Женщина лежала в луже крови. Она причитала по-арабски, которого Мойше
не понимал. Он сказал ей, что он врач -- студент-медик звучало бы не слишком
убедительно, -- на немецком, идиш, польском и английском. Она не понимала ни
одного языка. Когда он попытался оторвать кусок ткани от платья, чтобы
забинтовать рану высоко на ноге, она стала отбиваться, будто подумала, что
он собирается изнасиловать ее прямо здесь. Может быть, она и в самом деле
думала так.
Подошел мужчина-араб.
-- Что ты тут делаешь, еврей? -- спросил он на плохом иврите, затем
повторил на ужасном английском.
-- Я -- доктор. Я стараюсь помочь ей, -- ответил Мойше также на двух
языках.
Мужчина перевел его слова на быстрый, как огонь, арабский язык.
Посредине его речи женщина перестала сопротивляться. Но не потому, что
покорилась. Мойше схватил ее за запястье. Пульса не было. Когда он отпустил
ее руку и та упала, араб понял, что это означает.
-- Иншаллах, -- сказал он и перевел на английский: -- Божья воля. Добро
вам за помощь, еврейский доктор.
Поклонившись, он ушел.
Качая головой, Русецкий вернулся к своей семье. Обстрел начал стихать.
Прижимаясь ближе к стенам, Мойше повел жену и сына по улицам Иерусалима. Он
не знал, чего ищет. Наверное, выход из города, какое-нибудь укрытие -- или
краешек Стены Плача.
Но прежде чем он нашел хоть что-нибудь, в нескольких сотнях футов на
улице вспыхнула перестрелка.
-- Это ящеры? -- воскликнула Ривка.
-- Не думаю, -- ответил Мойше. -- Скорее, это еврейские повстанцы
напали на англичан.
-- Ой! -- одновременно сказали Ривка и Рейвен.
Мойше печально склонил голову.
Стрельба -- из винтовок, автоматов, пулеметов, временами хлопки
минометов -- распространялась во всех направлениях словно лесной пожар.
Через пару минут семья Русецких уже пряталась в арке ворот, а повсюду вокруг
свистели и отскакивали пули. Несколько британских солдат в касках, в
рубашках и шортах хаки выскочили на улицу. Один заметил Мойше и его семью.
Он прицелился в них и закричал:
-- Не двигайтесь или будете трупами, еврейские ублюдки!
И только тут Мойше вспомнил про автомат, который лежал на земле возле
него. "Так дорого заплатить за то, чтобы взять в руки оружие", -- подумал
он.
-- Возьмите автомат, -- сказал он англичанину. -- Мы сдаемся.
Солдат громко спросил:
-- Можно взять пленных, сэр?
Русецкий сначала не понял, в чем дело. Затем до него дошло: если бы
солдат не получил разрешения, то застрелил бы их и побежал дальше. Мойше был
готов броситься к автомату. Если он должен погибнуть, он погибнет в бою.
Но парень со звездочками второго лейтенанта на погонах сказал:
-- Да, отведи их обратно в центр задержания. Если мы начнем убивать их,
эти безумцы будут уничтожать наших.
Он говорил безмерно горько и печально. Мойше надеялся, что Ривка не
поняла его слов.
Британский солдат подскочил и забрал автомат.
-- Встать! -- приказал он. Когда Мойше поднялся, солдат выхватил у него
магазины. -- Руки вверх! Если опустите руки, будете мертвыми -- ты, баба,
отродье, любой.
Мойше повторил приказ на идиш, чтобы жена и сын все поняли.
-- Марш! -- гаркнул англичанин.
Они подчинились. Солдат привел их на бывшую рыночную площадь. Колючая
проволока и посты с пулеметами вокруг превратили ее в лагерь для пленных. С
одной стороны находилась высокая стена, сложенная из больших камней, она
выглядела так, будто стоит на этом месте вечно. На верху стены располагалась
мечеть, золотой купол которой портила дыра, пробитая снарядом.
Мойше понял, что это за стена, только когда британский солдат загнал
его с семьей в эту большую клетку из колючей проволоки. Здесь они и
остались. Единственными санитарными устройствами были помойные ведра возле
колючей проволоки. У некоторых людей были одеяла, у большинства их не было.
Ближе к полудню охранники стали раздавать хлеб и сыр. Порции здесь были
побольше, чем в варшавском гетто, но не намного. Бочки для воды были
снабжены обычными ковшиками. Мойше помрачнел -- здесь должны кишеть болезни.
Он и его семья провели две неприятные холодные ночи -- спали,
обнявшись, на холодной голой земле. Артиллерийские снаряды падали повсюду,
некоторые -- в опасной близости. Если бы хоть один попал внутрь огороженного
колючей проволокой периметра, бойня получилась бы ужасной. Утром третьего
дня Иерусалим сотрясли сильные взрывы.
-- Англичане отступают! -- воскликнул кто-то уверенным юном. -- Они
взрывают то, что не могут унести с собой.
Мойше не знал, был ли прав этот парень, но незадолго до того охранники
бросили свои посты, прихватив с собой пулеметы.
Не прошло и нескольких минут после их исчезновения, как на площади
появились другие вооруженные люди: бойцы из еврейского подполья. Пленники
хрипло поздравляли друг друга, когда товарищи освобождали их из заключения.
Но вместе с евреями пришли ящеры. Мойше оцепенел: вот тот, возле ворот,
это не Золрааг? И в тот самый момент, когда он узнал этого ящера, Золрааг
узнал его и возбужденно зашипел:
-- Вот кто нам нужен, -- и добавил усиливающее покашливание.
* * *
-- Наконец-то прогресс! -- сказал Атвар.
Приятный морской бриз овевал его. Он шел вдоль северного берега
небольшого треугольного полуострова, который отделял Египет от Палестины.
Тепло, песок, камни напоминали ему о Доме. Это была очень приятная страна --
и тем не менее он должен был добираться сюда на вертолете, потому что
Большие Уроды не побеспокоились о необходимом количестве дорог.
Рядом с ним шел Кирел и некоторое время молчал: возможно, командир
корабля тоже вспоминал о мире, который он оставил ради вящей славы
Императора. Пара покрытых перьями летающих существ пролетела мимо двух
самцов. У них не было ничего общего с летающими существами, имеющими
кожистые крылья, с которыми Атвар был знаком до приезда на Тосев-3, лишний
раз напомнив ему, что это чужой мир. Самцы и самки, которые вылупятся здесь
после того, как прибудет флот колонизации, будут считать этих тосевитских
животных вполне обычными, непримечательными. А сам он вряд ли когда-нибудь
привыкнет к ним.
Он не думал также, что когда-нибудь сможет привыкнуть к Большим Уродам.
Но его не покидала надежда завоевать этот мир, несмотря ни на что.
-- Прогресс! -- повторил он. -- Наиболее важные центры Палестины в
наших руках, наступление на Денвер в целом более или менее
удовлетворительно... и мы теперь можем праздновать победу.
Не ответить означало для Кирела признаться, что он считает ошибочным
мнение командующего флотом. Подвергаясь опасности опалы, самец намекал на
это уже несколько дней. Поэтому Кирел сказал лишь:
-- Истинно. В этих областях мы наступаем.
К сожалению, ответ напомнил Атвару о многих других местах, где Раса
по-прежнему не могла наступать: о Польше, где создавали проблемы немцы; о
Китае, где захваченные города и дороги жались в сельской местности, словно в
море мятежа, и где даже контроль над городами временами был иллюзорным; о
СССР, где успехи на западе были сведены на нет советским наступлением в
Сибири; о центральной части Соединенных Штатов, где ракеты сделали уязвимыми
звездные корабли; об Индии, где Большие Уроды не особенно сопротивлялись, но
соглашались скорее умереть, чем подчиниться Расе.
Он шел сюда не для того, чтобы вспоминать о таких местах, и решительно
отодвинул их в дальний угол своей памяти. Даже уродливые летающие существа,
напоминавшие ему, что он очень далек от Родины, не портили это место,
предназначенное для отдыха, для наслаждения приличной -- более чем приличной
-- погодой и для того, чтобы заниматься чем-то очень приятным.
И, решительно переключившись, он сказал:
-- Наконец-то нам попались в руки этот агитатор, Мойше Русецкий, вместе
с ним его самка и их детеныш. Мы можем контролировать его через них или
совершить акт возмездия за многочисленные неприятности, которые он доставил
нам. Это тоже прогресс.
-- Также истинно, благородный адмирал. -- Поколебавшись, Кирел добавил:
-- Прежде чем наказать его, как он того заслуживает, следует, может быть,
допросить его, чтобы точно узнать, почему он выступил против нас, хотя
сотрудничал с нами вначале. Несмотря на все его последующие пропагандистские
выступления, полной ясности в этом вопросе так и не наступило.
-- Я хочу, чтобы он был наказан, -- сказал Атвар. -- Измена Расе --
неискупимое преступление.
Это было не совсем верно, в особенности на Тосев-3. Раса поддерживала
добрые отношения с Большими Уродами, которые приняли ее покровительство:
восстанавливать их против себя означало создать больше проблем, чем решить.
Но условия на Тосев-3 создавали двусмысленность и сомнения в великом
множестве вопросов. Почему же именно с этим должно быть по-другому? Атвар
высказался за букву закона.
-- Он обязательно будет наказан, благородный адмирал, -- сказал Кирел,
-- но в свое время. Давайте вначале узнаем от него все, что сможем. Мы ведь
не Большие Уроды, чтобы действовать неосмотрительно и уничтожить возможность
без того, чтобы узнать, как мы можем ее использовать. Мы будем стараться
править тосевитами в течение будущих тысячелетий. И то, что мы узнаем от
Русецкого, может дать нам ключ к тому, как делать это лучшим образом.
-- Ах, -- сказал Атвар. -- Теперь мои хеморецепторы чувствуют еще и
запах. Да, возможно, так и следует поступить. Как вы сказали, он в наших
руках, поэтому наказание, хотя и неизбежное, не должно быть проведено
поспешно. Несомненно, он должен чувствовать, что мы наказываем его по праву.
Этот мир постоянно заставляет меня спешить. Я должен вспоминать снова и
снова, что должен сопротивляться этому.
На встречу с нацистами Мордехай Анелевич отправился в компании взвода
евреев с автоматами и винтовками.
По взмаху его руки отряд спрятался за деревьями. Если на встрече
произойдет что-нибудь неладное, немцы дорого заплатят. Еще пару лет назад
еврейские бойцы не умели так ловко двигаться в чаще. Теперь
напрактиковались.
Анелевич шел по тропе к поляне, где должен был встретиться с нацистами.
После разговора с поляком, который называл себя Тадеуш, Анелевич был
настроен сомневаться во всем, что немец собирается сказать ему. С другой
стороны, он должен был бы сомневаться в любых предложениях Ягера и без
разговора с Тадеушем.
Как его проинструктировали, он остановился прежде, чем выйти на поляну,
и просвистел несколько первых нот из Пятой симфонии Бетховена. Он нашел, что
немцы сделали довольно забавный выбор: эти ноты соответствовали коду Морзе
для буквы "V" -- символа победы антифашистского подполья до нашествия
ящеров. Но когда кто-то просвистел мелодию в ответ, он двинулся дальше по
лесной тропе и вышел на открытое пространство.
Здесь стоял Ягер и рядом с ним высокий широкоплечий человек со шрамом
на лице и блеском в глазах. Из-за шрама трудно было определить выражение
лица этого крупного мужчины: Мордехай не мог определить, изображало ли оно
дружескую улыбку или злобную усмешку. Немец был в гимнастерке рядового, но
он был таким же рядовым, как Анелевич -- священником.
Ягер сказал:
-- Добрый день.
И протянул руку. Мордехай пожал ее: Ягер всегда был честен по отношению
к нему. Полковник-танкист сказал:
-- Анелевич, это полковник Отто Скорцени, который доставил ящерам
больше неприятностей, чем любые десять человек на ваш выбор.
Мордехай упрекнул себя за то, что не узнал Скорцени. Пропагандистская
машина немцев распространила о нем массу материалов. Если он в самом деле
сделал хоть четверть того, что говорил Геббельс, он был, несомненно, живым
героем. Теперь он протянул руку и прогудел:
-- Рад познакомиться с вами, Анелевич. Ягер сказал, вы с ним старые
друзья.
-- Да, мы знаем друг друга, штандартенфюрер. -- Мордехай согласился на
рукопожатие, но умышленно использовал эсэсовский ранг Скорцени вместо
воинского эквивалента, который назвал Ягер. "Я знаю, кто вы".
"Вот как?" -- высокомерно ответили глаза Скорцени.
Вслух он сказал:
-- Разве это не будет приятно? Неужели вы не хотите дать ящерам сапогом
по шарам, которых у них нет?
-- Им или вам -- мне безразлично.
Анелевич сказал это свободным непринужденным тоном. Скорцени произвел
на него большее впечатление, чем он того ожидал. Похоже, он не беспокоился о
том, будет он жить или умрет. Такое Мордехай видел и раньше, но никогда
фатализм не сочетался с таким количеством безжалостной энергии. Если
Скорцени умрет, он сделает все, чтобы его сопровождала достойная компания.
Он тоже изучал Анелевича, явно стараясь приучить его к своему
присутствию. Мордехай не отводил взгляда. Если бы эсэсовец попробовал
сделать что-то дурное, то пожалел бы. Но вместо этого он рассмеялся.
-- Все в порядке, еврей, перейдем к делу. У меня есть маленькая игрушка
для ящеров, и мне нужна некоторая помощь, чтобы доставить ее прямо в центр
Лодзи, где от нее будет больше всего пользы.
-- Звучит интересно, -- сказал Мордехай. -- Что же это за игрушка?
Расскажите мне о ней.
Скорцени прижал пальцем нос сбоку и подмигнул.
-- Это чертовски большая имбирная бомба, вот что это. Не просто
порошкообразное снадобье, как вы подумали, а аэрозоль, который заполнит все
сразу на большой площади и будет держать ящеров в отравленном состоянии, так
что они не смогут опомниться длительное время. -- Он наклонился вперед и
продолжил, понизив голос. -- Мы пробовали его на пленных ящерах, и
действовал он потрясающе. Вытряхивал им мозги.
-- Впечатляюще, -- ответил Анелевич.
"Если, конечно, он говорит правду. Но говорит ли? Если ты -- мышь,
пустишь ты в свою норку кота, который несет сыр?" Но лгал Скорцени или не
лгал, он этого, по крайней мере, ничем не показывал. Если же по странной
случайности он говорил правду, то имбирная бомба действительно может вызвать
хаос. Мордехай легко представил себе, как ящеры бьются друг с другом,
одурманенные имбирем настолько, что не в состоянии рассуждать здраво или же
вообще утратили способность думать.
Ему хотелось верить Скорцени. Если бы не туманное предостережение
Ягера, он вполне мог поверить. Что-то в этом эсэсовце заставляло собеседника
подчиняться его желаниям. Анелевич и сам в определенной степени обладал
таким даром и умел обнаруживать его в других -- а Скорцени превосходил его и
в том, и в другом.
Анелевич решил несколько обострить разговор, чтобы понять, что
скрывается за псевдоискренним фасадом.
-- Какого черта я должен верить вам? -- спросил он. -- Разве СС не
приносит евреям одни только беды?
-- СС приносит беды любым врагам рейха.
В голосе Скорцени прозвучала гордость. По-своему он был -- или казался
-- честным. Анелевич не понял, что предпочтительнее для него -- эта
честность или же лицемерие, к которому он был готов. Скорцени продолжил:
-- Кто теперь самый опасный враг рейха? Вы, жиды? -- Он покачал
головой. -- Конечно, нет. Опаснее всего ящеры. О них мы беспокоимся в первую
очередь, а уж потом -- обо всем прочем дерьме.
До нашествия ящеров самым опасным врагом рейха был Советский Союз. Это
не удержало нацистов от создания в Польше лагерей смерти, стоивших им
средств, которые можно было использовать для борьбы с большевиками.
Анелевич сказал:
-- Ну хорошо, предположим, вы изгоните ящеров из Лодзи и Варшавы. Что
тогда будет с нами, евреями?
Скорцени развел своими большими руками и пожал плечами.
-- Я не занимаюсь политикой. Я только убиваю людей. -- Удивительно, его
улыбка осталась обезоруживающей даже после того, как он произнес эти слова.
-- Вы не хотите быть с нами, а мы не хотим, чтобы вы были с нами, так что,
может быть, мы вышлем вас куда-нибудь. Кто знает? Может быть, на Мадагаскар:
была такая идея перед нашествием ящеров, но мы тогда не владели морями. --
Его кривая улыбка стала злобной. -- А может быть, даже и в Палестину. Черт
его знает -- как я обычно говорю.
Он был многословен. Он был убедителен. Своими рассуждениями он все
больше пугал.
-- Зачем использовать эту штуку в Лодзи? -- спросил Мордехай. -- Почему
не на фронте?
-- По двум причинам, -- отвечал Скорцени. -- Во-первых, в тылу в одном
месте сконцентрировано гораздо больше врагов. А во-вторых, у большинства
ящеров на фронте имеются защитные средства против газовых атак, которые
могут уберечь и от имбиря. -- Он хмыкнул. -- Имбирь -- это газовая война,
газ счастья, но все равно газ.
Анелевич повернулся к Генриху Ягеру.
-- А что вы думаете об этом? Она будет действовать? Если бы вам
потребовалось, вы применили бы ее?
На лице Ягера ничего не отражалось. Впрочем, Мордехай помнил, оно
вообще мало что показывало. Он уже почти пожалел о том, что сделал, -- он
задал самый жгучий в данный момент вопрос своему другу и союзнику в
вермахте. Ягер кашлянул и заговорил:
-- Я участвовал в стольких операциях с полковником Скорцени, что все и
не упомню.
Скорцени громко расхохотался. Не обращая на это внимания, Ягер
продолжил:
-- И я никогда не видел, чтобы он потерпел неудачу после того, как
поставил перед собой цель. Если он говорит, что это сработает, то лучше
прислушаться к нему.
-- О, я слушаю, -- сказал Анелевич. Он снова обратился к Отто Скорцени.
-- Итак, герр штандартенфюрер, что вы будете делать, если я скажу, что мы не
хотим иметь ничего общего с этим? Вы все равно попытаетесь доставить ее в
Лодзь?
-- Абер натюрлих! [Ну естественно! (нем.) -- Прим. перев.] --
Австрийский акцент Скорцени придавал его голосу аристократическую нотку,
уместную скорее для жителя Вены конца прошлого столетия, чем для нацистского
головореза. -- Мы так легко от своих планов не отказываемся Мы это сделаем,
с вами или без вас. С вашим участием, может быть, будет проще, и вы, евреи,
заслужите нашу благодарность. А поскольку мы собираемся выиграть войну и
править в Польше, мое предложение не кажется вам неплохой идеей?
"Вперед. Сотрудничайте с нами". Скорцени говорил напрямую. Мордехай
удивился, если бы обнаружил в нем утонченность. Он вздохнул.
-- Раз уж вы все представили таким образом, то...
Скорцени хлопнул его по спине, и достаточно сильно -- тот покачнулся.
-- Ха! Я знал, что вы -- умный еврей. Я...
Шум в лесу заставил его прерваться. Анелевич быстро сообразил, что это.
-- Значит, на нашу встречу вы захватили с собой друзей? Они должны были
устранить меня?
-- Я же сказал, что вы -- умный еврей, не так ли? -- ответил Скорцени.
-- Как скоро мы начнем? Я не люблю ждать попусту.
-- Дайте мне вернуться в Лодзь и подготовиться к доставке нашей
небольшой поклажи, -- сказал Мордехай. -- Я знаю, как связаться с
полковником Ягером, а он, вероятно, знает, как войти в контакт с вами.
-- Вероятно, да, -- сухо подтвердил Ягер.
-- Уже неплохо, -- сказал Скорцени, -- только не тяните черт знает
сколько, это все, что я хочу вам сказать. Помните, с вами или без вас, это
произойдет. И ящеры еще пожалеют о дне, когда выползли из своих яиц.
-- Вы вскоре услышите обо мне, -- пообещал Мордехай.
Он не хотел, чтобы Скорцени делал все один, что бы он там ни замышлял.
Эсэсовец способен достичь успеха. Он действительно сможет доставить ящерам
неприятности, но Анелевич не стал бы биться об заклад, что и евреи при этом
не пострадают.
Он громко свистнул, давая знак своим людям направиться вперед в Лодзь,
кивнул Ягеру и Скорцени и покинул поляну. В течение всего пути он был очень
задумчив.
-- Насколько все-таки мы доверяем немцам? -- задал он вопрос в
помещении пожарной команды на Лутомирской улице. -- Насколько мы можем
доверять немцам, в особенности после того, как один из них предупредил нас о
том, чтобы мы не доверяли?
-- Timeo Danaos et donas ferentes [Бойтесь данайцев, дары приносящих
(лат.). -- Прим. ред.], -- ответила Берта Флейшман.
Мордехай кивнул: он получил светское образование, и латынь успела ему
надоесть. Для тех, кто не знал Вергилия, Берта Флейшман перевела: "Я боюсь
греков, даже приносящих подарки".
-- Это точно, -- сказал Соломон Грувер.
Этот пожарный с резкими чертами обветренного лица выглядел
борцом-призером, хотя в 1939 году он был сержантом польской армии. Ему
удалось утаить это от нацистов, которые иначе его могли бы ликвидировать. И
это же сделало его чрезвычайно полезным для еврейского подполья: в отличие
от большинства соратников ему не надо было учиться военному делу с азов.
Он подергал себя за густую с проседью бороду:
-- Я временами думаю, что Нуссбойм был в конечном счете прав: лучше
жить под ящерами, чем с этими нацистскими, хлопающими бичом, mamzrim
[Надсмотрщиками (ивр.). -- Прим. пер.].
-- В любом случае мы вытащили короткую соломинку, -- сказал Мордехай.
Сидящие за столом согласно закивали. -- При нацистах короткая соломинка
достанется только нам, но она будет покрыта кровью. При ящерах ее получат
все, но, возможно, дело обернется не так плохо, как при немцах. -- Он
печально вздохнул. -- Значит, нужна сделка?
-- Так что же нам делать? -- не выдержал Грувер.
Это не было военным вопросом или, скажем, не совсем невоенным. Он
предоставлял руководство другим -- иногда даже заставлял других руководить
-- в политических решениях, затем имел железное собственное мнение, но
почему-то стеснялся руководить сам.
Все смотрели на Анелевича. Частично потому, что он встречался с
немцами, частично потому, что люди привыкли смотреть на него. Он сказал:
-- Я не думаю, что у нас есть выбор. Мы должны взять эту штуку у
Скорцени. В таком случае у нас будет какой-то контроль над ней, неважно, чем
это кончится.
-- Троянский конь? -- предположила Берта Флейшман.
Мордехай кивнул.
-- Верно. То, что задумано. Но Скорцени сказал, что сделает это с нами
или без нас. И я верю ему. Мы совершим серьезную ошибку, если не будем
воспринимать этого человека со всей серьезностью. Мы возьмем это,
постараемся разобраться, что это такое, и уйти отсюда. В противном случае он
найдет какой-нибудь способ доставить бомбу в Лодзь тайно, не оповещая нас...
-- Вы в самом деле думаете, что он справится? -- спросил Грувер.
-- Я говорил с этим человеком. Он способен на все, -- ответил Мордехай.
-- Единственный способ уберечься -- это изображать кучку доверчивых
shlemiels, которые верят всему, что он говорит. Может быть, тогда он доверит
нам выполнить для него грязную работу, не заглядывая внутрь этого троянского
коня.
-- А если это действительно самая большая в мире имбирная бомба, как он
говорит? -- спросил кто-то.
-- Тогда ящеры окажутся втянутыми в крупномасштабные беспорядки прямо в
центре Лодзи, -- ответил Мордехай. -- Alevai omayn -- вот все, что мы
получим.
* * *
-- Т-т-тома, -- ликующе произнес тосевитский детеныш и посмотрел прямо
на Томалсса.
Его подвижное лицо изобразило гримасу удовольствия.
-- Да, я -- Томалсс, -- согласился психолог.
Детеныш не умел контролировать собственные выделения, но уже учился
говорить. Насколько мог себе представить Томалсс, Большие Уроды были весьма
своеобразным видом.
-- Т-т-тома, -- повторил детеныш, добавив для большей точности
усиливающее покашливание.
Томалсс задумался, на самом ли деле он выделяет его имя или просто
воспроизводит другой, похожий на слово, звук, уже известный ему.
-- Да, я -- Томалсс, -- снова сказал он.
Если Большие Уроды обучаются языку способом, похожим на тот, который
используют детеныши Расы, то многократное прослушивание слов поможет ему
выучить их. В освоении речи он уже показал себя более зрелым, чем детеныши
Расы: и если он изучал слова, то усваивал их быстро. Но в координации он
уступал даже детенышам, еще сырым от жидкости собственного яйца.
Он повторил имя еще раз, но тут его внимания потребовал коммуникатор.
Психолог подошел к экрану и увидел Плевела.
-- Благородный господин, -- сказал он, включив свою видеокамеру, чтобы
Ппевел тоже мог его видеть. -- Чем могу служить вам, благородный господин?
Помощник администратора восточной части основной континентальной массы
не тратил времени на вежливость. Он сказал:
-- Подготовьте детеныша, который вышел из тела тосевитки по имени Лю
Хань, для немедленного возвращения на поверхность Тосев-3.
Томалсс давно знал, что этот удар близок. Он не смог удержаться от
шипения, выражающего боль.
-- Благородный господин, я должен обратиться к вам, -- сказал он. --
Детеныш находится в начале освоения языка. Отказаться от проекта означает
отринуть знания, которые невозможно получить другим способом, и нарушить
принципы научных исследований, которые Раса традиционно использует
независимо от обстоятельств.
Более веского аргумента он не нашел.
-- Традиции и Тосев-3 все в большей мере доказывают свою
несовместимость, -- ответил Ппевел. -- Я повторяю: подготовьте детеныша к
немедленной отправке на Тосев-3.
-- Благородный господин, будет исполнено, -- печально ответил Томалсс.
Послушание было нерушимым принципом Расы, незыблемой _традицией_. Несмотря
на это, он сделал еще одну попытку: -- Я протестую против вашего решения и
прошу, -- он не мог требовать, поскольку Ппевел был выше его рангом, --
чтобы вы сказали мне, почему вы приняли такое решение.
-- Я объясню вам причины -- или, скорее, причину, -- ответил помощник
администратора. -- Она очень проста: Народно-освободительная армия делает
жизнь в Китае невыносимой для Расы. Их недавняя акция, которая была
проведена день назад, включила в себя взрыв нескольких артиллерийских
снарядов крупного калибра, что привело к потерям большим, чем мы можем
допустить. Самцы из Народно-освободительной армии -- и одна обозленная
самка, детеныш которой находится у вас, -- пообещали сократить подобные
действия в обмен на возвращение этого детеныша. Такая сделка показалась мне
вполне стоящей.
-- Самка Лю Хань по-прежнему занимает высокий ранг в совете этой
бандитской группировки? -- хмуро спросил Томалсс.
Он был так уверен, что сумеет опозорить ее. Его план так хорошо
соответствовал психологии Больших Уродов. Но Ппевел ответил:
-- Да, она на своем посту и по-прежнему настаивает на возвращении
детеныша. Это стало нашим политическим долгом. Возвращение детеныша к
тосевитской самке Лю Хань может превратить этот долг в пропагандистскую
победу, которая приведет к уменьшению военного давления на наши силы в
Пекине. А поэтому в третий раз повторяю -- подготовьте детеныша для
немедленного возвращения на Тосев-3.
-- Будет исполнено, -- с досадой сказал Томалсс.
Ппевел этого не слышал: он уже отключился, без сомнения, затем, чтобы
не слышать дальнейших возражений Томалсса. Получилось грубо. Томалсс, к
сожалению для него, находился в таком положении, когда ему оставалось только
возмущаться.
Он должен был обдумать, что имел в виду Ппевел, говоря "немедленно". Он
должен позаботиться о том, чтобы тосевитский детеныш был обеспечен сухими
обертками, закрывающими его выделительные отверстия; эти обертки должны
также плотно охватывать ноги и среднюю часть тела детеныша. Спуск на
поверхность будет проходить в состоянии невесомости, и меньше всего он хотел
бы, чтобы извержения тела тосевита плавали вокруг него в корабле-челноке.
Если такое случится, то и пилот этому не обрадуется.
Он подумал, что следовало бы сделать что-то и со ртом детеныша. Было
известно, что Большие Уроды в невесомости страдают обратной перистальтикой,
как будто они извергают случайно проглоченный яд. Раса ничем подобным не
страдает. Томалсс приготовил несколько пакетов чистой ткани для обтирки, на
всякий случай.
Детеныш тем временем весело болтал. Звуки, которые он издавал теперь,
уже походили на те, которые использовались Расой, с учетом того, что
формировались несколько иным речевым аппаратом. Томалсс издал еще один
шипящий вздох. Теперь ему придется начать все заново с новым детенышем, и
пройдут годы, прежде чем он узнает все, что ему требуется в познании
тосевитского языка.
В открытой двери остановился Тессрек. Он не стал снимать решетку,
которую Томалсс установил, чтобы не допустить выхода детеныша в коридор, а
просто принялся насмехаться.
-- Я слышал, вы наконец-то избавляетесь от этой ужасной штуки. Я не
буду сожалеть, что наконец-то перестану видеть его -- и нюхать -- позвольте
мне сказать это.
Вряд ли Тессрек узнал новость от Ппевела. Но Ппевел мог обратиться к
самцу, который надзирал над Тессреком и Томалссом, чтобы убедиться в
исполнении приказа. И этого было достаточно, чтобы слух распространился
повсюду.
Томалсс сказал:
-- Идите заниматься собственными исследованиями, и пусть с ними
обойдутся так же бесцеремонно, как и с моими. У Тессрека открылся рот от
иронического смеха.
-- Мои исследования в отличие от ваших продуктивны, поэтому я не боюсь,
что они будут урезаны.
После этого он ушел, и вовремя, потому что Томалсс вполне мог швырнуть
в него чем-нибудь.
Немного спустя самец в красной с серебром раскраске пилота челнока с
сомнением -- одним глазом -- посмотрел через решетку в двери. Второй он
направил на Томалсса, сказав:
-- Готов ли Большой Урод к переезду, исследователь? В тоне его голоса
предостерегающе звучало "лучше, чтобы он был готов".
-- Он готов, -- недовольно сказал Томалсс. Изучив раскраску тела этого
самца еще раз, он добавил еще более недоброжелательным тоном: -- Благородный
господин.
-- Хорошо, -- сказал пилот челнока. -- Между прочим, я -- Хеддош.
Он назвал Томалссу свое имя так, словно был убежден, что исследователь
должен знать его.
Томалсс поднял тосевитского детеныша. Это было не так легко, как тогда,
когда существо только вышло из тела самки Лю Хань: оно стало гораздо больше
и тяжелее. Томалссу пришлось поставить мешок с запасами, который он взял с
собой, чтобы открыть решетку, и при этом детеныш едва не выскользнул из его
рук. Хеддош насмешливо фыркнул. Томалсс посмотрел на него: тот явно не
представлял трудностей, связанных с содержанием детеныша другого вида, чтобы
тот был жив и здоров.
Переход в челнок восхитил детеныша. Несколько раз он замечал что-то
новое и говорил "это" -- иногда с вопросительным покашливанием, иногда нет.
-- Он говорит? -- спросил Хеддош с удивлением.
-- Да, -- холодно ответил Томалсс. -- Он научился бы говорить еще
лучше, если бы мне дали продолжить мой эксперимент.
Теперь же детеныш должен будет освоить ужасные звуки китайского языка
вместо элегантного, точного и -- по мнению Томалсса -- прекрасного языка
Расы.
Лязгающий шум дверей шлюзов челнока напугал детеныша, и он плотно
прильнул к Томалссу. Тот успокаивал его, как мог, все еще стараясь увидеть в
случившемся светлую сторону. Единственное, что пришло ему в голову: до тех
пор, пока он не получит другого только что появившегося детеныша Больших
Уродов, он некоторое время может позволить себе вволю поспать.
Новые лязгающие звуки показали, что челнок отделился от звездного
корабля, к которому он был пришвартован. В отсутствие центробежной силы,
которая имитирует гравитацию, челнок перешел в состояние невесомости.
Томалсс с облегчением заметил, что детеныш не испытывал заметного
дискомфорта. Казалось, что новые ощущения он находит интересными, может
быть, даже приятными. Данные показывали, что у самки Лю Хань были точно
такие же реакции. Томалсс подумал, не передались ли они по наследству.
Это был долгосрочный исследовательский проект, думал он. Может быть,
кто-нибудь другой сможет начать его в безопасных условиях после окончания
завоевания. Он задумался: наступит ли когда-нибудь день, когда завоевание
закончится и воцарится безопасность. Произошло немыслимое -- Раса пошла на
уступки тосевитам в переговорах. Это сделал Ппевел, согласившись на передачу
им детеныша. Если вы начали делать уступки, то где же вы остановитесь? Мысль
была леденящей.
Раздался рев ракетного двигателя челнока. Ускорение швырнуло Томалсса
на сиденье и прижало к нему детеныша. Тот испуганно заплакал. Он снова его
успокоил, хотя вес детеныша привел его в состояние, далекое от комфорта.
Детеныш замолк до окончания ускорения и радостно завопил, когда вернулась
невесомость.
Томалсс задумался, смогла бы самка Больших Уродов Лю Хань так хорошо
обращаться с детенышем, даже если бы он находился при ней после того, как
вышел из ее тела? Он сомневался.
* * *
Когда Отто Скорцени вернулся к месту расположения танкового полка, он
улыбался от уха до уха.
-- Счисти с подбородка перья канарейки, которую ты сожрал, -- сказал
ему Генрих Ягер.
Эсэсовец сделал вид, что и в самом деле вытирает лицо. Ягер не выдержал
и расхохотался. Все-таки у Скорцени был стиль. Проблема состояла в том, что
было слишком много всего остального.
-- Свершилось, -- прогудел Скорцени. -- Евреи клюнули на эту историю,
как простодушная красотка, бедные проклятые дураки. Они прикатили телегу,
чтобы перевезти подарок, и пообещали, что проскользнут с ним мимо ящеров. Я
рассчитываю, что они управятся лучше, чем я сам. А как только они это
проделают...
Ягер откинул назад голову и провел указательным пальцем по горлу.
Скорцени кивнул, хмыкнув при этом.
-- На какое время поставлен таймер? -- спросил Ягер.
-- На послезавтра, -- ответил Скорцени. -- То есть у них будет
достаточно времени, чтобы доставить бомбу в Лодзь. Бедные глупые ублюдки. --
Он покачал головой, возможно, даже выражая искреннюю симпатию. -- Я
удивлюсь, если узнаю, что кто-нибудь когда-то в прошлом проделал такую
большую работу для самоубийства.
-- Масада, -- ответил Ягер, выкопав название из давно прошедших времен
-- еще до Первой мировой войны, -- когда он хотел стать археологом и изучать
Библию. Он понял, что для Скорцени это ничего не значит, и объяснил: -- Это
целый гарнизон, в котором воины перебили друг друга, вместо того чтобы
сдаться римлянам.
-- На этот раз их будет больше, -- сказал эсэсовец. -- Гораздо больше.
-- Да, -- рассеянно ответил Ягер.
Он не мог понять: Скорцени ненавидит евреев по убеждению или потому,
что получил приказ ненавидеть их? В конце концов, какое это имеет значение?
Он в любом случае проявлял бы по отношению к ним такую же гениальную
жестокость.
Дошло ли его послание до Анелевича? Ягер не переставал думать об этом
после встречи в лесу. Анелевич тогда не подал ему руки. Значит, он получил
послание и не поверил ему? Или он получил его, поверил, но не смог убедить
своих товарищей, что оно правдиво?
Способа проверить нет, тем более -- отсюда. Ягер покачал головой. Скоро
он все узнает. Если евреи в Лодзи послезавтра погаснут, как множество
свечей, значит, его послание было сочтено лживым.
Скорцени обладал звериной настороженностью.
-- В чем дело? -- спросил он, видя, как Ягер качает головой.
-- Да так, ничего. -- Полковник-танкист надеялся, что его голос
прозвучал обычно. -- Думаю о сюрпризе, который они получат в Лодзи -- так,
немного.
-- Если немного, то хорошо, -- сказал Скорцени. -- Глупые бараны. Они
ведь знают, что лучше не доверять немцам, но нет -- они идут прямо в пасть.
-- И он сардонически заблеял. -- И кровь агнца будет на дверях всех домов.
Ягер смотрел с удивлением: он не мог представить Скорцени знатоком
Священного Писания. Штандартенфюрер СС хмыкнул.
-- Фюрер мстит евреям, но кто знает? Мы ведь убьем и сколько-то ящеров.
-- Все будет еще лучше, -- ответил Ягер. -- Ты вырвешь сердце из
заселенного людьми района Лодзи, и после этого ничто уже не удержит
чешуйчатых сукиных сынов от выхода из города. Они смогут ударить по нашим
базам севернее и южнее Лодзи и разрезать нас пополам Вот это слишком высокая
цена за месть фюрера, если хочешь знать мое мнение.
-- Твое мнение никого не интересует. В отличие от мнения фюрера, --
сказал Скорцени. -- Он сказал мне это сам -- он хочет, чтобы эти евреи были
мертвыми евреями.
-- Могу ли я спорить? -- сказал Ягер.
Ответ был простым: он не мог. Поэтому он сделал попытку обойти личный
приказ фюрера, так ведь? Что ж, если кто-нибудь когда-нибудь обнаружит, что
он сделал, он в любом случае будет мертвым. Мертвее мертвого он не станет.
"Нет, но они могут сделать долгим процесс превращения живого в мертвого", --
подумал он, проникаясь тревогой.
Он бросился на землю за мгновение до того, как подсознательно услышал
свист снарядов, летящих с востока. Скорцени растянулся возле него, закрывая
руками шею. Где-то неподалеку кричал раненый. Обстрел длился около
пятнадцати минут, затем прекратился
Ягер поднялся на ноги.
-- Нам надо переместить лагерь! -- закричал он. -- Они знают, где мы
находимся. Нам на этот раз повезло -- насколько я понял, это были обычные
снаряды, а не эти их особые штуки, которые плюются минами по большой
площади, так что и люди, и танки не осмеливаются высунуться из щелей. По
всем признакам, этих маленьких красавиц у них теперь не хватает, но они их
применят, если поймут, что выигрыш того стоит. Мы этого им не позволим.
Едва он кончил говорить, как ожили первые двигатели танков. Он гордился
своими людьми. Большинство были ветеранами, прошедшими сквозь все, что
обрушили на них русские, британцы и ящеры. Они понимали, что делать и о чем
побеспокоиться, и создавали минимум хлопот и неразберихи. Скорцени был
гениальным разбойником, но управлять таким полком, как этот, не смог бы. У
Ягера были свои таланты, которыми не следовало пренебрегать.
Пока полк менял свое местоположение, у Ягера не было времени думать об
ужасе, который должен произойти в Лодзи и который приближался с каждым
тиканьем таймера. Скорцени прав: евреи дураки, раз доверились какому-то
немцу. Теперь вопрос стоял так: в отношении какого именно немца они
оказались дураками, поверив ему?
И на следующий день он был слишком занят, чтобы беспокоиться об этом.
Контратака ящеров заставила немцев отступить на запад на 6 или 8 километров.
Танки полка один за другим превращались в обожженный и искореженный
металлолом: два -- от огня танковых орудий, прочие -- от противотанковых
ракет, которые использовала пехота ящеров. Единственный танк ящеров был
подбит рядовым вермахта, который бросил с дерева бутылку "коктейля Молотова"
прямо в башню через открытый люк, когда танк проезжал мимо. Это произошло
перед заходом солнца и, похоже, само по себе остановило наступление
противника. Ящерам не нравилось терять танки.
-- Нам надо сделать кое-что получше, -- сказал он своим людям, когда
ночью они ели черный хлеб и колбасу. -- Мы не можем больше допускать ошибок,
если не хотим быть погребенными здесь.
-- Но, герр оберст, -- сказал кто-то, -- когда они двигаются, то делают
это чертовски быстро.
-- Хорошо, что у нас глубокая защита, иначе они бы смели нас сразу, --
сказал кто-то еще.
Ягер кивнул, радуясь тому, как люди сами анализируют ситуацию. Именно
так германские солдаты и должны действовать. Они ведь не просто
невежественные крестьяне, которые выполняют приказы, не думая о них, как
красноармейцы. Они обладают мозгами и воображением -- и используют их.
Он уже собирался развернуть походную постель под своей "пантерой",
когда в лагере появился Скорцени. Эсэсовец притащил кувшин водки, которую он
нашел бог знает где, и пустил его по кругу, чтобы каждый мог сделать глоток.
Это была неважнецкая водка -- ее запах напомнил Ягеру выдохшийся керосин, --
но все равно лучше, чем вообще ничего.
-- Размышляешь, не собираются ли они снова ударить по нам утром? --
спросил Скорцени.
-- Пока это не произойдет, наверняка не знаю, -- ответил Ягер, -- но
если тебя интересуют предположения, то скажу -- нет. Теперь они наступают,
когда думают, что обнаружили слабое место, но сразу же ослабляют напор, как
только мы показываем силу.
-- Они не могут позволить себе такие потери, которые неизбежны при
наступлении на сильное соединение, -- злобно сказал Скорцени.
-- Думаю, ты прав. -- Ягер бросил взгляд на эсэсовца. -- Мы могли бы
использовать этот нервно-паралитический газ здесь, на фронте.
-- А, ты бы сказал так, даже если бы все было спокойно, -- возразил
Скорцени. -- Делается то, что должно произойти, и именно там, где надо, --
проворчал он. -- Я хочу, чтобы твои радисты были готовы к перехватам
сообщений на эту тему. Если ящеры не сожгут все частоты, я съем свою шляпу.
-- Прекрасно. -- Ягер демонстративно зевнул. -- В данный момент я
собираюсь спать. Хочешь заползти сюда? Самое безопасное место, если они
снова начнут обстрел. Я хорошо знаю, как ты храпишь, но думаю, что переживу.
Скорцени рассмеялся. Гюнтер Грилльпарцер сказал:
-- Он тут не единственный, кто храпит.
Выданный собственным наводчиком, Ягер устроился на ночь. Пару раз он
просыпался от звуков перестрелки. Наступление началось на рассвете, но --
как он и предсказывал -- ящеры были больше заинтересованы в закреплении
того, что завоевали в предыдущий день, чем в преодолении усиливающегося
сопротивления.
Отто Скорцени не обманывал, когда говорил, что надеется на бдительность
радистов. Для вящей надежности он болтался среди них и развлекал бесконечным
потоком непристойностей. Большинство рассказов были неплохими, а некоторые
оказались в новинку даже для Ягера, который считал, что слышал уже все
когда-либо придуманное в этом жанре.
Когда утро уступило место полдню, нервы Скорцени начали сдавать. Он
метался по лагерю, пиная грязь и расшвыривая весенние цветы.
-- Черт побери, мы уже должны были перехватить что-нибудь от евреев или
ящеров Лодзи, -- бушевал он.
-- Может быть, все они мертвы? -- предположил Ягер.
Эта мысль ужаснула его, но могла успокоить Скорцени. Но большой
эсэсовец только покачал головой.
-- Надеяться на это не приходится. В таких обстоятельствах обязательно
кто-то выживает по той или иной глупой случайности.
Ягер вспомнил о сквернослове Максе, еврее, выжившем в Бабьем Яру.
Скорцени был прав.
-- Нет, что-то где-то ушло на юг.
-- Думаешь, таймер не сработал, как надо? -- спросил Ягер.
-- Считаю, что это возможно, -- согласился Скорцени, -- но зажарьте
меня вместо шницеля, если я когда-нибудь слышал об отказе таймера. Они
защищены не только от дурака, но и от идиота, а кроме того -- они
продублированы. Рассылая товар вроде этого, мы хотим быть уверены, что он
подействует, как указано в рекламе. -- Он хмыкнул. -- Это то самое качество,
которое люди, не любящие нас, называют немецкой аккуратностью, а? Нет,
единственно, от чего эта бомба могла не сработать...
-- Что? -- спросил Ягер, хотя у него была своя идея. -- Раз в ней был и
резервный таймер, то он должен был сработать.
-- Единственно, от чего эта бомба могла не сработать... -- задумчиво
повторил Скорцени. Его серые глаза широко раскрылись. -- Единственно, от
чего эта бомба могла не сработать, так только из-за этого вонючего
маленького жида, который отводил мне глаза, и суньте меня в дерьмо, если он
своего не добился! -- Он хлопнул себя по лбу. -- Ублюдок! Дерьмо! Наглец!
Если я еще раз встречусь с ним, отрежу ему шары, по одному. -- Затем, к
удивлению Ягера, он засмеялся. -- Он обвел меня, как сосунка. Не думал, что
кто-то из живых людей способен такое проделать. Я бы пожал ему руку, но
после того, как кастрировал, не раньше. Говоришь "глупый жид" и считаешь это
само собой разумеющимся, и вот на тебе. Иисус Христос!
"Тоже ведь еврей", -- подумал Ягер, но вслух сказал:
-- И что теперь? Если евреи в Лодзи узнают, что это такое, -- ("А если
знают или предполагают, то это благодаря мне, и как я теперь должен себя
чувствовать?"), -- то в их руках окажется нечто такое, что они смогут
использовать против нас.
-- И думать не хочу, -- с отвращением -- то ли к евреям, то ли к себе
-- сказал Скорцени.
Он не привык проигрывать. И вдруг просиял. На мгновение он снова
проявил свою дьявольскую суть.
-- А может, нам накрыть город ракетами или обстрелять из дальнобойной
артиллерии, чтобы подорвать эту проклятую штуку, хотя бы затем, чтобы евреи
не смогли использовать ее против нас? -- Он печально всхлипнул. -- Но
результат будет слишком уж кровавый.
-- Тоже верно, -- согласился Ягер, словно симпатизируя ему. -- Ракеты
нанесут мощный удар, но ты не можешь быть уверен, что они вообще попадут в
город, не говоря уже о нужной улице.
-- Хотел бы я иметь несколько тех игрушек, которые умеют делать ящеры,
-- сказал Скорцени, все еще обиженный на весь свет. -- Они могут попасть не
только в нужную улицу. Они могут в качестве цели выбрать твою комнату. Черт
возьми, они могут залететь даже в нужник, если пожелают. -- Он почесал
подбородок. -- Ладно, так или иначе, евреи за это заплатят. И одним из тех,
кто соберет эту плату, буду я.
Он произнес это с большой уверенностью.
* * *
В одной из комнат главного госпиталя армии и флота в Хот-Спрингс было
собрано столько автомобильных аккумуляторных батарей, что пришлось даже
укрепить пол, чтобы он выдержал их вес. Среди оборудования, захваченного у
ящеров и питавшегося от этих батарей, был и радиоприемник, снятый с челнока,
на котором Страха спустился на землю, когда сбежал в Соединенные Штаты.
Теперь они с Сэмом Игером сидели перед приемником, перебирая частоты
одну за другой, стараясь определить, что собирается делать Раса. До
настоящего времени им удалось поймать не так уж много. Страха не без
удовольствия повернулся к Игеру и спросил:
-- Сколько наших самцов вы используете в практике шпионажа и сбора
сигналов?
-- Сколько? Кто знает, -- ответил Сэм. Если бы он даже и знал, он не
сказал бы это Страхе. Одно из правил, которое он усвоил, состояло в том, что
не следует никому говорить, будь то человек или ящер, того, что тот не
должен знать. -- Но много, порядочно. Немногие из нас, Больших Уродов, -- он
непроизвольно воспользовался кличкой, которой ящеры одарили человечество, --
говорят на вашем языке настолько хорошо, чтобы понимать без помощи кого-то
из нас.
-- Вы, Сэм Игер, по моему мнению, можете добиться успеха, -- сказал
Страха, и Сэм почувствовал себя чертовски польщенным.
Он подумал, что овладел бы языком ящеров еще лучше, если бы ему не
требовалось проводить время с Робертом Годдардом. С другой стороны, он узнал
бы намного больше о ракетах, если бы ему не требовалось проводить время со
Страхой и другими пленными ящерами.
И он куда больше знал бы о своем маленьком сынишке, если бы он не
служил в армии. Не говоря уже о Барбаре: он беспокоился о том, что мало
видится с нею. Не хватало часов в сутках, в году, в жизни, чтобы сделать
все, что ему хотелось. Это верно во все времена, но во время войны стараться
охватить все означает где-то прищемить нос.
Страха коснулся рычажка изменения частоты. Цифры ящеров на указателе
говорили о том, что новая частота на одну десятую мегагерца выше прежней
(точнее, примерно на одну восьмую мегагерца -- ящеры, естественно,
использовали свою систему измерений, отличающуюся от человеческой). Из
громкоговорителя раздался голос самца.
Игер наклонился вперед и начал вслушиваться. Очевидно, ящер находился в
тылу и жаловался на ракеты, которые падали неподалеку, нарушая снабжение
войск, наступающих на Денвер.
-- Это хорошая новость, -- сказал Сэм, делая запись.
-- Истинно так, -- согласился Страха. -- Ваши рискованные шаги в
неисследованные технологии приносят хороший выигрыш вашему роду. Если бы
Раса была так же склонна к новшествам, Тосев-3 была бы давно завоевана --
при условии, конечно, что Раса не превратилась бы в новаторском раже в
радиоактивную пыль.
-- Вы думаете, что мы сотворили бы это и сами, если бы не ваше
вторжение? -- спросил Сэм.
-- Это весьма вероятно, -- ответил Страха, и Игер почти согласился с
ним.
Бывший командир переключил радио на другую частоту. На этот раз речь на
языке ящеров звучала сердито.
-- Он приказывает снять с должности, понизить в ранге и перевести
местного командующего в регион под названием Иллинойс, -- сказал Страха.
Игер кивнул. -- А где это место, Иллинойс?
Сэм показал по карте. Он тоже вслушивался.
-- Что-то о группе пленников, сбежавших или спасенных или что-то
подобное. Парень, который ругается, в самом деле прав, не так ли?
-- Если сказать какому-то самцу, что кто-то нагадил в его яйцо до того,
как он вылупился, драка гарантирована, -- сказал Страха.
-- Верю. -- Сэм еще некоторое время послушал сообщение. -- Они
переводят этого некомпетентного офицера в штат Нью-Йорк. -- Он сделал
запись. -- Это стоит запомнить. Если повезет, мы тоже сможем использовать
его слабость.
-- Истинно, -- снова сказал Страха задумчивым голосом, -- вы, Большие
Уроды, активно используете разведывательные данные, которые собираете, а вы
их собираете в огромных количествах. А в собственных конфликтах вы делаете
то же самое?
-- Не знаю, -- ответил Игер, -- раньше я никогда не был на войне, и на
этой войне я тоже простой человек.
Он вспомнил о временах игры в бейсбол и о значках, которые воровал он
вместе со своими товарищами. В этом деле Остолоп Дэниелс показал себя
настоящим гением. Он задумался, что сейчас с Остолопом -- если он вообще
жив.
Страха переключился на следующую частоту. Какой-то ящер возбужденным
голосом читал длинное запутанное сообщение.
-- А, вот это особенно интересно, -- сказал Страха, когда сообщение
закончилось.
-- Я не все понял, -- признался Сэм, смущенный похвалой Страхи за
владение языком ящеров. -- Что-то об имбире и обмане калькулятора, вот что
там было.
-- Обман не калькулятора, а компьютера, -- сказал Страха. -- Я не
осуждаю вас за то, что вы не все понимаете. Вы, Большие Уроды, хотя и имеете
большие достижения в технике, пока что не осознаете реального потенциала
вычислительных машин.
-- Наверное, нет, -- сказал Игер. -- Мы к тому же не понимаем, как
можно с их помощью совершать преступления.
У Страхи открылся рот от изумления.
-- Совершить преступление легко. Самцы в бухгалтерском отделе
превращали выплаты поставщикам имбиря в счета, о которых знали только они,
поставщики имбиря и, конечно, компьютер. Поскольку больше никто не знал о
существовании этих счетов, то непосвященный в их тайну не мог иметь к ним
доступа. Компьютеры не объявляли об их наличии, так что, по существу, схема
была идеальна.
-- У нас есть поговорка: идеальных преступлений не бывает, -- заметил
Игер. -- А что пошло неправильно у них?
Страха рассмеялся снова.
-- От случайностей ничто не защищено. Самец в бухгалтерском отделе, не
участвовавший в преступном сговоре, проверял один законный счет и, набрав
его номер, обнаружил, что видит один из скрытых счетов. Он сразу же понял,
что это такое, и доложил вышестоящим, которые начали более широкую проверку.
Многие самцы окажутся теперь в трудном положении.
-- Надеюсь, вы не рассердитесь, если скажу вам, что услышанное меня не
расстроило, -- сказал Сэм. -- Кто бы мог подумать, что Раса превратится в
наркоманов? Вы становитесь почти такими же, как люди. Не обижайтесь.
-- Я постараюсь, -- с достоинством сказал Страха.
Игер сохранял невозмутимое выражение лица: Страха уже довольно точно
истолковывал человеческие эмоции, и Игеру не хотелось, чтобы тот понял,
насколько смешным он порой бывает.
Игер сказал:
-- Вряд ли мы как-нибудь сможем использовать эту новость, разве что она
заставит некоторых из ваших соплеменников задуматься, кем в действительности
являются самцы, не употребляющие имбиря. Что-то в этом духе.
-- У вас злобно вывернутый разум, Сэм Игер, -- сказал Страха.
-- Благодарю вас, -- ответил Игер.
Страха в испуге резко повернул оба глаза в его сторону и рассмеялся,
поняв, что это шутка. Игер предложил:
-- Вы можете поговорить с нашими людьми, которые занимаются
пропагандой, и спросить, не захотят ли они, чтобы вы выступили по радио по
этому поводу. Кто знает, во что это выльется?
-- С кем именно? -- спросил Страха. -- Я сделаю это.
Это не было обычным "будет исполнено" -- употребляемым ящерами
эквивалентом "есть, сэр!" -- но прозвучало более уважительно, чем обычно.
Мало-помалу Игер завоевывал у Страхи уважение.
Когда его смена закончилась, он направился к лестнице, чтобы подняться
к Барбаре и Джонатану, но наткнулся в холле на Ристина и Ульхасса. Эти двое
военнопленных-ящеров были его старыми друзьями, он взял их в плен еще летом
1942 года, когда нашествие ящеров только началось и казалось неудержимым. В
данное время они стояли на верном пути превращения в американцев и с
гордостью носили свою официальную раскраску, обозначавшую американских
военнопленных, -- красно-белую с голубым. За прошедшее время они вполне
прилично освоили английский язык.
-- Эй, Сэм, -- сказал Ристин, -- как насчет бейсбола после полудня?
-- Да, -- эхом отозвался Ульхасс. -- Бейсбола! -- И добавил усиливающее
покашливание.
-- Может, попозже, не сейчас, -- ответил Сэм, на что оба ящера ответили
разочарованным шипением.
Благодаря своим быстрым и точным движениям они стали удивительно
способными игроками -- особенно в середине поля, -- и их охотно принимали в
игру. Вдобавок малый рост и врожденный наклон вперед обеспечивали их зоной
удара размером в почтовую марку, поэтому они хорошо подходили на роль
игрока, начинающего игру, -- вернее, самца, начинающего игру, -- даже если
сильный удар по мячу им удавалось нанести нечасто.
-- Прекрасная погода для игры, -- сказал Ристин, стараясь уговорить
Сэма.
Многие солдаты в свободное время играли в мяч, но Ристин и Ульхасс были
всего лишь ящерами, которые присоединялись к игре. А Игера зазывали все как
профессионального игрока, набравшегося опыта за долгие годы. Но теперь
Ристина и Ульхасса все чаще отличали не за их чешую, а за то, как они
играли.
-- Может быть, попозже, -- повторил Сэм. -- Сейчас я хочу увидеть жену
и сына, если вы не очень возражаете.
Ящеры покорно вздохнули. Они знали, что значит семья для тосевитов, но
не ощущали реальности этого -- точно так же, как Игер не воспринимал нутром,
как много значит для них их драгоценный Император. Он пошел к лестнице. А
Ристин и Ульхасс стали отрабатывать подачу. Ристин, который большей частью
играл вторым, чертовски быстро выполнял поворот.
На четвертом этаже Джонатан жаловался на несовершенство мира. Слушая
его вой, Сэм радовался тому, что живущих на этом же этаже ящеров нет дома и
они не слышат шума, который и Сэма временами немного раздражал, а ведь он
был человеческим существом.
Плач прекратился внезапно. Сэм знал, что это значит: Барбара дача
ребенку грудь. Сэм улыбнулся, открывая дверь в комнату. Он тоже любил груди
жены.
Барбара сидела на стуле и кормила Джонатана. Она уже не выглядела такой
ужасно измученной, как сразу после родов, но до прежней бойкости было
далеко.
-- Привет, дорогой, -- сказала она, -- не закроешь ли дверь тихо? Он
может уснуть. Он буйствовал так, что, должно быть, очень устал.
Сэм отметил грамматическую точность речи, характерную для его жены. Он
иногда завидовал ее высшему образованию, сам он бросил школу ради бейсбола,
хотя ненасытная любознательность заставляла его постоянно изучать
грамматику. Барбара никогда не жаловалась на недостаток у него формального
образования, но сам он очень страдал.
Джонатан все же уснул. Ребенок подрос, теперь в колыбели он занимал
больше места, чем сразу после рождения. Сэм коснулся руки жены и сказал:
-- У меня есть для тебя подарок, дорогая. Вообще-то он для нас обоих,
но тебе достанется первой. Я удерживался целое утро, поэтому думаю, что
смогу подождать еще немного.
Он сумел заинтриговать ее.
-- Что у тебя такое? -- выдохнула она.
-- Ничего особенного, -- предупредил он. -- Не алмаз и не открытый
автомобиль.
Они оба рассмеялись, хотя смех был нерадостным. Пройдет немало времени
-- если оно вообще когда-нибудь наступит, -- чтобы можно было начать думать
о прогулке в открытом автомобиле. Он сунул руку в карман и вытащил новую
трубку из кукурузного початка и кожаный кисет с табаком.
-- Вот.
Она удивленно раскрыла глаза.
-- Где ты добыл это?
-- Один цветной рано утром был у нас и продавал это, -- ответил Сэм. --
Он из северной части штата, там еще выращивают табак. Обошлось в пятьдесят
баксов, но не беда. Все равно деньги тратить не на что, так почему бы нет?
-- Я вовсе не против. Да нет, я -- за! -- Барбара сунула пустую трубку
в рот. -- Такую никогда раньше не курила. Я, наверное, похожа на бабушку из
южных штатов.
-- Милая, для меня ты всегда прекрасна, -- сказал Игер.
Выражение лица Барбары смягчилось. Поддерживать у жены хорошее
настроение не так уж сложно -- в особенности если вы вкладываете смысл в
каждое высказываемое слово. Он потыкал пальцем в кисет.
-- Ты хотела бы, чтобы я набил трубку для тебя?
-- Да, пожалуйста, -- сказала она.
У него была зажигалка "Зиппо", заправленная теперь не специальной
жидкостью, а самогоном. Он с ужасом думал, что когда-нибудь закончатся
кремни, но пока этого не случилось. Он крутанул колесико большим пальцем.
Бледное, почти невидимое пламя горящего спирта возникло над нею. Он поднес
его к табаку, в чашке трубки.
Щеки Барбары запали, когда она стала втягивать в себя дым.
-- Осторожнее. -- предупредил Сэм. -- Трубочный табак гораздо крепче,
чем тот, который в сигаретах, и...
Их глаза встретились. Она закашлялась, словно захлебнувшись.
-- ...ты в последнее время вообще не курила, -- закончил он уже без
всякой необходимости.
-- Ничего себе! -- Ее голос стал скрежещущим. -- Помнишь тог отрывок из
"Тома Сойера"? "Первые трубки... но когда я потерял свой ножик", что-то
вроде этого. Теперь я понимаю, что чувствовал Том. Очень крепкий табак.
-- Дай мне попробовать, -- сказал Сэм и взял у нее трубку.
Он осторожно затянулся. Он был знаком с трубочным табаком и знал, что
может сделать с человеком любой табак, если ты некоторое время не курил. Но
Барбара была нрава: этот табак был дьявольски крепким. Его следовало бы
обрабатывать -- для смягчения -- минут пятнадцать, может быть, даже
двадцать. При курении возникало такое ощущение, словно скребли грубой
наждачной бумагой по языку и небу. Слюна заливала рот. Примерно на секунду
он почувствовал головокружение, почти потерю сознания -- хотя знал, что не
следует набирать много дыма в легкие. Он тоже пару раз кашлянул.
-- Ух ты!
-- Ладно, отдай, -- сказала Барбара. Она сделала еще одну, более
осмотрительную попытку, затем выдохнула: -- Боже! По отношению к обычному
табаку это то же самое, что самогон -- к настоящему алкоголю.
-- Ты слишком молода, чтобы знать о самогоне, -- сурово сказал он. В
его памяти всплыли воспоминания о некоторых неприятных моментах. Он снова
затянулся. Сравнение было не самое неудачное.
Барбара захихикала.
-- Один мой любимый дядя в свободное время занимался бутлегерством. У
нас была вечеринка по случаю окончания школы -- вот с этих пор я и знаю про
самогон, между прочим. -- Она снова взяла трубку у Сэма. -- Мне надо немного
времени, чтобы снова к этому привыкнуть.
-- Да, пока кисет не опустеет, -- согласился он. -- Один бог знает,
когда этот цветной парень снова появится в городе -- если вообще появится.
Они выкурили трубку до конца, затем набили ее снова. Комната
наполнилась густым дымом. Глаза Сэма слезились. Он чувствовал легкость и
расслабленность, как после сигареты в старые добрые дни. Правда, при этом он
ощущал легкое головокружение и привкус сырого мяса во рту, но это пустяки.
-- Неплохо, -- сказала она отстраненно и разразилась очередным
приступом кашля. -- Стоящая вещь.
-- Я тоже так считаю. -- Сэм рассмеялся. -- Знаешь, кого мы напоминаем
сейчас? -- Когда Барбара покачала головой, он ответил на свой вопрос сам: --
Мы похожи на пару ящеров, которые засунули языки в банку с имбирем.
-- Какой ужас! -- воскликнула Барбара. Подумав, она добавила: -- Это
ужасно, но, пожалуй, ты прав. Нам нравится наркотик -- табак я имею в виду.
-- Конечно, ты права. Пару раз я пытался бросить, когда играл в мяч, --
не нравилось, как это действует на легкие. И не смог. Нервничал и корчился и
еще не знаю что. Когда табака не достать, это не так уж плохо: у тебя нет
выбора. Но когда табак перед глазами каждый день, нам не утерпеть.
Барбара снова затянулась и сделала гримасу.
-- Наверняка имбирь на вкус лучше.
-- Да, я тоже так считаю -- теперь, -- сказал Сэм. -- Но если бы я
курил постоянно, так бы уже не думал. Ты знаешь, вообще-то вкус кофе тоже
довольно мерзкий, иначе мы не улучшали бы его сливками и сахаром. Но я хотел
бы выпить кофе, к которому привык, если бы он у нас был.
-- Я тоже, -- грустно сказала Барбара. Она показала на колыбель. -- С
его привычкой просыпаться, когда ему это приходит в голову, мне бы
пригодилось немного кофе.
-- Несомненно, мы с тобой -- пара одурманенных наркотиками. По части
кофе.
Игер взял у нее трубку и затянулся. Теперь дым уже не казался таким
неприятным. Он задумался: стоит ли надеяться, что этот негр снова появится с
табаком -- или лучше не связываться с ним?
* * *
Партизанский командир, толстый поляк, который назвался Игнацием, с
удивлением взирал на Людмилу Горбунову.
-- Это вы пилот? -- скептически спросил он на правильном немецком
языке.
Людмила, не отвечая, смерила его изучающим взглядом. Осмотр внушил ей
серьезные опасения. Во-первых, почти единственный способ оставаться жирным в
эти дни сводился к эксплуатации обширного большинства тощих, едва ли не до
полного их истощения. Во-вторых, его имя звучало очень похоже на "наци", а
она начинала нервничать, только услышав это слово. Она ответила также
по-немецки:
-- Да, я -- пилот. А вы командир партизан?
-- Боюсь, что так, -- сказал он. -- За последние несколько лет было не
так много приглашений нанять учителя фортепиано.
Людмила снова принялась изучать его, на этот раз по другой причине.
Значит, это представитель мелкой буржуазии? Он определенно старался скрыть
свою классовую принадлежность: начиная от плохо выбритых щек до
перекрещенных на груди патронташей и разбитых сапог он выглядел как человек,
который всю свою жизнь был бандитом -- и все его предки в течение многих
поколений. Она с трудом могла представить его изучающим этюды Шопена с
усталыми молодыми учениками.
Рядом с ней стоял Аврам и смотрел вниз -- на свои покрытые рубцами
руки. Владислав глазел на вершину липы, под которой они стояли. Оба они,
сопровождавшие ее от Люблина, молчали. Они выполнили свое задание, доставив
ее сюда. Теперь наступила ее очередь.
-- У вас здесь есть самолет? -- спросила она, решив не придавать
значения внешности, имени или классовой принадлежности Игнация. Дело есть
дело. Если великий Сталин мог заключить пакт с фашистом Гитлером, то она
постарается сладить с вооруженным шмайссером учителем фортепиано.
-- У нас есть самолет, -- согласился он.
Возможно, он тоже стремился преодолеть свое недоверие к ней,
социалистке и русской. Во всяком случае он стал объяснять в подробностях:
-- Он приземлился, когда ящеры выставили отсюда немцев. Мы не думаем,
что с ним что-то не в порядке, исключая то, что у него кончилось топливо. У
нас теперь есть топливо, есть новая аккумуляторная батарея, заряженная. Мы
также слили старое масло и гидравлическую жидкость и заменили и то и другое.
-- Это уже хорошо, -- сказала Людмила. -- Какого типа самолет?
Она предполагала, что это может быть "Мессершмитт-109". Она никогда
прежде не летала на настоящем истребителе. Наверное, это будет веселая
жизнь, но уж очень короткая. Ящеры с ужасающей легкостью посбивали
"мессершмитты" и самолеты советских ВВС в первые же дни нашествия.
Но Игнаций ответил:
-- Это -- "Физлер-156". -- Он увидел, что это название ничего не
говорит Людмиле, и поэтому добавил: -- Они называют его "шторх" -- журавль.
Кличка тоже не помогла.
Людмила сказала:
-- Думаю, будет лучше, если вы мне дадите взглянуть на машину.
-- Да, -- сказал он и опустил руки, словно на воображаемую клавиатуру.
Он наверняка был учителем фортепиано. -- Идемте со мной.
От лагеря Игнация до самолета было около трех километров Эти три
километра по неровной тропе свидетельствовали, какие тяжелые бои проходили
здесь. Земля была покрыта воронками от снарядов, повсюду валялись куски
металла и обгоревшие остовы бронетехники. Людмила прошла мимо множества
спешно вырытых могил, большинство с крестами, некоторые со звездой Давида, а
часть -- вообще без ничего. Она показала на одну.
-- Кто похоронен здесь? Ящер?
-- Да, -- снова сказал Игнаций. -- Священники, насколько я знаю, до сих
пор не решили, есть ли у ящеров душа.
Людмила не знала, что ответить, и поэтому промолчала. Она не думала,
что у нее есть душа -- в том смысле, какой подразумевал Игнаций. Люди,
слишком невежественные, чтобы постичь диалектический материализм, всегда
беспокоятся об ерунде!
Она задумалась, где же скрыт гипотетический "Физлер-156". В
окрестностях была лишь парочка зданий, к тому же настолько разрушенных, что
в них нельзя было спрятать не только самолет, но даже автомобиль. Он подвел
ее к небольшому холму и сказал:
-- Мы сейчас стоим прямо на нем.
В голосе его слышалась гордость.
-- Прямо на чем? -- спросила Людмила, когда он повел ее вниз по другому
склону холма.
Они прошли еще немного вбок -- и теперь все стало ясно.
-- Боже мой! Вы возвели над самолетом плоскую крышу!
Вот это была маскировка, к которой бы даже Советы отнеслись с
уважением.
Игнаций заметил восхищение в ее голосе.
-- Так мы и сделали, -- сказал он. -- Нам казалось, что это лучший
способ сохранить его.
Она смогла только кивнуть. Они проделали огромную работу, хотя даже не
могли летать на самолете, который прятали. Командир партизан вытащил свечу
из кармана своего вермахтовского мундира.
-- Там темно: земля и сети загораживают свет.
Она подозрительно взглянула на Игнация и коснулась рукояти своего
"Токарева". Она не любила, когда мужчины водили ее одну в темное место.
-- Только не делайте глупостей, -- посоветовала она.
-- Если бы я не делал глупости, то разве стал бы партизаном? -- спросил
он.
Людмила нахмурилась, но промолчала. Наклонившись, Игнаций поднял край
маскировочной сетки. Людмила вползла под нее. Затем, в свою очередь, она
подержала сетку для польского партизана.
Пространство под маскирующей платформой было слишком обширным, чтобы
одна свеча могла осветить его. Игнаций направился к машине. Людмила
последовала за ним. Когда слабый свет упал на самолет, глаза ее расширились.
-- О, вот какая, -- выдохнула она.
-- Вы ее знаете? -- спросил Игнаций. -- Вы можете летать на ней?
-- Я знаю эту машину, -- ответила она. -- Я не знаю пока, смогу ли я
летать на ней. Надеюсь, что смогу.
"Физлер", или "шторх", был монопланом с высоко расположенным крылом,
немного больше, чем ее любимый "кукурузник", и не намного быстрее. Но если
"кукурузник" был рабочей лошадью, то "шторх" -- тренированным скакуном. Он
мог взлетать и садиться почти на месте, вообще не требуя пространства.
Держась против слабого ветерка, он мог зависать на месте, почти как вертолет
ящеров. Людмила взяла свечу у Игнация и обошла вокруг самолета, восхищенно
изучая огромные закрылки, рули высоты и элероны, которые позволяли машине
делать все эти трюки.
Не на каждом "шторхе" было вооружение, но этот располагал двумя
пулеметами -- один под фюзеляжем, второй за спиной пилота, чтобы огонь из
него мог вести наблюдатель. Она поставила ногу на ступеньку, открыла дверь
со стороны пилота и взобралась в кабину.
Закрытая кабина была полностью остекленной, и поэтому обзор из нее был
гораздо лучше, чем из открытой кабины "кукурузника". Она задумалась: каково
это -- летать без потока воздуха, бьющего в лицо? Затем поднесла свечу к
панели приборов и с изумлением принялась рассматривать. Сколько шкал,
сколько указателей... как же летать, если надо все сразу держать в поле
зрения?
Все было выполнено по гораздо более высоким стандартам, чем те, к
которым она привыкла. Она и раньше видела различное немецкое оборудование:
нацисты делали свои машины, как точные часы. Советский подход, напротив,
заключался в том, чтобы выпустить как можно больше танков, самолетов,
орудий. Пусть они сделаны грубо, что с того? Им все равно предстоит гибель.
[Вообще-то именно простота устройства (а следовательно, и надежность)
является едва ли не главным показателем совершенства военной техники. К
слову сказать, приборные доски у немецких самолетов имели меньше приборов и
всяческих тумблеров-кнопок-переключателей, чем у аналогичных советских, что
свидетельствовало о более высокой технической культуре. -- Прим. ред.]
-- Вы сможете летать на нем? -- повторил Игнаций, когда Людмила с
заметной неохотой спустилась из кабины.
-- Да, думаю, что смогу, -- ответила Людмила.
Свеча догорала. Они с Игнацием направились к сетке, под которой
следовало проползти. Она бросила последний взгляд на "шторх", надеясь стать
наездником, достойным этого красавца.
* * *
С юга Москвы доносился гул выстрелов советской артиллерии, бьющей по
позициям ящеров. Отдаленный гул достигал даже Кремля. Услышав его, Иосиф
Сталин изменился в лице.
-- Ящеры осмелели, Вячеслав Михайлович, -- сказал он.
Вячеслав Молотов не обратил внимания на скрытый смысл этих слов. "Это
ваш просчет", -- словно говорил Сталин.
-- Как только мы сможем изготовить еще одну бомбу из взрывчатого
металла, Иосиф Виссарионович, мы напомним им, что заслуживаем уважения, --
ответил он.
-- Да, но когда это произойдет? -- строго спросил Сталин. -- Эти так
называемые ученые все время мне лгали. И если они не начнут действовать
быстрее, то пожалеют об этом -- и вы тоже.
-- А также весь Советский Союз, товарищ генеральный секретарь, --
сказал Молотов.
Сталин всегда думал, что все ему лгут. Чаще всего люди действительно
лгали -- просто потому, что слишком боялись сказать ему правду. Молотов
пытался объяснить ему, что после использования бомбы, изготовленной из
взрывчатого материала ящеров, СССР еще долгое время не сможет сделать еще
хотя бы одну. Но тот не пожелал слушать. Он редко хотел кого-либо слушать.
Молотов продолжил:
-- Однако, кажется, вскоре мы будем иметь больше такого оружия.
-- Я слышал это обещание и прежде, -- сказал Сталин. -- Я уже устал от
него. Когда именно новая бомба появится в нашем арсенале?
-- Первая -- к лету, -- ответил Молотов.
При этих словах Сталин сел и сделал запись для памяти.
-- Работа в "колхозе" за последнее время привела к замечательному
прогрессу, я рад доложить об этом.
-- Да, Лаврентий Павлович сказал мне то же самое. Я рад слышать это, --
подчеркнуто сказал Сталин. -- Я бы обрадовался еще больше, если бы это
обернулось правдой.
-- Так и будет, -- сказал Молотов.
"Будет еще лучше". Но теперь он начал думать, что благодарить,
очевидно, следует Берию. Доставить этого американца в "колхоз 118" оказалось
мастерским ходом. Его присутствие и его идеи демонстрировали -- иногда очень
болезненным образом, -- насколько далеко отставала от капиталистического
Запада советская исследовательская ядерная программа. Он воспринимал как
само собой разумеющееся и теорию, и инженерную практику, которые Курчатов,
Флеров и их коллеги только начинали постигать. Но благодаря его знаниям
советская программа наконец начала продвигаться.
-- Я рад услышать, что у нас будет такое оружие, -- повторил Сталин, --
рад и за вас, Вячеслав Михайлович.
-- Служу Советскому Союзу! -- сказал Молотов.
Он схватил стакан водки, стоявший перед ним, залпом выпил ее и наполнил
стакан снова из стоявшей рядом бутылки. Он понимал, что имел в виду Сталин.
Если рабочие и крестьяне Советского Союза не получат вскоре бомбу из
взрывчатого металла, то они получат нового комиссара иностранных дел. Будет
виноват в провале именно он, а не старый друг Сталина из Грузии -- Берия,
Сталин не испытывал аллергии, когда писал "ВМН" ["Высшая мера наказания". --
Прим. перев.] папках подследственных, намеченных к ликвидации.
-- Когда у нас будет вторая бомба, товарищ генеральный секретарь, --
сказал Молотов, решительно отказываясь думать о том, что случится с СССР и с
ним самим, если что-то сорвется, -- я рекомендую использовать ее сразу же.
Сталин пыхнул трубкой, посылая нераспознаваемые дымовые сигналы.
-- Когда была первая бомба, вы возражали против ее использования.
Почему теперь вы изменили мнение?
-- Потому что когда мы использовали первую, мы не имели в резерве
второй, и я боялся, что это станет очевидным, -- ответил Молотов. -- Но
теперь, используя новую бомбу, мы не только докажем, что она у нас есть, но
также продемонстрируем способность изготовить и другие бомбы.
Поднялось еще одно облако неприятного дыма.
-- В этом есть смысл, -- сказал Сталин, медленно кивнув головой. -- Это
послужит предупреждением не только ящерам, это предостережет также и
гитлеровцев: с нами шутить нельзя. И этот же сигнал дойдет и до американцев.
Неплохо, Вячеслав Михайлович.
-- В первую очередь, как вы сказали, ящерам.
Это Молотов сказал сугубо деловым тоном. Он не хотел показать Сталину
свой страх перед высказанной угрозой, хотя генеральный секретарь был уверен,
что напугал его. Так или иначе, внешне он не выдал своего отношения. Но вряд
ли он мог обмануть Сталина. Он играл на эмоциях своих подчиненных, как на
струнах скрипки, противопоставляя одного человека другому, как дирижер
оркестра, развивающий расходящиеся темы.
-- Помня о первой очереди, мы должны также помнить, что она не
единственная. После того как ящеры заключат мир с Родиной... -- Сталин
остановился и мечтательно выпустил дым.
Молотов привык вслушиваться в тонкие нюансы речи генерального
секретаря.
-- После того, как ящеры заключат мир, Иосиф Виссарионович? А не после
того, как они будут побеждены, уничтожены или изгнаны из этого мира?
-- Товарищ народный комиссар -- только для ваших ушей. Я не думаю, что
это в наших силах, -- сказал Сталин. -- Мы будем использовать бомбы -- если
ученые соблаговолят дать их нам. Мы уничтожим скопления ящеров, какие
сможем. Они, в свою очередь, уничтожат один из наших городов -- это обмен
ударами, который они практикуют. Победить на таких условиях мы не сможем.
Наша цель теперь -- убедить врагов, что они тоже не смогут победить, им
достанутся только руины, если война продлится.
-- В таком случае, какие условия вы намереваетесь предложить? --
спросил Молотов.
"И как долго вы намерены считаться с ними?" -- пришло ему в голову, но
задать этот вопрос Сталину смелости не хватило. Генеральный секретарь был
безжалостно прагматичен, он выжал все преимущества из пакта с Гитлером.
Одного он не ожидал -- что Гитлер превзойдет его в безжалостности и ударит
первым. Любой мир с ящерами аналогично мог быть только временным.
-- Я хочу изгнать их из СССР, -- сказал Сталин, -- за границы, которые
существовали на 22 июня 1941 года. После этого можно вести переговоры обо
всем. Пусть фашисты и капиталисты торгуются за свои страны. Если они
потерпят неудачу, я не шевельну и пальцем, чтобы помочь им. Как вы знаете,
они мне не помогают.
Молотов кивнул, соглашаясь с этим и одновременно обдумывая
обоснованность решений генерального секретаря. Они соответствовали тем,
которые Сталин принимал в прошлом. Вместо того чтобы раздувать пожар мировой
революции, к чему призывали троцкисты, Сталин сосредоточился на
строительстве социализма в одной стране. Теперь он мог использовать этот же
подход для строительства независимой державы людей.
-- Ящеры -- империалисты, -- сказал Молотов. -- Можно ли заставить их
отступиться от их тщательно продуманной концепции завоевания? Вот мое
главное сомнение, Иосиф Виссарионович.
-- Мы можем превратить Советский Союз в бесполезную территорию.
По тону слов Сталина можно было понять, что он готов сделать именно то,
что сказал. Молотов не думал, что генеральный секретарь блефует. Прежде он
обладал властью, чтобы выполнить подобное, но не имел возможности. Физики
дали ему такую возможность. Может ли главнокомандующий флотом ящеров
сравниться с генеральным секретарем в силе характера? Единственными
встретившимися Молотову людьми, которые достигли этого уровня, были Ленин,
Черчилль и Гитлер. Мог ли Атвар сравниться с ними? Сталин ставил на кон
судьбу своей страны, чего пришельцы сделать не могли.
Молотов чувствовал бы себя более уверенным, если бы в прошлом у Сталина
не было этой катастрофической недооценки Гитлера. Из-за этой ошибки он и
СССР были близки к гибели. Если он допустит подобную ошибку, используя бомбы
из взрывчатого металла, то не выживет ни он, ни Советский Союз, ни
марксизм-ленинизм.
Как сказать Сталину об этих опасениях? Молотов выпил второй стакан
водки. Он не видел выхода.
Снова на фронт. Если бы не долг чести, бригадный генерал Лесли Гровс
предпочел бы остаться в Денверском университете со своим, так сказать,
вязаньем -- другими словами, с производством атомных бомб и с уверенностью в
том, что умными могут быть не только ящеры.
Но когда командующий фронтом приказывает вам прибыть, вы подчиняетесь.
Омар Брэдли в каске нового образца, с тремя золотыми звездами на ней,
со своего наблюдательного пункта показал в сторону фронта и заявил:
-- Генерал, мы бьем их, нет никакого сомнения. Они платят за каждый
дюйм, который захватывают, -- платят больше, чем могут себе позволить, если
наши разведданные хотя бы отчасти правдивы. Мы бьем их, как уже я сказал, но
они продолжают захватывать дюйм за дюймом, и мы этого больше допустить не
можем. Вы поняли, что я сказал?
-- Да, сэр, -- ответил Гровс. -- Мы собираемся использовать атомное
устройство, чтобы остановить их.
-- Или два. Или три. Сколько понадобится, -- сказал Брэдли. -- Они не
должны прорваться в Денвер. Это теперь sine qua non [Непременное условие
(лат.). -- Прим. перев.].
-- Да, сэр, -- повторил Гровс.
В данное время он располагал одной, только одной готовой к
использованию атомной бомбой. И в течение нескольких недель новых не
появится. Брэдли должен был об этом знать. А на случай, если не знает, Гровс
ему напомнил. Большими красными буквами.
Брэдли кивнул.
-- Я понимаю, генерал. И это мне не нравится. Что ж, даже первая
заставит их качнуться назад и даст нам время сделать следующую, только и
всего.
Звено американских самолетов, долго хранившихся на случай самой крайней
нужды, пронеслось над ними на бреющем полете. У этих машин, "Киттихоук"
Р-40, на капотах радиаторов под двигателями были намалеваны страшные акульи
пасти. Пулеметы на крыльях били по боевым порядкам ящеров. Одной машине
удалось подбить вражеский вертолет, который рухнул на землю, объятый
пламенем.
Летчики вскоре прекратили атаку, которая могла закончиться их гибелью,
и повернули обратно. Две машины взорвались в воздухе, причем вторая -- с
таким громким ударом, что он заглушил шум боя. Остальные вернулись на
удерживаемую американцами территорию.
-- Приятно видеть, как ящеры принимают угощение, а не подают его, --
сказал Гровс.
Брэдли кивнул.
-- Надеюсь, пилоты успеют сесть, выйти из машин и спрятаться в укрытие
до того, как ракета ящеров догонит их.
Он слыл "солдатским генералом" за то, что в первую очередь заботился о
людях. Гровс почувствовал слабый упрек совести -- ему это в голову не
пришло.
И словно для примера на позиции американцев, как устремившийся на
добычу орел, спикировал истребитель ящеров. Вместо когтей он использовал
ракеты, Мужчины -- и несколько женщин -- с красными крестами в белых кругах
на касках и на нарукавных повязках побежали к передовой, чтобы перенести
раненых в полевые госпитали.
-- Ящеры ведь не стреляют умышленно в медиков, так ведь? -- сказал
Гровс. -- Они лучше соблюдают правила, чем япошки!
-- Так больше говорить нельзя. Япония теперь на нашей стороне.
Нарочито сухой тон и сурово поднятые брови указывали, что высказывание
Брэдли не следует принимать уж слишком всерьез.
Еще один истребитель ящеров нанес удар по позициям американцев, на этот
раз совсем близко от наблюдательного пункта, где находились Гровс и Брэдли:
они оба нырнули в укрытие, чтобы защититься от осколков бомб и пушечного
огня.
Гровс выплюнул землю. Такой вкус войны был совсем не похож на привычный
ему. Он уже забыл, как выглядит покрытый грязью мундир.
Брэдли воспринял все это спокойно, хотя сам тоже не привык к настоящему
реальному бою. Спокойно, как будто продолжал стоять на ногах, он сказал:
-- Мы хотим поместить бомбу в место, где ящеры сконцентрировали войска
и запасы. И мы стараемся, как можем, достичь такой концентрации. Главная
сложность -- сделать все так, чтобы ящеры не заметили наших усилий, пока не
будет слишком поздно.
-- Скажите мне, сэр, куда ее доставить, и я это выполню, -- сказал
Гровс, изо всех сил стараясь не уступать Брэдли в апломбе. -- В конце
концов, именно так я зарабатываю свое жалование.
-- То, как вы реализуете ваш проект, заслуживает всяческих похвал,
генерал, -- сказал Брэдли. -- Когда генерал Маршалл -- госсекретарь Маршалл
-- посылал меня руководить защитой Денвера, он очень хорошо отозвался о вас
и о сотрудничестве, которого я могу ожидать с вашей стороны. И я не
разочаровался.
Похвала, высказанная Джорджем Маршаллом, -- это настоящая похвала.
Гровс сказал:
-- Мы можем доставить бомбу на фронт в грузовике с усиленной подвеской
или в конном экипаже, что будет медленнее, но не так подозрительно. Если
потребуется, мы можем доставить ее по частям и собрать там, где мы будем ее
взрывать. Этот зверь имеет пять футов в ширину и более десяти в длину, так
что для него нужна чертовски большая клетка.
-- М-мм, я должен подумать над этим, -- сказал Брэдли. -- Прямо сейчас
я склонен проголосовать против. Как я понимаю, если мы потеряем любую из
важных частей, то, имея все остальное, эта штука сработать не сможет.
Правильно?
-- Да, сэр, -- ответил Гровс. -- Если вы попытаетесь завести мотор
джипа, у которого нет карбюратора, вы не доберетесь дальше того места, до
которого можно дойти пешком.
Грязь, покрывавшая лицо Брэдли, делала его улыбку еще ярче и
приветливее.
-- Достаточно честно, -- сказал он. -- Мы будем делать все возможное,
чтобы избежать ее применения, -- мы провели контрнаступление в районе
Кайова, это чуть южнее, и у меня есть некоторые надежды. Ящеры испытывают
трудности на равнинах к юго-западу от Денвера, и в этом районе они до сих
пор не смогли реорганизовать войска. Мы можем нанести им порядочный ущерб.
-- Он пожал плечами. -- Или, наоборот, мы можем просто принудить их
сконцентрировать войска перед взрывом бомбы. Пока не попробуем, не узнаем.
Гровс стряхнул землю, прилипшую к рубашке и брюкам.
-- Я сделаю то, что вы скажете, сэр.
Эти слова дались ему нелегко. Он привык быть самой крупной военной
рыбой в денверском пруду. Но он мог защитить его от ящеров не лучше, чем
Брэдли управился бы с проектом Металлургической лаборатории.
Брэдли подозвал адъютанта.
-- Джордж, доставьте генерала Гровса обратно в Денверский университет.
Он будет ожидать там нашего приказа, в зависимости от развития ситуации.
-- Да, сэр. -- Джордж выглядел пугающе чистым и отглаженным. Он отдал
честь и повернулся к Гровсу. -- Если вы пойдете со мной, сэр...
Их ожидал джип. Гровс вздохнул с облегчением: по делам службы ему
приходилось большую часть дня разъезжать в седле, а поскольку он был очень
толстым, то верховая езда не доставляла радости ни ему, ни лошади. Но на
обратном пути он то и дело посматривал на небо. Ящеры взяли моду
обстреливать автомобили.
Ему удалось вернуться в университетский городок в целости.
В этот вечер сильный грохот орудийных залпов доносился с юго-востока, а
вспышки света на горизонте напоминали далекую зарницу. Гровс поднялся на
крышу Научного центра, но ничего нового не увидел. Он надеялся, что это
заградительный огонь, а не что-то другое.
На следующее утро, когда солнце еще не взошло, его разбудил помощник.
-- Сэр, генерал Брэдли у телефона.
Гровс зевнул, протер глаза, провел руками по волосам, пригладил
непослушные усы, которые щекотали ему нос. К моменту, когда он взял трубку
телефона, примерно через сорок пять секунд после пробуждения, голос его уже
звучал уверенно и связно, хотя сам уверенности пока не ощущал.
-- Гровс у телефона.
-- Доброе утро, генерал, -- прозвучал голос Брэдли на фоне помех,
причиной которых был, скорее всего, телефон -- так, по крайней мере, он
надеялся. -- Вы помните о том багаже, который мы обсуждали вчера. Похоже,
его требуется доставить нам.
Сон сняло как рукой.
-- Да, сэр, -- сказал он. -- И как я вам докладывал, мы готовы. Э-э, вы
хотите получить его собранным или я должен послать частями?
-- В собранном виде будет быстрее, не так ли? -- Не ожидая ответа,
Брэдли продолжил. -- Лучше доставить его так. Мы хотели бы открыть его как
можно скорее.
-- Да, сэр. Я так и сделаю, -- сказал Гровс и положил трубку.
Он скинул пижаму и начал надевать форму, ворча на бесполезную трату
времени, требуемого на одевание. Если Гровс в деле, он никогда не мешкает.
Он пулей пронесся мимо своего помощника, не сказав даже "доброе утро", и
направился на перерабатывающий завод, где хранилась последняя атомная бомба.
Очень скоро часть Колорадо будет объята огнем.
* * *
Сердце Лю Хань колотилось, когда она подходила к павильону маленьких
чешуйчатых дьяволов, который портил красоту острова посередине озера в
Запрещенном Городе. Повернувшись к Нье Хо-Т'ингу, она сказала:
-- По крайней мере, мы одержали настоящую победу против маленьких
дьяволов.
Нье бросил взгляд на нее.
-- Ты имеешь в виду свою победу. Она мало что значит в народной борьбе
против империалистической агрессии, разве что сможем выжать из нее кое-что
для наших пропагандистских целей.
-- Моя победа, -- согласилась Лю Хань.
Насколько она знала, он ставил идеологию и социальную борьбу впереди
любви, будь то любовь между мужчиной и женщиной или между матерью и
ребенком. Большинство членов центрального комитета разделяли его взгляды. Лю
Хань иногда задумывалась, являются ли они на самом деле людьми.
-- Я надеюсь, что ты не допустишь, чтобы твой личный триумф стал для
тебя важнее дела, которому ты служишь, -- сказал Нье.
Возможно, он был менее подчинен чувствам, чем обычный человек, а может
быть, просто держал их в крепких вожжах, -- но он был далеко не глуп.
Маленький чешуйчатый дьявол направил автоматическую винтовку на
приближающихся людей. На приличном китайском он приказал:
-- Вы войдете в палатку. Вы дадите нам посмотреть, что вы не несете
скрытого оружия с собой. Вы пройдете через эту машину.
И он показал на контролирующее устройство.
Лю Хань уже однажды проходила через него, Нье Хо-Т'инг -- много раз.
Никто из них никогда и не пытался пронести тайно оружие. У Нье была
информация, что машина начнет издавать дьявольский шум, если обнаружит
что-либо опасное. И пока Народно-освободительная армия не нашла способа
обмануть ее. Лю Хань подозревала, что раньше или позже это произойдет. На
дело коммунизма работали и очень умные люди.
Машина молчала. За нею стоял еще один вооруженный маленький дьявол,
который сказал:
-- Проходите.
Слово прозвучало невнятно, но ошибиться в значении жеста было
невозможно.
В палатке маленький чешуйчатый дьявол по имени Ппевел сидел за столом,
возле которого Лю Хань его видела в прошлый раз. Рядом сидел самец с куда
более скромной раскраской тела -- его переводчик. Ппевел заговорил на своем
шипящем и щелкающем языке. Переводчик перевел его слова на китайский.
-- Вам надо быть сидящими.
Он показал на два необыкновенно пышных кресла, стоящих перед Нье и Лю
Хань. Они отличались от тех, которые были здесь при первом посещении Лю
Хань, и, вероятно, означали более высокий статус посланцев
Народно-освободительной армии.
Лю Хань почти не заметила этого. Она надеялась увидеть за столом вместе
с Плевелом Томалсса и даже надеялась увидеть свою дочь. Она задумалась, как
же должен выглядеть ребенок, матерью которого была она, а отцом --
иностранный дьявол Бобби Фьоре. Затем ее потрясла поистине ужасная мысль: а
что, если маленькие дьяволы решили заменить рожденного ею ребенка другим,
такого же возраста и вида? Как она сможет это определить?
Ответ был простым и чудовищным: никак. Она вознесла про себя молитву
Амиде Будде, чтобы такая мысль не пришла в голову дьяволам. Она знала, что
Нье Хо-Т'инг ставил Амиду Будду не выше любого другого бога или демона и
считал, что и другим не следует думать иначе. Лю Хань пожала плечами. Такова
была его идеология. Она не могла не видеть в этом определенной правоты.
Ппевел заговорил снова. Переводчик перевел:
-- Мы возвращаем этого детеныша самке как символ нашей готовности
давать в обмен на получение. Мы ожидаем в обмен остановку ваших партизанских
нападений здесь, в Пекине, на полгода. Так договорились?
-- Нет, -- сердито ответил Нье Хо-Т'инг. -- Согласие давалось только на
три месяца -- четверть года.
Сердце Лю Хань упало. Неужели она снова потеряет свою дочь из-за
какой-то четверти года?
Ппевел и переводчик снова заговорили между собой на своем языке. Затем
переводчик сказал:
-- Пожалуйста, извините меня. Четверть года для вас, людей, будет точно
соответствовать соглашению. Для моего народа это полгода.
-- Очень хорошо, -- сказал Нье. -- Тогда мы согласны. Принесите
девочку, которую вы украли в ходе систематической эксплуатации этой
угнетенной женщины. -- Он показал на Лю Хань. -- И хотя мы не
договаривались, я требую, чтобы вы извинились за те страдания, которые она
перенесла от ваших рук, а также за пропагандистскую кампанию по очернению,
которую вы вели против нее в усилиях, направленных на то, чтобы не
возвращать самую маленькую жертву вашей несправедливости.
Переводчик перевел все это Ппевелу. Маленький дьявол с причудливо
раскрашенным телом произнес короткое предложение-ответ, закончив его
усиливающим покашливанием.
Переводчик сказал:
-- Об извинении договоренности не было, значит, не будет и извинения.
-- Ладно уж, -- тихо сказала Лю Хань Нье. -- Меня не интересуют их
извинения. Я хочу вернуть моего ребенка.
Он поднял бровь и ничего не ответил. Она поняла, что он потребовал их
извинения не ради нее или, по крайней мере, не только ради нее одной. Он
действовал так ради дела, стараясь добиться морального превосходства над
чешуйчатыми дьяволами, так же как это он делал при контактах с японцами или
гоминдановской кликой.
Ппевел отвел оба своих глаза от человеческих существ, повернув их к
отверстию, которое вело в заднюю часть огромной палатки. Он сказал что-то на
своем языке. Лю Хань непроизвольно сжала кулаки -- она расслышала имя
Томалсса. Ппевел повторил свои слова.
Вошел Томалсс. Он нес дочь Лю Хань.
Вначале она была не в состоянии рассмотреть, как выглядит ребенок, --
глаза ее, залитые слезами, ничего не видели.
-- Дайте мне ее, -- тихо сказала она.
Ярость, которую она должна была ощутить при встрече с маленьким
дьяволом, укравшим ее дитя, просто не возникла. Она рассеялась при виде
маленькой девочки.
-- Будет исполнено, -- ответил Томалсс на своем языке фразой, которую
она поняла. Затем он перешел на китайский. -- По моему мнению, возвращение
этого детеныша вам -- ошибка. Детеныш мог бы принести гораздо большую пользу
для связи между вашим родом и моим.
Сказав это, он сердито бросил ребенка Лю Хань.
-- А по моему мнению, вы принесли бы гораздо большую пользу в виде
нечистот, -- прорычала она и оттащила дочь подальше от чешуйчатого дьявола.
Теперь она впервые смогла рассмотреть свою маленькую девочку. Цвет ее
кожи был не совсем таким, как у китайского ребенка: кожа чуть светлее и чуть
грубее. Лицо ее было также чуть длиннее и менее плоским; шейка -- тонкая,
напомнившая Лю Хань Бобби Фьоре, -- и положила конец ее страхам. Чешуйчатые
дьяволы не подменили ребенка. Глазки ребенка имели правильную форму -- они
не были круглыми и не выглядели, как у иностранного дьявола.
-- Добро пожаловать домой, маленькая, -- мурлыкала Лю Хань, прижимая
крошку к себе. -- Иди к своей маме.
Ребенок начал плакать. Он смотрел не на нее, а на Томалсса, стараясь
вырваться и вернуться к нему. Острый нож прошелся по сердцу Лю Хань. Звуки,
которые издавала ее дочь, не были похожи на звуки китайского языка или языка
иностранных дьяволов, на котором говорил Бобби Фьоре. Это были шипенье и
щелчки ненавистной речи маленьких чешуйчатых дьяволов. Среди них безошибочно
угадывались усиливающие покашливания.
Томалсс заговорил с выражением презрительного удовлетворения:
-- Как видите, детеныш привык к компании самцов Расы, а не к вашему
роду. Тот язык, на котором говорит детеныш, -- это наш язык. Его привычки --
это наши привычки. Да, он выглядит как Большой Урод, но мыслит как
представитель Расы.
Лю Хань пожалела, что не пронесла в палатку оружие. Она с радостью
прикончила бы Томалсса за то, что он сделал с ее дочерью. Ребенок продолжал
извиваться, стараясь вырваться и вернуться в рабство к Томалссу, к
единственному существу, какое он пока знал. Его плач отдавался в ушах
матери.
Вмешался Нье Хо-Т'инг:
-- То, что сделано, можно переделать. Мы перевоспитаем ребенка в
достойное человеческое существо. На это потребуется время и терпение, но это
может быть сделано и будет сделано.
Все это было сказано на китайском.
-- Будет исполнено. -- Лю Хань перешла на язык маленьких дьяволов,
бросив эти слова в лицо Томалсса и добавив для порядка усиливающее
покашливание.
Ее дочь с широко раскрытыми глазами уставилась на нее с удивлением,
услышав, что мать использует слова, понятные ей. Может, в конце концов, все
будет не так уж плохо, думала Лю Хань. Когда она впервые встретилась с Бобби
Фьоре, единственными словами, понятными обоим, были обрывки языка маленьких
чешуйчатых дьяволов. Они старались -- и это им удалось -- понемногу изучить
и языки друг друга. А дети, когда начинают говорить, усваивают слова с
удивительной быстротой. Нье прав -- если повезет, то вскоре ее дочь начнет
понимать китайский и станет настоящим человеческим существом, а не имитацией
чешуйчатого дьявола.
А пока ей придется использовать слова, которые заставят дочь признать
ее.
-- Теперь все хорошо, -- сказала она на языке маленьких дьяволов. --
Все хорошо.
Она изобразила еще одно усиливающее покашливание, чтобы показать, как
хорошо, когда вернулась дочь.
И снова маленькая девочка изумленно уставилась на нее. Она задыхалась и
сопела, а затем издала звук, похожий на вопросительное покашливание.
Возможно, она хотела сказать:
-- В самом деле?
Лю Хань ответила еще одним усиливающим покашливанием. И вдруг, словно
выглянувшее из-за туч солнце, улыбка осветила лицо ее дочери. Лю Хань
заплакала, думая: как же воспринимает это ее ребенок?
* * *
-- Готов к взлету, -- доложил Теэрц.
Через мгновение командир полетов дал разрешение на вылет. Истребитель
Теэрца с ревом промчался по взлетной полосе и взмыл в небо.
Пилот был доволен тем, что быстро набирал высоту, поскольку зенитки,
появившиеся неподалеку и восточнее от воздушной базы Канзаса, выпустили по
нему несколько снарядов.
Номинально Раса уже некоторое время контролировала эту местность, но
Большие Уроды продолжали тайком завозить оружие на спинах своих самцов или
животных и наносили Расе мелкие уколы. Они не были столь опасны, как в СССР,
но и приятного было мало.
Он сообщил по радио на базу о примерном расположении зениток.
-- Мы позаботимся о них, -- пообещал командир полетов.
Так оно и будет -- если получится. Теэрц уже знал, как это бывает. Пока
они соберутся послать самолеты, вертолеты или пехотинцев -- зениток на том
месте уже не будет. И вскоре они снова откроют огонь, откуда-нибудь
неподалеку.
С этим он ничего поделать не мог. Он летел на запад, к боевым позициям
перед Денвером. Теперь, когда он выполнил несколько боевых вылетов против
тосевитских сил перед городом, он понял, почему начальство перевело его с
флоридского фронта сюда. Большие Уроды создали здесь фортификационные
сооружения даже более мощные, чем японцы вокруг Харбина в Маньчжурии. Да и
зенитных орудий здесь было больше.
Он не любил думать об этом. Он был сбит под Харбином, и его по-прежнему
охватывала дрожь, когда он вспоминал про японский плен. Говорят, что
американцы лучше обращаются со своими пленниками, чем японцы, но Теэрц был
не склонен доверять милости любых тосевитов.
Вскоре он уже осматривал горы, которые бугрились на поверхности этой
земной массы подобно грудным щиткам эрути, животных на Родине. Выше самого
высокого пика поднимались клубы дыма и пыли с поля боя.
Он связался с командиром полетов, чтобы получить координаты
первоочередных целей.
-- Мы достигли успеха возле деревушки, известной у тосевитов как
Кайова. Нападение, которое они начали в этом месте, провалилось, и теперь
они созрели для нашей контратаки. -- Самец дал Теэрцу координаты целей,
добавив: -- Если мы прорвемся здесь, то сможем опрокинуть их позиции.
Ударьте по ним посильнее, командир полета.
-- Будет исполнено, -- ответил Теэрц и направил истребитель в заданном
направлении.
* * *
Для Ранса Ауэрбаха война закончилась. Совсем недавно он думал, что
закончился и он сам. Он даже жаждал этого, получив пулю в грудь и еще одну в
ногу. Рэйчел Хайнс пыталась вытащить его к позициям американцев после того,
как он был ранен. Он вспоминал, как попал в самую гущу, и, если бы мог,
изгнал бы это воспоминание навсегда.
Тогда ящеры, сделав вылазку против кавалерийского отряда, который он
возглавлял, оказались очень близко. Он помнил, как ручьем лилась кровь у
него из носа и рта, когда он прокаркал Рэйчел приказ убираться прочь. Он
понимал, что кричит впустую.
Единственное приятное воспоминание из того страшного времени -- ее
поцелуй в щеку. Он надеялся, что она успела уйти. Точно он не знал -- сразу
же после этого свет для него померк.
Следующее воспоминание: он -- в Карвале, превращенном в развалины
артиллерийским обстрелом. Измотанного вида доктор посыпает рану на бедре
порошком сульфонала, в то время как ящер с красными крестами в раскраске
тела восхищенно наблюдает за этим обоими глазами.
Ауэрбах попытался поднять правую руку, чтобы дать знать доктору -- и
ящеру, который тоже выглядел доктором, -- что он жив. Еще он видел иглу,
воткнутую в вену, и трубку, которая шла к бутылке с плазмой в руках молодой
женщины.
Движение было едва заметным, но девушка увидела и воскликнула. Он
слишком плохо соображал, чтобы рассмотреть лицо девушки, тем более что оно
было прикрыто маской, но узнал ее голос. Он потерял Рэйчел Хайнс, но нашел
Пенни Саммерс.
-- Вы понимаете меня? -- спросил человеческий доктор.
Ауэрбах в ответ еле заметно кивнул.
-- Даже если вас это удивит, вы -- военнопленный, такой же, как я. Если
бы не ящеры, вы наверняка были бы уже мертвы. Они знают об асептиках больше,
чем мы можем узнать за всю жизнь. Думаю, вы выкарабкаетесь. Вы сможете даже
ходить -- через некоторое время.
В данный момент о ходьбе он даже не думал -- было очень трудно дышать.
Когда бронированные силы ящеров покинули Карваль, чужаки стали
использовать город как центр сосредоточения раненых пленников. Очень скоро
немногих оставшихся в городке полуразрушенных зданий стало не хватать для
размещения всех раненых. Тогда вокруг начали ставить палатки жуткого
оранжевого цвета, по одной на пациента.
В такой палатке Ауэрбах находился уже несколько дней.
Доктор теперь нечасто посещал его. А ящеры приходили несколько раз в
день, так же как люди -- медицинские работники, в том числе Пенни Саммерс,
которая посещала его, пожалуй, чаще остальных. Первые раза два он страшно
смущался пользоваться горшком, но потом перестал беспокоиться об этом --
выбора у него не было.
-- Как они тебя захватили? -- спросил он Пенни. Голос его звучал,
словно каркающий шепот, у него едва хватило бы дыхания задуть спичку.
Она пожала плечами.
-- Мы занимались эвакуацией раненых из Ламара, когда в него вошли
ящеры. Ты ведь знаешь, как это, -- они не просто вошли в город, они
буквально прокатились по нему. Они согнали нас вместе, как мальчишка,
который ловит сетью рыбу-солнце, но позволили нам заниматься уходом за
пострадавшими -- и с тех пор я этим и занимаюсь.
-- Хорошо, -- сказал он, кивнув, -- Похоже, они играют по правилам,
очень похоже. -- Он сделал паузу, чтобы набрать воздуха, затем спросил: -- А
как дела на войне?
-- Трудно сказать, -- ответила она. -- Радио поблизости нет ни у кого,
по крайней мере у тех, кого я знаю. Только это я и могу сказать. Хотя
недавно они доставили новую партию пленных. Это может означать, что они
побеждают, так ведь?
-- Может, да, -- сказал он.
Ему хотелось кашлять, но он сдерживался, пока мог. Он уже успел
кашлянуть раз или два и чувствовал себя при этом так, словно грудь
разрывалась на куски. Когда он смог говорить снова, то спросил:.
-- А ты знаешь, какие потери у них самих?
Она покачала головой.
-- Ничего не могу сказать. Своих раненых они отправляют в какое-то
другое место.
-- А, -- сказал он и покачал головой -- но осторожно, потому что от
этого натягивались стежки, скреплявшие его в единое целое. У Бориса Карлова
в роли Франкенштейна их, наверное, было больше, но не намного. -- Будь я
проклят, если знаю, зачем спросил. Похоже, пройдет немало времени, прежде
чем я смогу снова волноваться о таких делах.
Честно говоря, надеяться на возвращение к активным действиям не
приходилось. Если его грудь и ногу залечат, он, скорее всего, попадет в
настоящий лагерь для военнопленных и, может быть, через много-много месяцев
начнет готовиться к побегу. Если излечится грудь, но останется больной нога,
никуда он не денется. Если нога будет здоровой, а грудь -- нет, то... что ж,
в этом случае ему в руки сунут лилию и похоронят.
Пенни посмотрела на него, затем посмотрела вниз, на блестящий материал
-- похожий на толстый целлофан, но гораздо более прочный, -- который ящеры
стлали на землю перед тем, как ставить палатку, затем снова перевела взгляд
на него.
-- Бьюсь об заклад, -- тихим голосом проговорила она, -- что теперь ты
уложил бы меня, если б имел возможность.
Он рассмеялся, задохнулся, затем засмеялся снова.
-- Если хочешь знать, я желал этого с того времени, когда ящеры бомбили
Ламар. Но посмотри на меня. -- У него более или менее действовала только
левая рука. Он подвигал ею. -- Теперь я немного могу сделать, так что зачем
беспокоиться?
-- Да, ты не сможешь, это так. -- Глаза Пенни загорелись. Она встала на
колени возле солдатской койки, на которой он лежал, и откинула одеяло. --
Зато я могу. -- Она рассмеялась, нагибаясь к нему. -- Если кто-нибудь
подойдет, я сделаю вид, что подаю тебе горшок.
На мгновение пурпурные пятна поплыли перед его глазами. Затем все
внутри палатки наполнилось светом, таким прозрачным и ярким, что он
казался...
* * *
Истребитель-бомбардировщик ящеров закончил пикирование и перешел к
набору высоты. Омар Брэдли потер наклеенный на нос кусочек пластыря -- пару
дней назад у генерала вскочил фурункул.
-- Я рад, что мы дублируем команду по радио в дополнение к проводам, --
сказал он. -- Ставлю семь против двух, что бомбы и ракеты оборвут их.
-- Мой отец всегда говорил, что нельзя биться об заклад, когда возможен
проигрыш, -- ответил Гровс. -- Он был прав.
-- Еще как, -- согласился Брэдли. -- Вот кнопки, генерал. Одна из них
сработает наверняка. Хотите принять честь нажать их?
-- Конечно же, -- сказал Гровс. -- Я строю эти проклятые штуки уже черт
знает сколько времени. Теперь наступило время увидеть, каковы они в деле.
От одного из запальных устройств тянулся изолированный провод, от
другого -- нет. Толстый большой палец правой руки Гровса опустился на одну
красную кнопку, палец левой -- на другую.
* * *
-- Получайте же, бесчешуйные, из протухших яиц вышедшие, тугосуставные!
-- прокричал Теэрц, когда его ракеты превратили один из участков обороны
тосевитов в полыхающую жаром печь, где плоть-мясо резалось, перепалывалось и
жарилось одновременно.
Танки Расы продолжали ползти вперед даже во время его атаки на Больших
Уродов. На этот раз тосевиты допустили ошибку -- начали наступление, не имея
достаточных ресурсов, а когда оно выдохлось -- недостаточно быстро перешли к
обороне. Командиры Расы, научившиеся на Тосев-3 проворству, заставят теперь
тосевитов заплатить за это.
В этом секторе и зенитный огонь был не особенно силен. Большие Уроды,
вероятно, потеряли большое количество зенитных орудий, когда началась
контратака Расы. Поднимаясь выше в небо, чтобы вернуться на базу в Канзас и
снова запастись боеприпасами, Теэрц решил, что такой легкой боевой операции
у него не было с времен первых дней завоевания, задолго до того, как он
попал в японский плен.
Неожиданное, невозможно яркое и расширяющееся сияние заставило
мигательные перепонки скользнуть на глаза в тщетной попытке защитить их.
Истребитель накренился, задергался и закрутился в воздухе, полностью утратив
стабильность движения по всем трем осям. Управление отказало и не
реагировало ни на какие действия Теэрца.
-- Нет! -- закричал он. -- Во второй раз не хочу!
Он попытался дотянуться до кнопки катапультирования. Истребитель
врезался в склон холма чуть раньше, чем Теэрц успел на нее нажать.
* * *
...реальным.
Пенни Саммерс отпрянула от него, потрясенная и задыхающаяся. Она
глубоко вздохнула и сказала:
-- Как ты думаешь, что это была за чертовщина?
-- Ты тоже это видела? -- спросил Ауэрбах почти неслышным голосом.
Его сердце колотилось, как у чистокровной лошади в день дерби в
Кентукки.
-- Конечно же. -- Пенни снова накинула на него одеяло. -- Как будто
кто-то зажег новое солнце прямо перед палаткой. -- Она посмотрела вокруг. --
Но теперь оно затухает.
-- Да.
Сверхъестественное свечение длилось всего несколько секунд. Когда
Ауэрбах увидел его, он подумал, что сводит счеты с жизнью. Было бы крайне
приятно уйти вот так вот, но он радовался, что пока жив.
-- Что это такое было?
Прежде чем ответить, Пенни вытерла подбородок уголком одеяла, затем
сказала:
-- Не знаю, что и думать. Возможно, какая-то штука этих проклятых
ящеров.
-- Да, -- снова сказал Ауэрбах. Он наклонил голову набок. На улицах
палаточного города раненых началось необыкновенное волнение. Он слышал, как
кричали ящеры, и их крики были похожи на шипение пара, вырывающегося из
котлов с плохо сделанными швами.
-- Что бы там ни было, они этим явно возбуждены.
* * *
-- Не хотите взглянуть на это? -- тихо спросил Лесли Гровс, откидывая
голову все дальше назад по мере того, как облако, верх которого теперь
раздался в стороны, подобно шляпке гриба, поднималось в небеса все выше --
оно уже было гораздо выше любой вершины Скалистых гор. Он покачал головой в
благоговейном ужасе и удивлении. Горевший неподалеку истребитель ящеров,
ранее ставший бы поводом для праздника, теперь не стоил внимания. -- Не
хотите ли просто посмотреть на это?
-- Я слышал, как это выглядит, -- ответил генерал Брэдли. -- Я был на
развалинах Вашингтона, так что знаю, на что они способны. Но я не
представлял себе самого взрыва. Пока не увидишь... -- Он не стал продолжать.
Продолжения не требовалось.
-- ...и не услышишь, -- добавил все же Лесли Гровс.
Они находились в нескольких милях от Денвера; никому не захочется
находиться слишком близко от атомной бомбы во время взрыва. Но даже здесь
грохот был таким, словно наступил конец света. Земля буквально подпрыгнула
под ногами Гровса. Затем пронесся ветер, и все стихло.
-- Я надеюсь, мы отвели людей достаточно далеко, чтобы взрыв не
повредил им, -- сказал Брэдли. -- Трудно судить, конечно, поскольку у нас
нет достаточного опыта применения такого оружия.
-- Да, сэр, -- сказал Гровс. -- Что ж, мы учимся постоянно, и я ожидаю,
что к окончанию войны мы узнаем очень многое.
-- Очень боюсь, что вы правы, генерал, -- сказал Брэдли, нахмурившись.
-- Теперь посмотрим, где и как ответят ящеры. Цена, которую мы должны
заплатить за остановку их наступления, -- это какой-то город, охваченный
пожаром. Молюсь, чтобы в конце концов эта сделка оказалась оправданной.
-- И я тоже, сэр, -- ответил Гровс, -- но если мы не удержим Денвер, то
не сможем оставить за собой и остальную часть США.
-- Я говорю себе то же самое, -- сказал Брэдли. -- И это позволяет мне
заснуть ночью.
Он сделал паузу. Лицо его стало таким угрюмым и строгим, что Гровс смог
легко представить себе, как будет выглядеть Брэдли в восемьдесят лет, если
доживет.
-- Позволяет мне заснуть, -- повторил он, -- но не позволяет мне
оставаться спокойным.
* * *
Атвар уже привык получать дурные вести в своем кабинете на борту
"127-го Императора Хетто" или в командном центре флагманского корабля.
Получать их в этой тосевитской комнате, более или менее приспособленной для
представителей Расы, было непривычно. Мебель и электроника знакомы, но форма
окон, тосевитский городской пейзаж, на который он смотрел, сами размеры
комнаты, напоминавшие ему, почему Раса назвала тосевитов Большими Уродами,
-- все кричало, что это не его мир, это чужой мир.
-- Возле Денвера, так? -- сказал он грустным голосом и просмотрел цифры
возможных потерь на экране компьютера. Цифры были предварительными, но
выглядели неприятно. Американцы, сражаясь на заранее подготовленных
позициях, уже потеряли множество своих самцов. И вот теперь, когда он думал,
что прорыв близок...
-- Благородный адмирал, они обманули нас, -- сказал Кирел. -- Они
повели наступление в этом секторе, но настолько неудачно, что оно
захлебнулось, и тогда они оставили удерживать фронт совершенно недостаточные
силы. Когда же местный командир попробовал использовать то, что счел их
грубой ошибкой, то...
-- Это и была грубая ошибка. Несомненно, ошибка, -- сказал Атвар. --
Это была наша ошибка. Они хитры, Большие Уроды, полны обмана и
предательства. Они не просто отступили и заманили нас, они применили ядерное
оружие. Мы должны были предупредить об этом наших самцов. Мы этого не
сделали. Они сделали то, что казалось очевидным, хотя и обманным тактическим
маневром, -- и снова обманули нас.
-- Истинно так, -- сказал Кирел таким же усталым и полным боли голосом,
как у командующего флотом. -- Как же нам отомстить за это? Разрушение их
городов, похоже, не удержит их от использования ядерного оружия, которое они
изготавливают.
-- Вы предлагаете провести изменения в политике, командир корабля? --
спросил Атвар.
Это был очень опасный вопрос, подразумевавший приказ Кирелу отказаться
от любых таких предложений. Дело было не в том, как адмирал сформулировал
его. Он имел в виду нечто более серьезное.
И потому голос Кирела звучал настороженно, когда он ответил:
-- Благородный адмирал, может быть, нам следует быть более мудрыми в
выборе ответных действий и уничтожать тосевитские воинские формирования,
противостоящие нам на фронтах. Это могло бы дать больший эффект, чем
разрушение гражданских центров, и уж наверняка не меньший.
-- Вот это уже похоже на дело.
Атвар вывел на экран карту боев в Соединенных Штатах. При этом с экрана
пришлось убрать данные потерь, хотя из памяти они не исчезли. Он показал на
узкий полуостров, выступающий в море в юго-восточном регионе не-империи.
-- Здесь! Местность Флорида нам подойдет. Не только потому, что здесь
бои идут на ограниченном участке, где ядерное оружие будет особенно
эффективным, но и еще потому, что мы одновременно отомстим темнокожим
тосевитам, которые изменнически притворялись верными нам.
-- Вы позволите, благородный адмирал? -- спросил Кирел, подходя к
компьютеру.
После разрешающего жеста Атвара он изменил масштаб карты для более
детального обзора фронтовой обстановки во Флориде.
-- Вот здесь, между городом под названием Орландо и еще одним, меньшим,
который называется... разве город может называться "Апопка"?
Его рот раскрылся от неожиданного удивления. То же произошло и с
Атваром. На языке Расы "апопка" означало "создавать дурной запах".
Главнокомандующий наклонился вперед, чтобы изучить карту.
-- Похоже, это именно то, во что складываются буквы, не так ли? И тем
не менее это подходящее место для возмездия.
-- Истинно так -- Кирел показал позицию на карте. -- Вот здесь
американцы сосредоточили большое количество бронетанковых войск.
-- Сбросим бомбу туда, где вы показали, -- конечно, после того, как
наши самцы отступят немного, но не настолько, чтобы это стало очевидно.
Может быть, мы сможем поймать тосевитов на один из их же собственных трюков.
-- Благородный адмирал, будет исполнено, -- сказал Кирел.
* * *
Нье Хо-Т'инг был доволен, что маленькие чешуйчатые дьяволы прекратили
показывать свои порнографические фильмы о Лю Хань. Они не преуспели в
разрушении ее авторитета, и, после того как ей вернули дочь, уже не имело
смысла изображать ее потаскухой.
Как бы то ни было, но в результате ее авторитет только вырос. Это
произошло частично благодаря действиям Нье, который разъяснил, что эти
фильмы показывают вовсе не характер Лю Хань, а лишь отвратительную
эксплуатацию маленькими чешуйчатыми дьяволами женщины, которая оказалась в
безвыходной ситуации.
Такое толкование для жителей Пекина оказалось убедительным. На
центральный комитет, однако, оно произвело меньшее впечатление. О, члены ЦК
соглашались с аргументами Нье, потому что они способствовали благоприятному
течению переговоров, и, несомненно, считались с Лю Хань. Но они не могли
забыть того, что видели. Поскольку осудить ее они не могли, то с подозрением
стали относиться к Нье за связь с женщиной, делавшей такие вещи.
-- Нечестно, -- пробормотал на ходу Нье.
Эта жалоба осталась незамеченной в хутуне, по которому он шел. Вокруг
болтали женщины, вопили дети, лаяли собаки, продавцы расхваливали снадобья и
овощи, музыканты старались заработать свою денежку... Только пулеметная
очередь могла бы привлечь здесь чье-то внимание. Впрочем, даже пулеметная
очередь -- если не слишком близко -- осталась бы незамеченной в Пекине тех
дней.
Нье вышел на Лю Ли Чьян, улицу Фабрики Глазированных Плиток.
Здесь можно было приятно провести свободное время -- если бы он им
располагал, -- потому что здесь процветало множество магазинов, торгующих
старыми книгами и курьезами.
Хотя он родился в эпоху умирания Китайской Империи и в тонкостях постиг
марксистско-ленинскую мысль, он по-прежнему сохранял уважение к
антиквариату, хотя сам этого почти не осознавал.
Теперь, однако, вместо того чтобы зайти в одну из таких лавочек, он
задержался возле одного из уличных киноустройств, сооруженных маленькими
дьяволами. Вместо того чтобы со злобой смотреть, как Лю Хань позволяет
мощному пестику какого-то мужчины проникать в себя, толпа глазела на мать
всех взрывов.
Гладкий китаец, объяснявший показываемое, -- тот самый пес, который
когда-то с таким сладострастием описывал падение Лю Хань, -- говорил:
-- Вот так Раса уничтожает тех, кто сопротивляется ей. Этот взрыв имел
место в американской провинции, называемой Флорида, где глупые иностранные
дьяволы сверх меры провоцировали милостивых служителей Империи. Пусть это
послужит предостережением всем, кто осмеливается обижать наших хозяев здесь,
в Китае.
После показа огненного облака от взрыва самой бомбы картина изменилась
-- стали показывать вызванные взрывом разрушения. Пушка танка, согнутая,
словно свечка, поднесенная слишком близко к огню. Земля, которая выглядела
так, словно жар бомбы расплавил ее, превратив в стекло. Повсюду обгорелые
трупы. И не только трупы -- некоторые обгоревшие куски мяса были еще живы,
они извивались, стонали и кричали на своем неразборчивом языке.
-- Не хотел бы, чтобы это случилось со мной, -- воскликнул старик с
длинными белыми усами, спускающимися ниже подбородка.
-- Это произошло и с маленькими чешуйчатыми дьяволами, -- сказал Нье
Хо-Т'инг. -- Американцы применили против них такую же бомбу. Эта бомба --
месть чешуйчатых дьяволов, но и люди тоже способны делать такие же.
Это радовало его, хотя американцы были капиталистами.
-- Иностранные дьяволы, может быть, и научились делать такие бомбы,
если правда то, что вы сказали, -- ответил на это старик. -- Но могут ли их
делать китайцы? -- Он сделал паузу, чтобы очевидный ответ появился сам
собой. -- Поэтому лучше, если мы будем делать то, что приказывают маленькие
дьяволы, так ведь?
Несколько человек кивнули. Нье посмотрел на них и на старика.
-- Маленькие дьяволы никогда прежде не применяли бомбы такого типа
здесь и даже не угрожали применить, -- сказал он, -- и если мы не будем
сопротивляться, они станут править нами точно так же, как японцы, --
устрашением и жестокостью. Этого мы хотим?
-- Маленькие чешуйчатые дьяволы оставят вас в покое, если их оставите в
покое вы, -- сказал старик.
Нье решил разузнать, кто он, и принять меры к его уничтожению: старик
явно был коллаборационистом и зачинщиком.
Кое-кто снова кивнул. Но одна женщина сказала:
-- А как насчет той бедной девочки, которую они заставили делать все
эти ужасные вещи перед их камерами? Что она им сделала плохого?
Старик уставился на нее. Он открыл рот, словно смеющийся маленький
дьявол, но зубов у него было много меньше, чем у империалистов со звезд.
Пока он искал ответ, Нье Хо-Т'инг направился к дому-общежитию, в котором
жил.
Войдя внутрь, он увидел в столовой первого этажа Хсиа Шу-Тао, который
пил чай с красивой продажной девицей. У той на шелковом зеленом платье был
сделан разрез -- через него виднелось золотистое бедро. Хсиа посмотрел на
Нье и кивнул без тени смущения. Его самокритика не подразумевала клятвы в
воздержании, просто он обязался удерживаться от приставаний к женщинам, не
заинтересованным в нем. Что касается девицы, то для нее сделка носила чисто
коммерческий характер. Тем не менее Нье нахмурился. Его помощник явно
пренебрегал своими обязанностями.
Но сейчас Нье думал о других вещах. Он поднялся по лестнице и пошел к
комнате, которую делил с Лю Хань и ее дочерью, наконец-то освобожденной от
маленьких чешуйчатых дьяволов. Поднимаясь по лестнице, он тихо вздохнул. Все
шло не так, как представляла себе это Лю Хань. По своему опыту Нье знал, что
в жизни мало что получается сразу. Пока он не нашел подходящего момента
сказать об этом Лю Хань.
Он потянул дверь на себя. Она оказалась запертой. Он постучал.
-- Кто там? -- настороженно спросила Лю Хань изнутри.
Теперь она просто так дверь не открывала -- после того дня, когда Хсиа
Шу-Тао пытался изнасиловать ее. Но, услышав знакомый голос, она подняла
брус, впустила Нье и шагнула в его объятия для краткой ласки.
-- Ты выглядишь усталой, -- сказал он.
Она выглядела изможденной и беспокойной. Но он считал, что лучше
выразиться помягче.
Ее дочь сидела в углу и играла с тряпичной куклой, набитой соломой.
-- Как ведет себя Лю Мэй сегодня?
К его удивлению и ужасу, Лю Хань заплакала.
-- Я родила ее, а она по-прежнему боится меня. Получается так, словно
она должна стать маленьким чешуйчатым дьяволом, а не человеческим существом.
Лю Мэй принялась вытаскивать соломинки из куклы, уже далеко не новой.
-- Не делай этого, -- сказала Лю Хань. Дочь не обратила ни малейшего
внимания. Тогда она произнесла то же самое на языке маленьких дьяволов,
добавив покашливание.
Дочь послушалась. Лю Хань с усталым видом повернулась к Нье.
-- Ты видишь? Она понимает их язык, а не китайский. Она даже не может
произносить правильно звуки китайского языка. Что я могу с ней поделать? Как
я могу ее воспитывать, если она такая?
-- Терпение, -- сказал Нье Хо-Т'инг. -- Ты должна помнить о терпении.
Диалектика доказывает, что коммунизм победит, но ничего определенного не
говорит о том, когда. Маленькие чешуйчатые дьяволы ничего не знают о
диалектике, но их долгая история дает им терпение. Лю Мэй находилась у них
всю свою жизнь, и они изо всех сил старались сделать ее своей. У тебя она
находится всего несколько дней. Ты не должна ожидать, что она изменится за
один день.
-- Этим -- я понимаю. -- Лю Хань постучала пальцем по лбу. -- Но мое
сердце разрывается, когда она отодвигается от меня, будто я монстр, и всякий
раз, когда мне нужно говорить с нею, я пользуюсь языком, который выучила,
потому что я была рабыней.
-- Как я сказал, ты не смотришь на проблему рационально, -- ответил
Нье. -- Одна из причин в том, что ты мало спишь. Лю Мэй нельзя назвать
обычным человеческим ребенком, но она просыпается ночью, как любой другой.
-- Он зевнул. -- Я тоже устал.
Лю Хань не просила его помогать в уходе за ребенком. Уход за ребенком
-- женская работа. В определенном смысле Нье воспринимал женщин и их место в
жизни как само собой разумеющееся -- подобно Хсиа Шу-Тао.
Впрочем, Лю Хань была с ним согласна. Она сказала:
-- Я хотела бы, чтобы мне было легче с ней. Я не то, чего она хочет. --
Ее губы скривились в горькой досаде. -- Она хочет этого маленького дьявола,
Томалсса. Это он сделал ее такой. Надо заставить его заплатить за это.
-- Здесь мы ничего не сможем сделать, пока мы не узнаем, что он снова
спустился на поверхность мира, -- сказал Нье. -- Даже
Народно-освободительная армия не может добраться до корабля чешуйчатых
дьяволов высоко в небе.
-- Маленькие дьяволы терпеливы, -- задумчиво проговорила Лю Хань. -- Он
не будет вечно оставаться на своем корабле. Он спустится, чтобы украсть еще
одного ребенка, чтобы превратить его в маленького чешуйчатого дьявола. Когда
он...
Нье Хо-Т'инг не хотел, чтобы она так смотрела на него.
-- Думаю, ты права, -- сказал он, -- но он сможет проделать это не в
Китае. Мир гораздо больше, чем мы обычно думаем.
-- Если он спустится, то только в Китай, -- сказала Лю Хань с чисто
мужской уверенностью. -- Он говорит по-китайски. Я не думаю, что он говорит
на каком-либо еще человеческом языке. Если он ограбит какую-то бедную
женщину, то это произойдет только в Китае.
Нье только развел руками.
-- Логично, должен сказать. Что мы должны сделать с ним?
-- Наказать его, -- тут же ответила она. -- Я вынесу вопрос на
центральный комитет и добьюсь официального одобрения.
-- Центральный комитет не одобрит акт личной мести, -- предостерег он.
-- Получить согласие на внесение в повестку вопроса о спасении твоего
ребенка тоже было довольно трудно, но это...
-- Думаю, предложение будет одобрено, -- настойчиво сказала Лю Хань, --
я не намереваюсь представить это как акт личной мести, но как символ того,
что угнетение человечества маленькими дьяволами нельзя терпеть.
-- Представляй это, как хочешь, -- ответил Нье. -- Все равно это личная
месть. Мне жаль, Лю Хань, но я не чувствую, что могу обеспечить тебе
поддержку в этом вопросе. Я и так уже потратил слишком много политического
капитала ради Лю Мэй.
-- Я все равно внесу предложение, -- сказала ему Лю Хань. -- Я уже
обсуждала его с несколькими членами комитета. Думаю, что оно пройдет,
поддержишь ты его или нет.
Он опешил. Они так хорошо работали вместе, в постели и вне нее, но
всегда он был доминирующим партнером.
А почему нет? До нашествия маленьких чешуйчатых дьяволов, когда все
пошло кувырком, он уже был начальником штаба армии, а она была всего лишь
крестьянкой, а потом -- примером угнетения чешуйчатых дьяволов. Все, чем она
стала в революционной борьбе, произошло благодаря ему. Он устроил ее в
центральный комитет, чтобы обеспечить себе дополнительную поддержку.
Как она может выступить против него?
По-видимому, она добилась необходимой поддержки для принятия ее
предложения. Добилась тихо, за его спиной. До Хсиа Шу-Тао такие сведения
тоже не дошли.
-- Хороша! -- сказал он с неподдельным восхищением. -- Очень хороша.
-- Да, это так, -- сказала она утвердительно. Затем выражение ее лица
несколько смягчилось. -- Спасибо тебе за то, что устроил меня на место, где
у меня есть возможность показать, какой я могу быть.
Она была очень хороша. Она даже старалась не обидеть его, убедиться,
что он не сердится. И она это сделала как мужчина, словами, а не с помощью
своего тела. Он не думал, что она больше не любит его: просто это был другой
способ показать, на что она способна.
Он улыбнулся. Она смотрела с настороженным удивлением.
-- Мы вдвоем пойдем далеко, если будем вместе, -- сказал он.
Она подумала над этим, затем кивнула. Только позже он задумался:
поведет ли он ее своей дорогой, или же она поведет его по своей?
* * *
Поезд со стоном остановился. Уссмак никогда еще не ездил на таком
средстве передвижения. На Родине рельсовый транспорт перемещался быстро,
ровно и почти бесшумно: благодаря магнитной левитации поезда на самом деле
не соприкасались с рельсами, вдоль которых они двигались. Здесь было
по-другому. Он чувствовал каждую крестовину, каждый стык, на котором
подбрасывало медленно идущий поезд. У его танка был более мягкий и ровный
ход, когда он двигался по пересеченной местности, чем у этого поезда на его
полотне.
Он издал тихое, означающее досаду, шипение.
-- Если бы я был посообразительнее, то никогда бы не вонзил свои зубы в
это существо, Лидова. Увы, вот что имбирь делает с самцом!
Один из самцов, набитых вместе с ним в отделение вагона, самец-стрелок
Ойяг сказал:
-- По крайней мере, вы смогли укусить одного из вонючих Больших Уродов.
Большинство из нас просто выжали и использовали.
Из уст остальных прозвучал согласный хор. Для них Уссмак был героем
именно потому, что смог нанести удар по СССР даже после того, как местные
Большие Уроды забрали его в свои когти. Это была честь, без которой он
вполне мог обойтись. Тосевиты знали, за что он попал в этот поезд, и
обращались с ним хуже, чем с другими. Как сказал Ойяг, у Советов просто
кончились вопросы, которые можно задать большинству плененных самцов. Уссмак
стал исключением.
Двое Больших Уродов с автоматическим оружием открыли дверь в отделение.
-- Выходи! Выходи! -- орали они на уродливом русском языке.
Это было слово, которое Уссмак выучил. Он знал немного русских слов, но
некоторые его товарищи находились в плену уже давно. Они переводили
приказания для тех, кто вроде него был новичком.
Он вышел. В коридоре было холодно. Тосевиты стояли вдоль внешней
стенки, не допуская скопления самцов и возможного нападения на охрану. Но
никто не оказался таким безрассудно храбрым, чтобы попробовать. Никто,
имевший опыт проживания в СССР, не сомневался, что Большие Уроды с радостью
пристрелят любого самца, который доставит им хоть малейшую неприятность.
Наружная дверь в дальнем конце вагона была открытой. Уссмак направился
к ней. Он привык жить в тесноте с другими самцами -- ведь он был членом
танкового экипажа, -- но даже немножко прогуляться было приятно.
-- Может быть, они будут кормить нас получше, чем в этом поезде? -- с
надеждой проговорил он.
-- Молчать! -- закричал один из вооруженных охранников по-русски.
Уссмак знал это слово и замолк.
Если в коридоре было просто холодно, то снаружи холод стоял страшный.
Уссмак принялся вертеть глазами, осматриваясь и раздумывая над тем, что это
за местность. Она определенно отличалась от разрушенной Москвы, куда его
доставили после того, как он сдал свою базу самцам СССР. В той поездке он
тоже кое-что повидал, но тогда он был коллаборационистом, а не пленником.
Темно-зеленые тосевитские деревья во множестве росли вокруг открытого
пространства, на котором остановился поезд. Он слегка приоткрыл рот, чтобы
язык его почувствовал запах. Он был острым и пряным и почти напомнил ему об
имбире. Ему захотелось имбиря -- чтобы только отвлечься от неприятностей. Он
больше не будет пытаться напасть на Больших Уродов. Он не будет и думать об
этом.
Крики и жесты Больших Уродов погнали его вместе с жалкой толпой
остальных самцов через ворота в изгороди, сделанной из большого количества
когтистого материала, который тосевиты используют вместо режущей проволоки,
-- и дальше, к нескольким довольно грубо сделанным зданиям из нового сырого
дерева. Другие, более старые здания располагались дальше вглубь и тоже
отделялись от новых проволокой с когтями. Большие Уроды в грязных и
поношенных одеждах смотрели на него и его товарищей с пространства между
этими старыми зданиями.
Подробностей Уссмак рассмотреть не успел. Охранники кричали и
размахивали руками, показывая, куда идти дальше. У некоторых было
автоматическое оружие; другие держали больших рычащих животных, у которых
рты были полны больших острых желтых зубов. Уссмак видел таких тосевитских
зверей и раньше. Один такой со взрывчатым материалом, привязанным к спине,
вбежал под его танк, взорвал себя сам и подорвал гусеницу боевой машины.
Если Большие Уроды смогли натренировать их на это, то -- он был уверен в
этом -- могут научить их гоняться и кусать самцов Расы, которые выйдут из
строя.
Он не собирался выходить из строя, ни в буквальном, ни в переносном
смысле слова. Вместе с остальными самцами он вошел в здание, куда их гнали.
Вертя глазами, он так же быстро осмотрелся внутри здания. По сравнению с
коробкой, в которой его держали в московской тюрьме, по сравнению с набитым
до предела отделением вагона, в котором его везли в это место, оно было
просторным и роскошным. По сравнению с любыми другими жилыми помещениями,
даже с тосевитскими бараками в Безансоне, где ему тоже пришлось пожить, оно
служило синонимом убогости.
Внутри имелось небольшое открытое пространство с металлическим
устройством посередине. Охранник взял железную кочергу и открыл дверцу этого
устройства, затем бросил несколько черных камней в огонь, который горел там.
Только теперь Уссмак понял, что это устройство, должно быть, печь.
Вокруг стояли ряды и ряды нар, в пять и шесть этажей, сделанные по
размерам Расы, а не Больших Уродов. Когда самцы поспешили занять места,
впечатление о просторе барака исчезло. Здесь они также оказались в отчаянной
тесноте.
Охранник что-то закричал Уссмаку. Он не знал, чего от него хотят, но
начал двигаться -- что, вероятно, удовлетворило Большого Урода. Он занял
нары на третьем этаже во втором ряду от печки. Он надеялся, что устроился
достаточно близко. Послужив в Сибири, он испытывал благоговейное уважение к
тосевитской погоде.
Место для спанья на нарах было из голых досок, с единственным вонючим
одеялом -- вероятно, сотканным из шерсти какого-то местного животного, с
неудовольствием подумал он, на случай, если печь не даст достаточно тепла.
Это показалось Уссмаку вполне возможным. Почти ничего тосевиты не делали
так, как следовало бы, исключая то, что причиняло страдания. Это у них
выходило отлично.
Ойяг вскарабкался на нары над ним.
-- Что они будут делать с нами, благородный господин? -- спросил он.
-- Я этого тоже не знаю, -- ответил Уссмак.
Как бывший водитель танка он по рангу стоял выше самца-стрелка. Но даже
те самцы Расы, у которых раскраска тела была более замысловатой, чем у него,
теперь часто удостаивали его почетного обращения. Никто из них не поднимал
мятежа или не командовал базой, сместив законного руководителя.
"Они и не знают, как я жалею, что сделал это, -- с досадой думал
Уссмак, -- и еще больше жалею, что сдал базу советским войскам, когда она
была в моих когтях".
От этого сожаления пользы было не больше, чем всегда.
Барак постепенно наполнялся самцами. Когда последние прибывшие заняли
нары -- расположенные так далеко от печки, что Уссмаку стало их жаль: каково
им придется, когда наступит ночь? -- еще один самец и два Больших Урода
вошли в дверь и остановились, ожидая, чтобы их заметили.
Уссмак с интересом рассматривал пришедших. Самец Расы вел себя так,
словно он здесь что-то значит, хотя раскраска его потускнела и ободралась,
не позволяя судить о ранге. Стоявшие рядом с ним тосевиты представляли
интересный контраст. На одном была одежда, типичная для охранников,
угнетавших Уссмака с момента пленения. Другой был одет в потрепанную одежду,
такую же, как у самцов, наблюдавших через изгородь из проволоки с когтями за
прибытием Уссмака и его товарищей. У этого дополнительно росли волосы на
лице, что делало его, по мнению Уссмака. еще более неопрятным, чем прочие
тосевиты. Самец сказал:
-- Я -- Фссеффел. Когда-то я был командиром звена бронетранспортеров.
Сейчас я старший самец Барака-Один Расы.
Он сделал паузу. Большой Урод с шерстью на лице заговорил по-русски с
тем, кто был одет в одежду официального покроя. "Переводчик", -- сообразил
Уссмак. Он решил, что Большой Урод, понимающий его язык, может оказаться
полезным, а поэтому с ним стоит познакомиться.
Фссеффел продолжил:
-- Самцы Расы, вы находитесь здесь, чтобы работать на самцов СССР. С
данного момента это будет вашей единственной функцией. -- Он сделал паузу,
чтобы все поняли и для перевода тосевита. -- То, как хорошо вы будете
работать, как много вы произведете, будет определять, как хорошо вы будете
питаться.
-- Это варварство, -- прошептал Ойяг Уссмаку.
-- Ты ожидал, что Большие Уроды будут вести себя, как цивилизованные
существа? -- прошептал в ответ Уссмак.
Он сделал знак Ойягу замолчать -- Фссеффел продолжал говорить.
-- Вы выберете себе старшего самца в этом Бараке-Три Расы. Этот самец
будет вашим посредником в делах с русскими самцами народного комиссариата
внутренних дел, тосевитской организации, ответственной за управление этим
лагерем. -- Он снова сделал паузу. -- Призываю вас разумно отнестись к
выбору. -- Он добавил усиливающее покашливание. -- Если вы не сделаете
выбора, он будет сделан вместо вас, более или менее случайным образом. В
Бараке-Два Расы так и случилось. Результат получился неудовлетворительный. Я
призываю вас воздержаться от такого поведения.
Уссмак подумал, что же за неудовлетворительный результат имел в виду
Фссеффел. Все виды возможных неприятностей он уже переживал: голод, пытки,
наказания. До мятежа он о таких вещах не задумывался. С тех пор его границы
познания расширились -- и не в лучшую сторону.
Ойяг удивил его, закричав:
-- Уссмак!
Через мгновение уже половина самцов в бараке называла его имя. Они
хотят, чтобы он стал их старшим самцом, понял он без всякой радости. В этом
случае ему придется постоянно общаться с Большими Уродами, чего он желал
менее всего на свете. Но подходящего повода отказаться он не видел.
Большой Урод с волосистым лицом сказал:
-- Пусть самец по имени Уссмак выйдет вперед, чтобы все увидели его.
Он говорил на языке Расы так же бегло, как любой тосевит, которого
слышал Уссмак. Когда Уссмак спустился с нар и подошел к двери, Большой Урод
сказал:
-- Я приветствую вас, Уссмак. Мы будем вместе в каждый из остальных
дней. Я -- Давид Нуссбойм.
-- Я приветствую вас, Давид Нуссбойм, -- сказал Уссмак.
* * *
Бриз по-прежнему доносил чуждую вонь Каира к обонятельным рецепторам на
языке Атвара. Но это был приятный слабый бриз, и командующий флотом был
готов терпеть тосевитскую вонь, тем более что добился успеха и нанес Большим
Уродам мощный удар.
Он вывел ситуационную карту Флориды на один из компьютеров в его
тосевитском жилище.
-- Мы сломили здесь американцев, -- сказал он Кирелу, показывая на
карту. -- Бомба проделала брешь, и мы хлынули в нее. Теперь они бегут перед
нами, как в первые дни после начала завоевания. Наше обладание полуостровом
кажется гарантированным.
-- Истинно, благородный адмирал, -- сказал Кирел, но затем добавил,
умеряя радость. -- Жаль, что завоевание в других идет не так, как в первые
дни.
Атвар не желал затрагивать эту тему, если только его не заставляли.
После того как американцы взорвали свое ядерное устройство под Денвером,
наступление Расы захлебнулось. Оно обошлось гораздо дороже, чем показывали
расчеты. Бомба прорвала южный фланг наступления и привела к ослаблению
наступления в центре и на севере, потому что местный командир переместил
силы на юг, чтобы помочь создать то, что казалось брешью. Брешь была входом
в ловушку.
Кирел сказал:
-- Благородный адмирал, что же нам делать с последним сообщением из
СССР? Его руководство нагло требует, чтобы мы покинули их территорию, что
является условием для заключения мира.
-- Так и должно быть. И это просто большой блеф, -- ответил Атвар. --
Единственное ядерное оружие, которое смог изготовить СССР, было произведено
из плутония, украденного у нас. То, что эта не-империя не смогла сделать еще
одну бомбу, указывает нашим аналитикам на их неспособность к производству.
Проинформируйте Большого Урода, называемого Молотов, и его хозяина, великого
Сталина -- великого по сравнению с чем? -- добавил он, презрительно фыркнув,
-- что СССР не в таком положении, чтобы требовать от нас того, чего он не
смог добиться на поле битвы.
-- Будет исполнено, -- сказал Кирел.
Атвар вернулся к прежней теме:
-- Успех нашей бомбы возмездия снова заставляет меня подумать о том,
чтобы использовать это оружие шире, чем мы делали прежде.
-- Но только не в СССР, благородный адмирал, -- сказал Кирел с легкой
тревогой. -- Его земли слишком уязвимы для радиоактивных загрязнений, они
станут непригодны для сельского хозяйства и пастбищ наших колонистов.
-- С чисто военной точки зрения это было бы гораздо эффективнее, но мы
не можем игнорировать потребности флота колонизации, -- обиженно осветил
Атвар. Он вздохнул. -- К сожалению, не можем. Если бы не было флота
колонизации, то флот вторжения был бы просто ни к чему. Аналитики согласны с
вами: крупномасштабные ядерные бомбардировки СССР хотя и соблазнительны тем,
что избавили бы эту планету от клики, убившей своего Императора и теперь
правящей этой не-империей, но могут привести к большему долгосрочному
ущербу, чем военное преимущество, которое мы получим.
-- Я тоже изучал данные анализа, -- сказал Кирел.
У Атвара возникли подозрения: не собирается ли Кирел подготовить свое
тело к раскраске командующего флотом? Но он не сделал пока ничего такого, на
что Атвар мог бы обидеться, поэтому адмирал стал ждать, что тот скажет
дальше.
-- Они констатируют, что есть некоторые регионы, где ядерное оружие
можно было бы успешно использовать в качестве наступательного без причинения
ненужного ущерба планете.
Подозрения Атвара несколько уменьшились, и не в последнюю очередь из-за
того, что Кирел согласился с ним.
-- Если мы будем применять ядерное оружие по нашему собственному
разумению, а не в качестве ответной меры после выходок тосевитов, для
Больших Уродов мы станем менее предсказуемыми и более опасными. Это может
дать непропорционально больший политический эффект по сравнению с тем,
который дает наша военная мощь.
-- И снова, благородный адмирал, истинно, -- сказал Кирел. -- Дав
Большим Уродам понять, что мы тоже можем быть непредсказуемыми, мы добьемся,
как вы сказали, значительного прогресса.
-- Это важнейший вопрос, -- согласился Атвар. -- Мы не в состоянии
предвидеть действия Больших Уродов, даже располагая всей нашей электроникой,
в то время как они, очень ограниченные в подобных средствах, часто могут
предвидеть то, что мы намереваемся делать, с результатами, слишком часто
приводящими нас в замешательство.
Определив, что Кирел согласен с ним, Атвар вызвал вместо карты Флориды
другую.
-- Этот большой остров -- или, возможно, небольшой континент, последнее
слово за планетологами -- лежит к юго-востоку от основной континентальной
массы и имеет огромные пространства, идеально подходящие для расселения Расы
и мало освоенные Большими Уродами, причем большая часть поселений тосевитов
стянута к влажному восточному берегу. Именно с этих баз они постоянно
устраивают беспокоящие нас рейды. Все обычные усилия подавить эти рейды
оказались бесполезными. Это может оправдать ядерное вмешательство.
-- Хорошо сказано, благородный адмирал, -- ответил Кирел. -- Если мы
нанесем по этим местам ядерные удары, большая часть радиоактивных осадков
будет унесена в море, а гигантские моря Тосев-3, несомненно, смогут
приспособиться к осадкам с гораздо меньшим ущербом, чем земли.
-- Эта планета вообще имеет слишком много морей относительно площади
земель, -- согласился Атвар. -- Планетологи потратят столетия, чтобы
объяснить, что делает эту планету столь отличной от Родины и миров Работев и
Халесс.
-- Оставим им беспокойство по этому поводу, -- сказал Кирел. -- Наша
работа состоит в том, чтобы дать им возможность беспокоиться о таких
пустяках.
-- Вот это вы хорошо подметили, командир корабля, -- сказал Атвар.
Кирел несколько расслабился. В последнее время он принимал при общении
с адмиралом излишне нервную позу. Атвар подумал, что он нечасто удостаивал
похвалы своего ближайшего помощника. С его стороны это было ошибкой: если
они не будут вместе хорошо работать, то это помешает прогрессу в завоевании
-- и без того уже слишком многое мешало прогрессу завоевания. Атвар
прошипел, выдыхая воздух:
-- Если бы я представлял себе сложность задачи подавления сопротивления
в индустриальном мире без уничтожения его, я бы очень долго думал, принимать
командование или нет.
Кирел не дал немедленного ответа. Если позиции Атвара ослабнут,
командующим флотом, скорее всего, будет назначен он. Насколько ему хочется
этой должности? Атвар не мог дать уверенного ответа, и, возможно, это делало
его отношения с командиром флагманского корабля более натянутыми, чем
следовало бы. Кирел никогда не проявлял нелояльности, тем не менее...
Когда командир корабля заговорил, то стал уточнять тактическую ситуацию
и не стал комментировать последнее замечание Атвара.
-- Благородный адмирал, мы начнем подготовку к использованию ядерного
оружия против тех тосевитских поселений на острове, или континенте, или как
его там? -- Он наклонился, чтобы прочитать обозначения на карте, избегая
возможной ошибки. -- Я имею в виду Сидней и Мельбурн?
Атвар тоже наклонился вперед, чтобы лично проверить выбранные места.
-- Да, именно эти. Начните подготовку как можно скорее.
-- Благородный адмирал, будет исполнено.
Если уж говорить о тюрьмах, то в той, куда попали теперь Мойше
Русецкий, его жена и сын, было не так уж плохо. Она превосходила даже виллу,
на которой их прятало еврейское подполье в Палестине. Здесь, в некогда
прекрасном отеле, он и его семья имели достаточно пищи и наслаждались
электричеством, холодной и горячей водой. Если бы не решетки на окнах и
вооруженные ящеры перед входом, их жизнь можно было бы считать роскошной.
Окна притягивали Мойше, несмотря на решетки. Он в восхищении
вглядывался в Каир, протянувшийся вдоль Нила, и в пирамиды за городской
чертой.
-- Никогда не думал, что, подобно Иосифу, приду в Египет из Палестины,
-- сказал он.
-- А кто будет нашим Моисеем, который выведет нас отсюда? -- спросил
Рейвен.
Русецкий почувствовал гордость: мальчик еще так мал, но уже не только
изучает великую историю Торы, но и применяет знания в своей жизни. Ему
хотелось бы дать ответ получше, чем "я не знаю", но лгать Рейвену он тоже не
желал.
Ривка задала более конкретный вопрос:
-- Что они сделают с нами теперь?
-- Этого я тоже не знаю, -- ответил Мойше.
Он пожалел, что Ривка и Рейвен пошли вместе с ним, когда Золрааг
опознал его в иерусалимском тюремном лагере. Теперь жалеть поздно. В их
присутствии он становился более уязвимым. Еще в Варшаве ящеры грозили ему,
что заставят его делать то, что им хочется.
Если бы его семья отсутствовала, они оказались бы бессильны. Он был
готов скорее умереть, чем подчиниться ящерам. Но допустить страдания жены и
сына -- это нечто другое.
В замке повернулся ключ -- снаружи. Сердце Мойше заколотилось. В
промежутке времени между завтраком и обедом ящеры обычно не беспокоили его.
Дверь открылась.
Вошел Золрааг. Бывший правитель провинции Польша имел теперь более
богатую раскраску тела, чем в те времена, когда Мойше видел его в Палестине.
Хотя он и не вернулся к роскоши прежней раскраски, напоминавшей стиль
рококо, но уже шел к ней.
Он высунул язык в сторону Мойше, затем снова втянул его внутрь.
-- Вы пойдете со мной немедленно, -- сказал он на неплохом немецком,
при этом слово "немедленно" -- "зофорт" -- прозвучало длинным угрожающим
шипением.
-- Будет исполнено, -- ответил Мойше на языке Расы.
Он обнял Ривку, поцеловал в лоб Рейвена, не зная, увидит ли он их
снова. Золрааг позволил, но издавал при этом тихие нетерпеливые звуки,
похожие на те, какие слышатся от начинающего закипать горшка.
Когда Мойше подошел к нему, ящер постучал в дверь -- дверная ручка была
снята. Золрааг использовал ранее не использовавшуюся последовательность
ударов -- вероятно, для того, чтобы семья Русецких не смогла запомнить ее,
постучаться, выйти и причинить неприятности. Не в первый раз Мойше пожалел,
что он и его семья не были в действительности такими опасными, как думали
ящеры.
В коридоре четверо самцов направили на него автоматическое оружие.
Золрааг жестом приказал им отойти к лестнице. Два охранника-ящера
последовали за ними, причем на таком расстоянии, чтобы он не смог, резко
повернувшись, выхватить их оружие -- как будто он был "meshuggeh" [Безумцем.
-- Прим. пер.], чтобы пойти на такую попытку.
Золрааг приказал ему влезть в механическое боевое транспортное
средство. Охранники тоже забрались внутрь. Один захлопнул заднюю дверь. Звон
от удара металла о металл был страшен, как приговор.
Золрааг бросил единственное слово в микрофон в передней части отделения
для бойцов:
-- Вперед!
Боевая машина с грохотом двинулась по улицам. Через бойницу в стенке
машины Мойше мог видеть немногое. Это было одно из наименее приятных
путешествий в его жизни. Сиденье, на котором он неловко старался устроиться,
было рассчитано на самца Расы, а не на землянина: он не помещался в нем,
колени упирались в подбородок. Вдобавок внутри было жарко, жарче, чем
снаружи. Ящеры наслаждались жарой. Русецкий задумался, выдержит ли он, пока
они добираются до того места, куда едут.
Он успел взглянуть на рыночную площадь, перед которой все те, которые
он видел в Палестине, казались пятачками. Через броню машины он слышал крики
глумления и ругань по адресу ящеров -- по крайней мере, он так думал, хотя и
не знал ни слова по-арабски. Но чем еще могли быть эти гортанные жгущие
слова? В любом случае Золрааг игнорировал крики.
Через несколько минут машина остановилась. Один из охранников открыл
дверцу сзади.
-- Jude heraus! [Еврею выйти! -- Прим. пер.] -- сказал Золрааг, отчего
на затылке у Мойше волосы встали дыбом.
Его привели в другой отель. Ящеры укрепили его, как линию Мажино. Когда
Мойше осмотрелся, то заметил большое количество режущей проволоки, чужаков с
автоматическим оружием и такое количество танков и боевых машин, что их
хватило бы остановить и "африканский корпус" Роммеля, и англичан, воевавших
против него... Но в эти дни нацистам и англичанам было не до Северной
Африки.
Рассматривать подробности времени не было.
Золрааг сказал:
-- Идите.
Охранники навели на него оружие, и он подчинился. В холле были
вентиляторы на потолке. Они не работали. Свет горел, и Мойше решил, что
вентиляторы не работают потому, что ящеры этого не хотят.
Лифт, однако, работал. Более того, он поднимался более плавно и
бесшумно, чем любой, которым пользовался Мойше в прошлом. Он не понял, был
лифт таким с самого начала или же ящеры усовершенствовали его после того,
как завоевали Каир. Подумать только, какая ерунда его занимает!
Когда двери лифта открылись, он обнаружил, что находится на шестом,
последнем этаже здания.
-- Выходите, -- сказал Золрааг, и Мойше снова подчинился.
Золрааг повел его по коридору к многокомнатному номеру, по сравнению с
которым помещения, в которых содержалась семья Русецких, казались тюрьмой.
Ящер со странной раскраской тела -- правая сторона была довольно скромной, в
то время как левая раскрашена настолько замысловато, что Мойше ничего
подобного прежде не видел, -- заговорил с Золраагом, стоя у двери, затем
нырнул внутрь комнаты.
Через мгновение он вернулся.
-- Введите Большого Урода, -- сказал он.
-- Будет исполнено, адъютант главнокомандующего флотом, -- ответил
Золрааг.
Они говорили на своем языке, но Мойше смог понять их.
-- Главнокомандующий флотом? -- сказал он, гордясь тем, что, несмотря
на удивление, не забыл добавить вопросительное покашливание.
Но ящеры все равно игнорировали его вопрос. Он даже не мог себе
представить, что главнокомандующий флотом находится на поверхности земли.
Раскраска тела Атвара была такой же, как на левой стороне тела Пшинга,
но покрывала все тело. В остальном для Русецкого он выглядел как обычный
ящер. Мойше мог отличать одного чужака от другого только после того, как
общался с ним некоторое время.
Золрааг торжественно объявил:
-- Благородный адмирал, я представляю вам тосевита Мойше Русецкого,
который наконец возвращен в заключение к нам.
-- Я приветствую вас, благородный господин, -- сказал Мойше так
вежливо, как только мог: нелогично оскорблять главного ящера.
Но все равно он не избежал ошибки.
-- Я приветствую вас, благородный адмирал, -- резко сказал Золрааг.
Мойше повторил фразу, на этот раз с должным почтением.
-- Так лучше, -- сказал ему Золрааг.
Атвар тем временем изучал его с головы до ног, двигая глазами
независимо один от другого, что было свойственно ящерам и действовало на
людей угнетающе. Главнокомандующий заговорил на своем языке, причем слишком
быстро, чтобы Мойше мог понять. Золрааг перевел его слова на немецкий.
-- Благородный адмирал желает знать, поражены ли вы ошеломляющей мощью
Расы.
Вместо слова "Раса" он использовал немецкое слово "фольк", то есть
"народ". У Мойше снова встопорщились волосы на шее -- это слово использовали
и нацисты. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и дать
ответ.
-- Скажите главнокомандующему, что я не поражен. Если бы Раса обладала
ошеломляющей мощью, эта война давно закончилась бы.
Он подумал, что такой ответ рассердит Атвара. Он надеялся, что этого не
произойдет. Он должен быть осторожен в своих высказываниях, не столько ради
себя, сколько ради Ривки и Рейвена. К его облегчению, рот Атвара открылся.
Смотреть на мелкие острые зубки и длинный раздвоенный язык ящера было
неприятно, но это означало, что его слова скорее позабавили
главнокомандующего, чем расстроили.
-- Истинно, -- сказал Атвар слово, которое Русецкий знал. Он кивнул,
чтобы показать, что понял. Атвар продолжил на своем языке, и Золрааг снова
перевел:
-- Благородный адмирал узнал от меня и от других, что вы противились
восстанию евреев, выступивших на нашей стороне, когда мы занимали Палестину.
Почему вы так поступили, ведь вы нас поддерживали в борьбе против немцев в
Польше?
-- По двум причинам, -- ответил Мойше. -- Во-первых, я теперь знаю, что
вы собираетесь править всем человечеством вечно, и я этого поддерживать не
могу. Во-вторых, немцы в Польше уничтожали евреев, как вы знаете. Англичане
в Палестине этого не делали. Некоторые евреи, которые поддерживали вас
здесь, убежали из Германии или из Польши. Вы кажетесь мне более опасными,
чем англичане.
Золрааг превратил его слова в шипучие, щелкающие и скрипящие звуки
языка ящеров. Атвар снова заговорил, на этот раз медленнее и обращаясь
непосредственно к Мойше:
-- Те, другие самцы, которые сбежали, думают не так, как вы. Почему?
Мойше призвал на помощь все свои познания в языке Расы.
-- Другие самцы смотрят вперед недалеко. Я смотрю вдаль. В долгосрочном
плане ящеры хуже, англичане лучше.
Чтобы показать, насколько он уверен в этом, он закончил усиливающим
покашливанием.
-- Это хорошо, что вы думаете с дальним прицелом. Немногие Большие
Уроды поступают так, -- сказал Атвар. -- Может быть, так и должно быть и, с
точки зрения Большого Урода, который не желает подчиниться правлению Расы,
вы и правы. -- Он сделал паузу, повернув оба глаза к Русецкому. -- Но это
вам все равно не поможет.
Ящеры заменили всю сделанную людьми мебель своей, отчего комната, в
которой стоял сейчас Русецкий, казалась больше, чем была в действительности.
Чистый стеклянный экран одного устройства вдруг засветился, и на нем
появилось лицо ящера. Из машины также послышался его голос. "Телефон с
киноприспособлением", -- подумал Мойше.
По тому, как дернулся адъютант Атвара, выслушав сообщение, можно было
подумать, что он сунул язык в электрическую розетку.
Он повернул один глаз к Атвару и сказал:
-- Благородный адмирал!
-- Не теперь, Пшинг, -- ответил Атвар с совершенно человеческим
нетерпением.
Но адъютант Пшинг продолжал настаивать. Атвар прошипел что-то, чего
Русецкий не понял, и повернулся к экрану. И тут же лицо ящера на экране
сменилось огромным грибоподобным облаком, поднимающимся высоко в небо. Мойше
в ужасе охнул. Он видел такое облако на пути в Палестину -- оно поднималось
над тем, что было Римом.
Его восклицание напомнило Атвару, что пленник все еще здесь.
Главнокомандующий повернул один глаз в сторону Золраага и взорвался:
-- Выведите его отсюда!
-- Будет исполнено, благородный адмирал, -- сказал Золрааг. -- Теперь
идите. У благородного адмирала есть дела, более важные, чем какой-то
незначительный Большой Урод.
Мойше вышел. Он молчал, пока боевая машина, которая привезла его в
штаб-квартиру Атвара, не тронулась в обратный путь к отелю. Затем он
спросил:
-- Где взорвалась эта атомная бомба?
Золрааг издал шипение, прозвучавшее, как шум неисправного самовара.
-- Значит, вы узнали? Это место -- часть провинции Египет. У него два
названия, по вашему нелепому обычаю. Оно называется Эль-Искандрия и
Александрия Вы знаете какое-то из этих названий?
-- Кто-то бомбил Александрию? -- воскликнул Мойше. -- Vay iz mir! Кто?
Как? Вы, Раса, ведь держите под контролем всю страну, не так ли?
-- Я считал, что так, -- ответил Золрааг. -- Но очевидно, что нет. Кто?
Мы не знаем. Англичане, которые мстят нам за то, что мы сделали в Австралии?
Мы не верили -- не верим, что у них есть оружие такого вида. Они не могли
занять его у американцев?
Вопрос прозвучал очень серьезно. Мойше поспешил ответить:
-- Не представляю себе, благородный господин.
-- Не представляете? -- спросил Золрааг. -- Вы ведь вели радиопередачи
для англичан. Мы должны расследовать это.
По спине Мойше прошел холодок. Ящер продолжил:
-- Может быть, это немцы, которые воюют с нами, где только могут? Мы не
знаем -- но когда узнаем, кто из Больших Уродов сделал это, они заплатят
большую цену.
Золрааг сказал и еще что-то, но тут Мойше сообразил:
-- Австралия, благородный господин? Что произошло в Австралии?
-- Мы разрушили там два города, чтобы обеспечить наши завоевательные
действия, -- ответил с холодным безразличием бывший правитель провинции
Польша, затем вернулся к прежнему вопросу. -- Каким образом? Мы не знаем. Мы
не засекли ни самолетов, ни ракет, ни судов, движущихся по воде. Мы не
верим, что бомбу можно было тайно доставить по земле, -- мы обнаружили бы ее
при досмотре грузов.
-- Ни по воде, ни по воздуху, ни по суше? -- сказал Мойше. -- Остается
немногое. Может быть, кто-то прорыл туннель под Александрией?
Золрааг возмутился:
-- У вас, тосевитов, нет технологии, чтобы выполнить такое! -- Тут ему
показалось, что Русецкий шутит, хотя и намеком. -- Ничего в этом забавного
нет, рабби Мойше, -- сказал он и добавил усиливающее покашливание.
Никто не обращался к Мойше "рабби" после того, как он покинул Варшаву.
Тогда он думал, что ящеры явились в ответ на его молитвы, чтобы заставить
нацистов прекратить уничтожение евреев в гетто. Люди питали надежду на это.
Теперь он увидел, что ящеры, хотя и не питают особой ненависти к
евреям, более опасны для всего остального мира, чем нацисты. Два
австралийских города были разрушены без видимых причин. И, несмотря на
знойный воздух в машине, он задрожал.
* * *
Генрих Ягер заглянул в моторный отсек "пантеры".
-- Опять прокладка топливного насоса? -- проворчал он. -- Боже
милостивый, когда же они научатся их делать как следует?
Гюнтер Грилльпарцер показал номер партии, нанесенный белой краской на
черной резиновой прокладке.
-- Вот эта старая, сэр, -- сказал он, -- сделана, вероятно, в первые
два месяца после того, как началось их производство.
Это не слишком утешило Ягера.
-- Нам чертовски повезло, что мотор не вспыхнул, когда она порвалась.
Того, кто прислал ее нам, надо бы отхлестать.
-- Ага, дать тупому ублюдку лапши и поставить на его место кого-то
другого, -- сказал Грилльпарцер, используя эсэсовский сленг для обозначения
пули в затылок.
Возможно, он перенял выражение у Отто Скорцени. Возможно, это не было
шуткой. Ягер знал, как обстоят дела на германских заводах. Когда столько
немцев находилось на фронте, для работы на производстве использовались
евреи, русские, французы и другие рабочие-рабы, достойные только одного
наказания за малейшую ошибку.
-- На замену идет новая? -- спросил Ягер.
Грилльпарцер посмотрел на номер партии.
-- Да, сэр, -- ответил он. -- Мы прилепим ее сюда, и неприятностей не,
будет -- до следующего раза.
На этой оптимистической ноте он схватил отвертку и набросился на
топливный насос.
Вдали со скрежетом пронеслась стая ракет, в сторону позиций ящеров.
Ягер поморщился от жуткого шума. Ему довелось быть слушателем сталинского
органного концерта: Красная Армия обрабатывала вермахт "Катюшами", еще до
нашествия ящеров. Когда требуется спешно растерзать участок земли, лучший
способ для этого -- ракеты.
Отто Скорцени они вовсе не беспокоили.
-- Кому-то достанется ад, -- весело сказал он. Затем, понизив голос
так, чтобы его слышал только Ягер, он продолжил: -- Почти такой, как мы
устроили в Александрии!
-- А-а, значит, это были мы, так ведь? -- сказал Ягер так же тихо, -- а
по радио взрыв приписали не рейху.
-- Чертово радио и не собирается объявлять, что это сделал рейх, --
ответил эсэсовец. -- Если мы возьмем это на себя, какой-то наш город
исчезнет с карты. Кельн, а может быть, Франкфурт или Вена. Они в любом
случае могут исчезнуть, но мы не собираемся хвастаться и провоцировать
ящеров, если можем помалкивать и таинственно улыбаться. Ты меня понимаешь?
Возможно, он хотел изобразить при этом таинственную улыбку, но она
получилась пошлой.
Ягер спросил:
-- Ты знаешь, как мы это сделали? Для меня это тайна.
-- Вообще-то я знаю, но говорить не полагается, -- сказал Скорцени.
Ягер поднял с земли ветку и замахнулся. Скорцени хмыкнул.
-- Дерьмо, я никогда не соблюдал правила. Ты знаешь, что такую бомбу
невозможно приспособить к самолету или ракете, так ведь?
-- О, да, -- согласился Ягер. -- Помнится, я был втянут в этот проект
глубже, чем мне хотелось бы. Ты -- безумный ублюдок, и это была и твоя
ошибка тоже. Если бы я не участвовал в том рейде, когда ты стянул взрывчатый
металл у ящеров...
-- То стал бы куклой в руках Советов и, вероятно, сейчас был бы уже
мертв, -- прервал его Скорцени. -- Если бы тебя не сцапали ящеры, то это
сделали бы большевики. Но на этот раз мы все сделали по-другому. Мы не стали
устанавливать ее на грузовом судне, как сделали, когда рванули Рим. Трудно
одурачить ящеров дважды одним и тем же способом.
Ягер шагал, раздумывая. Он поскреб подбородок. Надо бы побриться. У
него имелась острая бритва, но скрести ею лицо без мыла было настоящей
пыткой. Наконец он сказал:
-- Мы не могли доставить ее по суше. Остается... даже не могу себе
представить.
-- Вот и ящеры тоже! -- Скорцени злобно улыбнулся. -- Они рвали бы на
себе волосы, если бы имели их. Но я знаю кое-что, чего они не знают. -- Эти
слова он почти пропел, как мальчишка, насмехающийся над своими сверстниками
во дворе школы. Он ткнул пальцем в грудь Ягеру. -- Я знаю кое-что, чего и ты
не знаешь.
-- Все в порядке, -- сказал Ягер. -- Если не скажешь, дам тебе сапогом
в зад. Как же мы сожгли Александрийскую библиотеку?
Намек на классику прошел для Скорцени незамеченным, но на главный
вопрос он ответил:
-- Я знаю, что у нас есть новый тип подводной лодки, вот что я знаю.
Будь я проклят, если знаю как, но она может проплыть в погруженном состоянии
каждый сантиметр из целых четырехсот пятидесяти километров.
-- Боже правый! -- воскликнул Ягер с неподдельным изумлением. -- Если
бы не нашествие ящеров, мы вымели бы всю Атлантику с такими лодками. -- Он
снова почесал подбородок, мысленно представив себе карту восточной части
Средиземного моря. -- Ее, должно быть, привели отсюда -- с Крита?
На лице Скорцени мелькнула забавная смесь уважения и разочарования.
-- А ты ведь неглупый парень, а? Да, от Крита до Александрии можно
проплыть под водой -- если знаешь, что назад не вернешься.
-- M-м, вот как... -- Ягеру потребовалось подумать еще. -- Всей команде
нельзя сказать -- могла взбунтоваться. Но можно найти человека, на которого
можно положиться. И тогда он нажмет кнопку, или щелкнет выключателем, или
сделает что-то еще, что требуется для взрыва.
И он снял свою черную форменную фуражку в знак уважения к смелости
этого человека.
-- Должно быть, все сделали как надо, -- согласился Скорцени. -- Одна
только тонкость -- он так и не узнал, что его погубило.
Ягер вспомнил об огненном шаре, который он видел к востоку от Бреслау,
том самом, который остановил наступление ящеров на город. Он попытался
представить себя в середине этого огненного шара.
-- Ты прав, -- сказал он. -- Это все равно, что швырнуть человека
внутрь Солнца.
-- Наверняка так и было, -- сказал эсэсовец.
Он шел рядом с Ягером, бессмысленно насвистывая сквозь зубы. Через
несколько шагов он спросил -- самым будничным тоном:
-- Как там твой еврейский приятель из Лодзи, сообщает что-нибудь?
Радуются они тому, что получили от меня?
-- Ни слова от них я не слышал, -- правдиво ответил Ягер. -- Я не
удивлюсь, если после товара, который ты попробовал им сбыть, они вообще
перестанут доверять немцам. -- Он подумал, что выбрал для газовой бомбы
прекрасный эвфемизм. Надо будет использовать его и в будущем. -- Они до сих
пор не позволяют ящерам использовать Лодзь в качестве опорного пункта против
нас, несмотря ни на что.
-- Как сентиментально, -- сказал Скорцени с тонкой сардонической
усмешкой. Он ткнул Ягера в спину так, что тот едва не ударился головой в
ствол березы. -- Но очень скоро это потеряет всякое значение.
-- Потеряет? -- По спине Ягера побежали мурашки. Значит, Скорцени
что-то слышал. -- Они собираются приказать нам захватить город? Не уверен,
что мы сможем сделать это. Даже если удастся, в уличных боях наша техника
станет мишенью.
Скорцени расхохотался, он хохотал громко и долго. С березы донесся
негодующий крик белки.
-- Нет, они не собираются совать ваш стержень в колбасную машину, Ягер,
-- сказал он. -- Как я это понимаю. Если мы смогли преподнести подарок
ящерам в Александрии, сможем осчастливить и евреев в Лодзи.
Ягер был лютеранином. Он пожалел, что не католик. Ему очень хотелось
перекреститься. Ошибиться в том, на что намекал Скорцени, было невозможно.
-- Как вы доставите ее в Лодзь? -- спросил он с неподдельным
удивлением. -- Евреи больше никогда не доверятся вам -- нам всем. Могут
предупредить и поляков. Боже, если только они узнают, что будет в этой вашей
бомбе, они могут предупредить и ящеров.
-- К черту ящеров. К черту поляков. К черту и евреев тоже, -- сказал
Скорцени. -- На этот раз я не воспользуюсь ничьей помощью. Когда груз
прибудет сюда, я доставлю его лично.
* * *
-- Вы должны работать, -- сказал Давид Нуссбойм на языке ящеров и
добавил усиливающее покашливание. -- Если вы не будете работать, они уморят
вас голодом или просто убьют.
И, как бы подчеркивая его слова, Барак-3 окружили люди с автоматами.
Представитель ящеров, самец по имени Уссмак, ответил:
-- И что же? При том, как нас кормят, работа невозможно трудна. В любом
случае мы умрем от голода. Если нас убьют быстро, все кончится сразу же. Наш
дух присоединится к духам ушедших Императоров, и мы будем покоиться в мире.
-- Он опустил глаза.
То же проделали и остальные ящеры, присутствовавшие при разговоре.
Нуссбойм видел, как ящеры в Лодзи вели себя аналогично, говоря о своем
суверене. Они верили в дух ушедших Императоров так же страстно, как
ультраортодоксальные евреи верят в Бога или истинные коммунисты -- в
диктатуру пролетариата. Они были правы и в отношении пайка, который
получали. Не это беспокоило Нуссбойма. Если он не заставит ящеров работать,
его снова отправят изготавливать деревянные детали, от чего он избавился,
когда прибыли ящеры. Паек, который получали лесорубы-люди, тоже вел к
голодной смерти.
-- Что могут сделать администраторы лагеря, чтобы вы вернулись на
работу? -- спросил он Уссмака.
Он был готов давать самые невероятные обещания. Согласятся ли с ними
люди из НКВД, управлявшие лагерем, это другой вопрос. Но как только ящеры
втянутся в работу, они уже не остановятся.
Почти все ящеры были наивны и доверчивы по человеческим меркам. Уссмак
доказал, что он к таким не относится.
-- Они могут уйти. Они могут умереть, -- ответил Уссмак, оставив рот
открытым в определенно сардонической улыбке.
-- Бригада Фссеффела работает, как приказано, -- сказал Нуссбойм,
пробуя другой вариант уговаривания, -- они выполняют нормы по всем
профессиям.
Он не знал, так ли это на самом деле, но Уссмак не мог проверить:
контакты между его бараком и тем, который возглавлял Фссеффел, были
прекращены, как только самцы начали забастовку.
-- Из-за того, что Фссеффел -- дурак, не думайте, что и я такой, --
ответил Уссмак. -- Мы не будем работать до смерти, мы не будем умирать от
голода. Пока мы не поверим, что мы не будем слишком много работать или
недоедать, мы ничего делать не будем.
Нуссбойм глянул наружу, на охранников НКВД.
-- Они могут прийти сюда, вытащить нескольких из вас наружу и
расстрелять, -- предостерег он.
-- Да, они могут, -- согласился Уссмак. -- Но от самцов, которых они
расстреляют, работы они не получат.
И он снова рассмеялся.
-- Я передам ваши слова коменданту; -- сказал Нуссбойм.
Он хотел предостеречь их, но не думал, что они произведут на него такое
впечатление. Ящеры, как ему казалось, чувствовали большую горечь от своего
положения, чем любой из самцов Расы, которых Нуссбойм встречал в Польше. Там
он был почти человеческим существом. В Польше, конечно, пленные были у Расы.
Пленных самцов там не было.
Уссмак уклонился от ответа, и Нуссбойм вышел из барака.
-- Удалось? -- спросил по-русски кто-то из охранников.
Он покачал головой. Ему не понравилось мрачное выражение лица
охранника. Ему не нравилось также возвращаться к использованию смеси
польского, русского и идиш для общения с товарищами-людьми. Временами
добиться понимания на языке ящеров было легче.
Охранниками, которые окружили барак, командовал унылый капитан по
фамилии Марченко.
-- Товарищ капитан, мне нужно поговорить с полковником Скрябиным, --
сказал Нуссбойм.
-- Может, тебе и нужно. -- У Марченко был особый акцент -- украинский,
как думал Нуссбойм, из-за этого его было труднее понимать, чем большинство
русских. -- Но нужно ли ему говорить с тобой?
У него это считалось остротой.
Через мгновение, оставаясь таким же мрачным, он кивнул.
-- Ладно, иди обратно в старый лагерь.
Административные службы лагеря помещались в зданиях, лучше построенных
и отапливаемых и не таких переполненных, как бараки зэков, хотя половина
работавших здесь были зэками -- клерки, посыльные и тому подобное. Это была
гораздо более легкая работа, чем рубить сосны и березы. Заключенные глазели
на Нуссбойма, бросая взгляды наполовину заговорщицкие, наполовину
подозрительные. Вообще говоря, он был одним из них, но в то же время точный
статус его оставался неясным и мог оказаться достаточно высоким, чтобы
вызвать их возмущение. Быстрота, с которой он получил доступ к Скрябину,
вызвала разговоры в канцелярии.
-- Какие новости, Нуссбойм? -- спросил полковник НКВД.
Нуссбойм был не такой большой фигурой, чтобы этот живой коротышка,
полковник Скрябин, обращался к нему по имени-отчеству.
С другой стороны, Скрябин понимал по-польски, и это означало, что
Нуссбойму не придется изъясняться с ним на уродливом местном жаргоне.
-- Товарищ полковник, ящеры продолжают упорствовать, -- сказал он
по-польски. Поскольку Скрябин назвал его по фамилии, то и он не мог сказать
полковнику: "Глеб Николаевич". -- Могу я высказать свое мнение, почему так
обстоит дело?
-- Валяй, -- сказал Скрябин.
Нуссбойм не знал, насколько умен полковник. Проницателен -- это да, вне
всякого сомнения. Но в какой степени настоящая интеллигентность является
основой для живости ума -- это вопрос другой. Теперь он откинулся на спинку
своего кресла, сцепил пальцы рук и изобразил перед Нуссбоймом внимание --
или его видимость.
-- Их причины, я думаю, исключительно религиозные и иррациональные, --
сказал Нуссбойм, -- и поэтому они относятся к ним глубоко и искренне. -- Он
рассказал о почитании Императоров, охватывающем всю Расу, закончив так: --
Они могут пожелать принести себя в жертву, чтобы присоединиться к ушедшим
Императорам.
Скрябин закрыл глаза на некоторое время. Нуссбойм подумал, слушал ли он
его вообще и не захрапит ли он в следующий момент. Затем Скрябин вдруг,
рассмеялся, поразив его.
-- Ошибаешься, -- сказал он. -- Мы сможем заставить их работать, причем
с легкостью.
-- Извините, товарищ полковник, но я не понимаю как.
Нуссбойм не любил проявлять свою некомпетентность. НКВД вполне мог
предположить, что если он не знает чего-то одного, то может не знать слишком
многого, и в дальнейшем лучше обойтись без его услуг. Он знал, что такое
бывало.
Но полковник Скрябин казался удивленным, а не рассерженным.
-- Ты, вероятно, слишком наивный. Возможно, ты просто невежествен.
Любой увидит твою слепоту. Вот что ты скажешь этому Уссмаку, который думает,
что мы не сможем убедить его делать то, что требуют рабочие и крестьяне
Советского Союза...
Он дал подробные инструкции, затем спросил:
-- Теперь ты понял?
-- Да, -- сказал Нуссбойм с уважением, невольным, но реальным. Скрябин
был очень проницательным или действительно умным.
-- Теперь немедленно отправляйся туда и покажи этому ящеру, что он не
может противопоставить свою волю исторической диалектике, ведущей Советский
Союз к победе.
-- Я иду, товарищ полковник, -- сказал Нуссбойм. У него было свое
мнение об исторической диалектике, но полковник Скрябин его не спрашивал.
Если повезет, и не спросит.
Капитан Марченко сердито посмотрел на вернувшегося Нуссбойма. Его это
не расстроило: Марченко смотрел на него сердито всегда. Нуссбойм вошел в
барак, наполненный бастующими ящерами.
-- Если вы не приступите к работе, некоторые из вас будут расстреляны,
-- предупредил он, -- полковник Скрябин суров и решителен.
-- Мы не боимся, -- сказал Уссмак. -- Если вы убьете нас, духи
Императоров прошлого будут охранять нас.
-- В самом деле? -- спросил Давид Нуссбойм. -- Полковник Скрябин сказал
мне, что многие из вас -- мятежники, которые убили собственных офицеров.
Даже те, кто в этом не участвовал, наверняка передавали секреты Расы
Советскому Союзу. Почему Императоры захотят иметь дело с вашим духом?
Жуткая тишина воцарилась в мятежном бараке. Затем ящеры тихими голосами
заговорили между собой, большей частью слишком быстро, чтобы Нуссбойм смог
понять. Но общий смысл он уловил: что-то такое, о чем каждый ящер мог думать
про себя, но никогда не осмеливался обсуждать это вслух. Он отдал Скрябину
должное: тот прекрасно понял, как работает разум чужаков.
Наконец Уссмак сказал:
-- Вы, Большие Уроды, идете прямо к убивающему выстрелу, не так ли? Я
не покинул Империю, в том числе и духом, но Императоры могут покинуть меня.
Это верно. Смею ли я использовать шанс выяснить это? Смеем ли мы
использовать шанс узнать это?
Он повернулся к пленникам и повторил свои вопросы громко.
В Польше ящеры презрительно называли демократию "счет особей". Сейчас
при обсуждении они использовали нечто необыкновенно похожее. Нуссбойм ничего
не говорил, пока они спорили, и старался, насколько мог, разобраться в их
дебатах.
-- Мы будем работать, -- сказал Уссмак. Голос его звучал печально и
униженно. -- Но нам требуется больше пищи. И... -- Он замялся, затем решил
договорить. -- Если бы вы смогли обеспечить нас травяным имбирем, он скрасил
бы нам эти длинные тоскливые дни.
-- Я передам ваши требования полковнику Скрябину, -- пообещал Нуссбойм.
Он не думал, что ящерам увеличат паек. Достаточного количества еды не
получал никто, кроме охранников, их доверенных лиц и поваров. Имбирь --
другое дело. Если он эффективно одурманивает их, то его они смогут получить.
Он вышел из барака.
-- Нормально? -- гаркнул ему капитан Марченко.
-- Забастовка закончилась, -- ответил он по-польски, затем добавил
немецкое слово "капут", чтобы быть уверенным, что охранник понял его.
Марченко кивнул. Он по-прежнему был зол на весь мир, но не выглядел как
человек, готовый палить из автомата в окружающих, что он частенько
проделывал. Он приказал Нуссбойму вернуться в свой лагерь.
По дороге он увидел Ивана Федорова, который шел, хромая, в лагерь в
сопровождении охранника. Правая штанина у Федорова была в крови. Федоров
посмотрел на него, пожал плечами, затем отвернулся У Нуссбойма запылали
щеки. Это был не первый случай. С тех пор как он стал переводчиком у ящеров,
он почувствовал холодок в отношении к нему людей из его бывшей бригады. Они
слишком явственно указывали ему, что он больше не из их числа. Его не
просили предать или доносить на них, но они обращались с ним с тем же
подозрительным вниманием, которым удостаивали любого зэка, перешедшего из их
рядов на работу с администрацией лагеря.
"Я просто остаюсь реалистом", -- сказал он себе. В Польше сила была в
лапах ящеров, и он сотрудничал с ними. Только дурак мог подумать, что немцы
лучше. Что же, Господь никогда не стеснялся превращать дураков в удобрение.
Вот почему он в конце концов оказался здесь. Где бы ни находился
человек, он должен крепко стоять на ногах. Он даже служил человечеству,
помогая НКВД выжать из ящеров как можно больше. Он доложил полковнику
Скрябину, чего хотят бастующие. Скрябин только проворчал.
Нуссбойм задумался: почему он чувствует себя таким одиноким?
* * *
Впервые с тех пор, как Джордж Бэгнолл познакомился с Георгом Шульцем,
тот явился в полной германской форме вместо пестрой смеси нацистских и
большевистских предметов одежды, в которой обычно щеголял. Стоя в дверях
дома, в котором проживали Бэгнолл, Кен Эмбри и Джером Джоунз, он выглядел
внушительно, важно и угрожающе.
Угрожающе звучали и его слова:
-- Вам, проклятым англичанам, лучше убраться прочь из Плескау, пока у
вас есть такая возможность. -- Он использовал немецкий вариант названия
русского города. -- Если вы не уберетесь сейчас, не поручусь, что вас
выпустят на следующей неделе. Вы поняли, что я сказал?
Эмбри и Джоунз встали сзади Бэгнолла. Словно случайно в руках у пилота
оказался "маузер", а специалист по радарам прихватил советский автомат
"ППШ".
-- Мы поняли вас, -- сказал Бэгнолл, -- а вы нас понимаете?
Шульц плюнул на пол.
-- Сделаешь людям любезность -- и получишь такую вот благодарность.
Бэгнолл посмотрел на Эмбри, Эмбри посмотрел на Джоунза, Джоунз
посмотрел на Бэгнолла. Они расхохотались.
-- Какого дьявола вы хотите оказать нам любезность? -- потребовал
ответа Бэгнолл. -- Насколько я понимаю, вы предпочли бы видеть нас мертвыми.
-- В особенности меня, -- добавил Джоунз. -- Хотя я не несу
ответственности за любовные пристрастия прекрасной Татьяны или за их
изменения.
Он сказал это таким тоном, словно речь шла о буране, или землетрясении,
или каком-то еще стихийном бедствии.
-- Если вы будете мертвыми, она не сможет стягивать с вас штаны -- это
да, -- сказал Шульц. -- И если вы уйдете, она тоже не сможет стягивать с вас
штаны. Так или иначе, не особенно тяните. Я уже сказал. Можете убраться
отсюда или умереть -- побыстрее выбирайте, что вам больше нравится.
-- Кто собирается убить нас? -- спросил Бэгнолл. -- Вы? -- Он бросил
взгляд на своих товарищей. -- Удачи вам.
-- Не будьте дураком, -- посоветовал Шульц, -- если дело дойдет до
настоящего боя, то вы трое будете -- как это говорят? -- второстепенными
потерями, вот чем. Никто и не узнает, что вы мертвы, пока вы не начнете
вонять. И будьте уверены, настоящие бои будут. Мы собираемся навести порядок
в городе, вот что мы собираемся сделать.
-- Полковник Шиндлер сказал... -- начал было Бэгнолл и остановился.
Этот следующий по рангу после генерал-лейтенанта Шилла полковник много
и правильно шумел о сохранении советско-германского сотрудничества, но у
Бэгнолла сложилось впечатление, что это был только шум. Шилл считал, что
сотрудничество с русскими -- лучший способ защитить Псков от ящеров. Если
Шиндлер не...
-- А, вижу, вы не так уж глупы, -- сказал Шульц, сардонически кивнув в
знак одобрения. -- Если кто-нибудь нарисует вам картинку, вы сразу скажете,
что на ней. Очень хорошо.
Он щелкнул каблуками, словно перед офицером своей армии.
-- Почему бы нам не пойти к командиру Герману с этой новостью? --
спросил Кен Эмбри. -- Вы нас не остановите. Он притворился, что целится в
Шульца.
-- Вы что, думаете, русские слепы, глухи и немы, как вы? -- Шульц
откинул назад голову. -- Мы здорово надули их в сорок первом году. Второй
раз они этого не допустят. Но это не имеет значения. -- Он качнулся назад,
демонстрируя наглую уверенность. -- Если не придут ящеры, мы выметем их вон,
в том числе и из Плескау.
Первую часть этого заявления проверить было невозможно. Но вторая точно
была близка к истине. Советские вооруженные силы в Пскове и вокруг него
состояли из бывших партизан. У них были винтовки, пулеметы, гранаты и
несколько минометов. У нацистов имелось все то же самое плюс настоящая
артиллерия и кое-какая бронетехника, хотя Бэгнолл не был уверен, есть у них
достаточно топлива. Если дело дойдет до открытой войны, вермахт победит.
Бэгнолл ничего не сказал. Спросил только:
-- Вы думаете, что у вас будет возможность содержать прекрасную
Татьяну, -- "прекрасную Татьяну" было сказано по-немецки, -- как ручное
животное? Я бы не хотел уснуть возле нее после того самого.
Шульц нахмурился, как дождевая туча. Очевидно, он далеко не
задумывался. В бою он, вероятно, предоставляет своим офицерам думать за
него. Через мгновение туча рассеялась.
-- Она, Татьяна, понимает силу. Когда силы рейха показали себя сильнее,
чем большевистские, когда я показал себя сильнее, чем она... -- Он выпятил
вперед грудь, изображая мужественность и значительность.
Английские летчики снова посмотрели друг на друга. Татьяна Пирогова
била немцев с самого начала войны и очень неохотно перешла на стрельбу по
ящерам. Если Шульц думает, что победа нацистов в Пскове вызовет у нее
благоговение перед немецкими сверхчеловеками, то очень разочаруется --
вероятно, очень болезненно, а может быть, и летально.
Но стоит ли говорить ему об этом? Лучше не надо. Пока Бэгнолл
соображал, как это сказать, Шульц заговорил сам:
-- Предупреждение вы получили. Поступайте, как хотите. Всего хорошего.
Он сделал поворот кругом и, топая, вышел. Теперь, когда наступила
настоящая весна, на нем были форменные германские пехотные сапоги вместо
русских фетровых валенок, которыми зимой пользовались все, независимо от
политических воззрений.
Бэгнолл закрыл дверь, затем обратился к товарищам:
-- Так, и что же, черт возьми, мы должны делать со всем этим?
-- Думаю, для начала, независимо от того, что сказал Шульц, мы нанесем
визит Александру Герману, -- сказал Джером Джоунз. -- Одно дело -- знать,
что вас не любят немцы, и совсем другое -- узнать, что они собираются в один
из ближайших дней дать вам по шарам.
-- Да, но что потом? -- спросил Кен Эмбри. -- Я не слишком рвусь удрать
отсюда, но будь я проклят, если буду воевать за нацистов, и вовсе не
стремлюсь положить свою жизнь за большевиков.
Бэгнолл просто кивнул, чтобы не повторяться:
-- Джоунз прав. Мы узнаем, что известно Герману о том, что собираются
делать немцы.
Прежде чем выйти на улицу Пскова, он взял винтовку. Эмбри и Джоунз тоже
захватили оружие. Оно имелось у большинства мужчин и у многих женщин:
нацисты и красные русские напоминали ему ковбоев и краснокожих индейцев. Но
игра здесь может быть более кровавой.
Они прошли через рыночную площадь восточнее развалин Крома. То, что
увидел Бэгнолл, ему не понравилось. Лишь несколько "бабушек" сидели за
столами, не было ни болтовни, ни шуток, которые звучали на площади даже
зимой. Товары, которыми торговали эти пожилые женщины, были совсем убогие,
словно они не желали показывать что-то получше из опасения кражи.
Александр Герман разместил свою штаб-квартиру напротив церкви Святых
Петра и Павла, на улице Воровского, к северу от Крома. Солдаты Красной
Армии, охранявшие здание, с подозрением посмотрели на англичан, но
пропустили их к командиру.
Неистовые рыжие усы, которые носил Герман, придавали ему облик пирата.
Теперь, когда лицо его стало худым, бледным и усталым, усы казались
приклеенными, словно неудачный театральный грим. Огромная повязка
по-прежнему охватывала его размозженную руку. Бэгнолл удивился, почему
хирурги ее просто не ампутировали: он не мог себе представить, чтобы от
изуродованной руки было больше пользы, чем от простого крючка вместо нее.
Он с Джеромом Джоунзом стал рассказывать Герману о предупреждении
Георга Шульца. Но партизанский командир отмахнулся здоровой рукой.
-- Да, я знаю, -- сказал он на идиш, что для него казалось более
естественным, чем русский. -- Нацист, вероятно, прав -- фашисты и мы вскоре
снова начнем воевать.
-- От этого никому не будет лучше, кроме ящеров, -- заметил Бэгнолл.
Александр Герман пожал плечами.
-- Им от этого тоже хорошего немного, -- сказал он. -- Они не
собираются двигаться на север, чтобы захватить Псков. Большую часть своих
сил они переправили в Польшу для войны с немцами. Мы воевали с немцами до
нашествия ящеров и будем воевать после их ухода. Нет причин, чтобы не
воевать с ними и сейчас, пока ящеры еще здесь.
-- Не думаю, что вы победите. Герман еще раз пожал плечами.
-- Тогда мы снова уйдем в леса и снова станем лесной республикой. Мы
можем не удержать город, но нацисты не смогут удержать сельскую местность.
Это прозвучало с абсолютной уверенностью.
-- Не означает ли эго, что нам здесь места уже нет? -- спросил
по-русски Джером Джоунз. Благодаря университетскому образованию он
предпочитал этот язык немецкому; с Бэгноллом было иначе.
-- Вам здесь действительно места нет, -- согласился Александр Герман.
Он вздохнул. -- Я думал о том, чтобы отправить вас отсюда. Теперь у меня
такой возможности не будет. Но я призываю вас уйти, пока мы и нацисты не
начали воевать друг против друга. До настоящего времени вы делали все, чтобы
такого не случилось, но полковник Шиндлер кажется менее разумным, чем его
предшественник, -- и, как я сказал, опасность со стороны ящеров теперь
меньше, так что у нас нет теперь общего врата, объединявшего нас. Двигайтесь
в сторону Балтики, пока это возможно.
-- Вы дадите нам пропуск для свободного прохода? -- спросил Кен Эмбри.
-- Да, конечно, -- сразу же ответил партизанский командир -- Вам
следует получить его и у Шиндлера. -- Лицо его скривилось. -- В конце
концов, вы -- англичане, и поэтому заслуживаете достойного обращения по
законам ведения войны. Вот если бы вы были русскими... -- Он покачал
головой. -- Вам также следует помнить, как невелика ценность этого пропуска
-- хоть моего, хоть от Шиндлера. Если кто-нибудь пальнет в вас с пяти сотен
метров, вы его предъявить не сможете.
Александр Герман нашел листок бумаги, обмакнул ручку в пузырек с
жидкостью, которая пахла скорее ягодным соком, чем чернилами, и принялся
быстро писать. Он вручил документ Бэгноллу, который кириллицу разбирал с
большим трудом. Бэгнолл передал его Джерому Джоунзу. Тот пробежал его
глазами и кивнул.
-- Удачи вам, -- сказал Александр Герман. -- Хотелось бы предложить
что-нибудь более существенное, чем это, но теперь всего не хватает.
Трое англичан вышли от партизанского командира с угрюмым видом.
-- Считаете, что нам надо получить пропуск от Шиндлера? -- спросил
Эмбри.
-- Полагаю, не стоит беспокоиться, -- ответил Бэгнолл. -- Немцы вокруг
-- сплошь солдаты, и все они знают, кто мы. Но это ни в коем случае не
относится к русским. Клочок бумаги сможет удержать некоторых крестьян от
того, чтобы перерезать нам горло как-нибудь ночью, когда мы уснем в стогу.
-- Или как раз наоборот, -- сказал Эмбри, не желая, чтобы пострадала
его репутация циника. -- Тем не менее, полагаю, с бумагой нам будет лучше.
-- Жаль, что мы не взяли с собой продовольствие и боеприпасы, -- сказал
Бэгнолл. -- Мы смогли бы тронуться в путь прямо сейчас, не заходя домой.
-- Это же недалеко, -- сказал Джоунз, -- и после того, как мы все
соберем, предлагаю не праздновать наш уход. Если обе стороны предупреждают,
что лучше умотать отсюда, будем дураками, если не послушаемся. Исключая ту
сферу, которая касается прекрасной Татьяны, -- он печально улыбнулся, --
миссис Джоунз дураков не воспитывала.
-- Наконец-то ты от нее избавишься, -- напомнил ему Бэгнолл.
-- Это правда, -- сказал он, -- черт побери.
* * *
Капитан с набором медалей не менее внушительным, чем у Бэзила
Раундбуша, постучал в дверь лаборатории Дэвида Гольдфарба в Дуврском
колледже.
-- Привет, -- сказал он, -- у меня для вас подарочек, парни.
Он обернулся и издал несколько бормотаний и шипений, словно он
старательно пытался задохнуться до смерти. В ответ прозвучало еще несколько
забавных звуков. Затем в комнату вошел ящер, обшаривая выступающими глазами
все вокруг.
Первой реакцией Гольдфарба было -- схватиться за пистолет. К сожалению,
оружия у него не оказалось. А Раундбуш прицелился, причем с похвальной
быстротой.
-- В этом нет необходимости, -- сказал украшенный наградами капитан. --
Мцеппс -- совершенно ручной, а я, Дональд Мэзер, к вашим услугам.
Бэзил Раундбуш присмотрелся к форме Мэзера. Пистолет вернулся обратно в
кобуру.
-- Он из секретной службы, Дэвид. Полагаю, что он сможет защитить нас
от ящера или двух... дюжин.
В его устах это прозвучало не похоже на шутку.
Гольдфарб еще раз взглянул на Мэзера и понял, что Раундбуш говорил
вполне серьезно. Капитан был красивым светловолосым парнем с точеными
чертами лица, довольно любезным, но что-то в его глазах предупреждало, что
неправильное отношение к нему будет ошибкой -- причем фатальной. И свои
медали он явно получил не за чистоту и порядок в казарме.
-- Сэр, что мы будем делать с... Мцеппсом, так вы сказали? -- спросил
он.
-- Да, это Мцеппс, -- ответил Мэзер, произнося каждое "п" по
отдельности. -- Полагаю, он будет полезен вам: видите ли, он техник по
радарам. Я буду находиться при нем, чтобы переводить, пока вы не начнете
понимать друг друга достаточно хорошо, что меня лично осчастливит. Он
немного говорит по-английски, но еще далек до совершенства.
-- Техник по радарам? -- тихо протянул Бэзил Раундбуш. -- О, Дэвид, как
же тебе везет. Ты хоть знаешь это, а? Сначала красавица-девушка, теперь
собственный ящер, чтобы играть с ним. -- Он повернулся к Мэзеру. -- А
специалист по реактивным двигателям у вас случайно не припрятан? У нас есть
прекрасные видеоблюдца о том, как их обслуживать, и если узнать, что
означают слова, это помогло бы нам понять картинки.
Капитан Мэзер заглянул к себе в рукав:
-- Боюсь, что нет.
Бесстрастность ответа сделала его еще более абсурдным. Мцеппс заговорил
на шипящем языке ящеров. Мэзер послушал его, затем сказал:
-- Он говорит, что встречался с парой специалистов по двигателям в...
Впрочем, вам об этом знать не требуется. Там, где он был раньше. Им
нравилось быть там. А почему, Мцеппс? -- Он повторил вопрос на языке ящеров,
выслушал ответ, рассмеялся и сообщил: -- Потому что парень, с которым они
работали, не выше их самих... Эй! Что это на вас нашло?
Гольдфарб и Раундбуш радостно взвизгнули.
Гольдфарб объяснил:
-- Это должен быть полковник Хиппл. Мы оба считали, что он расстался с
жизнью, когда ящеры навалились на Брантингторп. И это первая весть о том,
что он жив.
-- А, неплохое шоу, -- сказал Мэзер. Он пощелкал пальцами и указал на
Гольдфарба. -- Я чуть не забыл кое-что сообщить вам. -- Он, казалось,
рассердился на себя: ему ничего забывать не полагалось. -- Вы ведь кузен
этому парню Мойше Русецки, не так ли? -- Не ожидая кивка пораженного
Гольдфарба, он продолжил: -- Да, конечно, это вы. Я должен поставить вас в
известность, что не так давно я посадил его с семьей на пароход, идущий в
Палестину, по приказу начальства.
-- В самом деле? -- бесцветным голосом спросил Гольдфарб. -- Благодарю
вас, сэр, за то, что вы рассказали. Другое дело... -- Он покачал головой. --
Я вывез его из Польши, чтобы ящеры не смогли совершить над ним самое худшее,
и теперь он снова в стране, которую они захватили. Вы что-нибудь получали от
него, после того как он прибыл туда?
-- Боюсь, что нет, -- ответил Мэзер. -- Я даже не слышал, добрался ли
он туда вообще. Вы же знаете, как сейчас с безопасностью. -- Он казался
несколько смущенным. -- Наверное, мне не следовало говорить вам, но ведь
кровь все же гуще воды, так?
-- Да. -- Гольдфарб закусил губу. -- Полагаю, что все же лучше знать.
Он не был уверен в том, что хотел этим сказать. Он почувствовал себя
беспомощным. Но ведь Мэзер вполне мог принести весть, что, например, Мойше,
Ривка и Рейвен погибли во время воздушного налета ящеров на Лондон. Но здесь
все же оставалась надежда. Уцепившись за нее, он сказал:
-- Что ж, у нас не из чего особенно выбирать. Мы можем только
надеяться, правда?
-- Вы совершенно правы, -- сказал Мэзер, и Гольдфарб понял, что
произвел приятное впечатление. -- Единственный способ не сойти с ума --
продолжать дело.
"Как это по-британски", -- подумал Гольдфарб, с печалью и восхищением
одновременно.
-- Посмотрим, что знает Мцеппс о радарах и что он сможет рассказать об
установках, которые мы захватили у его товарищей.
Еще до окончания работы в первый день общения с ящером он узнал больше,
чем за несколько месяцев терпеливой -- а иногда и не очень -- деятельности
методом проб и ошибок. Мцеппс дал ему ключ к системе цветной кодировки,
которую ящеры использовали для обозначения деталей и проводов, гораздо более
сложной и информативной, чем та, к которой привык Гольдфарб. Ящер показал
себя и искусным техником, продемонстрировав специалисту королевских ВВС с
десяток быстрых приемов, с помощью которых сборка, разборка и отыскание
неисправностей в блоках радара выполнялись легче.
Но когда дело дошло непосредственно до ремонта, тут от него пользы было
меньше.
Гольдфарб спросил его через Мэзера:
-- Что вы будете делать, если этот блок окажется неисправным?
И он показал на устройство, управляющее длиной волны радара. Он не
знал, как это делается, хотя его изыскания убедили его, что это возможно.
-- Вы вынимаете модуль и заменяете его исправным. -- Мцеппс потянулся к
радару. -- Смотрите, он вставляется и вынимается вот так. Очень просто.
Это было очень просто. С точки зрения легкости разборки и доступа к
деталям приборы ящеров значительно превосходили все, что имелось у
королевских ВВС. Ящеры сконструировали их так, что они были не только
эффективными, но и удобными в обслуживании. В них было вложено немало
инженерного ума. Британские же инженеры пока достигли лишь уровня, при
котором радары хотя бы работали. Каждый раз, когда Гольдфарб смотрел на
мешанину проводов, резисторов и конденсаторов, составлявших внутренности
радара королевских ВВС, он понимал, что об удобстве обслуживания еще никто
не задумывался.
Мцеппс, однако, не вполне понял вопрос.
-- Я понял, как вы заменили его, да. Но представьте себе, что у вас нет
замены всего блока. Предположим, вам надо отремонтировать часть, которая
стала неисправной. Как вы отыщете ее и как отремонтируете?
Капитан Мэзер перевел уточненный вопрос ящеру.
-- Ничего нельзя сделать, -- сказал тот по-английски.
Затем продолжил на своем языке. Мэзеру пришлось дважды останавливать
его и задавать дополнительные вопросы. Наконец он изложил Гольдфарбу суть:
-- Он говорит, старик, что ничего сделать нельзя. Сборка -- блочная.
Если какая-то часть неисправна, выбрасывается весь блок. -- Мцеппс добавил
что-то еще. Мэзер перевел: -- Идея в том, чтобы ничего не ломалось и
выбрасывать ничего не требовалось.
-- Если нельзя починить то, что сломалось, что хорошего в таком
подходе? -- спросил Гольдфарб.
Насколько он знал, заниматься электроникой без теоретических знаний о
действии техники бесполезно -- а если вы разбираетесь в теории, то вы уже на
полпути к умению починить неисправность. Временами они случаются.
Через мгновение он решил, что несправедлив к ящеру.
Множество людей управляют автомобилем и знают о том, как он действует,
ровно столько, чтобы залить бензин да залатать проколотую камеру. Тем не
менее он не стал бы включать такого человека в команду, если бы водил
гоночный автомобиль.
Мцеппс, похоже, придерживался своего мнения. Через капитана Мэзера ящер
пояснил:
-- Задача техника состоит в том, чтобы сказать, какая из частей больна.
В любом случае мы не можем производить компоненты для нашей аппаратуры на
этой планете. Ваша технология слишком примитивна. Мы должны использовать то,
что привезли с собой.
Гольдфарбу тут же представился экспедиционный корпус викторианских
времен в черной Африке, попавший в стесненные обстоятельства. Британские
солдаты побили множество туземцев -- пока хватало патронов, пока в пулемете
"максим" не сломалась какая-то деталь, пока лошади не начали гибнуть от
сонной болезни и пока сами они не стали гибнуть от малярии, оттого что
заблудились... Да мало ли что может случиться в черной Африке! Если эта
викторианская армия застряла без надежды спастись...
Он повернулся к Дональду Мэзеру.
-- Знаете, сэр, я впервые почувствовал некоторую симпатию к ящерам.
-- Не спешите, -- посоветовал Мэзер. -- Они полезны вам, и это истинная
правда. Но они опасные противники, а значит, мы должны стать еще опаснее.
Газы, эти вот бомбы... если мы не хотим утонуть, надо хвататься за все, за
что сможем.
Это было бесспорно правильно. Но Мэзер тоже не понял, что имел в виду
Гольдфарб. Дэвид посмотрел на разведчика. Нет, Мэзер явно не относится к
тем, кто одобряет споры на основе исторических аналогий, даже если он знает
смысл этого слова.
-- Спросите Мцеппса, что он и его чешуйчатые друзья будут делать, когда
у них закончатся запасные части.
-- К тому времени мы уже будем разгромлены, -- сказал Мэзер после того,
как ящер дал ответ. -- Он до сих пор верит их пропаганде, несмотря на
потрясение.
-- Полагаю, вряд ли можно ожидать от них высказываний о том, что они
обречены, -- допустил Гольдфарб. -- Но если наш очаровательный пленник
считает, что мы будем побеждены, почему он сотрудничает с нами? Он ведь
помогает воевать со своим собственным народом. Почему не ограничиться
сообщением своего имени, ранга и номера в ведомости на жалование?
-- Интересный вопрос.
Мэзер воспроизвел несколько звуков паровой машины, обращаясь к Мцеппсу.
Гольдфарб засомневался, следует ли задавать вопросы, интересные сами по
себе, в дополнение к текущим вопросам по делу. Ящер ответил столь же
пространно и даже с некоторой живостью. Мэзер изложил Гольдфарбу суть
сказанного:
-- Он говорит, что мы -- его захватчики и, следовательно, его
начальники Ящеры подчиняются начальникам так, как паписты подчиняются папе,
но в гораздо большей степени.
Гольдфарб не знал, как католики подчиняются папе. Свое невежество он
Мэзеру показывать не стал. Возможно, разведчик неприязненно относится к
другим религиям, включая еврейскую. Нельзя, чтобы это мешало выполнению ею
работы.
-- Как с ними обращаются? -- спросил он Мэзера, указывая на Мцеппса. --
После того как мы закончим, куда он денется? Как он проводит время?
-- Мы привезли несколько ящеров в Дувр для работы с вами, военными
исследователями, -- ответил Мэзер.
Местоимение "вы" удивило Гольдфарба, который привык считать военными
исследователями людей вроде Фреда Хиппла, не относя это название к себе. Он
предположил, что для боевого солдата вроде Мэзера любой, кто участвует в
войне со счетной линейкой и с паяльником вместо автомата "стэн" и ручных
гранат, считается интеллектуалом. Его удивление привело к тому, что он
упустил часть фразы, сказанной разведчиком:
-- ...разместили их в здании кинотеатра, бесполезном при таком
недостатке электроэнергии в городе. Они получают тот же паек, что и наши
войска, но...
-- Бедные дьяволы, -- с глубоким сочувствием сказал Гольдфарб. -- Это
не противоречит Женевской конвенции? Я имею в виду умышленную жестокость.
Мэзер хмыкнул.
-- Я не удивился бы. Вообще-то они получают больше мяса и рыбы, чем мы.
Есть признаки, что они нуждаются в такой диете.
-- И я тоже, -- мечтательно произнес Бэзил Раундбуш. -- О, как я
нуждаюсь. Видите, как я страдаю по филею?
Капитан Мэзер вытаращил глаза и попытался продолжить:
-- Тем, кто хочет, мы даем имбирь. У Мцеппса к нему привычки нет.
Разговаривают между собой. Некоторые играют в карты, в кости и даже в
шахматы.
-- Это, наверное, не те игры, к которым они привыкли? -- решил
Гольдфарб.
-- Мцеппс рассказал мне, у них есть игра в кости. Другие игры, я
полагаю, позволяют им проводить время. Их собственных игр мы им не даем. Не
можем. Большинство из них электрические, нет, вы бы сказали, электронные,
так? Кто знает, не смогут ли они соорудить из них что-то вроде радиостанции.
-- M-м, пожалуй, так. -- Гольдфарб посмотрел на Мцеппса. -- Он доволен?
-- Я спрошу его, -- сказал Мэзер, выслушал ответ и рассмеялся. -- "Вы
что, сошли с ума?" -- перевел он.
Мцеппс сказал что-то еще. Мэзер продолжил:
-- Он говорит, что он жив, его кормят и не подвергают мучениям, и это
гораздо больше, чем он ожидал, когда попал в плен. Он не пляшет на ромашках,
но и не получает пинков.
-- Довольно честно сказано, -- заключил Гольдфарб и вернулся к работе.
* * *
Сержант Герман Малдун смотрел сквозь разбитые окна второго этажа
Вуд-Хауза в Квинси, штат Иллинойс, вниз по течению Миссисипи, на основание
крутого утеса.
-- Речной ад, -- объявил он.
-- Это еще и местный ад, -- сказал Остолоп Дэниелс. -- Да, окна разбиты
вдребезги, но сам дом вряд ли изменился по сравнению с тем, каким он был,
когда я последний раз приезжал в этот город, в промежутке между седьмым и
девятнадцатым годами.
-- Переплеты сделаны на совесть, точно, -- согласился Малдун. -- И
каменные блоки с прокладками из свинца, их где попало не применяют. -- Он
сделал паузу. -- А что вы делали здесь в девятьсот седьмом году, лейтенант,
осмелюсь спросить?
-- Играл в мяч -- что еще? -- ответил Остолоп. -- Я начал вторым
кэтчером за "Квинси Джем" в лиге штата Айова. В первый раз я оказался в
стране янки, и -- боже! -- как я был одинок. Первый кэтчер -- его имя
Раддок, Чарли Рад-док -- сломал большой палец на второй неделе мая. После
этого я выбил 360 в месяц, и "Грейс Харбор Грей" из штата Вашингтон купили
мой контракт. Северо-Западная лига была класса Б, на два зубчика выше
"Квинси", но я все равно жалел, что ухожу.
-- Как это вышло? -- спросил Малдун. -- Вы ведь не из тех, кто
пренебрегает движением вверх, лейтенант, и, бьюсь об заклад, никогда таким
не были.
Дэниелс тихо рассмеялся. Он тоже смотрел на Миссисипи. Здесь это была
большая река, но -- ничто по сравнению с тем, какой она втекает в свой
родной штат. Пока что в нее еще не влились ни Миссури, ни Огайо, ни Красная,
ни множество других рек.
На самом деле он смотрел не столько на реку, сколько на собственную
жизнь. Скорее себе, чем Герману Малдуну, он сказал:
-- Здесь была хорошенькая маленькая девочка с курчавыми волосами цвета
спелой кукурузы Ее имя было Адди Страсхейм, я и сейчас вижу ямочку у нее на
щеке, как будто это было вчера. Она была такая конфетка, эта Адди. Если бы я
остался здесь на весь сезон, я, наверное, женился б на ней, если бы уговорил
ее отца
-- Значит, у вас есть шанс найти ее, -- сказал Малдун. -- За город шли
не такие уж сильные бои, и вряд ли все люди ушли отсюда, чтобы сложить
головы за другой большой город.
-- Вы знаете, Малдун, при таких замечательных мозгах вы иногда
выглядите круглым дураком, -- сказал Остолоп.
Сержант улыбнулся ему. Медленно, снова скорее для самого себя, Дэниелс
продолжил: -- Мне было тогда двадцать один, ей -- наверное, восемнадцать. Не
думаю, что был первым мальчиком, который когда-либо целовал ее, но по моим
расчетам передо мной их вряд ли было больше двух. Она еще жива, она стала
старой, такой же, как я, как вы, как все. Раньше я думал о ней, какая она --
такая сладкая, словно сливовый пирог. -- Он вздохнул. -- Черт побери, я
раньше думал о себе, каким я был... Мальчишка, веривший, что поцелуй -- это
нечто особенное! И не стоял в очереди, чтобы быстренько перепихнуться...
-- Мир -- поганое место, -- сказал Малдун. -- Поживешь в нем, и через
некоторое время он тебя истреплет. Война делает это быстрее, но и без нее --
тоже плохо.
-- Не в этом ли досадная и печальная правда? -- сказал Остолоп.
-- Вот. -- Малдун вытащил из-за пояса фляжку и протянул лейтенанту. --
Это вас подлечит.
-- Да? -- Никто еще не предлагал Остолопу воды с такими словами.
Он отвернул крышку, поднес фляжку к губам и сделал глоток. Внутри было
нечто прозрачное, как вода, но пинающееся, как мул. Несколько раз он
пробовал сырой пшеничный ликер, но этот напиток в отличие от многих видов
самогона, которые он вливал в себя, заставлял его чувствовать себя не просто
Дэниелсом, а настоящим крепким мужчиной. Он проглотил, пару раз кашлянул и
вернул фляжку Малдуну.
-- Хорошо, что у меня нет сигарет Если я зажег бы спичку и вдохнул,
наверное, взорвался бы.
-- Я бы не удивился, -- хмыкнув, сказал сержант. Он посмотрел на часы.
-- Лучше воспользуемся временем увольнения, пока можно. В полночь мы снова
начнем отрабатывать жалованье.
Дэниелс вздохнул.
-- Да, я знаю. И если все пойдет, как надо, мы оттесним ящеров на
четверть мили вниз по Миссисипи. С такой скоростью мы освободим эту
проклятую реку за три недели до Страшного Суда.
Он завернулся в одеяло и через полторы минуты заснул.
Засыпал он в ожидании, что капитан Шимански разбудит его пинком. Но
проснулся в должное время без помощи сапога командира отряда. Об этом
позаботились москиты. Они влетали в разбитые окна Вуд-Хауза, жужжа громче,
чем звено истребителей.
Он принялся хлопать по лицу и рукам. Все остальное было закрыто
одеждой, но москиты радовались любому открытому участку кожи. Наступит утро,
и он будет выглядеть, как сырое мясо. Затем он вспомнил об операции.
Наступит утро, и он сам может оказаться сырым мясом.
Малдун тоже проснулся. Они вместе спустились по лестнице, пара
стариков, все еще стойко державшихся в мире молодых и участвовавших в их
игре. Когда он был мальчишкой и пробивался в большую игру, пусть ненадолго,
он презирал -- почти ненавидел -- старикашек, которые так вот стойко
держались и держались, не желая уйти, чтобы дать шанс новым парням. Теперь
он старикашкой стал сам. Но если "уйти" означает скопытиться, это куда хуже,
чем потерять работу.
Капитан Шимански был уже внизу в большом холле и раздавал указания
пехотинцам. Считалось, что они должны все знать и так, но, само собой
разумеется, мозги и тому подобное есть не у всех. Шимански закончил свою
речь словами:
-- Слушайтесь вашего лейтенанта и сержанта. Они поведут вас.
Остолоп развеселился.
Снаружи москитов было еще больше. Трещали сверчки.
Квакало несколько весенних лягушек, хотя для большинства сезон уже
кончался. Ночь была теплой и влажной. Взвод топал на юг, к позициям ящеров.
Сапоги громко стучали по мостовой, затем -- по земле и траве -- шум шагов
стал тише.
Двое разведчиков остановили наступавших американцев к северу от
Марблхеда, деревушки, расположенной по реке ниже Квинси.
-- Окопаться, -- шепотом приказал Остолоп в липкую темноту.
Шанцевый инструмент уже врезался в землю. Дэниелс избегал строительства
сложных окопных систем, применявшихся в Первую мировую войну, потому что
современный бой предполагал слишком быстрое перемещение и для большинства
случаев такие окопы были непрактичны. Но даже наскоро вырытые норы временами
оказывались очень полезными.
Он отодвинул рукав, чтобы посмотреть на часы. Четверть двенадцатого,
показали светящиеся стрелки. Он поднес часы к уху. Да, тикают. Ему казалось,
что прошло уже часа два лишних и с атакой что-то неладно.
-- Когда забавляешься, время летит быстро, -- пробормотал он.
Едва он опустил руку, как артиллерия открыла огонь -- к востоку от
Квинси. Снаряды ударили по Марблхеду, некоторые взрывались в каких-то двух
сотнях ярдов южнее от места, где он лежал. Значит, все в порядке и как надо,
просто он слишком заработался и потерял ощущение времени.
-- Вперед, -- закричал он, когда часы показали назначенное время.
Сектор обстрела тут же переместился с северной на южную часть
Марблхеда. Артиллерия ящеров тоже вступила в дело, но занималась в основном
артиллерийской дуэлью. Остолоп радовался, что ящерам не до него.
-- Сюда, -- закричал разведчик. -- Мы сделали проходы в проволоке.
Вместо колючей проволоки ящеры использовали нечто вроде длиннейшего
тонкого обоюдоострого бритвенного лезвия. Эта режущая проволока была еще
противнее колючей. По плану проходы действительно предусматривались, но не
всегда планы соответствуют действительности.
Ящеры открыли из Марблхеда огонь по наступающим американцам,
двигавшимся через проволочное заграждение. Сколько ни ставь ловушек, всех
крыс все равно не поймаешь. Сколько ни обстреливай пехоту артиллерией, всех
бойцов все равно не перебьешь. Остолопу приходилось бывать под навесным
огнем и похуже этого. Он ожидал сопротивления, и его не обманули.
Он пострелял из своего "томпсона", затем бросился на землю за
перевернутым кузовом старой машины. Майк Уилер, стрелок из его взвода, палил
из автоматической винтовки по городку. Дэниелсу хотелось бы, чтобы на его
месте был Дракула Сабо из его прежнего взвода. Дракула всегда упреждал
противника, когда сталкивался с ящером носом к морде.
Атака его взвода обозначила позиции ящеров. Другой взвод вошел в
городок с востока через несколько минут. Теперь они знали, где прячется
противник, и выбивали чужаков поочередно из каждого дома. Некоторые ящеры
сдались, некоторые сбежали, некоторые умерли. Один из их медиков и двое
людей-солдат бок о бок перевязывали пострадавших.
"Небольшой бой", -- устало подумал Остолоп. Людей погибло немного,
ящеров даже меньше, если уж говорить честно. В Марблхеде сильного гарнизона
не было. Местные жители стали выглядывать из убежищ, которые они соорудили
для защиты от кусков металла, летавших повсюду.
-- Не так уж плохо, -- сказал Герман Малдун. Он показал на запад, в
сторону Миссисипи. -- Еще часть реки освободили. Мы вычистим ящеров гораздо
быстрее, чем за три недели до Судного дня.
-- Да, -- согласился Дэниелс. -- Может, за шесть недель. Малдун
расхохотался.
Лю Хань обернулась и увидела, что Лю Мэй взяла штык, который Нью
Хо-Т'инг беззаботно оставил на полу.
-- Нет! -- закричала Лю Хань. -- Положи это!
Она поспешила отнять опасный предмет у маленькой дочери.
Прежде чем она успела подойти, Лю Мэй бросила штык и уставилась на мать
широко открытыми глазами. Та начала было бранить ее, но вдруг замолкла. Ее
дочь подчинилась ей, хотя она закричала по-китайски. Ей не понадобилось
говорить на языке маленьких чешуйчатых дьяволов или использовать усиливающее
покашливание, чтобы ребенок понял ее.
Она подхватила Лю Мэй на руки и крепко прижала к себе. Лю Мэй не
заплакала, не закричала пронзительно, она не вырывалась, как это было, когда
Лю Хань в первый раз взяла ее у Томалсса. Ее дочь понемногу привыкала быть
человеческим существом среди человеческих существ, а не игрушкой лгущих
маленьких дьяволов.
Лю Мэй показала на штык.
-- Это? -- спросила она на языке маленьких дьяволов вместе с
вопросительным покашливанием.
-- Это штык, -- ответила Лю Хань по-китайски. -- Штык.
Лю Мэй попыталась повторить, но у нее получился звук, похожий на тот,
что мог бы воспроизвести чешуйчатый дьявол. Ребенок снова показал на штык и
еще раз спросил:
-- Это?
Лю Хань потребовалось время, пусть даже очень короткое, чтобы понять:
вопрос был задан на китайском.
-- Это -- штык, -- снова сказала она.
Она обняла Лю Мэй и горячо поцеловала ее в лоб. Лю Мэй не понимала, как
относиться к поцелуям, которыми осыпала ее Лю Хань, получив ребенка обратно:
тогда девочка воспринимала их с отчаянием или досадой. Теперь малышка
поняла: поцелуй -- это что-то приятное.
Она засмеялась в ответ. Вообще Лю Мэй умела смеяться, но улыбалась
редко. Никто не улыбался ей, когда она была совсем крошкой: лица чешуйчатых
дьяволов не приспособлены к улыбкам. Это тоже вызывало досаду у Лю Хань. Она
беспокоилась, сможет ли когда-нибудь научить Лю Мэй улыбаться.
Она принюхалась, затем, несмотря на протесты ребенка -- вопить Лю Мэй
не стеснялась, вымыла ее и переодела.
-- Из тебя кое-что вышло, -- сказала она дочери. -- Это все? Тебе
хватает еды?
Ребенок издал визжащий звук, который мог что-то значить -- или не
значил ничего. Лю Мэй уже была достаточно большой, чтобы ее кормить грудью,
да и груди Лю Хань давно не давали молока, потому что ребенка отняли у нее
совсем маленьким. Но Лю Мэй не нравились ни рисовая пудра, ни вареная лапша,
ни супы, ни кусочки свинины и курятины, которыми Лю Хань пыталась кормить
ее.
-- Томалсс, должно быть, кормил тебя консервами, -- рассерженно сказала
Лю Хань.
Она еще больше расстроилась, потому что Лю Мэй насторожилась и
обрадовалась, услышав знакомое имя маленького чешуйчатого дьявола.
Лю Хань тоже питалась консервами, когда маленькие дьяволы держали ее
пленницей в самолете, который никогда не садится на землю. В основном эти
консервы были захвачены в Америке Бобби Фьоре или в других странах, где
употребляют подобную пишу. Она ненавидела эту еду. Они годились на то, чтобы
уберечь от голодной смерти, но никак не заменяли настоящих продуктов.
Но они были известны Лю Мэй, так же как и сама компания чешуйчатых
дьяволов. Ребенок считал, что китайская пища, которая Лю Хань казалась
единственно правильной, имеет неприятный вкус и запах, и ел ее с такой же
неохотой, какую Лю Хань испытывала, питаясь мясными консервами и другой
гадостью.
Еду иностранных дьяволов можно было найти в Пекине и теперь, хотя, как
правило, она имелась у богатых последователей гоминдановской
контрреволюционной клики или тех, кто служил, как верная собака, чешуйчатым
дьяволам, -- и эти две группы были почти неразделимы. Нье Хо-Т'инг предлагал
раздобыть эту еду разными окольными способами, чтобы кормить Лю Мэй тем, к
чему она привыкла.
Лю Хань каждый раз отказывалась. Она подозревала -- да нет, была
уверена, что им движет: он хотел помочь ей, чтобы ребенок вел себя по ночам
тихо. Вполне понятное желание, и, конечно, ей очень хотелось высыпаться по
ночам, но она была поглощена идеей превратить Лю Мэй в нормального
китайского ребенка, и как можно скорее.
Она много размышляла над этим с тех пор, как ей вернули ребенка. Но
теперь она смотрела на Лю Мэй по-новому, словно прежде не видела ребенка
вообще. Она добивалась полной противоположности тому, чего добивался
Томалсс: он так активно стремился превратить Лю Мэй в чешуйчатого дьявола,
как Лю Хань старалась теперь сделать из нее обычного достойного человека. Но
и маленький дьявол, и сама Лю Хань обращались с Лю Мэй так, словно она была
чистой страницей, на которой можно писать любые иероглифы по своему выбору.
А чем еще мог бы быть ребенок?
Для Нье все было просто. По его мнению, ребенок -- это сосуд, который
надо наполнить революционным духом. Лю Хань фыркала. Нье, вероятно,
раздражало, что Лю Мэй не могла пока устраивать взрывы и не носила красную
звезду на своем комбинезончике. Ну что ж, это проблема Нье, а не ее или
ребенка. Над жаровней в углу комнаты Лю Хань стоял горшок с "као кан
миен-ер", сухой пудрой для лепешек. Лю Мэй она нравилась больше, чем другие
виды порошкообразного риса или старая рисовая мука.
Лю Хань подошла и сняла крышку. Сунула указательный палец в горшок, а
когда вытащила, он был покрыт комками теплой липкой массы, образовавшейся из
сухой рисовой пудры. Поднесла палец к ротику Лю Мэй, и девочка съела рис с
пальца.
Может, в конце концов Лю Мэй привыкнет к нормальной пище. Может быть,
сейчас она настолько голодна, что все съедобное кажется ей вкусным. Лю Хань
вспоминала ужасное время на самолете, который никогда не садится на землю.
Она ела серовато-зеленый горошек, который вкусом напоминал вареную пыль. Как
бы то ни было, Лю Мэй проглотила несколько комков "као кан миен-ер" и
успокоилась.
-- Разве это хорошо? -- тихо проговорила Лю Хань.
Она подумала, что сухая рисовая пудра почти безвкусна, а маленькие дети
не любят пищи с острым вкусом. Так, по крайней мере, говорят бабушки, а кому
знать лучше, как не им?
Лю Мэй посмотрела на Лю Хань и издала усиливающее покашливание. Лю Хань
уставилась на дочь. Неужели она хотела сказать, что сегодня ей понравилась
сухая пудра? Лю Хань не могла придумать, что еще бы могло обозначать это
покашливание. И хотя ее дочь все еще изъяснялась, как маленький чешуйчатый
дьявол, она одобрила тем самым не просто земной, но китайский продукт.
-- Мама, -- сказала Лю Мэй и снова издала усиливающее покашливание.
Лю Хань подумала, что сейчас растечется маленькой лужицей каши. Нье
Хо-Т'инг был прав: мало-помалу она перетягивала дочь от чешуйчатых дьяволов
на свою сторону.
* * *
Мордехай Анелевич смотрел на своих товарищей. Они сидели в комнате над
помещением пожарной команды на Лутомирской улице.
-- Ну вот, мы ее получили, -- сказал он. -- Что нам с ней теперь
делать?
-- Мы должны вернуть ее нацистам, -- прогудел Соломон Грувер. -- Они
пытались убить нас с ее помощью, значит, честно будет воздать им
благодарностью.
-- Давид Нуссбойм предложил бы отдать ее ящерам, -- сказала Берта
Флейшман, -- но не в том смысле, какой подразумевает Соломон, а подарить
по-настоящему.
-- Да, и именно за то, что он говорил подобные вещи, мы с ним и
распрощались, -- ответил Грувер. -- Таких глупостей нам больше не нужно.
-- Просто чудо, что нам удалось извлечь это ужасное вещество из корпуса
и поместить в запаянные сосуды так, чтобы никто не погиб, -- сказал
Анелевич. -- Чудо и пара аптечек с антидотом, которые нам продали солдаты
вермахта, -- они применяют его, когда начинают ощущать действие газа,
несмотря на противогазы и защитную одежду. -- Он покачал головой. -- Нацисты
-- большие мастера на такие штуки.
-- Они большие мастера и в том, чтобы всучивать нам всякую мерзость, --
сказала Берта Флейшман. -- Прежде их ракеты могли бы принести сюда несколько
килограммов нервно-паралитического газа и взрывом мощного заряда рассеять
его вокруг. Но это... из бомбы мы извлекли более тонны. И они собирались
заставить нас поместить ее в такое место, где она навредила бы нам больше
всего. Ракеты далеко не так точны.
Смех Соломона Грувера нельзя было назвать приятным.
-- Бьюсь об заклад, Скорцени был крайне раздражен, когда обнаружил, что
не обыграл нас, как сосунков, хотя и рассчитывал.
-- Вероятно, да, -- согласился Анелевич. -- Но не думайте, что он на
этом успокоится. Я не верил, что mamzer может руководствоваться той
бессмыслицей, которую Геббельс нес по радио, но ошибался. Этого человека
надо принимать всерьез во всем. Если мы не будем постоянно присматривать за
ним, он сделает что-нибудь страшное. Даже под нашим неусыпным наблюдением он
все равно может это проделать.
-- Благодарите Бога за вашего друга, другого немца, -- сказала Берта.
Теперь Анелевич рассмеялся с неловкостью:
-- Я не думаю, что он друг мне, если уж говорить точно. Я ему тоже не
друг. Но я оставил его в живых и пропустил его со взрывчатым материалом
обратно в Германию, так что... Я не знаю, что это такое. Может быть, чувство
чести. Он уплатил свой долг.
-- Значит, бывают и приличные немцы, -- неохотно заметил Соломон
Грувер.
Мордехай снова засмеялся. Смех мог довести его до грани истерики. Он
представил себе пухлого нациста с моноклем, точно таким же тоном говорящего:
"Бывают ведь и приличные евреи".
-- Я по-прежнему думаю: что было бы, если бы я убил его тогда? --
сказал Мордехай. -- Нацистам было бы гораздо труднее делать их бомбы без
того металла, и один бог знает, насколько лучше стал бы мир без них. Но мир
не стал лучше после прихода ящеров.
-- А мы застряли между ними, -- сказала Берта Флейшман. -- Если победят
ящеры, проиграют все. Если победят нацисты, проиграем мы.
-- Перед тем как уйти, мы нанесем им большой урон, -- сказал Анелевич.
-- Они сами помогли нам. Если они отступят, мы не позволим обращаться с нами
так, как они делали прежде. Никогда больше. То, что было моим самым горячим
желанием в жизни до прихода ящеров, исполнилось. Еврейская самооборона стала
фактом.
Насколько мало значил этот факт, выяснилось в следующий момент, когда в
комнату вошел еврейский боец по имени Леон Зелкович и сказал:
-- У входа внизу стоит районный руководитель службы порядка, который
хочет поговорить с вами, Мордехай.
Анелевич сделал кислую мину.
-- Какая честь.
Служба порядка в еврейском районе Лодзи по-прежнему подчинялась
Мордехаю Хаиму Румковскому, который был старостой евреев при нацистах и
остался старостой евреев и при ящерах. Большую часть времени служба порядка
благоразумно делала вид, что еврейского Сопротивления не существует. Если
марионеточная полиция ящеров явилась к нему -- с этим надо разобраться. Он
встал и вскинул на плечо свою винтовку "маузер".
Офицер службы порядка по-прежнему носил шинель и кепи нацистского
образца. На рукаве красовалась введенная нацистами повязка: красная с белым
с черным "могендовидом"; белый треугольник внутри звезды Давида обозначал
ранг служащего. На поясе у него висела дубинка. Против винтовки, конечно,
ерунда.
-- Вы хотели видеть меня?
Анелевич был сантиметров на десять -- двенадцать выше офицера и смотрел
на пришедшего свысока и с холодком. -- Я...
Представитель службы порядка кашлянул. Он был коренастым, с бледным
лицом и черными усами, которые выглядели как моль, севшая на верхнюю губу.
Он все-таки справился с голосом:
-- Я -- Оскар Биркенфельд, Анелевич. У меня приказ доставить вас к
Буниму.
-- В самом деле?
Анелевич ожидал встречи с Румковским или с кем-то из его прихвостней.
Если его приглашает главный ящер в Лодзи -- значит, произошло что-то
экстраординарное. Он подумал, не следует ли этого Биркенфельда убрать. При
необходимости он так и сделает. Есть сейчас такая необходимость? Чтобы
потянуть время, он спросил:
-- Он мне дает охранное свидетельство на встречу и обратно?
-- Да, да, -- с нетерпением ответил представитель службы порядка.
Анелевич кивнул с задумчивым лицом. Пожалуй, ящеры лучше соблюдают свои
обязательства, чем люди.
-- Ладно, я иду.
Биркенфельд отвернулся, явно испытав радостное облегчение. Может быть,
он ожидал отказа Мордехая и последующего наказания.
Он зашагал вперед пружинистым шагом, развернув плечи и демонстрируя
всему миру, что он выполняет достойную миссию, а не кукольную. С досадой и
удивлением Анелевич пошел за ним.
Ящеры помещались в здании бывшей германской администрации на рыночной
площади Бялут. "Очень подходяще", -- подумал Анелевич. Офис Румковского
находился в соседнем здании, его двуколка с изготовленной немцами биркой --
знаком старосты евреев -- стояла рядом. Мордехай едва успел бросить взгляд
на двуколку, потому что навстречу ему вышел ящер, чтобы взять на себя
дальнейшее попечение о еврейском лидере. Районный руководитель Биркенфельд
поспешно исчез.
-- Вашу винтовку, -- сказал ящер Анелевичу на шипящем польском языке.
Он протянул оружие. Ящер взял его.
-- Идемте.
Кабинет Бунима напомнил Мордехаю варшавский кабинет Золраага: он был
наполнен восхитительными, но непостижимыми устройствами. Даже те, назначение
которых руководитель еврейских бойцов понял, действовали неизвестно как.
Например, когда охранник ввел его в кабинет, из квадратного ящика,
сделанного из бакелита или очень похожего на бакелит материала, выползал
листок бумаги. Лист был покрыт каракулями письменности ящеров. Должно быть,
ее напечатали внутри ящика. Он видел, как чистый лист вполз внутрь, затем
вышел с текстом. И практически беззвучно, исключая слабый шум маленького
электромотора.
Из любопытства он спросил охранника.
-- Это машина "скелкванк", -- ответил ящер. -- В вашем языке нет слова
"скелкванк".
Анелевич пожал плечами. Машина так и осталась непонятной.
Буним повернул к нему один глаз. Региональный субадминистратор -- ящеры
использовали такие же невнятные титулы, какие придумывали нацисты, --
довольно бегло говорил по-немецки. Он спросил на этом языке:
-- Вы -- еврей Анелевич, возглавляющий еврейских бойцов?
-- Я тот самый еврей, -- сказал Мордехай.
Может, ящеры еще сердятся на него за помощь Мойше Русецкому, который
сбежал из их лап. Если Буним пригласил его по этой причине, лучше про
Русецкого не заикаться. Но форма приглашения противоречила этому
предположению. Похоже, что ящеры не собирались арестовывать его, только
поговорить.
Второй глаз Бунима тоже повернулся к нему, так что теперь ящер смотрел
на Мордехая обоими глазами -- знак полного внимания.
-- У меня предостережение вам и вашим бойцам.
-- Предостережение, благородный господин? -- спросил Анелевич.
-- Мы знаем больше, чем вы думаете, -- сказал Буним. -- Мы знаем, что
вы, тосевиты, играете в двусмысленные -- я это слово хотел применить? --
игры с нами и с немцами. Мы знаем, что вы мешали нашим военным усилиям
здесь, в Лодзи. Мы знаем это, говорю вам. Не беспокойтесь отрицать это.
Бесполезно.
Мордехай и не отрицал. Он стоял молча и ждал, что еще скажет ящер.
Буним испустил шипящий выдох, затем продолжил:
-- Вы также знаете, что мы -- сильнее вас.
-- Этого я не могу отрицать, -- сказал Анелевич со злобным азартом.
-- Да. Истинно. Мы можем сокрушить вас в любое время. Но чтобы сделать
это, мы должны будем отвлечь ресурсы. А ресурсов мало. Так. Мы терпели вас
как неприятность -- я это хотел сказать? Но не более того. Вскоре мы снова
двинем машины и самцов через Лодзь. Если вы будете мешать, если будете
создавать неприятности, вы за это заплатите. Вот наше предупреждение. Вы
поняли?
-- О да, я понял, -- ответил Анелевич. -- А вы понимаете, сколько
неприятностей начнется по всей Польше, от евреев и поляков одновременно,
если вы попытаетесь подавить нас? Вы хотите, как вы сказали, неприятностей
по всей стране?
-- Мы идем на такой риск. Вы свободны, -- сказал Буним. Один его глаз
повернулся к окну, второй -- к листам бумаги, которые выползали из бесшумной
печатающей машины.
-- Вы идете, -- сказал ящер-охранник на плохом польском.
Анелевич вышел. Когда они оказались вне здания, в котором ящеры
управляли Лодзью, охранник вернул ему винтовку.
Анелевич шел, размышляя. Когда он дошел до помещения пожарной команды
на Лутомирской улице, он улыбался. Ящеры плохо понимали выражение лица
людей. Если бы понимали, его физиономия им явно не понравилась бы.
* * *
Макс Каган говорил на английском со скоростью пулемета. Вячеслав
Молотов не понимал, о чем идет речь, но тот говорил очень горячо. Затем
Игорь Курчатов перевел:
-- Американский физик потрясен теми способами, которые мы выбрали для
извлечения плутония из усовершенствованного атомного реактора, который он
помог нам сконструировать.
Тон речи Курчатова был сух. Молотову показалось, что он испытывает
удовольствие, излагая жалобы американца. Роль переводчика при Кагане
избавляла его от рамок субординации и от ответственности за это. Пока они
оба -- и Каган, и Курчатов -- необходимы, более того, незаменимы для
наращивания военных усилий... Но однажды...
Но не сегодня. Он сказал:
-- Если есть более быстрый способ извлечения плутония, чем
использование заключенных в процессе извлечения стержней, пусть он ознакомит
меня с ним, и мы перейдем на него. Если нет, то нет.
Курчатов заговорил по-английски. Каган ответил ему очень подробно.
Курчатов повернулся к Молотову.
-- Он сказал, что не стал бы конструировать реактор таким образом, если
бы знал, что мы будем использовать заключенных для вытаскивания урановых
стержней, которые перерабатываем в плутоний. Он обвиняет вас в нескольких
несчастных случаях, подробности я не считаю нужным переводить.
"Но слушаешь с удовольствием". В сокрытии собственных мыслей Курчатов
не был настолько умелым, как следовало бы.
-- Пусть он ответит на мой вопрос, -- сказал Молотов, -- существует ли
более быстрый способ?
После обмена мнениями Курчатов сказал:
-- Он говорит, что Соединенные Штаты используют в таких процессах
машины и механические руки с дистанционным управлением.
-- Напомните ему, что у нас нет машин или дистанционно управляемых
механических рук.
-- Он хочет напомнить вам, что заключенные умирают от радиации, в
которой они работают.
-- Ничего, -- безразлично ответил Молотов, -- у нас их достаточно,
чтобы заменять, когда понадобится. Могу заверить вас, что проект в них
недостатка испытывать не будет.
По тому, как потемнело и без того смуглое лицо Кагана, было ясно, что
это не тот ответ, которого он ожидал.
-- Он спрашивает, почему заключенных, по крайней мере, не обеспечат
одеждой для защиты от радиации, -- сказал Курчатов.
-- У нас мало такой одежды, и вы это прекрасно знаете, Игорь Иванович,
-- сказал Молотов. -- У нас нет времени для производства ничего другого,
кроме бомбы. Ради этого великий Сталин готов полстраны бросить в огонь -- но
Кагану передавать мои слова нет нужды. Когда мы получим достаточно плутония
для бомбы?
-- Через три недели, товарищ народный комиссар иностранных дел, может
быть, через четыре, -- сказал Курчатов. -- Благодаря американскому опыту
результаты резко улучшились.
"Тоже неплохо", -- подумал Молотов.
-- Сделайте за три, если сможете. Главное здесь -- результат, а не
метод. Если Каган не в состоянии понять это, он дурак.
Когда Курчатов перевел это Кагану, американец вскочил с места, встал по
стойке смирно и выбросил правую руку в гитлеровском приветствии.
-- Товарищ народный комиссар иностранных дел, я не думаю, что вы его
убедили, -- сухо сказал Курчатов.
-- Убедил я его или нет, меня не беспокоит, -- ответил Молотов.
Про себя -- не допуская никаких внешних проявлений недовольства -- он
добавил еще один факт к делу Кагана, которое завел лично. Может быть, когда
война закончится, этот слишком умный физик обнаружит, что домой вернуться не
так-то просто. Но это пища для размышлений в будущем.
-- Каковы мотивы его сотрудничества с нами? Вы не видите риска? Его
привередливость не влияет на его полезность?
-- Нет, товарищ народный комиссар иностранных дел. Он -- откровенный.
-- Курчатов кашлянул в кулак: это гораздо хуже, чем просто откровенность. --
Но кроме того, он еще и предан делу. Он будет работать с нами.
-- Очень хорошо. Я полагаюсь на вас, присматривайте за ним.
"Твоя голова ляжет на плаху, если что-нибудь пойдет не так", -- вот что
имел в виду Молотов, и Курчатов в отличие от Кагана был вовсе не таким
наивным, чтобы не понять намек. Народный комиссар иностранных дел еще не
закончил:
-- В ваших руках -- будущее СССР. Если мы вскоре сможем взорвать одну
из таких бомб и в короткий срок изготовить новую, то продемонстрируем
чужакам -- империалистическим агрессорам, -- что мы в состоянии сравняться с
ними по уровню вооружения и наносить им удары, которые впоследствии станут
для них смертельными.
-- Наверняка они смогут нанести такие же удары и нам, -- ответил
Курчатов, -- и наша единственная надежда уцелеть состоит в том, чтобы
сравняться с ними, как вы сказали.
-- Такова политика великого Сталина, -- согласился Молотов, что
одновременно означало: именно так и должны развиваться события. -- Он
уверен, что так и будет, стоит нам показать ящерам, на что мы способны. Они
станут более уступчивыми в переговорах, цель которых -- изгнание врагов с
территории нашей Родины.
Народный комиссар иностранных дел и советский физик смотрели друг на
друга, а Макс Каган всматривался в них обоих с удрученным непониманием.
Молотов видел, как в глазах Курчатова мелькнула некая мысль. Он
заподозрил, что физик увидел ту же мысль и в его собственных глазах,
несмотря на каменную маску, якобы приросшую к его лицу. Но этой темы лучше
не касаться.
"Лучше, чтобы великий Сталин оказался прав".
* * *
Шипение Томалсса отражало странную смесь досады и удовольствия. Воздух
в городе Кантоне был довольно теплым, по крайней мере во время длинного лета
Тосев-3, но настолько сырым, что исследователь чувствовал себя так, словно
плыл в нем.
-- Как вы предупреждаете образование грибка в промежутках между
чешуйками? -- спросил он своего проводника, молодого исследователя-психолога
по имени Салтта.
-- Благородный господин, временами мы бессильны, -- ответил Салтта. --
Если это один из наших грибков, то его хорошо подавляют обычные мази и
аэрозоли. Но точно так, как мы можем питаться тосевитской пищей, так и
некоторые тосевитские грибки могут питаться нами. Большие Уроды слишком
невежественны, чтобы изобрести фунгициды, заслуживающие этого названия, а
наши медикаменты не показали себя достаточно эффективными. Некоторых
зараженных самцов пришлось переправить -- конечно, в условиях карантина --
на госпитальные корабли для дальнейшего лечения.
Язык Томалсса высунулся и резко задергался в стороны, изображая
отвращение. Очень многое на Тосев-3 раздражало его. Он едва не пожалел, что
не стал пехотинцем и не уничтожает Больших Уродов, вместо того чтобы изучать
их. Ему не нравилось ходить пешком по тосевитским городам. Он чувствовал
себя потерянным и ничтожным в толпе тосевитов, снующих по улицам вокруг
него. Независимо от того, насколько Раса изучит этих шумных, противных
существ, сможет ли она цивилизовать их и интегрировать в структуру Империи,
как это удачно получилось на Работеве и Халессе? Он в этом сомневался.
Если Раса собирается достичь успеха, то ей надо начать с только что
вылупившихся тосевитов, таких, которые еще не воспитывались по-своему, и
изучить средства, с помощью которых можно было контролировать Больших
Уродов. Именно это он делал с детенышем, вышедшим из тела самки по имени Лю
Хань... пока Плевел непредусмотрительно не заставил его вернуть детеныша.
Он наделся, что Ппевела поразит неизлечимая тосевитская грибковая
инфекция. Как много времени потеряно! Как много данных можно было бы
собрать. Теперь он собирался начать все сначала с новым детенышем.
Потребуются годы, прежде чем он получит полезные результаты, и в первой
части эксперимента ему придется повторить работу, которую уже делал.
Ему также придется вновь пройти процедуру недостаточного сна, которой
ему так хотелось бы избежать. Детеныши Больших Уродов появляются из тел
самок в настолько жалком недоразвитом состоянии, что не имеют ни малейшего
представления о разнице между днем и ночью и издают ужасающие звуки, когда
им это нравится. Почему такое поведение не привело в короткий срок к
вымиранию этого рода, оставалось для него непостижимым.
-- Вот, -- сказал Салтта, когда они завернули за угол. -- Мы выходим на
одну из главных рыночных площадей Кантона.
Если улицы города были просто шумными, то на рынке царила настоящая
какофония. Китайские тосевиты громко расхваливали достоинства своих товаров.
Другие, возможные покупатели, кричали так же громко, а может быть, и еще
громче, понося качества предлагаемых товаров. Когда они не кричали -- а
временами они все-таки не кричали, -- то они развлекались тем, что рыгали,
плевались, очищали зубы и морды, засовывали пальцы в окруженные мясистыми
наростами отверстия, которые служили им слуховыми диафрагмами.
-- Хотите? -- закричал один из них на языке Расы, едва не ткнув в глаз
Томалссу длинный зеленый овощ с листьями.
-- Нет! -- сказал Томалсс с сердитым усиливающим покашливанием. --
Идите прочь!
Нисколько не смущаясь, торговец овощами испустил несколько лающих
звуков, которые Большие Уроды используют для изображения смеха.
Вместе с овощами торговцы на рынке продавали все виды тосевитских форм
жизни, употребляемых в пищу. Поскольку холодильное оборудование здесь
имелось лишь в зачаточном состоянии или отсутствовало вообще, то некоторые
продаваемые существа хранились живыми и находились в кувшинах и стеклянных
банках, наполненных морской водой.
Томалсс посмотрел на желатиноподобное существо с множеством ног,
покрытых присосками. Оно своими странно мудрыми глазами, в свою очередь,
смотрело на Томалсса. Другие живые формы тосевитской жизни имели соединенные
вместе раковины, некоторые -- когтистые лапы: последних Томалсс ел и нашел
их вкусными. Были и существа, очень похожие на тех, которые плавали в
небольших морях на Родине.
У одного парня был ящик с множеством безногих чешуйчатых существ,
которые напоминали Томалссу животных его мира гораздо сильнее, чем волосатые
и тонкокожие формы жизни, преобладавшие на Тосев-3. После обычного громкого
торга Большой Урод купил одно из таких существ. Продавец схватил тварь
щипцами и вытащил наружу, затем большим ножом отсек голову. У еще
извивающегося тела торговец вспорол живот и извлек внутренности. Затем он
нарезал тело кусками длиной в палец, налил жира в коническую железную
сковороду, установленную над жаровней, в которой горел древесный уголь, и
начал жарить мясо существа для покупателя.
Все это время он, вместо того чтобы смотреть на работу, не сводил глаз
с двух самцов Расы. Занервничав, Томалсс сказал Салтта:
-- Он скорее проделал бы это с нами, чем с животным, у которого есть
некоторые наши признаки.
-- Истинно, -- сказал Салтта. -- Истинно, без сомнения. Но эти Большие
Уроды все еще дики и невежественны. Только после нескольких поколений они
будут видеть в нас своих господ и почитать Императора, -- он опустил глаза,
и то же самое проделал Томалсс, -- как их суверена и утешение их духу.
Томалсс задумался, можно ли вообще завершить завоевание Тосев-3? Даже
если оно будет завершено, можно ли цивилизовать тосевитов, как это раньше
произошло с жителями Работева и Халесса? Его окрылила убежденность молодого
самца в мощь Расы и правоту их дела.
К северу от рынка улицы были узкими и хаотично расположенными. Томалсс
удивлялся, как это Салтта находит здесь дорогу. Приятное тепло в этом районе
было не таким сильным: Большие Уроды, для которых оно не было приятным,
строили верхние этажи своих домов и магазинов так близко друг к другу, что
большая часть света Тосев не проникала на улицы.
Вокруг одного здания стояли на страже вооруженные самцы Расы. Томалсс
был рад видеть их: чувство тревоги постоянно сопровождаю его на этих улицах.
Большие Уроды такие непредсказуемые -- это было самым добрым из слов,
которое пришло ему в голову.
Внутри здания находилась тосевитская самка. Она держала недавно
появившегося детеныша возле железы в верхней части своего торса, а он
всасывал питательную жидкость, которую она выделяла для этой цели. Это
явление возмущало Томалсса, напоминая ему паразитизм. Ему пришлось
задействовать отстраненность ученого, чтобы хладнокровно наблюдать за
процессом.
Салтта пояснил:
-- Самке будет хорошо компенсирована уступка детеныша нам, благородный
господин. Это должно предотвратить трудности, проистекающие из парных
связей, которые, похоже, проявляются между поколениями тосевитов.
-- Хорошо, -- сказал Томалсс.
Теперь он спокойно добьется успеха в своей экспериментальной программе
-- а если нытики вроде Тессрека не беспокоились о ней, тем хуже. Он перешел
на китайский и заговорил с самкой Больших Уродов:
-- С вашим детенышем ничего плохого не случится. Его будут хорошо
кормить, хорошо ухаживать за ним. Все, что ему потребуется, он получит. Вы
понимаете? Вы согласны?
Речь его стала более беглой, он даже помнил, что вопросительных
покашливаний использовать не надо.
-- Я понимаю, -- тихо сказала самка. -- Я согласна.
Но когда она передала детеныша Томалссу, из углов ее небольших
неподвижных глаз закапала вода. Томалсс воспринял это как признак
неискренности. Отбросил его как несущественный. Компенсация -- вот
лекарство, которое залечит эту рану.
Детеныш задергался в руках Томалсса из стороны в сторону и издал
раздраженный визг. Самка отвернулась.
-- Хорошо сделано, -- сказал Томалсс Салтте. -- Заберем детеныша в наше
местное отделение. Затем я перевезу его в свою лабораторию и начну
исследования. Мне могли воспрепятствовать один раз, но второй раз я этого не
допущу.
Для полной уверенности их с Салттой на пути к базе Расы, расположенной
на маленьком островке Перламутровой реки, сопровождали четверо охранников.
Отсюда вертолет доставит его и детеныша к пусковой площадке космического
челнока -- и он вернется на звездный корабль.
Салтта вел всех обратно в точности той же дорогой, по которой они шли к
дому самки Больших Уродов. Едва они добрались до рыночной площади, где
продавались странные животные, путь им загородила влекомая животными телега
почти такой же ширины, как переулок, по которому они шли.
-- Назад! -- закричал Салтта по-китайски Большому Уроду, управлявшему
телегой.
-- Не могу! -- закричал в ответ Большой Урод. -- Слишком узко, чтобы
развернуться. Идите до угла, поверните за него и так обойдете меня.
То, что сказал тосевит, было очевидной истиной: развернуться он не мог.
Томалсс повернул один свой глаз назад, чтобы определить, далеко ли придется
идти. Было недалеко.
-- Придется пойти назад, -- уступил он.
Как только они повернули, из здания напротив раздались выстрелы.
Большие Уроды подняли крик. Охранники, окровавленные, повалились на землю.
Один из них успел выпустить ответную очередь, но затем его прошило еще
несколько пуль, и он перестал двигаться.
Из здания выскочило несколько тосевитов в потрепанных одеждах. В руках
они все еще держали легкое автоматическое оружие, с помощью которого
уничтожили охрану. Некоторые направили оружие на Томалсса, другие -- на
Салтту.
-- Вы пойдете с нами прямо сейчас или умрете! -- закричал один из них.
-- Мы пойдем, -- сказал Томалсс, не давая Салтте возможности не
согласиться с ним.
Один из Больших Уродов выхватил тосевитского детеныша из рук Томалсса,
другой увел ученого в то самое здание, из которого выбежали нападающие. Оно
имело задний выход на другую узкую улочку Кантона. Томалсса вели,
подталкивая, по столь многим улицам и так быстро, что вскоре он потерял
представление о том, где он находится.
Вскоре Большие Уроды разделились на две группы, одна увела его, другая
-- Салтту. Они разошлись. Томалсс остался среди тосевитов один.
-- Что вы будете делать со мной? -- спросил он, от страха с трудом
выговаривая слова.
Один из захватчиков изогнул губы так, как это делают тосевиты, когда
забавляются. Поскольку Томалсс изучат Больших Уродов, то опознал улыбку как
неприятную -- сложившаяся ситуация не предполагала приятных улыбок.
-- Мы освободили ребенка, которого вы похитили, а теперь мы собираемся
передать вас Лю Хань, -- ответил парень. Этого Томалсс и боялся больше всего
на свете.
* * *
Игнаций показал на пулемет "шторха".
-- Он для вас бесполезен.
-- Конечно же, -- взорвалась Людмила Горбунова, раздраженная тем, что
польский партизанский командир ни о чем не говорит напрямую. -- Поскольку я
лечу в самолете одна, то стрелять из него не смогу, разве что руки у меня
вытянутся, как щупальца осьминога. Этот пулемет для наблюдателя, а не для
пилота.
-- Я не это имел в виду, -- ответил ставший партизанским командиром
учитель фортепиано. -- Даже если бы с вами был наблюдатель, из него стрелять
было бы невозможно. Мы вынули из него патроны некоторое время назад. У нас
очень мало патронов калибра 7,92, и это очень жаль, потому что у нас очень
много германского оружия.
-- Даже если бы у вас были боеприпасы, толку немного, -- сказала ему
Людмила. -- Пули из пулемета не могут подбить вертолет ящеров, разве только
очень повезет, а для огня по наземным целям пулемет установлен неправильно.
-- И снова я имел в виду не это, -- сказал Игнаций. -- Нам требуется
дополнительное количество таких патронов. Мы немного добыли из скудных
запасов, которые ящеры выделили своим марионеткам. Сейчас мы связались с
вермахтом на западе. Если завтра вечером вы вылетите на этом самолете к их
позициям, они загрузят его несколькими сотнями килограммов патронов. Когда
вы вернетесь сюда, вы окажете нам большую помощь в нашем непрекращающемся
сопротивлении ящерам.
Людмиле хотелось только одного: вскочить в самолет и лететь на восток
до территории, удерживаемой Советами. Если она доберется до Пскова, Георг
Шульц наверняка сможет поддерживать машину в рабочем состоянии. Каким бы
нацистом он ни был, но в технике разбирался, как жокей в лошадях.
Но, несмотря на технические таланты Шульца, Людмиле не хотелось ни
связываться с вермахтом, ни лететь на запад. Хотя немцы стали теперь
товарищами по оружию в борьбе против ящеров, каждый раз, когда ей
приходилось иметь дело с немцами, разум по-прежнему кричал: "Враги!
Варвары!" Вот только, к сожалению, ее чувства были мелочью по сравнению с
военной необходимостью.
-- Значит ли это, что у вас есть бензин для двигателя? -- спросила она,
хватаясь за последнюю соломинку. Когда Игнаций кивнул, она вздохнула и
сказала:
-- Хорошо, я привезу вам боеприпасы. Немцы подготовят посадочную
полосу?
Для "Физлера-156" многого не требовалось, но все равно совершать ночную
посадку в никуда большой радости не доставляло.
Тусклый свет фонаря, который держал Игнаций, позволил разглядеть
утвердительный кивок.
-- Вам надо пролететь курсом двести девяносто два примерно пятьдесят
километров. Посадочная площадка будет обозначена четырьмя красными фонарями.
Вы знаете, что означает "лететь курсом двести девяносто два"?
-- Да, я знаю, что это означает, -- заверила его Людмила. -- И помните,
если вы хотите получить свои боеприпасы, то вы должны обозначить посадочную
полосу, когда я буду возвращаться.
"А еще вы должны надеяться, что меня не подобьют ящеры, когда я буду
лететь над их территорией, но тут уж вы ничего сделать не сможете, это мои
заботы".
Игнаций снова кивнул.
-- Мы обозначим поле четырьмя белыми фонарями. Я полагаю, вы вернетесь
в ту же ночь, так?
-- Если только что-нибудь не сорвется, -- ответила Людмила.
У нее волосы вставали дыбом, но выжить в подобной операции все же
проще, чем лететь при свете яркого дня, когда любой ящер, заметив самолет,
тут же собьет его.
-- Ну, и хорошо, -- сказал Игнаций. -- Значит, вермахт будет ждать
вашего прилета завтра около двадцати трех тридцати.
Значит, он сначала обо всем договорился с нацистами и только потом
обратился к ней. Лучше бы он сначала получил ее согласие и потом стал
договариваться с немцами. Теперь волноваться по этому поводу поздно. Она
понимала, что слишком привыкла в своем деле полагаться на себя, забыв, что
является частичкой огромной военной машины. Она никогда не испытывала
негодования, выполняя приказы своих красных командиров: она должна была
исполнять их, как приказано, и никогда не задумывалась об этом.
Может быть, дело в том, что этот польский партизан не показался ей
истинно военным человеком, чтобы беспрекословно подчиняться ему? А может,
она просто не чувствовала, что принадлежит этому миру. Если бы ее "У-2" не
был поврежден, если бы идиоты-партизаны под Люблином не забыли простейшие
правила подготовки взлетно-посадочных полос...
-- Позаботьтесь, чтобы посредине того, что будет посадочной площадкой,
не было деревьев, -- предупредила она Игнация.
Он помигал, затем кивнул в третий раз.
Большую часть следующего дня она провела, проверяя, насколько это
возможно, техническую исправность самолета. Она с неудовольствием отдавала
себе отчет в том, что никогда не станет специалистом такого класса, как
Шульц, и в том, что этот самолет ей совершенно незнаком. Она старалась
преодолеть свое невежество дотошностью и многократным повторением. Скоро она
узнает, что у нее получилось.
Когда наступила темнота, партизаны оттащили маскировочную сеть с одного
края и выкатили машину наружу. Людмила знала, что места для разбега у нее
немного. Для "физлера" как будто много и не требовалось. Она надеялась, что
все слухи об этой машине оправдаются.
Она взобралась в кабину. Едва ее палец нажал кнопку стартера, как мотор
"Аргус" тут же ожил. Пропеллер завертелся, его словно размыло в воздухе,
затем он как будто исчез. Партизаны отбежали в сторону. Людмила отпустила
тормоз, дала "шторху" полный газ и понеслась в сторону двух людей со
свечами, отмечавших место, где начинались деревья. Они приближались с
тревожащей быстротой, но когда она потянула на себя ручку, "шторх" взмыл в
воздух с такой же легкостью, как его пернатый тезка.
Первой ее реакцией было облегчение: наконец-то она снова в полете.
Затем она поняла, что по сравнению с тем, к чему она привыкла, теперь в ее
руках гораздо более сильная машина. "Аргус" имел в два с лишним раза больше
лошадиных сил по сравнению с радиальным двигателем Шевцова, а "шторх" был не
намного тяжелее самолета "У-2". Она почувствовала себя пилотом истребителя.
-- Не глупи, -- сказала она себе. Хороший совет пилоту в любых
обстоятельствах.
В закрытой кабине "физлера" она могла слышать свои слова, что при
полете на "кукурузнике" совершенно невозможно. Непривычным было и отсутствие
потока воздуха, бьющего в лицо.
Она держалась как можно ближе к земле: сделанный людьми самолет,
который поднимался выше сотни метров, часто попадал на землю быстрее, чем
этого желали пилоты. При полете над мирной территорией это срабатывало
неплохо. Перелет через боевые позиции, как она это обнаружила, оказался
сложнее. Несколько ящеров открыли по "шторху" огонь из автоматического
оружия. Звук от пуль, пробивавших алюминий, отличался от того, который
получается, когда пули проникают сквозь ткань. Но "шторх" не дрогнул и не
свалился с неба, и у нее появилась надежда, что конструкторы самолета знали,
что делали.
Она миновала позиции ящеров и оказалась на территории Польши, занятой
немцами. Двое нацистов тоже пальнули в нее. Она почувствовала, что ей
хочется выхватить пистолет и открыть ответный огонь.
Но вместо этого она принялась вглядываться в тьму в поисках
прямоугольника из четырех фонарей. Пот заливал ей лицо. Она летела так
низко, что вполне могла пропустить фонари. Если она пропустит их, ей
придется сесть где попало. И что тогда? Сколько времени понадобится немцам,
чтобы перетащить боеприпасы от места посадки до ее самолета? А может, ящеры
заметят "шторх" и размажут его по земле прежде, чем в него успеют погрузить
боеприпасы.
Теперь, когда она летела над территорией, удерживаемой людьми, она
могла позволить себе лететь на несколько большей высоте. Вот! Слева и
недалеко. В конце концов, ее навигационные способности не так уж плохи. Она
плавно развернула "шторх" и направила его к обозначенной полосе.
Площадка показалась ей размером с почтовую марку. Сможет ли она
посадить "шторх" на таком крошечном пространстве? Придется попробовать, это
точно.
Она прикрыла дроссель и опустила огромные закрылки. Дополнительное
сопротивление воздуху, которое они создали, удивительно быстро уменьшило
скорость полета. Может быть, в конце концов ей удастся посадить "шторх"
целым. Она наклонилась вперед и посмотрела вниз через дно стеклянного домика
кабины, почти чувствуя расстояние до земли.
Приземление было удивительно мягким. Шасси "шторха" имело мощные
пружины, поглотившие удар от резкого соприкосновения с землей. Если бы само
прикосновение было менее резким, она вообще не поняла бы, что находится уже
на земле. Людмила заглушила мотор и резко нажала на тормоз. Она не сразу
поняла, что машина остановилась -- а у нее еще метров пятнадцать или
двадцать запасного пространства.
-- Хорошо. Это было хорошо, -- сказал человек с фонарем, сказал ей,
приблизившись к "физлеру". Свет фонаря осветил его белозубую улыбку. -- Где
эти драные партизаны нашли такого отчаянного пилота?
В это же время другой человек -- по тону речи явно офицер -- обратился
к людям, скрытым темнотой:
-- Эй, вы, тащите ящики сюда. Думаете, они сами пойдут, что ли?
Его слова звучали требовательно и одновременно смешно -- хорошее
сочетание, если хочешь добиться от своих солдат максимума возможного.
-- Вы, немцы, всегда считаете, что вы единственные, кто знает все обо
всем, -- сказала Людмила солдату с фонарем.
У того рот открылся от удивления. Она слышала, что у ящеров эта гримаса
что-то обозначает, но так и не смогла вспомнить, что именно. Но она
подумала, что это забавно. Немецкий солдат отвернулся и воскликнул:
-- Эй, полковник, вы не поверите! На этом самолете прилетела девушка.
-- Я встречался раньше с женщиной-пилотом, -- ответил офицер. -- И она
была очень хорошим пилотом, в самом деле хорошим.
Людмила застыла на непривычном сиденье "шторха". Все ее тело, казалось,
погрузилось в колотый лед -- или это был огонь? Она не могла сказать. Она
смотрела на панель приборов -- все стрелки лежали на колышках возле нулевых
отметок, -- но не видела их. Она сама не поняла того, что слова -- на
русском -- непроизвольно сорвались с ее губ:
-- Генрих... это ты?
-- Майн готт, -- тихо сказал офицер где-то в темноте, наполненной
треском сверчков, в которой она не могла увидеть его. Она подумала, что это
его голос, но она не встречалась с ним полтора года и могла ошибиться. Через
мгновение он осмелел: -- Людмила?
-- Что тут за чертовщина происходит? -- спросил солдат с фонарем.
Людмила выбралась из "физлера". Она все равно должна была это сделать,
чтобы немцам удобнее было грузить в самолет ящики с патронами. Но даже когда
ее ноги зашагали по земле, она чувствовала себя так, будто все еще летит, и
гораздо выше, чем безопасно для любого самолета.
Ягер подошел к ней.
-- Ты еще жива, -- почти сурово сказал он.
Посадочный фонарь давал немного света. Она не смогла рассмотреть, как
он выглядит. Но теперь, когда она смотрела на него, память добавила
недостающие детали: у уголков глаз его появились складки; губы с одной
стороны приподнимаются, когда он увлечен или просто задумался; седые волосы
на висках.
Она сделала шаг к нему, и одновременно он сделал шаг к ней. Они
оказались так близко, что смогли обнять друг друга.
-- Что за чертовщина здесь происходит? -- повторил солдат с фонарем.
Они игнорировали его.
В ночи прогудел сильный глубокий голос, сказавший по-немецки:
-- Что же, это ведь сладко, не так ли?
Людмила игнорировала и это вмешательство. Ягер не мог себе этого
позволить. Он оборвал поцелуй раньше, чем хотел бы, и повернулся к
подходившему человеку -- в ночи это была лишь большая, нависающая тень.
Официальным тоном он сказал:
-- Герр штандартенфюрер, представляю вам лейтенанта...
-- ...старшего лейтенанта, -- вмешалась Людмила.
-- ...старшего лейтенанта Людмилу Горбунову из советских ВВС. Людмила,
это штандартенфюрер Отто Скорцени из Ваффен СС [Войска СС -- на протяжении
1933-1945 годов это понятие значительно изменяло свой смысл. Созданные как
части усиления для "охранных отрядов", с началом воины они были
преобразованы в полноценные воинские части, вначале элитные,
добровольческие, а к концу войны -- совершенно рядовые. Отличались от
строевых частей вермахта знаками отличия и воинскими званиями. Система
обучения пехотинца, разработанная для войск СС, после войны была принята в
большинстве армий мира. -- Прим. ред.], мой...
-- ...соучастник, -- перебил его Скорцени. -- Вижу, вы старые друзья.
-- Он расхохотался. -- Ягер, скрытный дьявол, ты прячешь самые разные
интересные вещи под своей фуражкой, не так ли?
-- Это необычная война, -- с некоторым упрямством ответил Ягер.
Быть "старым другом" советской летчицы было разрушительно для карьеры
служащего вермахта -- а может быть, и хуже, чем просто разрушительно. Равно
как и отношения такого рода с немцем были опасны для Людмилы. Но он не стал
отпираться, сказал только:
-- Ты ведь работал с русскими, Скорцени.
-- Но не так интимно. -- Эсэсовец снова захохотал. -- Не прибедняйся.
-- Он взял Ягера за подбородок, словно был его снисходительным дядюшкой. --
Не делай того, что не доставляет мне радости.
Насвистывая мелодию, которая звучала, как он, вероятно, считал,
скабрезно, он ушел в темноту.
-- Ты работаешь с ним? -- спросила Людмила.
-- Случается, -- сухо отметил Ягер.
-- Как? -- спросила она.
Вопрос, как понимала его Людмила, был очень широк, но Ягер понял, что
она имеет в виду.
-- Осторожно, -- ответил он, вкладывая в ответ больший смысл, чем в
ожидаемый ею.
* * *
Мордехай Анелевич уже давно уступил неизбежности и пользовался
отдельными предметами германского обмундирования. В Польше имелись огромные
запасы его, оно было прочным и достаточно практичным, пусть даже и не так
хорошо приспособленным к зимним холодам, как обмундирование русского
производства.
Но одевшись с головы до ног в полную форму вермахта, он испытал
несколько другие ощущения. Глядя в зеркало, он видел нацистского солдата,
которые так зверствовали в Польше, и его охватывал сверхъестественный страх,
несмотря на то что он считал себя светским человеком. Но на это пришлось
пойти.
Буним угрожал евреям репрессиями, если они попытаются заблокировать
перемещения войск ящеров в Лодзи. Поэтому нападения должны происходить за
пределами города, чтобы их можно было списать на немцев.
Соломон Грувер, также в германской форме, подтолкнул его локтем. К его
каске эластичными лентами были прикреплены зеленые ветки, и он был почти
неразличим в лесу неподалеку от дороги.
-- Вскоре они должны напороться на первые мины, -- сказал он тихим
голосом, искаженным противогазом.
Мордехай кивнул. Мины были тоже германскими, в корпусах из дерева и
стекла, чтобы их было труднее обнаружить. Бригада, ремонтировавшая шоссе,
только что установила их... вместе с некоторыми другими вещами. На этом
участке шоссе длиной в два километра ящеров ожидала по-настоящему неровная
дорога.
Грувер, как обычно, имел мрачный вид.
-- Это будет нам стоить многих людей, неважно каких, -- сказал он, и
Анелевич вынужден был согласиться.
Ему неприятно было проявлять благосклонность к немцам, в особенности
после того, что немцы собирались сделать с евреями в Лодзи. Но эта
благосклонность должна была пойти на благо немцам вроде Генриха Ягера, не
дав ничего хорошего Скорцени или СС. Так надеялся Анелевич.
Он вглядывался в дорогу сквозь стекла своего противогаза. Воздух,
которым он дышал, был на вкус сухим и мертвым.
В противогазе он приобрел внешность свинорылого существа, такого же
чужака, как ящеры. Противогаз был тоже немецкого производства -- немцы знали
толк в химической войне, в частности против евреев, еще до нашествия ящеров.
-- Бум-м!
Резкий взрыв означал, что сработала мина. Естественно, грузовик ящеров
перевернулся на бок и загорелся. Из кустарника с обеих сторон дороги ударили
пулеметы -- по нему и по машинам, шедшим следом. Издалека по автоколонне
ящеров начал бить германский миномет.
Два бронетранспортера свернули с дороги, чтобы расправиться с
нападавшими. К вящему ликованию Анелевича, обе почти сразу же подорвались на
минах. Одна загорелась, и он открыл огонь по ящерам, выскакивавшим из нее.
Вторую занесло в сторону -- у нее была разорвана гусеница.
Но то оружие, которое, как надеялся Анелевич, должно было нанести
наибольший урон, вообще обходилось без взрывчатых веществ: оно состояло из
катапульт, сделанных из автомобильных камер, и запечатанных воском бутылок,
наполненных доверху маслянистой жидкостью. Как они с Грувером определили, с
помощью этой старой резины можно зашвырнуть бутылку на три сотни метров, и
этих трех сотен было вполне достаточно. Со всех сторон бутылки с захваченным
у нацистов нервно-паралитическим газом полетели в остановившуюся головную
часть автоколонны ящеров. Еще больше полетело в машины всей колонны, едва
она остановилась.
Большинство бутылок разбилось. Ящеры начали падать. Противогазов на них
не было. Кроме того, они были покрыты только краской для тела, хотя и
обычная одежда надежной защиты не обеспечивала. Мордехай слышал, что немцы
для своих химических войск выпускают специальное прорезиненное
обмундирование. В самом ли деле это так, он не знал. Для дотошных немцев это
было бы весьма логично, но не превратишься ли ты в тушеного цыпленка, если в
боевой обстановке пробудешь в такой резиновой одежде более часа или двух?
-- Что мы будем делать дальше? -- спросил Грувер в паузе, вставляя
очередную обойму в свою винтовку "гевер 98".
-- Как только разбросаем все наши запасы газа, сразу отойдем, --
ответил Анелевич. -- Чем дольше мы задержимся, тем больше возможностей у
ящеров схватить кого-нибудь из наших, а мы этого не хотим.
Грувер кивнул.
-- Если сможем, то надо обязательно унести с собой и наших погибших, --
сказал он. -- Не знаю, насколько осведомлены ящеры в отношении этих дел, но
если да -- они смогут определить, что мы не настоящие нацисты.
-- Это так, -- согласился Мордехай. Последний раз, когда ему напомнили
об этой особенности, Софья Клопотовская сочла это забавным. Последствия,
однако, могут оказаться слишком серьезными.
Бросаемые катапультами бутылки с нервно-паралитическим газом имели
некоторые преимущества перед обычной артиллерией: ни вспышки, ни гром
выстрела не раскрывали позиций метальщиков. Они продолжали бросать бутылки,
пока не израсходовали их полностью.
После этого еврейские бойцы стали отходить от дороги, прикрываемые
пулеметами. Было предусмотрено несколько сборных пунктов -- на фермах
надежных поляков. "Поляков, на которых, как мы надеемся, можно положиться",
-- подумал Мордехай, приближаясь к одной из них. Там они переоблачились в
обычную одежду и вооружились более эффективным оружием, чем винтовки. В те
дни в Польше появиться на публике без "маузера" за плечами было почти то же
самое, что выйти голым.
Мордехай вернулся в Лодзь с западной стороны, дальней от места
нападения на автоколонну. Вскоре после полудня он подошел к помещению
пожарной команды на Лутомирской улице.
Берта Флейшман приветствовала его перед входом.
-- Говорят, утром было нападение нацистов, всего в двух километрах от
города?
-- В самом деле? -- в замешательстве спросил он. -- Я не слышал об
этом, хотя утром действительно была стрельба. Впрочем, сейчас стреляют почти
каждый третий день.
-- Это, должно быть, как его там... Скорцени, вот как, -- сказала
Берта. -- Какой еще сумасшедший рискнет сунуть голову в осиное гнездо?
Во время их разговора к зданию подошел районный руководитель службы
порядка, который приводил Анелевича к Буниму. Оскар Биркенфельд имел при
себе только дубинку, а потому с уважением ожидал, когда вооруженный
винтовкой Анелевич обратит на него внимание. Когда это произошло, сотрудник
службы порядка сказал:
-- Буним снова требует вашего появления немедленно.
-- В самом деле? -- спросил Анелевич. -- И зачем?
-- Он скажет сам, -- ответил Биркенфельд с некоторым вызовом --
насколько это возможно было при почти полном отсутствии оружия.
Анелевич свысока посмотрел на него, ничего не отвечая. Сотрудник службы
порядка поник и спросил слабым голосом:
-- Вы пойдете?
-- О да, я пойду, хотя Буниму и его марионеткам следовало бы поучиться
хорошим манерам, -- сказал Мордехай.
Биркенфельд сердито вспыхнул.
Мордехай похлопал по плечу Берту Флейшман:
-- Скоро увидимся.
* * *
-- ...Немного, -- ответил он. -- О нападении нацистов я услышал в тот
самый момент, когда ваш ручной полицейский пришел, чтобы привести меня сюда.
Вы можете спросить его после того, как я уйду: мне кажется, он слышал, как
мне сообщили эту новость.
-- Я проверю, -- сказал Буним. -- Так вы отрицаете какую-либо вашу роль
в нападении на автоколонну?
-- Разве я нацист? -- спросил Анелевич. -- Берта Флейшман, женщина, с
которой я разговаривал, когда Биркенфельд нашел меня, думает, что к этому
может иметь отношение некто Скорцени. Я наверняка не знаю, но слышал, что он
где-то в Польше, может быть, даже к северу от Лодзи.
Если он сможет чем-то навредить эсэсовцу, надо это сделать.
-- Скорцени? -- Буним высунул свой язык, но не стал, дергать им вперед
и назад, верный признак заинтересованности. -- Уничтожить его стоит целого
выводка яиц обычных тосевитов вроде вас.
-- Истинно, благородный господин, -- сказал Мордехай.
Если Буниму хочется думать, что он безопасный трепач, для него это
только на пользу.
Ящер сказал:
-- Я исследую, имеют ли слухи, о которых вы сообщаете, какую-либо
обоснованность. Если да, то я приму все меры для уничтожения вредного самца.
При успехе мой статус повысится.
Мордехай подумал, предназначена ли последняя фраза ему, или же Буним
говорит сам с собой.
-- Я желаю вам удачи, -- сказал он.
И хотя он лично возглавил нападение на колонну, идущую на север воевать
против немцев, он имел в виду именно то, что сказал ящеру.
* * *
-- А ведь мы правильно действуем! -- с энтузиазмом произнес Омар
Брэдли, присаживаясь в кабинете Лесли Гровса в Научном центре Денверского
университета. -- Вы сказали, что следующая бомба вскоре будет на подходе, и
заверили, что так и будет.
-- Если бы я лгал вам -- или еще кому-то, -- меня схватили бы за
задницу и вытурили вон, заменив человеком, который выполняет свои обещания,
-- ответил Гровс. Он наклонил голову набок. Где-то вдали продолжала
грохотать артиллерия. Но теперь Денвер не выглядел готовым сдаться. -- А вы,
сэр, вы проделали дьявольскую работу по защите этого города.
-- У меня был хороший помощник, -- сказал Брэдли.
Они обменялись легкими поклонами, довольные друг другом. Брэдли
продолжил:
-- Не похоже, что нам следует использовать вторую бомбу где-нибудь
поблизости. Попробуем перевезти ее в другое место, где от нее им будет еще
хуже.
-- Да, сэр. Так или иначе, но мы справимся с этим, -- сказал Гровс.
Железнодорожные пути, ведущие в Денвер и из него, были разрушены, но
обычные дороги еще сохранились. Если разобрать устройство на части, то его
можно перевезти на лошадях, куда нужно.
-- Рассчитываю, что да, -- сказал Брэдли. Он потянулся к нагрудному
карману, но на полпути остановил движение руки. -- Никак не могу отвыкнуть
от курения. -- Он сделал длинный усталый выдох. -- А ведь благодаря этому
есть шанс прожить дольше.
-- Наверное, это так, -- сказал Гровс.
Брэдли хмыкнул, но тут же придал себе невозмутимый вид. Гровс его не
осуждал. У него тоже были заботы поважнее, чем табак. Он заговорил о самой
большой:
-- Сэр, как долго мы с ящерами будем играть в "око за око"? Вскоре уже
не останется несданных городов, если мы продолжим в том же духе.
-- Я знаю, -- сказал Брэдли, и его длинное лицо помрачнело. -- Черт
возьми, генерал, я такой же солдат, как и вы. Я не делаю политику. Я только
провожу ее в жизнь наилучшим образом, которым только могу. Делать политику
-- работа президента Халла. Если хотите послушать, я расскажу вам то, что
говорил ему.
-- О да, конечно, я хочу услышать это, -- ответил Гровс. -- Если я
смогу понять, что я должен делать, я соображу, как делать, чтобы было легче.
-- Не все так думают, -- сказал Брэдли. -- Многие хотели бы
сосредоточиться только на своем дереве и забыть про лес. Мое мнение: нам
следует использовать эти бомбы только для того, чтобы заставить ящеров сесть
за стол и серьезно поговорить об окончании этой воины. Насколько я понимаю,
любой мир, который позволит нам сохранить малейшую независимость, стоит
этого.
-- Малейшую независимость? -- переспросил Гровс. -- Даже не всю нашу
территорию? Это тяжелый мир, чтобы просить его, сэр.
-- В данное время, я считаю, это все, на что мы можем надеяться.
Принимая во внимание изначальные цели вторжения ящеров, даже этого добиться
будет нелегко, -- сказал Брэдли. -- Вот почему я так рад вашим успехам. Без
ваших бомб нас уже победили бы.
-- Но даже с ними нас все равно победят, -- сказал Гровс. -- Хотя
побеждают они нас не так быстро, и мы заставляем ящеров платить, как чертей,
за все, что они получают.
-- Правильная мысль, -- согласился Брэдли. -- Они явились сюда с
ресурсами, которые нелегко обновить. Сколько они истратили? Сколько у них
еще осталось? Сколько они могут допустить потерь?
-- В этом и состоит вопрос, сэр, -- сказал Гровс. -- Главный вопрос.
-- О нет. Есть еще один, гораздо более важный, -- сказал Брэдли. Гровс
вопросительно поднял брови. -- Останется ли у нас что-нибудь к моменту,
когда они будут выскребать остатки ресурсов со дна бочки?
-- Да, сэр, -- проворчал Гровс.
* * *
Ядерный огонь расцвел над тосевитским юродом. Вид его, снятый с
разведывательного спутника, был прекрасным. Из верхних слоев атмосферы
рассмотреть в подробностях то, что сделала бомба с городом, было невозможно.
Это собственными глазами видел Атвар лично, проезжая по руинам Эль-Искандрии
в специальной защищенной машине. Вблизи это ни в малейшей степени не
казалось прекрасным.
Кирел не участвовал в поездке, однако смотрел видеозаписи этого и
других взрывов, проведенных и Расой, и тосевитами. Он сказал:
-- А мы отплатим взрывом над городом Копенгагеном. Когда же это
кончится, благородный адмирал?
-- Командир, я не знаю, когда это кончится, и даже кончится ли вообще,
-- ответил Атвар. -- Психологи недавно передали переведенный том тосевитских
легенд в надежде, что смогут помочь мне -- и Расе в целом -- лучше понять
противника. Одна из них, которая мне запомнилась, рассказывает о тосевитском
самце, который боролся с воображаемым чудовищем с множеством голов. Каждый
раз, когда он отрезал одну из них, вместо нее вырастало две. Вот в таком же
неприятном положении теперь оказались и мы.
-- Я понял, что вы сказали, благородный адмирал, -- сказал Кирел. --
Гитлер, германский не-император, кричал на всех радиочастотах, что он может
приказать отомстить нам за то, что он называет бессмысленным разрушением
нордического города. Наши семантики до сих пор анализируют точное значение
слова "нордический".
-- Меня не волнует, что оно означает, -- раздраженно взорвался Атвар.
-- Все, о чем я беспокоюсь, так только о том, чтобы довести завоевание до
успешного конца, и я больше не уверен, что мы в состоянии выполнить это.
Кирел смотрел на него обоими глазами. Даже когда обстоятельства
складывались наихудшим образом, он без колебаний верил в конечный успех
миссии Расы.
-- Значит, вы намереваетесь прекратить военные усилия, благородный
адмирал? -- спросил Кирел тихим и предостерегающим голосом.
Атвар тоже понял это предостережение. Если Кирелу не понравится его
ответ, он поднимет восстание против Атвара, как это сделал Страха после
первого тосевитского ядерного взрыва. Если бы Кирел возглавил такое
восстание, то успех бы был обеспечен.
Поэтому Атвар дал ответ, также содержащий предостережение:
-- Прекратить? Ни в коем случае. Но я начинаю думать, что мы не сможем
захватить всю поверхность суши этого мира без неприемлемо больших потерь как
для наших сил, так и для поверхности. Мы должны думать о том, что найдет
флот колонизации, когда прибудет сюда, и соответственно вести себя.
-- Это может вовлечь нас в дискуссии с тосевитскими империями и
не-империями, которые борются против нас теперь, -- сказал Кирел.
Атвар не смог прочитать в этом высказывании мнения командира. Да и сам
он еще не определился. Даже мысль о переговорах означала вступление на
неразрешенную полосу. План Расы, разработанный на Родине, предусматривал
полное завоевание Тосев-3 в течение нескольких дней, а не четырех лет --
двух медленных оборотов планеты вокруг ее звезды -- жесточайшей войны,
результат которой все еще не приближался к успеху. Может быть, теперь Расе
для перевеса надо пойти на ударные меры, хотя это и не предусматривалось в
приказе Императора, переданном Атвару перед тем, как он погрузился в
холодный сон.
-- Командир корабля, в конце дело может дойти и до этого, -- сказал он.
-- Я все еще надеюсь, что до этого не дойдет -- наши успехи во Флориде,
помимо других мест, дают мне основания надеяться, -- но как конечная мера
это возможно. Что вы скажете?
Кирел испустил тихое шипение, которое выразило его удивление.
-- Только то, что Тосев-3 изменила нас так, как мы никогда не смогли
предположить, и что меня не беспокоят никакие изменения, не говоря уже о
тех, которых вызваны в нас такими крайними обстоятельствами.
-- Меня они тоже не волнуют, -- ответил Атвар. -- Каким должен быть
разумный самец? Наша цивилизация просуществовала столь долго исключительно
потому, что мы свели к минимуму разрушительное влияние бессмысленных
изменений. Но в ваших словах я слышу самую суть различий между нами и
тосевитами. Когда мы сталкиваемся с изменениями, то воспринимаем их как
беду. Тосевиты бросаются на них и хватают обеими руками, словно сексуального
партнера, к которому они питают мономаниакальную страсть, называемую словом
"любовь".
Он воспроизвел это слово на тосевитском языке, называемом "английским":
он был широко распространен и еще шире использовался для радиопередач,
поэтому Раса была знакома с ним лучше, чем с любыми другими языками Больших
Уродов.
-- Разве Псалфу-Завоеватель вел переговоры с жителями Работева? --
спросил Кирел. -- Разве Хисстан-Завоеватель вел переговоры с халессианами?
Что сказали бы Императоры, если бы до них дошли вести о том, что наше
вторжение не достигло цели, поставленной перед нами?
Подразумевалось: что скажет Император, если узнает, что завоевание
Тосев-3 может быть неполным?
-- Мы не можем обогнать скорость света, -- ответил Атвар -- Что бы он
ни сказал, мы узнаем об этом примерно в то же время, когда прибудет флот
колонизации, а может быть, и через несколько лет после этого.
-- Истинно, -- сказал Кирел. -- А до того мы автономны. Автономность на
языке Расы несет оттенок одиночества, изолированности, отрезанности от
цивилизации.
-- Истинно, -- с досадой согласился Атвар. -- Что ж, командир корабля,
мы должны делать все, что в наших силах, на благо флота и Расы в целом,
частью которой мы остаемся.
-- Как скажете, благородный адмирал, -- ответил Кирел. -- Когда так
много происходит в этой странной окружающей среде, с бешеной быстротой,
держать в голове этот базовый факт временами трудно.
-- Частенько трудно, вы имеете в виду, -- сказал Атвар. -- Помимо битв,
здесь достаточно поводов для раздражения. Тот исследователь-психолог,
которого похитили Большие Уроды в Китае... Они объявили, что это наказание
за его изучение только что появившегося тосевита. Как мы можем вести
исследования Больших Уродов, если наши самцы опасаются мести за каждое
исследование, которое они проводят?
-- Это -- проблема, благородный адмирал, и, боюсь, дальше она будет еще
острее, -- сказал Кирел. -- С тех пор как мы получили сообщение об этом
похищении, еще двое самцов остановили исследовательские проекты на
поверхности Тосев-3. Один из них переправил предметы исследования на
звездный корабль, находящийся на орбите, что может привести к искажению
результатов работы. Второй тоже вернулся на корабль, но остановил свой
проект. Он говорит, что ищет новую тему. -- Кирел, изображая иронию,
подвигал глазом.
-- Я не слышал об этом, -- сердито сказал Атвар. -- Надо усиленно
воодушевить его вернуться к работе: при необходимости вытолкните его из люка
воздушного шлюза этого корабля.
Рот Кирела открылся от смеха.
-- Будет исполнено, благородный адмирал.
-- Благородный адмирал!
На экране коммуникатора, установленною в кабинете главнокомандующего,
внезапно появилось изображение Пшинга, адъютанта адмирала. Этот экран
предназначался для передачи чрезвычайных сообщений. Атвар и Кирел посмотрели
друг на друга. Как они только что отмечали, все завоевание Тосев-3 состояло
из сплошных чрезвычайных происшествий.
-- Продолжайте, адъютант. Что случилось на этот раз?
Он сам удивился тому, как холодно задал этот вопрос.
Когда вся жизнь состоит из чрезвычайных происшествий, каждый из
отдельных кризисов кажется не таким уж огромным.
-- Благородный адмирал, я сожалею о необходимости донести о тосевитском
ядерном взрыве возле прибрежного города, носящего местное название Саратов.
-- Через мгновение, повернув глаз, чтобы свериться с картой, он добавил: --
Этот Саратов находится внутри не-империи СССР. Сообщается, что повреждения
должны быть значительными.
Атвар и Кирел снова посмотрели друг на друга, на этот раз в ужасе. Они
и их аналитики были уверены, что СССР смог провести один ядерный взрыв,
только используя радиоактивные вещества, похищенные у Расы, а его технология
слишком отстала, чтобы они смогли создать свою собственную бомбу, подобно
Германии и Соединенным Штатам. И снова аналитики знали не все, что
следовало.
Атвар с трудом проговорил:
-- Я подтверждаю прием сообщения, адъютант. Я начинаю процесс выбора
советской местности, которая должна стать объектом возмездия. И после этого,
-- он со значением посмотрел на Кирела, намекая на дискуссию, только что
прошедшую между ними, -- что ж, после этого я просто не знаю, что нам делать
дальше.
Пишущая машинка выбивала очереди букв, как пулемет: клак-клак-клак,
клак-клак-клак, клакети-клак. В конце строки колокольчик звякал. Барбара
Игер нажала на рычаг -- и каретка с масляным шуршанием вернулась на место,
чтобы начать новую строку.
Она посмотрела с неудовольствием на свою работу.
-- Лента слишком стерлась, -- сказала она. -- Надо, чтобы они раздобыли
несколько свежих.
-- Теперь нелегко найти все, чего ни хватишься, -- ответил Сэм Игер. --
Я слышал, что одну из наших поисковых групп обстреляли.
-- Я что-то об этом слышала, но немного, -- сказала Барбара. -- Это
сделали ящеры?
Сэм покачал головой.
-- Ящеры тут ни при чем. Там была группа из Литтл-Рока, они искали то
же самое, что и наши ребята. Сейчас всего этого попадается все меньше и
меньше, и последнее время мало что можно добыть, не оказавшись перед дулом
оружия. Думаю, дальше будет и хуже.
-- Я знаю, -- ответила Барбара. -- Нас так возбуждают разные мелочи
вроде табака, который ты купил... -- Она покачала головой. -- Я вот думаю,
много людей умерло голодной смертью из-за того, что зерно не посеяли, или
ничего не выросло, или его не смогли доставить с ферм в город?
-- Много, -- сказал Сэм. -- Помнишь гот маленький городок в Миннесоте,
который мы проезжали на пути в Денвер? Там уже тогда начали забивать скот,
потому что не могли обеспечить его кормом, -- а ведь это было полтора года
назад. Скоро и Денвер начнет голодать. Ящеры смели окрестные фермы, а также
разрушили железные дороги. Еще один пункт им в счет, если мы когда-нибудь
его сможем предъявить.
-- Нам повезло, что мы находимся там, где мы есть, -- согласилась
Барбара. -- Если дело дойдет до голода, нам повезет, если мы вообще будем
находиться хоть где-нибудь.
-- Да. -- Сэм постучал ногтем по переднему зубу. -- Мне еще везет, что
я до сих пор не сломал мост. -- Он суеверно постучал кулаком о деревянный
стол, за которым сидела Барбара. -- А если сломаю, дантист потратит уйму
времени, чтобы его починить. -- Он пожал плечами. -- Еще один повод для
беспокойства.
-- У нас их предостаточно. -- Барбара показала на лист бумаги,
вложенный в машинку. -- Я займусь отчетом, дорогой, ведь никто не прочитает
его, пока я не закончу. -- Она, поколебавшись, спросила: -- А как себя
чувствует доктор Годдард, Сэм? Когда он давал мне печатать эти материалы,
голос у него был такой же слабый и унылый, как буквы, которые получаются с
этой ленты.
Сэм так бы не выразился, но ведь он не изучал литературу в колледже. Он
ответил, медленно подбирая слова:
-- Я заметил это некоторое время назад, дорогая, и мне кажется, ему
стало хуже. Я знаю, он встречался здесь с докторами, но что они ему сказали,
неизвестно. Я вряд ли могу спросить его об этом, и он мне ничего не скажет.
-- Он поправил себя: -- Беру слова назад. Он сказал такую вещь: "Мы ушли уже
так далеко, что ни один человек сам по себе особого значения не имеет".
-- Мне не нравится, как это прозвучало, -- сказала Барбара.
-- Мне тоже -- после того, как я вспомнил, -- сказал Сэм. -- Прозвучало
-- как это называется -- как в некрологе, который человек пишет сам себе,
так ведь? -- Барбара кивнула. -- Дело в том, что он прав. Очень много
разработок по ракетам сделано им -- или же украдено нами у ящеров, или
заимствовано у немцев. И при необходимости мы сможем двигаться вперед и без
него, хотя это будет не так быстро или не так прямолинейно.
Барбара снова кивнула. Она похлопала по отчету, который печатала.
-- Ты знаешь, что здесь? Он пытается увеличить масштаб -- такой термин
он применяет, -- разработать настолько большие и мощные ракеты, чтобы они
могли нести атомную бомбу вместо взрывчатки или что у них там сейчас.
-- Да, он говорил со мной об этом, -- сказал Сэм, -- Он думает, что и
нацисты работают над таким же проектом, и что они нас опережают. Я не думаю,
что у них есть ящер, который знает так же много, как наш Весстил, но их люди
делали ракеты, гораздо большие, чем доктор Годдард, еще до нашествия ящеров.
Мы делаем, что можем, вот и все. Можем мы сделать что-то большее?
-- Нет.
Барбара напечатала еще несколько предложений, дошла до конца страницы.
Вместо того чтобы продолжить отчет, она посмотрела на Сэма прищуренными
глазами:
-- Ты помнишь? Именно этим я занималась в Чикаго, когда мы встретились
в первый раз. Ты привез Ульхасса и Ристина для беседы с доктором Баркеттом.
С тех пор многое поменялось.
-- Кое-что поменялось, -- согласился Сэм.
Тогда она была замужем за Йенсом Ларссеном, хотя ей казалось, что он
мертв: в противном случае они с Сэмом никогда не сошлись бы, не родился бы
Джонатан, не произошло бы многого другого. Он не разбирался в литературе и
не умел витиевато говорить; он не знал, как изложить свои мысли в изящной
манере. Он сказал только:
-- Прошло столько времени... Ты попросила у меня сигарету. У меня для
тебя есть одна.
Она улыбнулась.
-- Верно. Не прошло и двух лет. -- Она наморщила нос, глядя в его
сторону. -- Я чувствую себя сейчас, как в средние века, -- но это только
из-за Джонатана.
-- Я рад, что он уже достаточно подрос и теперь ты, не беспокоясь,
можешь днем отдавать его на попечение мамми, -- сказал Сэм. -- Ты стала
посвободнее, так что ты можешь заниматься делом и снова чувствовать себя
полезной. Я знаю, что ты так думаешь.
-- Да, это так, -- сказала Барбара без особой радости. Она понизила
голос -- Я хотела бы, чтобы ты не называл так цветных женщин.
-- Что? Мамми? -- Сэм почесал голову. -- Но они же и есть мамми.
-- Я знаю это, но это звучит так... -- Барбара не была Барбарой, если
бы не нашла подходящее слово. -- Antebellum [Время, предшествующее
Гражданской войне в США 1861-1865 гг. -- Прим. перев.]. Словно мы оказались
на плантациях, где работают негры и поют свои спиричуэлс, а добрые хозяева
сидят, попивая мятную водку, и даже не подозревают, что вся их социальная
система больна и неправильна. Не по этой ли причине ящеры дали оружие
цветным, ожидая, что те начнут воевать с Соединенными Штатами?
-- Они убедились, что так делать не стоит, -- сказал Сэм.
-- Да, некоторые негры взбунтовались, -- согласилась Барбара, -- но я
бы побилась об заклад, что не все. И ящеры не стали бы даже пробовать, если
бы знали, что из этого ничего не выйдет. А как обращаются с цветными
здесь... Помнишь, в кинохронике, еще до того, как мы вступили в войну,
показывали счастливых украинских крестьян, встречавших нацистов с цветами,
потому что они освободили их от коммунизма?
-- Ух-х, -- сказал Сэм. -- Они очень быстро поняли, что их следует
ругать, не так ли?
-- Не в этом дело, -- настаивала Барбара. -- Дело в том, что негры
могли бы приветствовать ящеров точно так же.
-- Многие из них так и делали. -- Сэм предупреждающе поднял руку, чтобы
Барбара его не перебивала. -- Я знаю, что ты имеешь в виду, дорогая. Многие
из них на это не пошли. Ситуация стала бы куда хуже, если бы это случилось,
тут двух мнений нет.
-- Теперь ты понял, -- просияв, сказала Барбара.
В ее голосе всегда чувствовалась радость в таких случаях, радость и
легкое удивление: пусть у него не было достойного образования, но он далеко
не тупой. Он не думал, что она знает, какие чувства выдает ее голос, и не
собирался спрашивать. Он был просто доволен тем, что может приблизиться к ее
уровню.
-- Другая сторона медали -- это я о цветных женщинах, и я не буду
называть их "мамми", если ты этого не хочешь, -- но они не могут делать
такую работу, какую делаешь ты. Поскольку они на нашей стороне, разве мы не
должны обеспечить их работой, которую они в состоянии делать, чтобы
остальные могли заняться делами, которые цветные делать не могут?
-- Это нечестно, -- сказала Барбара.
Она сделала паузу и задумалась. Ее пальцы легко прошлись по клавиатуре
машинки, поднимая печатающие рычажки, но не ударяя ими по бумаге. Наконец
она сказала:
-- Это может быть нечестно, но, полагаю, это практично.
И она снова принялась печатать.
Сэм чувствовал себя так, словно в бейсболе сделал выигрышный дубль в
девятке. Он нечасто добивался согласия в споре с Барбарой. Он ласково
прикоснулся к ее плечу. Она мимолетно улыбнулась. Шум машинки не прерывался.
* * *
Лю Хань держала в руках автомат, словно маленькую Лю Мэй. Она знала,
что делать, если Томалсс шагнет к ней: направить автомат на него и нажать
спусковой крючок. Несколько пуль остановят его.
По словам Нье Хо-Т'инга, автомат был германского производства.
-- Фашисты продали его гоминьдану, а мы его освободили, -- сказал он.
-- Точно так же мы освободим весь мир не только от фашистов и реакционеров,
но и от чуждых агрессивных чешуйчатых дьяволов.
На словах это звучало просто. Отомстить Томалссу тоже казалось просто,
когда она внесла предложение в центральный комитет. И действительно,
схватить его в Кантоне оказалось несложно: как она и предсказывала, он
вернулся в Китай, чтобы отнять ребенка у еще одной бедной женщины. А вот
доставить пленника в Пекин так, чтобы остальные чешуйчатые дьяволы не смогли
бы его освободить, было не так-то просто.
Народно-освободительная армия справилась и с этим.
И вот теперь он находился здесь, в хибарке хутуна неподалеку от
общежития, в котором жили Лю Хань и ее дочь. В сущности, он поступил в ее
полное распоряжение, и она могла делать с ним, что хотела. Как она мечтала
об этом, когда томилась в руках маленьких чешуйчатых дьяволов! Теперь мечта
ее стала реальностью.
Она открыла дверь хибарки. Некоторые прохожие, из тех, кто продавал или
покупал что-то на улице, были ее соучастниками, но она не знала точно, кто
именно. Они помогут ей и не допустят, чтобы Томалсс сбежал, и не позволят
никому освободить его.
Она закрыла за собой дверь хибарки. Внутри, недоступная постороннему
взгляду, находилась еще одна, более прочная дверь. Она открыла и ее, вошла в
тускло освещенную комнатушку.
-- Благородная госпожа! -- зашипел Томалсс на своем языке, затем
продолжил на китайском: -- Вы уже решили мою судьбу?
-- Возможно, мне следует подержать вас здесь длительное время, --
задумчиво проговорила Лю Хань, -- и посмотреть, чему люди смогут научиться у
вас, маленьких чешуйчатых дьяволов. Это был бы неплохой проект, вы согласны,
Томалсс?
-- Это был бы неплохой проект для вас. Вы многому бы научились, --
согласился Томалсс.
На мгновение Лю Хань подумала, что он не понял ее иронии. Но ошиблась.
-- Я не думаю, что вы поступите так. Я думаю, вместо этого вы будете
мучить меня.
-- Чтобы узнать, какую жажду, какой голод, какую боль вы сможете
выдержать, -- это был бы интересный проект, вы согласны, Томалсс? -- Лю Хань
промурлыкала эти слова так, словно кошка, обхаживающая мышь.
Она надеялась, что Томалсс будет унижаться и просить. А он смотрел на
нее с выражением, которое благодаря более долгому, чем ей хотелось бы,
общению с чешуйчатыми дьяволами она истолковала как печальное.
-- Мы, Раса, никогда не обращались так с вами, когда вы были в наших
когтях, -- сказал он.
-- Нет? -- воскликнула Лю Хань. Она в изумлении уставилась на
чешуйчатого дьявола. -- Вы не отняли у меня ребенка и не разбили мое сердце?
-- Детеныш не пострадал ни в чем -- наоборот, -- ответил Томалсс. -- И,
к нашему сожалению, мы не поняли в полной мере связи поколений у вас,
тосевитов. Это одна из вещей, которые мы узнали -- частично от вас самой.
Лю Хань поняла смысл его ответа. Он не думал, что проявляет
бессмысленную жестокость, -- хотя это и не означало, что он не был жесток.
-- Вы, чешуйчатые дьяволы, забрали меня в самолет, который никогда не
садится на землю, и там превратили меня в распутную женщину. -- Лю Хань была
готова пристрелить его за одно это. -- Ложись с этим или не будешь есть.
Затем надо лечь с тем, с другим, с третьим. Все время вы наблюдали за мной и
снимали фильм. И теперь говорите, что не причинили мне зла?
-- Вы должны понять, -- сказал Томалсс, -- у нас спаривание -- это
спаривание. Когда наступает сезон спаривания, самец и самка находят друг
друга, и через некоторое время самка откладывает яйца. Для работевлян -- еще
одной расы, которой мы управляем, -- то же самое: спаривание значит
спаривание. Для халессианцев -- еще одной расы, находящейся под нашим
управлением, -- спаривание значит спаривание. Откуда мы могли знать, что для
вас, тосевитов, спаривание это не просто спаривание? Да, мы узнали это. Мы
узнали это из того, что делали с такими, как вы, и тосевитскими самцами,
которых мы поднимали на наш корабль. Прежде нам было неизвестно. У нас и
сейчас есть проблемы в понимании того, какие вы.
Лю Хань смотрела на него, как через пропасть, разделяющую Китай и то
странное место, которое чешуйчатые дьяволы называют "Родиной". Впервые она
поняла, что Томалсс и остальные дьяволы действовали без злого умысла. Они
пытались изучить людей и делали это, со своей точки зрения, как можно лучше.
Ее ярость поутихла. Но не улеглась.
-- Вы эксплуатировали нас, -- сказала она, используя ходкое в
пропаганде Народно-освободительной армии слово. Оно подошло впору, как
башмак, сшитый руками мастера. -- Из-за того, что мы были слабыми, из-за
того, что мы не могли сопротивляться, вы схватили нас и заставили делать то,
что хотели. Вы понимаете, что это неправильно и безнравственно?
-- Это то, что сильный делает со слабым, -- сказал Томалсс,
сгорбившись: для маленьких дьяволов это было все равно что пожать плечами.
Он повернул к ней оба глаза. -- Теперь я слабый, а вы -- сильная. Вы поймали
меня, привели сюда и говорите, что будете использовать для экспериментов.
Разве это не эксплуатация меня? Это неправильно и безнравственно или нет?
Маленький дьявол был умен. На все, что говорила Лю Хань, он имел ответ.
Что бы она ни сказала, он находил способ так вывернуть ее слова, что они
оборачивались против нее. Ей захотелось посмотреть на его дискуссию с
подкованным в диалектике Нье Хо-Т'ингом. Но у Лю Хань был аргумент, которому
Томалсс ничего не мог противопоставить: ее автомат.
-- Это месть, -- сказала она.
-- Ах! -- Томалсс наклонил голову. -- Пусть духи Императоров прошлого
презреют мой дух.
Он тихо ждал, когда она прикончит его. Конечно, она видела войну и ее
кровавые последствия. Это она придумала, как устраивать взрывы, которые
убивали, ранили, увечили маленьких чешуйчатых дьяволов, -- и чем больше, тем
лучше. Но лично она никого не убивала, тем более на таком близком
расстоянии. Это, как она поняла, оказалось очень непростым делом.
Рассердившись на Томалсса, заставившего ее смотреть на него, как на
человека, а не уродливого чужака, рассердившись на себя за то, что Нье
расценил бы это как слабость, она повернулась и вышла из комнаты. Захлопнув
внутреннюю дверь, закрыла ее на замок, затем проделала то же самое с внешней
дверью.
Она направилась обратно к общежитию. Ей не хотелось быть вдали от Лю
Мэй дольше, чем этого требовала абсолютная необходимость. С каждым новым
китайским словом, которое ребенок обучался понимать и произносить, она
побеждала Томалсса снова и снова.
За ней увязался какой-то мужчина:
-- Эй, прекрасная сестрица. Я дам тебе пять мексиканских долларов,
настоящее серебро, -- если ты покажешь мне свое тело.
Он приглашающее звякал монетами, но в голосе слышалась злоба.
Лю Хань быстро обернулась и направила автомат ему в лицо.
-- Я покажу тебе это, -- прорычала она.
Мужчина вскрикнул, как испуганная утка. Он повернулся и пустился
бежать, шлепая сандалиями по хутуну. Лю Хань устало пошла своей дорогой.
Томалсс был меньше ростом, чем эксплуататоры-люди, которых знала Лю Хань
(она вспомнила аптекаря Юй Мина, который пользовался ею так же безжалостно,
как другие мужчины, которых на свою беду она встретила в самолете, который
никогда не садится на землю, исключая одного только Бобби Фьоре). Томалсс
был чешуйчатым, он был более уродливым, он был -- или должен был быть --
более сильным физически.
Но был ли он на самом деле хуже?
-- Я просто не знаю, -- сказала она, вздохнув, и пошла дальше.
* * *
-- Что за мерзкая страна! -- воскликнул Бэгнолл, осмотревшись по
сторонам.
На своем трудном пути на север из Пскова они с Кеном Эмбри и Джеромом
Джоунзом уже миновали озера Псковское и Чудское, оставшиеся слева и сзади.
Они расплатились колбасой со стариком, который переправил их на лодке
через реку Нарва. Теперь они двигались на северо-запад, в сторону
балтийского берега.
К востоку от Пскова от лесов сохранилось одно воспоминание. Кругом
лежала плоская равнина, плоская настолько, что Бэгнолл не мог понять, как
озера и реки не выплескиваются из берегов. Эмбри думал о том же.
-- Должно быть, кто-то прошелся по этим местам утюгом, -- сказал он.
-- Да уж, кто-то, -- ответил Джоунз. -- Мать-природа, вот кто. В
последний ледниковый период, бог знает сколько тысячелетий назад, льды дошли
аж до этих мест, затем отступили. Они смяли землю, как человек придавливает
лист растения камнем через доску.
-- Меня это как-то не беспокоит, -- сказал Бэгнолл. -- Мне это
неинтересно, и все тут. Она не только плоская, она еще и бесцветная. Вся
зелень, которая должна быть яркой, здесь бледная. Не думаю, что это из-за
солнца, хотя теперь оно в небе почти двадцать четыре часа в сутки.
-- Мы находимся не очень высоко над уровнем моря, -- сказал Эмбри. --
Интересно, насколько эти земли засолены? Может, это и влияет на растения?
-- Хорошая мысль, -- сказал Бэгнолл. -- Приятно объяснять все, что
попадается на глаза. Не знаю, правильно ли твое объяснение, но придется с
ним согласиться как с необходимостью войти в первый попавшийся, даже самый
неудобный порт, если разразилась буря, так ведь?
-- Кстати, о портах... -- Эмбри вынул карту. -- Лучшее, что я могу
сказать, -- мы примерно в десяти милях от берега. -- Он показал на
северо-запад. -- Вот тот большой столб дыма, думаю, поднимается от большого
промышленного центра Кохтла-Ярве.
Его ирония относилась не к названию местности -- просто он принял точку
на карте, обозначавшую город, за мушиный след.
-- Похоже, там что-то творится, -- заметил Джером Джоунз, -- если
только не ящеры нанесли по нему удар.
-- Не думаю, что это -- из-за военных разрушений, -- сказал Кен Эмбри.
-- Дым поднимается ровно и постоянно. Мы наблюдали его весь прошедший день и
еще полдня, и он вряд ли менялся. Думаю, что русские, или немцы, или еще
кто-то, кто контролирует город, жгут там всякую дрянь, чтобы не дать ящерам
увидеть с неба, что там внизу.
-- Вы все не о том, -- сказал Бэгнолл. -- Главный вопрос -- где нам
легче добыть судно? Заявиться прямиком в этот Кохтла-Ярве или же лучше
поискать счастья где-нибудь поблизости на Балтике в рыбацкой деревушке?
-- И что лучше, иметь дело с солдатами или с крестьянами? -- спросил
Джоунз.
-- Если мы попробуем иметь дело с крестьянами и что-то пойдет не так,
мы переключимся на солдат, -- рассудил Бэгнолл, -- Но если не получится с
солдатами, то все может кончиться плохо.
Его товарищи поразмыслили и почти одновременно кивнули в знак согласия.
-- Правильное решение, Джордж, -- сказал Эмбри.
-- Я чувствую себя несколько библейски, выбирая направление по столбу
дыма, -- сказал Джером Джоунз, -- хотя мы и идем не на него, а в сторону.
-- Вперед, -- сказал Бэгнолл, сориентировавшись так, чтобы выйти к
балтийскому берегу восточнее Кохтла-Ярве.
Бэгнолла поражали советские просторы. Он подумал, что сибирские степи
должны быть еще больше и пустыннее, но и в Эстонии земли было немало, можно
было всю и не возделывать. Это удивляло его. Пройдя мимо фермы, окруженной
полями, англичане вскоре обнаруживали, что дальше идет необработанная земля,
которая тянется до следующей фермы.
Хотя они приближались к балтийскому берегу, фермы чаще попадаться не
стали. Бэгнолл начал беспокоиться, смогут ли они найти рыбацкую деревню,
когда дойдут до берега.
Преимущество путешествий в это время года -- можно идти столько,
насколько хватает сил. На широте, соответствующей примерно широте
Ленинграда, солнце заходило не более чем на два часа и не уходило глубоко за
горизонт, создавая непрекращающиеся сумерки. Даже в полночь северное небо
ярко сияло, и пейзаж был пронизан молочным светом. Как сказал Кен Эмбри в
тот вечер:
-- Теперь местность совсем не уродливая -- напоминает неяркую провинцию
страны сказок, не так ли?
В этом исходящем из ниоткуда свете без теней было трудно определять
расстояние. Дом и сарай, до которых вроде бы оставалась целая миля, через
две минуты неожиданно оказались прямо перед носом.
-- Попросим убежища на ночь? -- спросил Бэгнолл. -- Я бы лучше поспал в
соломе, чем разворачивать одеяло на земле, где оно наверняка промокнет.
Они приблизились к ферме, не скрываясь. Пропуск, выданный Александром
Германом, им пришлось предъявить всего пару раз: крестьяне вопреки их
волнениям в целом были настроены к ним дружественно. Но когда они находились
от фермы примерно в четверти мили, по оценке Бэгнолла, кто-то внутри
закричал.
Бэгнолл нахмурился.
-- Это не по-немецки. Ты что-нибудь понял, Джоунз?
Джером покачал головой.
-- Это и не по-русски. Могу поклясться. Но что это такое, я не знаю.
Крик повторился, и снова так же неразборчиво.
-- Может быть, это эстонский? -- задумчиво предположил Джоунз. -- Я и
не думал, что кто-нибудь вообще говорит по-эстонски, включая самих эстонцев.
-- Мы друзья! -- закричал Бэгнолл в сторону дома, сначала на
английском, затем на немецком и, наконец, на русском. Если бы он знал, как
сказать это по-эстонски, не преминул бы. Он сделал пару шагов вперед.
Кто бы ни находился в доме, но незваных гостей он не жаловал. Над
головой Бэгнолла свистнула пуля -- прежде чем он услышал выстрел, вспышку
которого увидел в окне. Расстояние было небольшое, и промах стрелка,
вероятно, был вызван обманувшим его призрачным ночным светом.
Не будучи пехотинцем, Бэгнолл, однако, достаточно участвовал в боях,
чтобы сообразить: когда в тебя стреляют, надо броситься на землю. То же
сделал и Кен Эмбри. Они одновременно закричали Джоунзу:
-- Ложись, дурак!
Он стоял, разинув рот, пока не пронеслась еще одна пуля, на этот раз
еще ближе, чем первая. И только после этого он тоже растянулся на животе.
Второй выстрел раздался не из дома, а из сарая. Затем к двум стрелкам
присоединился третий -- он открыл огонь из другого окна дома.
-- Куда это мы забрели? -- спросил Бэгнолл, прячась в кустах. -- На
ежегодное заседание эстонской лиги "Мы ненавидим всех, кто не мы"?
-- Стоит ли удивляться, -- ответил Эмбри из-за своего укрытия. -- Если
это эстонцы, то они, должно быть, приняли нас за нацистов, или за
большевиков, или за другие низшие формы жизни. Откроем ответный огонь?
-- Я бы предпочел отступить и обойти, -- сказал Бэгнолл.
В этот момент двое с винтовками выбежали из сарая и. залегли за двумя
невысокими деревцами. Джордж снял с предохранителя винтовку.
-- Беру свои слова обратно. Если они собираются охотиться на нас, за
эту привилегию им придется заплатить.
Он прижал к плечу приклад германской винтовки "маузер" с неудобным
затвором.
Прежде чем он успел выстрелить, из задней двери дома выбежали еще трое,
направляясь к отдельно стоящей постройке слева.
Кен Эмбри выстрелил в одного, но свет был обманчивым не только для
эстонцев, но и для него. Все трое невредимыми скрылись в постройке и открыли
огонь по летчикам. Несколько пуль ударилось в землю так близко от Бэгнолла,
что он занервничал.
-- Ничего себе положеньице, -- протяжно проговорил Джером Джоунз.
"Мерзкое дело, -- подумал Бэгнолл -- я просто оцепенел". Слишком много
эстонцев, и они, очевидно, не собираются останавливаться.
Двое стрелков в доме и один в сарае продолжали стрелять по англичанам,
не давая им поднять голову. Под прикрытием огня первые двое выбежавших
эстонцев стали пробираться направо, к высокому кустарнику.
Бэгнолл дважды выстрелил в них, ничего не добившись.
-- Хотят обойти нас с фланга, -- в унынии сказал он.
Затем заговорила еще одна винтовка -- сзади и справа. Один из бегущих
уронил оружие и упал, как подкошенный. Неизвестная винтовка рявкнула еще раз
-- второй бегущий тоже повалился на землю с криком боли, разнесшимся над
плоской травянистой равниной.
Он попытался уползти и скрыться, но Бэгнолл дважды выстрелил в него.
Должно быть, одна из пуль попала в цель: он затих и больше не двигался.
Эстонец, прятавшийся за постройкой, высунулся, чтобы выстрелить. Но
стрелок, стрелявший откуда-то сзади, подстрелил и его. Эстонец повалился. Он
выпустил из рук винтовку, Бэгнолл видел, куда она упала.
-- У нас есть друг, -- сказал он -- Интересно, немец это или русский?
Он оглянулся назад, но никого не увидел. Человек в доме, стрелявший
первым -- или, может быть, кто-то другой, вставший у того же окна, --
выстрелил снова. В этот же самый момент меткий стрелок за спиной у Бэгнолла
тоже выстрелил. Из окна свесилась рука, затем втянулась внутрь.
-- Кто бы это ни был, он -- настоящее чудо, -- сказал Эмбри.
Очевидно, что и эстонцы пришли к тому же выводу. Один из них замахал
белой тряпкой.
-- У нас раненый, -- закричал он на немецком со странным акцентом. --
Вы разрешите нам унести его в дом?
-- Давайте, -- ответил Бэгнолл, хотя сначала заколебался. -- А вы нас
пропустите? Мы не хотели захватывать это место с боем.
-- Проходите, -- сказал эстонец. -- Может быть, вы не те, за кого мы
вас принимали.
-- Может, стоило спросить, прежде чем пробовать оторвать нам головы, --
сказал Бэгнолл. -- Идите, но помните: мы вас держим на прицеле -- и наш друг
тоже.
Продолжая размахивать тряпкой, эстонец поднял винтовку своего товарища.
Он и его уцелевший сотоварищ поволокли раненого в дом. Судя по тому, как он
обвис у них на руках, ранен он был тяжело.
В то же время, не особенно доверяя заключенному перемирию, Бэгнолл и
его товарищи стали отползать назад. Но эстонцы в доме и в сарае, очевидно,
утихомирились. Бэгнолл понял, что отползает туда, где находится стрелок,
выручивший их из беды.
-- Danke schon [Большое спасибо (нем.). -- Прим. перев.], -- тихо
проговорил он и затем на всякий случай добавил по-русски: -- Спасибо.
-- Не за что. Привет! -- ответили ему по-русски.
Второй раз он угадал правильно. Но услышав голос спасителя, он отвесил
челюсть: контральто вместо баритона.
Джером Джоунз взвизгнул как щенок, хвост которому прищемило дверью.
-- Татьяна! -- воскликнул он. -- Что ты тут делаешь?
-- Теперь это не имеет значения, -- ответила девушка. -- Сначала
обойдем дом, набитый антисоветскими реакционерами, раз уж вы, англичане, так
глупо уступили его им.
-- Откуда ты знаешь, что это -- не антифашистские патриоты? -- спросил
Эмбри на смеси немецкого и русского языков.
Татьяна Пирогова неодобрительно фыркнула.
-- Раз они -- эстонцы, значит, антисоветчики.
С ее точки зрения, это был, похоже, закон природы. Бэгнолл не склонен
был ссориться с нею, в особенности после того, как она их выручила.
Больше она ничего не сказала. Она повела английских летчиков вокруг
дома по большому кругу. Они двигались медленно: никто не решался выпрямиться
в полный рост, опасаясь стрельбы. Но дом и сарай не обнаруживали признаков
жизни, словно там никого не было.
Наконец настороженно, как кошка, Татьяна поднялась на ноги. Англичане,
облегченно вздохнув, последовали ее примеру.
-- Как же вы наткнулись на нас в самый подходящий момент? -- спросил
Бэгнолл.
Она пожала плечами.
-- Я вышла через два дня после вас. Вы двигались не очень быстро. Вот
так я и оказалась здесь. Через полчасика, может и скорее, я окликнула бы
вас, но тут началась стрельба.
-- А как насчет Георга Шульца? -- нерешительно спросил Джером.
Она снова пожала плечами с великолепным безразличием.
-- Ранен. Может быть, и убит. Надеюсь, что убит, хотя и не уверена. Он
ведь сильный. -- Она сказала это с недоброжелательным уважением. -- Но он
думал, что может делать со мной, что захочет. Он ошибался.
И она похлопала по стволу винтовки с телескопическим прицелом, чтобы
показать, как сильно он ошибался.
-- Что вы будете делать теперь? -- спросил ее Бэгнолл.
-- Провожу вас до моря, чтобы было безопасно, -- ответила она. -- А
потом? Кто знает? Полагаю, что вернусь и убью еще сколько-то немцев под
Псковом.
-- Благодарю вас за то, что вы пошли так далеко, чтобы присмотреть за
нами, -- сказал Бэгнолл.
Странно было думать о Татьяне Пироговой, великолепном снайпере (раньше
он сомневался в этом, но стычка возле фермы доказала ее снайперский талант),
как о курице-наседке, но похоже, что она обладала материнским инстинктом.
Бэгнолл смутился, но все-таки сказал:
-- Если мы раздобудем лодку, то приглашаем вас -- настоятельно
приглашаем -- отправиться с нами в Англию.
Он боялся, что она рассердится: такое с ней случалось частенько. Вместо
этого на лице ее отразились досада и -- никогда за ней такого не водилось --
смущение. Наконец она ответила:
-- Вы возвращаетесь на свою родину, на свою землю-мать. Для вас это
правильно. Но это, -- она топнула ногой о бледную зеленую траву, -- это моя
родина. Я останусь здесь и буду бороться за нее.
Эстонец, которого она подстрелила, думал, что эта земля является частью
его родины, а не ее. Немцы в Кохтла-Ярве, несомненно, думали, что это --
продолжение Фатерланда. Так или иначе, он понял чувства Татьяны.
Он кивнул на запад, туда, где постоянно и без перерывов поднимался дым.
-- Что они там делают такое, что они скрывают от ящеров?
-- Там каким-то образом выдавливают нефть из скал, -- ответила Татьяна.
-- Мы делали это в течение многих лет, мы, а затем реакционные эстонские
сепаратисты. Наверное, фашистам заводы достались в рабочем состоянии, или же
они отремонтировали их.
Бэгнолл кивнул. Это имело смысл. Нефтяные продукты в эти дни были
вдвойне бесценны. Немцы гонялись за ними повсюду.
-- Идемте, -- сказала Татьяна, не думая больше о немцах.
Она шла широким раскачивающимся шагом, что само по себе отвлекало ее и
до некоторой степени объясняло шпильку насчет того, что летчики шли
медленно.
Через пару часов они достигли балтийского берега. Он выглядел не
особенно впечатляюще: серые волны катились, наступая и отступая от покрытого
грязью берета. И тем не менее Джером Джоунз закричал, изображая воинов
Ксенофонта, увидевших море после похода:
-- Таласса! Таласса!
Бэгнолл и Эмбри улыбнулись, узнав слово. Татьяна только пожата плечами.
Может быть, она подумала, что это английский. Для нее этот язык был таким же
чуждым, как греческий.
Примерно через полмили к западу у моря обнаружилась деревушка. Бэгнолл
испытал прилив радости, увидев пару рыбачьих лодок на берегу. Остальные,
несмотря на ранний час, уже вышли в море.
Деревушка встретила летчиков и Татьяну лаем собак. Рыбаки и их жены
вышли из дверей посмотреть на пришельцев. Выражение их лиц варьировало от
безразличия до враждебности. Бэгнолл сказал по-немецки:
-- Мы -- трое английских летчиков. Мы застряли в России больше чем на
год. Мы хотим вернуться домой. Может кто-нибудь из вас переправить нас в
Финляндию? Мы не располагаем многим, но заплатим, чем сможем.
-- Англичане? -- спросил один из рыбаков, с таким же странным акцентом,
как эстонские стрелки. Враждебность исчезла. -- Я возьму вас.
Через мгновение кто-то еще предъявил свои права на объявившихся
почетных пассажиров.
-- Не ожидал, что из-за нас начнется ссора, -- пробормотал Бэгнолл,
когда жители деревни заспорили. Победил тот, кто первым согласился везти их.
Он убежал в дом, затем вернулся в сапогах и в вязаной шерстяной шапке и
повел всех к своей лодке.
Татьяна последовала за ними. На прощанье она по очереди расцеловала
летчиков. Жители деревни оживленно прокомментировали это на своем непонятном
языке. Двое или трое мужчин захохотали. Это было вполне понятно. А две
женщины громко презрительно фыркнули.
-- Вы уверены, что не поедете с нами? -- спросил Бэгнолл.
Татьяна снова отрицательно покачала головой. Она повернулась и, не
оглядываясь, зашагала на юг. Она знала, что ей полагается делать, и
понимала, какие последствия будет иметь ослушание.
-- Идемте, -- сказал рыбак.
Летчики поднялись на борт вместе с ним. Остальные жители деревни
столкнули лодку в море. Рыбак открыл дверцу топки паровой машины и принялся
бросать в топку куски дерева, торфа и высушенного конского навоза. Покачав
головой, он пояснил:
-- Надо бы угля. Но нету. Приходится топить тем, что есть.
-- Мы знаем несколько куплетов этой песни, -- сказал Бэгнолл.
Рыбак хмыкнул. Лодка, вероятно, была бы тихоходной и на угле. А на чем
попало она шла еще медленнее, и дым, поднимавшийся из ее трубы, был еще
противнее, чем дым Кохтла-Ярве. Но машина работала. Лодка плыла. Если с
воздуха не свалятся на голову ящеры, то до Финляндии менее дня пути.
* * *
-- О, Ягер, дорогой, -- сказал Отто Скорцени нарочитым фальцетом.
Генрих Ягер удивленно оглянулся: он не слышал, как подошел Скорцени.
Эсэсовец засмеялся:
-- Хватит мечтать об этой твоей русской куколке, удели внимание мне.
Мне от тебя кое-что требуется.
-- Она не куколка, -- сказал Ягер. Скорцени засмеялся еще громче.
Полковник-танкист настаивал: -- Если бы она была куколкой, я бы вряд ли
мечтал о ней.
Эта частичная уступка устроила Скорцени, и он кивнул.
-- Хорошо, пусть так. Но даже если она сама Мадонна, оставь мечты о
ней. Ты знаешь, что наши друзья из дома прислали нам подарок, знаешь?
-- Трудно не узнать, -- согласился Ягер. -- Столько вас, проклятых
эсэсовцев, вокруг, что и пописать негде, и каждая вонючка -- со "шмайссером"
и с таким видом, будто он готов тебя пристрелить. Бьюсь об заклад, что знаю,
что это за подарок.
Он не стал уточнять -- и не потому, что мог ошибиться, а из доведенного
до автоматизма инстинкта безопасности.
-- Наверняка, -- сказал Скорцени. -- А почему бы и нет? Об этом
веществе ты знаешь так же давно, как и я, с того дня под Киевом.
Больше он ничего не сказал, но и не требовалось. На Украине они украли
взрывчатый металл у ящеров.
-- Что ты собираешься делать с... этим? -- настороженно спросил Ягер.
-- У тебя неладно с головой? -- спросил Скорцени. -- Я собираюсь
взорвать жидов в Лодзи и удрать, вот что я собираюсь сделать, а их друзья
ящеры и бедные проклятые поляки окажутся в неподходящее время в неподходящем
месте. -- Он снова захохотал. -- Тут в одном предложении вся история Польши,
не так ли? Бедные проклятые поляки в неподходящем месте в неподходящее
время.
-- Полагаю, у тебя есть на это разрешение? -- сказал Ягер, предполагая
как раз обратное. Если бы кому-то захотелось воспользоваться атомной бомбой
для своих собственных целей, то Отто Скорцени -- именно тот человек, который
сделает это без всякого разрешения.
Но не сейчас. Крупная голова Скорцени закачалась вверх и вниз.
-- Можешь поставить в заклад свою задницу, но оно есть: от рейхсфюрера
СС и от самого фюрера. Оба у меня в портфеле. Хочешь глянуть на интересные
автографы?
-- Ни малейшего желания. -- В определенном смысле Ягер почувствовал
облегчение -- раз Гиммлер и Гитлер подписались, то, по крайней мере,
Скорцени удержится в каких-то рамках... или не выйдет за них больше, чем
обычно. И все же...
-- Поражает меня напрасная трата бомбы. Никакой угрозы из Лодзи не
исходит. Посмотри, что получилось в последний раз, когда ящеры попытались
переправить через город подкрепление нашим врагам: их перехватили и
перемололи.
-- О да, евреи оказали нам чертовскую милость! -- Скорцени закатил
глаза. -- Эти ублюдки были в германской форме, когда напали на ящеров, но за
это их ругать не стоит -- что мы и сделали. В частности, я. Ящеры подкупили
пару поляков со снайперскими винтовками, те подобрались сюда и устроили
охоту на Скорцени. Ящерам очень хотелось мне отплатить.
-- Ты ведь все еще здесь, -- отметил Ягер.
-- Ты заметил, не так ли? -- Скорцени сделал движение, словно целуя его
в щеку. -- Какой же ты умный мальчик. Но оба поляка мертвы. Понадобилось
некоторое время -- и мы с точностью до злотого знаем, сколько им заплатили.
-- Он улыбнулся, показав зубы: возможно, при воспоминании о том, как погибли
поляки. Но затем он помрачнел.
-- Но мертв еще и подполковник Брокельман. Этому несчастному сыну
потаскухи повезло вырасти примерно с меня ростом. Один из поляков снес ему
голову с расстояния в тысячу метров. Исключительно точная стрельба, должен
сказать. Я сделал ему комплимент тем, что вручил ему его указательный палец.
-- Уверен, он очень обрадовался, -- сухо сказал Ягер.
Быть связанным со Скорцени означало быть замешанным в самые грязные
дела, дела, о которых он как командир танкового соединения не должен бы и
думать. Массовые убийства, пытки... Он за все это не расписывался. Но они
входили в меню войны, независимо от того, подписался он под ним или нет.
Зачем уничтожать город, жители которого приносят рейху больше пользы, чем
зла? И достаточно ли для смертною приговора единственной причины: они евреи?
Достаточно ли еще одной причины: они уязвили Скорцени, не дав ему уничтожить
их с первой попытки? Ему требовалось все это обдумать -- и не слишком
затягивать размышления. А пока он спросил:
-- А что должен буду делать я? Какую милость ты имеешь в виду? Ты ведь
знаешь, я никогда не был в Лодзи.
-- О да, я знаю. -- Скорцени потянулся, как тигр, решивший, что он еще
слишком сыт, чтобы снова заняться охотой. -- Если бы ты побывал в Лодзи, то
разговаривал бы с гестапо или с СД [Зихерхайт-Динст -- служба безопасности
(нем.). -- Прим. перев.], а не со мной.
-- Я с ними уже разговаривал, -- Ягер пожал плечами, стараясь не
показать охватившей его тревоги.
-- Я и это знаю, -- ответил Скорцени. -- Но теперь они бы спросили у
тебя побольше -- задавали бы более острые вопросы и использовали более
острые инструменты. Но не беспокойся. Я не хочу, чтобы ты отправился в
Лодзь. -- Тигр, однако, насторожился. -- Я не уверен, что могу доверить тебе
отправиться в Лодзь. От тебя я хочу, чтобы ты устроил отвлекающую атаку и
заставил ящеров смотреть в другую сторону, пока я буду тащиться по дороге с
компанией моих проказников и изображать святого Николая.
-- Завтра сделать то, что ты хочешь, не смогу, -- быстро -- и правдиво
-- ответил Ягер. -- Каждый бой нам обходится дороже, чем ящерам, гораздо
дороже. Ты это знаешь. Именно сейчас мы восполняем потери -- получаем новые
танки, комплектуем экипажи и стараемся восстановить прежний уровень --
точнее, хотя бы приблизиться к нему. Дай мне неделю или десять дней.
Он ожидал, что Скорцени возмутится и потребует, чтобы он был готов
вчера, если не раньше. Но эсэсовец удивил его -- Скорцени много раз удивлял
его -- тем, что сразу согласился.
-- Отлично. Мне тоже надо сделать некоторые приготовления. Да и для
проказников надо подготовить план, как тащить эту чертовски тяжелую корзину.
Я дам тебе знать, когда ты мне понадобишься. -- Он хлопнул Ягера по спине.
-- А теперь можешь вернуться к размышлениям об этой твоей русской -- как она
голышом.
И он пошел прочь с хохотом, переходящим в визг.
-- На кой дьявол все это затевается, командир? -- спросил Гюнтер
Грилльпарцер.
-- Действительно дьявол. -- Ягер посмотрел на наводчика, провожавшего
глазами Скорцени, так, словно он был киногероем. -- Он нашел новый повод для
того, чтобы укокошить еще кое-кого из нас, Гюнтер.
-- Чудесно! -- воскликнул Грилльпарцер с непритворным энтузиазмом,
оставив Ягера размышлять над причудами молодости.
Он закончил перефразированной сентенцией Экклезиаста. "Причуда причуд,
все сущее есть причуда". Это казалось таким же верным описанием реальной
жизни, как и более точные толкования.
* * *
-- Ах, как я рад видеть вас, Вячеслав Михайлович, -- сказал Иосиф
Сталин, когда Молотов вошел в его кремлевский кабинет.
-- И я вас, товарищ генеральный секретарь, -- ответил Молотов.
Такого мурлыкающего тона в голосе Сталина Молотов не слышал уже давно
-- насколько он мог припомнить, даже сразу после взрыва предыдущей советской
атомной бомбы. Последний раз он слышал это мурлыканье, когда Красная Армия
отбросила нацистов от ворот Москвы в конце 1941 года. Оно означало, что
Сталин обдумывает какие-то предстоящие события.
-- Я позволю себе предположить, что вы снова направили ящерам наше
безусловное требование прекратить свою агрессию и немедленно убраться с
территории миролюбивого Советского Союза, -- сказал Сталин. -- Возможно, они
обратят больше внимания на это требование после Саратова
-- Возможно, обратят, Иосиф Виссарионович, -- сказал Молотов.
Ни тот ни другой не упомянули Магнитогорск, который перестал
существовать вскоре после того, как Саратов был превращен в пепел. По
сравнению с ударом, нанесенным ящерам, потеря любого города, даже важного
промышленного центра вроде Магнитогорска, была незначительной. Молотов
продолжил:
-- По крайней мере, они не отвергли наше требование сразу же, как
делали в предыдущих случаях.
-- Если мы когда-нибудь затащим их за стол переговоров, мы побьем их,
-- сказал Сталин. -- Это предсказывает не только диалектика, но и их
поведение на всех предшествующих конференциях. Боюсь, они слишком сильны,
чтобы мы могли изгнать их со всей планеты, но когда мы их вынудим к
переговорам, то освободим от них Советский Союз и его рабочих и крестьян.
-- Мне дали понять, что они получили требование убраться от
правительств Соединенных Штатов и Германии, -- сказал Молотов. -- Поскольку
эти державы также обладают атомным оружием, ящеры должны отнестись к ним с
такой же серьезностью, как к нам
-- Да. -- Сталин набил трубку махоркой и выпустил облако едкого дыма.
-- Для Британии это конец, вы знаете. Если бы Черчилль не был
капиталистическим эксплуататором, я испытывал бы к нему симпатию. Британцы
сделали очень важное дело, изгнав ящеров со своего острова, но чего они
добились в конце концов? Ничего
-- Они могут создать свое собственное атомное оружие, -- сказал
Молотов. -- Недооценка их возможностей себя не окупает.
-- Как это обнаружил, к своему расстройству, Гитлер, -- согласился
Сталин.
Со своей стороны Сталин тоже недооценил Гитлера, но Молотов не стал
заострять внимание на этом. Сталин некоторое время задумчиво посасывал
трубку, затем сказал:
-- Даже если они наделают бомб для себя, что в этом хорошего? Свой
остров они уже спасли и без бомб. Свою империю они не спасут и с бомбами,
потому что не могут доставить их в Африку или в Индию Значит, эти территории
останутся в руках ящеров
-- Это неоспоримо, -- отметил Молотов.
Недооценивать способности Сталина -- значит подвергать себя опасности.
Он всегда был грубым, он мог быть наивным, глуповатым, близоруким. Но когда
он бывал прав, как это частенько случалось, его правота получалась такой
захватывающей, что это возмещало все остальное.
-- Если германские фашисты вынудят ящеров оставить территорию, которую
оккупировали до вторжения инопланетян, будет интересно посмотреть, сколько
стран пожелает вернуться под власть нацистов.
-- Значительная часть оккупированной фашистами земли была нашей, --
сказал Молотов. -- Ящеры оказали нам услугу, изгнав их.
"Ручные" правительства, подчиняющиеся нацистам, существовали на севере
и вблизи румынской границы. Нацистские банды, на ступеньку более
организованные, чем партизаны, по-прежнему хозяйничали на большинстве
территорий, раньше контролировавшихся нацистами. Но эти проблемы были
решаемыми в отличие от смертельной опасности, исходившей вначале от
нацистов, а теперь -- от ящеров.
Сталин был согласен с Молотовым:
-- Лично меня не трогает, что ящеры остаются в Польше. В мирной
обстановке лучше иметь на нашей западной границе их, чем фашистов: если их
принудить к заключению мира, они, скорее всего, согласятся.
Однажды он уже недооценил Гитлера: повторения ему не хотелось. Молотов
с готовностью кивнул. Здесь он был согласен со своим хозяином.
-- Нацисты со своими ракетами, с их газом, парализующим дыхание, с их
бомбами из взрывчатого металла были бы очень неприятными соседями.
-- Да.
Сталин выпустил дым. Его глаза сузились. Он смотрел скорее сквозь
Молотова, чем на него. Это был не тот взгляд, которым он мысленно изгонял
ставшего неугодным фаворита. Он просто напряженно думал. Через некоторое
время он сказал:
-- Давайте будем гибкими, Вячеслав Михайлович. Давайте вместо
требования покинуть нашу территорию до начала переговоров предложим
перемирие на время проведения переговоров. Может быть, это сработает, может
быть, и нет. Если мы не будем подвергаться налетам и обстрелам, наша
промышленность и коллективные хозяйства получат возможность начать
восстановление.
-- Внесем это предложение сепаратно или попробуем продолжить создание
народного фронта людей против инопланетян-империалистов? -- спросил Молотов.
-- Вы можете проконсультироваться с американцами и немцами перед
отправкой предложения ящерам, -- сказал Сталин с видом человека,
оказывающего большую милость. -- По этому вопросу можете также
проконсультироваться с британцами, с японцами, с китайцами -- малыми
державами, -- добавил он, жестом руки выражая пренебрежение. -- Если они
захотят сделать ящерам такое же предложение одновременно, это будет
правильно и хорошо: мы двинемся вперед вместе. Если не захотят... мы все
равно двинемся вперед.
-- Как скажете, товарищ генеральный секретарь.
Молотов не был уверен, что это самый разумный курс, но, представив себе
выражение лица фон Риббентропа, когда он получит депешу, разъясняющую новую
советскую политику, -- а еще лучше выражение его лица, когда он будет
сообщать эту новость Гитлеру, -- решил, что новый курс того стоит.
-- Я сразу же начну готовить телеграмму.
* * *
Генрих Ягер был неплохим наездником. Но сегодня он не испытывал
никакого удовольствия от поездки верхом. Если требуется забираться на
лошадь, чтобы объехать штабы корпусов, это доказывает только одно: для
катания на автомобиле топлива не нашлось. У вермахта едва хватало топлива
для танков, а для посещения штабов имелись только две возможности -- ехать
на гнедой кобыле или на своих двоих.
Дорога в лесу разветвлялась. Ягер направил кобылу на юг, по правому
ответвлению. Оно вело не напрямик к расположению полка. Езда верхом давала,
в частности, то преимущество, что в отличие от "фольксвагена" лошади
водитель не требовался. Ягеру не хотелось, чтобы кто-нибудь знал, что он
повернул направо. В противном случае вскоре ему предстояла бы интимная
дискуссия с СС, СД, с гестапо, с абвером или другой службой безопасности или
разведкой, которая наложила бы на него лапу (не говоря уже о различных
тупых, острых, нагретых и проводящих электричество инструментах).
-- Зачем я делаю это? -- сказал он в тишине леса, нарушаемой лишь
далеким гулом артиллерийской стрельбы. Кобыла в ответ фыркнула.
Он чувствовал себя так, словно фыркнул и сам. Ответ был известен:
во-первых, долг по отношению к Анелевичу лично, во-вторых, Анелевич и его
еврейские борцы честно соблюли условия сделки, которую заключили с ним, и
уже за это не заслуживали испепеления, а в-третьих, он каждый раз внутренне
съеживался, вспоминая о том, что рейх делал с евреями в Восточной Европе до
прихода ящеров -- и продолжает делать на территориях, которые контролирует.
Он живо представлял себе пленников-евреев и гомосексуалистов, которые
работали на атомном котле под замком Шлосс Гогентюбинген, пока не умирали --
на что редко требовалось много времени.
Было ли это достаточным основанием, чтобы нарушить воинскую присягу?
Глава СС и лично фюрер дали задание Скорцени нанести атомный удар по Лодзи.
Кто такой полковник Ягер, чтобы утверждать, что они ошибались.
-- Человек, -- сказал он, отвечая на вопрос, не заданный вслух. -- Если
я не могу жить в ладу с самим собой, что хорошего в чем-то другом?
Временами ему хотелось отключить разум, сделаться бесчувственным ко
всем проявлениям войны. Он знал множество офицеров, которые знали об ужасах,
творимых рейхом на востоке, и не только отказывались думать о них, но
временами даже отрицали свое знание. Затем был Скорцени, который тоже знал о
них, но не осуждал. Ягера не устраивало ни то ни другое. Он не был ни
прячущим голову в песок страусом, ни фарисеем.
И поэтому он ехал теперь с автоматом на коленях, опасаясь патрулей
ящеров, германских патрулей, польских разбойников, еврейских разбойников...
и вообще всех. Чем меньше людей он встретит, тем лучше.
Выехав из леса на открытое пространство, он вздрогнул. Теперь его можно
было увидеть с расстояния в километры, а не за несколько метров. Конечно, в
эти времена немало людей разъезжает верхом, и многие из них в форме и с
оружием. И они не обязательно солдаты. Польша стала такой же, каким кино
показывало американский Дикий Запад. Нет, еще хуже -- у ковбоев не было
пулеметов и танков.
Его глаза обшаривали пространство. Никого. Двинулся вперед. До фермы
было недалеко. Он оставит послание, пустит кобылу рысью и вернется в полк
всего на час позже по сравнению с расчетным временем. Поскольку любые
способы передвижения в эти времена крайне ненадежны, никто над этим
опозданием не задумается.
-- Вот сюда мы и едем, -- тихо сказал он, узнав ухоженную рощу из
яблонь. Кароль передаст сообщение Тадеушу, Тадеуш сможет передать сообщение
Анелевичу, и все станет на свои места.
Впереди было тихо. Слишком тихо? У Ягера на затылке волосы встали
дыбом. Ни кур во дворе, ни блеяния овец, ни хрюканья свиней. Никого нет на
полях, нет и играющих маленьких детей возле дома. Как и большинство поляков,
Кароль растил целую кучу детей. Их всегда было видно -- или хотя бы слышно.
Но не сейчас.
Его лошадь фыркнула и шарахнулась в сторону, вокруг ее глаз
обозначились белки.
-- Спокойно, -- сказал Ягер, и лошадь успокоилась.
Но что-то пугало ее. Она шла вперед, но ноздри ее раздувались при
каждом выдохе.
Ягер тоже принюхался. Вначале он не заметил ничего необычного. Затем
почуял то, что беспокоило кобылу. Чувствовался слабый запах разложения,
словно домашняя хозяйка достала кусок говядины, слишком долго пролежавший в
холодильнике.
Он понимал, что ему следует повернуть лошадь и ускакать при первом же
запахе опасности. Но запах указывал и на то, что опасности здесь уже нет.
Она была -- и ушла, возможно, пару дней назад. Ягер подвел все сильнее
сопротивляющуюся кобылу к дому и привязал к столбу. Затем перевел
предохранитель "шмайссера" в положение автоматического огня.
В полуоткрытую входную дверь с жужжанием влетали и вылетали мухи. Ягер
пинком распахнул ее. От неожиданного шума кобыла вздрогнула и попыталась
убежать. Ягер вошел в дом.
Первые два тела лежали в кухне. Одна из дочерей Кароля, лет семи, была
застрелена в затылок -- как на казни. Здесь же лежала его жена, голая, на
спине. Между глазами у нее было пулевое отверстие. Кто-то ее изнасиловал, а
может быть, и неоднократно, прежде чем убить.
Закусив губу, Ягер вышел в гостиную. Здесь свою смерть нашли несколько
детей. Посетители надругались над одной из девочек, маленькой,
светловолосой, лет двенадцати: Ягер помнил, что она постоянно улыбалась,
точно так же, как мать. Черный хлеб, который он съел на завтрак, попытался
вырваться наружу. Сжав челюсти, он не справился с рвотным позывом.
Двери в спальню Кароля были широко распахнуты, как раздвинутые ноги ее
жены и дочери. Ягер вошел. На кровати лежал Кароль. Он был убит, но не
аккуратно и безразлично -- его убийцы потратили на свою работу немало
времени и труда. А Кароль перенес боль, очень много боли, прежде чем ему
позволили умереть.
Ягер отвернулся, ослабевший и напуганный. Теперь он знал, кто посетил
этот дом. Свой, так сказать, шедевр они подписали: на животе Кароля они
выжгли раскаленной кочергой эсэсовские руны. Следующий интересный вопрос:
что они успели выспросить до того, как отрезали ему язык? Он не знал имени
Ягера -- полковник-танкист называл себя Иоахимом, -- но если он описал
внешность Ягера, на то, чтобы вычислить, о ком идет речь, СС много времени
не потребуется.
Бессмысленно насвистывая, Ягер вышел из дома, отвязал кобылу и поехал
прочь. Куда ему теперь ехать? Может, лучше всего сбежать ради спасения
жизни? Если он сможет добраться до Лодзи, то Анелевич и евреи защитят его.
Как это ни иронично, но тем не менее, вероятно, было бы правильно.
В конце концов, вместо того чтобы ехать на юг, он повернул на север, в
расположение полка. Кароль и его семья мертвы уже несколько дней. Если бы СС
узнало о нем, его уже схватили бы. И черт с ними, с евреями, он должен
продолжать войну с ящерами.
Когда он прибыл на место, Гюнтер Грилльпарцер, оторвавшись от игры в
скат, спросил:
-- У вас что-то зеленое вокруг подбородка, сэр. С вами все в порядке?
-- Должно быть, я выпил плохой воды, -- ответил Ягер. -- Я соскакивал с
этого жалкого животного, -- он похлопал по шее лошади, -- и садился в кустах
каждые пять минут, и это в течение всего пути от штаба корпуса.
Это объясняло не только его бледность, но более позднее возвращение.
-- Галопирующее дерьмо не очень-то забавно, командир, -- сочувственно
сказал наводчик. Затем он расхохотался и показал на кобылу Ягера. --
Галопирующее дерьмо! Согласны, командир? Я пошутил, даже не заметив этого.
-- Жизнь временами именно так и выглядит, -- сказал Ягер.
Грилльпарцер почесал голову. Ягер уводил лошадь. Он проехал на ней
долгий путь: надо бы обиходить ее. Грилльпарцер пожал плечами и вернулся к
карточной игре.
* * *
Нье Хо-Т'инг и Хсиа Шу-Тао прошли контроль маленьких чешуйчатых
дьяволов и были пропущены в главную часть палатки на острове в сердце
Запрещенного Города.
-- Хорошо, что вы взяли меня с собой, -- сказал он, -- вместо...
Он не договорил.
"Вместо вашей женщины, которую я попытался изнасиловать", -- мысленно
закончил предложение Нье, хотя, наверное, не совсем так, как сказал бы его
помощник. Вслух он ответил:
-- У Лю Мэй болезнь, какие бывают у маленьких детей. Лю Хань попросила
у центрального комитета освобождения от этой обязанности, чтобы ухаживать за
девочкой. Разрешение на указанное освобождение было дано...
Хсиа Шу-Тао кивнул.
-- Женщины должны ухаживать за своим отродьем. Это -- одна из вещей, в
чем они хороши. Они...
Он снова оборвал фразу. И снова у Нье Хо-Т'инга не было трудностей с
возможным продолжением. "Они также хороши, чтобы лежать на них, что и
приводит к появлению отродья". Но Хсиа, хотя и мог так думать, промолчал.
Его образование, хотя и очень медленно, все же продвигалось.
-- У Лю Хань есть интересные проекты, которые осуществляются, -- сказал
Нье.
Хсиа Шу-Тао снова кивнул, но не стал расспрашивать. В отсутствие женщин
Хсиа проявлял недюжинный ум. Он не стал бы намекать на место, где находится
чешуйчатый дьявол Томалсс, в присутствии других маленьких чешуйчатых
дьяволов.
Нье думал, что к этому времени он уже будет передавать маленьким
дьяволам небольшие кусочки Томалсса, по одному за раз. Но так не получилось.
Захват маленького дьявола, который украл ребенка Лю Хань, прошел, как и было
запланировано -- даже лучше, чем планировалось, -- но женщина до сих пор не
осуществила жестокой мести, которую намечали они с Нье. Он удивлялся,
почему. Не похоже, чтобы она стала христианкой или сотворила еще какую-то
подобную глупость.
В палатке единственными предметами мебели, изготовленной людьми, были
два стула. Нье и Хсиа сели. Через мгновение вошли маленький чешуйчатый
дьявол по имени Ппевел и его переводчик, уселись за рабочим столом. Ппевел
разразился потоком шипений и щелчков, скрипов и покашливаний. Переводчик
превратил все это в довольно сносный китайский язык:
-- Помощник администратора восточного региона главной континентальной
массы отмечает, что один из вас выглядит иначе, чем на предыдущих
заседаниях. Кто отсутствует -- Нье Хо-Т'инг или Лю Хань?
-- Отсутствует Лю Хань, -- ответил Нье.
У маленьких дьяволов были такие же трудности в узнавании людей, как у
людей с дьяволами.
Ппевел заговорил снова:
-- Мы подозреваем связь между нею и исчезновением исследователя
Томалсса.
-- Ваш и мой народы находятся в состоянии войны, -- ответил Нье
Хо-Т'инг. -- Мы соблюдали перемирие, на которое пошли в обмен на ребенка Лю
Хань. Больше от нас ничего требоваться не должно. Подозревайте все, что
хотите.
-- Вы нахальны, -- сказал Ппевел.
Это высказывание империалистического эксплуататора -- маленького
чешуйчатого дьявола -- едва не вызвало у Нье Хо-Т'инга громкий смех. Он
этого не сделал -- он находился здесь по делу. Он сказал:
-- Мы узнали, что вы, чешуйчатые дьяволы, серьезно рассматриваете
перспективу прекращения огня без ограничения времени для обсуждения вашего
ухода с территории миролюбивого Советского Союза и других государств.
-- Эти требования находятся в процессе обсуждения, -- ответил Ппевел
через переводчика. -- Но к вам они не имеют никакого отношения. Из Китая мы
не уйдем ни при каких обстоятельствах.
Нье посмотрел на него с унынием. Сам Мао Цзэдун приказал ему добиться
включения в переговоры Китая -- а точнее, Народно-освободительной армии. Для
него стал потрясением отказ маленьких чешуйчатых дьяволов еще до того, как
он высказал предложение. Это напомнило Нье надписи, которые европейские
иностранные дьяволы помещали в своих колониальных парках: "Собаки и китайцы
не допускаются".
-- Вы пожалеете об этом решении, -- сказал он, когда к нему вернулся
дар речи. -- То, что мы делали до сих пор, было только булавочными уколами
по сравнению с тем, что мы можем сделать.
-- То, что вы можете сделать, действительно булавочный укол по
сравнению разрушениями, которые создает бомба из взрывчатого металла, --
ответил Ппевел. -- У вас ее нет. Мы достаточно сильны, чтобы удерживать эту
землю, что бы вы ни делали. Мы будем ее удерживать.
-- Если так, мы превратим вашу жизнь в настоящий ад, -- с горячностью
ответил Хсиа Шу-Тао -- Вы будете выходить на улицу -- кто-то может
выстрелить в вас. Вы садитесь в автомобиль, грузовик или танк -- вы можете
наехать на мину. Вы едете из одного города в другой -- кто-то может ударить
по дороге из миномета. Вы доставляете продовольствие в город -- вам придется
проверять, не отравлено ли оно.
Нье не хотелось, чтобы его помощник высказывал маленьким дьяволам
пустые угрозы. Лю Хань здесь знали лучше: она была, как однажды понял Нье к
своему замешательству, мастером упрашивать -- до того момента, пока она не
подготовится, чтобы обрушиться на цель всеми силами. Но с обуревавшими Хсиа
чувствами Нье был согласен.
На Ппевела это не подействовало.
-- А чем это отличается от того, что вы делаете сейчас? -- спросил он.
-- Мы удерживаем центры сосредоточения населения, мы удерживаем дороги между
ними. Используя их, мы можем удерживать и сельскую местность.
-- Попробуйте, -- сказал ему Нье Хо-Т'инг. Этот рецепт применяли японцы
при оккупации северо-восточного Китая. Его нельзя использовать при нехватке
личного состава. -- Вы можете обнаружить, что цена, которую вы должны
заплатить, выше, чем вы можете себе позволить.
-- Мы терпеливы, -- ответил Плевел. -- В конце концов мы измотаем вас.
Вы, Большие Уроды, слишком торопливы для длительных кампаний.
Нье Хо-Т'инг привык считать торопливыми европейцев и японцев,
безнадежно не способными иметь дело с Китаем. Он не считал себя тупым
бесчувственным варваром. Направив на Ппевела палец, он отчеканил:
-- Вы потеряете здесь, в Китае, бойцов больше, чем от бомбы из
взрывчатого металла. Для вас лучше обсуждать мирный уход ваших сил теперь,
чем видеть их уничтоженными по частям.
-- Угрозы говорить легко, -- сказал Ппевел. -- Осуществить их труднее.
-- Завоевания иногда тоже легко получаются, -- ответил Нье. -- Но
удержать завоеванное труднее. Если вы останетесь здесь, вам придется иметь
дело не только с Народно-освободительной армией, вы это знаете. Гоминьдан и
восточные дьяволы -- японцы -- будут сражаться бок о бок с нами. Если для
войны потребуется поколение или больше, мы примем это как необходимость.
Он был уверен, что говорит правду о гоминьдане. Чан Кайши предал
китайскую революцию, но он был обычным коварным политиком. Даже после
японского завоевания он сохранил большую часть сил для борьбы с
Народно-освободительной армией, подобно тому как Мао сохранил свои силы для
борьбы с ним. Оба видели необходимость в продолжительной войне для
достижения своих целей.
Что собираются предпринять японцы, вычислить было труднее. Но,
несомненно, они ненавидят чешуйчатых дьяволов и будут биться с ними жестоко,
пусть даже и без особой политической проницательности.
Ппевел сказал:
-- Как я уже сказал раньше, мы собираемся удерживать эту страну. Ваши
угрозы мы игнорируем. Ваши булавочные уколы мы игнорируем. Мы признаем
только настоящую силу. Вы слишком отсталы, чтобы сделать бомбу из
взрывчатого металла. Нам нет нужды бояться вас или того, что вы можете
сделать.
-- Может быть, мы не сможем сделать ее, -- прошипел Хсиа Шу-Тао, -- но
у нас есть союзники. Одна из таких бомб может уже появиться в китайском
городе.
На этот раз Нье мысленно одобрительно похлопал Хсиа по плечу. Это было
именно то, что следовало сказать. Нье знал -- хотя и не думал, что это
известно Хсиа, -- о послании Мао Сталину с просьбой передать ему первую же
бомбу, которая не понадобится самому Советскому Союзу для защиты в ближайшее
время.
Переводчик перевел. Ппевел подпрыгнул на своем стуле, словно сел на
что-то острое.
-- Вы лжете, -- сказал он.
Тем не менее переводчик говорил неуверенно. И Нье подумал, что и голос
Ппевела звучал не слишком твердо. Он пожалел, что с ним нет Лю Хань: она бы
лучше распознала тон маленького дьявола.
-- Разве мы лжем, когда говорим, что у нас есть союзники? -- ответил
Нье. -- Вы знаете, что это так. Соединенные Штаты были союзниками гоминьдана
и Народно-освободительной армии против японцев еще до того, как вы,
чешуйчатые дьяволы, пришли сюда. Советский Союз стал союзником
Народно-освободительной армии в борьбе против гоминьдана. И США, и Советский
Союз располагают бомбами из взрывчатого металла.
Он подумал, что шансы Китая получить одну из таких бомб невелики. Но он
не должен сообщать это Ппевелу. Чем скорее маленький дьявол поверит, что это
возможно, тем больше Народно-освободительная армия сможет выторговать.
И он убедил Ппевела. Это он видел. Высокопоставленный чешуйчатый дьявол
и его переводчик несколько минут говорили между собой. Наконец Ппевел
обратился к людям:
-- Я по-прежнему не верю вашим словам, но я доведу их до внимания моих
вышестоящих начальников. Они передадут вам свое решение о включении вас,
китайцев, в эти переговоры.
-- Для их собственной и для вашей пользы лучше, если они не будут
тянуть, -- еще раз по-крупному сблефовал Нье.
-- Они решат сами, а не когда нужно вам, -- ответил Ппевел.
Нье мысленно пожат плечами: не каждый блеф срабатывает. Он понял, что
они применят тактику затягивания. Маленькие дьяволы будут обсуждать и
обсуждать -- и затем скажут "нет". Ппевел продолжил:
-- На этом переговоры между нами на этот раз закончены. Вы свободны,
ожидайте решения моих вышестоящих.
-- Мы вам не слуги, чтобы уходить по вашему капризу, -- рассерженно
сказал Хсиа Шу-Тао.
Но переводчик не стал затрудняться переводом этой фразы: вместе с
Плевелом он удалился в заднюю часть огромной оранжевой палатки. В отсек,
который Нье считал залом переговоров, вошел вооруженный маленький дьявол --
чтобы убедиться, что китайцы не станут задерживаться.
До возвращения из Запрещенною Города в хриплую суматоху остальной части
Пекина, Нье молчал и был задумчив: частично из-за того, что ему требовалось
обмозговать высокомерные заявления Ппевела, а частично из опасения, что
маленькие чешуйчатые дьяволы подслушают, если он будет говорить с Хсиа
поблизости от их крепости.
Наконец он сказал:
-- Боюсь, что нам придется организовывать народный фронт с гоминьданом
и, может быть, даже с японцами, если
мы решим убедить маленьких дьяволов, что оставаться в Китае для них
означает больше неприятностей, чем выгод. Хсиа выглядел разочарованным.
-- У нас был народный фронт с гоминьданом против японцев. Это был
только шум да речи. На войне он значил немного и не удержал
контрреволюционеров от выступлений против нас.
-- И нас против них, -- сказал Нье, вспомнив некоторые собственные
подвиги. -- Возможно, этот народный фронт будет таким же, как прежний. Но
может быть, и нет. Позволительна ли роскошь борьбы друг с другом, когда
одновременно мы ведем войну с маленькими чешуйчатыми дьяволами? Сомневаюсь.
-- Сможем мы убедить гоминдановскую клику и японцев бороться с общим
врагом вместо того, чтобы биться друг с другом и с нами? -- парировал Хсиа.
-- В этом я тоже сомневаюсь.
-- И я тоже, -- с беспокойством сказал Нье. -- Но если не сможем, то
проиграем эту войну. Кто придет нам на помощь? Советский Союз? Они разделяют
нашу идеологию, но слишком увязли в борьбе, сначала с немцами, а теперь с
чешуйчатыми дьяволами. Что бы мы ни говорили Ппевелу, я не думаю, что в
ближайшее время Народно-освободительная армия получит от Советского Союза
бомбу из взрывчатого металла.
-- В этом вы правы, -- сказал Хсиа, плюнув в канаву. -- Сталин соблюдал
договор, который заключил с Гитлером, до тех пор, пока Гитлер не напал на
него. Если он заключит договор с маленькими чешуйчатыми дьяволами, то тоже
станет соблюдать его. Это значит, что нам придется вести длительную войну в
одиночку,
-- Тогда нам тем более нужен народный фронт -- настоящий народный
фронт, -- сказал Нье Хо-Т'инг.
Хсиа Шу-Тао снова плюнул, но в конце концов кивнул.
-- Бронебойный! -- рявкнул Ягер.
Башня "пантеры" разворачивалась -- хотя и не так быстро, как хотелось
бы Ягеру, -- нацеливая орудие танка на бронетранспортер ящеров. Корпус
"пантеры" скрывал холм перед ней, а башню хорошо маскировал кустарник: ящеры
не могли видеть, что здесь прячется танк.
-- Бронебойный! -- как эхо повторил Гюнтер Грилльпарцер, прижимаясь
лицом к прицелу длинной семидесятимиллиметровой пушки "пантеры".
Карл Мехлер вложил снаряд с отбрасываемым башмаком.
-- Врежь ему, Гюнтер, -- сказал заряжающий.
Ягеру, высунувшемуся по плечи из люка башни, грохот показался таким
сильным, будто наступил конец света. Генрих мигнул, когда из ствола вырвался
яркий язык пламени метровой длины. Внутри башни латунная гильза со звоном
ударилась в пол машины.
-- Попал! -- возбужденно закричал Грилльпарцер. -- Горит!
"Это хорошо, когда они горят", -- подумал Ягер.
Снаряды с отбрасываемым башмаком могут пробивать броню боковых стенок
корпуса танка ящеров. Если бы они не справлялись с более легкой броней
транспортеров пехоты, их не стоило бы применять.
-- Назад, -- сказал он Иоганнесу Друккеру через интерком.
Водитель включил заднюю передачу заранее. Теперь он повел машину назад
по склону холма на следующую подготовленную огневую позицию.
Другие танки его полка также били вдаль по объектам ящеров. Пехотинцы
прятались между деревьев и в развалинах зданий, ожидая удобного момента,
чтобы ударить ручными ракетами по технике врага. Пехотинцы ящеров делали то
же самое с германскими танками в начале своего нашествия. Было приятно
ответить врагу таким же оружием.
Над головой в сторону ящеров проносились с шумом товарного поезда
артиллерийские снаряды. За считанные дни вермахт отодвинул линию фронта на
несколько километров к востоку. Ящеры, похоже, не ожидали удара к северу от
Лодзи, и потери Ягера, хотя и по-прежнему ужасные, все же оказались меньше,
чем могли бы быть.
-- Надеюсь, мы их отвлекли, -- проговорил он про себя.
Он не намного лучше подготовился к этой атаке, чем ящеры -- к ее
отражению. Успех операции для практических целей значения не имел. Его
работа закончилась в тот момент, когда ящеры полностью сосредоточились на
его людях.
Тем временем очень тихо Отто Скорцени переправлял атомную бомбу на юг,
в Лодзь. Ягер не знал, как. Он не хотел знать. Он не хотел, чтобы они делали
это, но его не спрашивали.
Он задумался, дошло ли его сообщение до города. Парень, с которым он
встретился, и близко не внушал такого доверия, как Кароль: он был скрытным и
пугливым -- наполовину кролик, наполовину ласка. Однако он был живым, а
потому пришлось предпочесть его погибшему фермеру.
Гюнтер Грилльпарцер издал негодующее восклицание.
-- Они не лезут на рожон -- на наши пушки, -- как раньше, -- сказал он.
-- Долго же они этому учились, а? Британцы быстрее усвоили, еще в Северной
Африке. Даже русские быстрее научились, а это уже показатель.
На правом фланге противотанковая ракета ящеров попала в Pz-IV,
переползавший с одной скрытой позиции на другую. Танк вспыхнул, пламя
вырвалось из всех его люков, из башни выплыло кольцо черного дыма идеально
правильной формы. Никто из пяти членов экипажа не спасся.
Затем по германским танкам начала бить артиллерия ящеров.
Ягер решил, что пора дать сигнал к окончанию боевой операции. Ящеры
теперь не были столь расточительны в использовании особых снарядов,
разбрасывающих мины, как в начале войны, но время от времени применяли их.
Ему не хотелось потерять половину своего танкового парка из-за подбитых
гусениц.
А люди просто обрадовались передышке. Когда Гюнтер Грилльпарцер развел
костерок, он повернулся к Иоганнесу Друккеру и спросил:
-- У тебя никогда не было ощущения, что ты живешь уже слишком давно?
-- Не пори чепухи, -- ответил водитель. -- Просто по твоей могиле
прошел гусь.
-- Может, ты и прав, -- сказал Грилльпарцер. -- Надеюсь, что так. Но,
Иисус! Каждый раз, когда мы ввязываемся в бой с ящерами, я не верю, что
выйду из него целкой. В смысле целым.
Отто Скорцени обладал способностью материализовываться из воздуха,
словно дух из "Тысячи и одной ночи".
-- Ты еще молодой человек, -- сказал он. -- Целка в день -- это для
тебя маловато.
-- Не ожидал, что ты обернешься так скоро, -- сказал Ягер, когда
танкисты заржали.
-- Черт возьми, не ври -- ты вообще меня не ждал, -- со смехом сказал
Скорцени. -- Но мне надо было сообщить тебе новости, а по радио я их
передать не мог -- вот потому я здесь.
Он принял позу, которая, вероятно, изображала религиозного
проповедника. Ягер и представить не мог кого-то, кто был бы так мало похож
на Мартина Лютера. Эсэсовец подтолкнул его локтем. Они отошли от костра и
огромной надежной "пантеры". Тихим голосом Скорцени произнес:
-- Она на месте.
-- Я так и понял, -- ответил Ягер. -- Иначе ты все еще был бы в Лодзи.
Но как тебе удалось обстряпать дельце?
-- У нас свои методы, -- сказал Скорцени. -- Сколько-то имбиря ящерам,
сколько-то золотых монеток для поляков. -- Он рассмеялся. -- Некоторые из
них даже, возможно, выживут, чтобы успеть попользоваться добычей, но
немногие.
Снова став собой, он преобразился в самого страшного человека, какого
только знал Ягер.
-- Когда она взорвется? -- спросил он.
-- Когда я получу приказ, -- ответил Скорцени. -- Теперь, когда она
доставлена на место, все мои ребята в этой забавной черной форме отправятся
домой. Это будет мой личный спектакль. И знаешь? -- Он дождался, пока Ягер
покачает головой, и только затем договорил: -- Я и в самом деле с
удовольствием жду этого.
Нет, поистине страшным Скорцени становился, только дав волю словам.
* * *
Куча обломков, за которыми улегся Остолоп Дэниелс, была когда-то
дымовой трубой дома преуспевающего фермера, жившего примерно посредине между
Марблхедом и Фолл-Криком, штат Иллинойс. Он взглянул на Германа Малдуна,
лежащего за другой кучей таких же красных кирпичных обломков.
-- Мы нисколько не продвинулись вперед, -- сказал он. -- Мы не очистим
Миссисипи от ящеров и через неделю после Судного дня.
-- Да, -- угрюмо согласился Малдун. -- Они не очень-то согласны
отступать, не так ли?
-- Да уж, -- сказал Остолоп.
Все шло неплохо до тех пор, пока армия США не попыталась пойти в
наступление южнее Марблхеда. Они продвинулись на две мили и застряли.
Наступление поддерживали два десятка танков "Шерман" и несколько устаревших
танков "Ли". Пара "Шерманов" все еще была на ходу, но теперь их держали
подальше от тех мест, где их могли подбить ящеры. В определенном смысле
Остолоп понимал соображения командования. С другой стороны, не соглашался.
Какой смысл иметь танки, если боишься использовать их?
Справа от него за обгоревшим корпусом "Ли" минометный расчет открыл
огонь по позициям ящеров в нескольких сотнях ярдов к югу от фермерского
дома.
"Бум! Бум! Бум!" Эти маленькие хвостатые снарядики летели недалеко, но
разбрасывали вокруг множество взрывчатых и стальных осколков.
Ящеры не стали терять времени и тут же ответили. Остолоп приник к земле
и окопался. Рядом свистели не только мины: ящеры били и из пушек, причем,
вероятно, с такого расстояния, что американская артиллерия ответить им не
могла.
Под прикрытием этого огня пехота ящеров пошла вперед. Когда Остолоп
услышал хлопки автоматической винтовки "браунинга", он поднял голову и
принялся стрелять из своего "томпсона". Он не знал, попал он в кого-то из
ящеров или нет. "Браунинг" на таком расстоянии мог бить наверняка, но
стрелок с "томпсоном" мог рассчитывать хотя бы ранить кого-нибудь только при
большом везении. И все же ящеры залегли. Уже ради этого стоило открывать
преждевременный сильный огонь.
-- Не похоже, что они скоро поднимутся, -- прокричал Малдун, перекрывая
грохот.
-- Согласен, -- сказал Дэниелс. -- Им хочется немного переждать в
обороне. И знаешь? На их месте я тоже был бы рад подзадержаться.
Через пару секунд после этого неподалеку взорвался крупный снаряд,
забросав их землей, ошеломив и наполовину оглушив.
Остолоп оглянулся на окоп ярдах в двадцати от них, чтобы убедиться,
уцелел ли его радист. Парень двигался и не кричал, и Дэниелс сделал вывод,
что ничего непоправимого с ним не произошло. Он подумал: не стоит ли
потребовать у командования ударить по позициям ящеров химическими снарядами
с ипритом, чтобы заставить их отступить?
Он уже собирался крикнуть приказ радисту, как вдруг обстрел
прекратился. Он с опаской выглянул из-за кирпичной кучи. Что еще за фокус
они затеяли? Может, они думают, что американцы так глубоко прячутся в
окопах, что не заметят атакующих, пока те не подойдут вплотную? Если они
после более двух лет тяжелых боев не поняли, что при этом происходит, то
теперь поймут.
Но ящеры больше не наступали. Сам собой затих огонь из стрелкового
оружия с обеих сторон.
-- Дошло до них, наверное, -- сказал про себя Остолоп.
-- Эй, лейтенант, гляньте-ка на это! -- Герман Малдун показал в сторону
боевых порядков ящеров. Там размахивали чем-то белым, привязанным к палке.
-- Просят переговоров или что-то в этом роде.
-- Может, хотят забрать раненых? -- предположил Дэниелс. -- Раз или два
у меня с ними уже было такое. Не думал, что еще раз придется: если они
заключают перемирие, они соблюдают его до конца оговоренного срока. -- Он
повысил голос: -- Не стреляйте, ребята! Я иду на переговоры с этими
чешуйчатыми сукиными сынами. -- Когда стрельба со стороны американцев
стихла, он повернулся к Малдуну. -- У тебя есть что-нибудь белое, Герман?
-- Есть сопливчик, веришь или нет.
Малдун, распираемый гордостью, вытащил из кармана носовой платок:
немногие пехотинцы могли бы похвастаться этим.
Он был не особенно белым, но Остолоп решил, что сойдет. Он поискал, к
чему бы его привязать. Ничего не найдя, пару секунд помялся, затем встал,
размахивая платком над головой. Ящеры не стреляли.
Он пошел по ничейной земле между позициями. Навстречу ему шел ящер.
Остолоп успел отойти не так уж далеко, когда радист заорал:
-- Лейтенант! Лейтенант Дэниелс, сэр!
-- Чтобы там ни было, Логан, оно подождет, -- крикнул Остолоп через
плечо. -- Я сейчас занят.
-- Но, сэр...
Остолоп игнорировал призыв и продолжал идти. Если он повернется и
пойдет назад, ящеры могут подумать, что он переменил решение и перемирия не
будет, и начнут стрелять в него.
Чужак с белым флагом приблизился к нему футов на десять и остановился.
Остолоп сделал то же самое. Он вежливо поклонился: как солдат, ничего, кроме
уважения, он к ящерам не испытывал.
-- Лейтенант Дэниелс, армия США, -- сказал он. -- Вы говорите
по-английски?
-- Йесссс...
Ящер произнес слово длинным шипением, но Остолоп без труда понял его.
"Тоже хорошо", -- подумал он: он не знал ни слова на языке ящеров. Чужак
продолжил.
-- Я -- Чуук, лидер малой боевой группы, флот вторжения Расы.
-- Рад познакомиться, Чуук. Мы примерно в одном ранге.
-- Да, я тоже так считаю, -- сказал ящер. -- Я пришел сказать вам, что
установлено прекращение огня между флотом вторжения Расы и вашей армией США.
-- Мы согласны, -- не стал спорить Остолоп. -- На какое время вы
предлагаете перемирие? Скажем, до наступления темноты? Этого будет
достаточно обеим сторонам, чтобы собрать пострадавших и немного поваляться
-- передохнуть, -- добавил он, подумав, что ящер не может разобрать сленг.
-- Вы не понимаете меня, лейтенант Дэниелс, -- сказал Чуук. -- Это
прекращение огня между флотом вторжения Расы и вашей армией США. Между всей
армией США и всей частью флота завоевания здесь, на малой континентальной
массе. Объявлено Атваром, главнокомандующим флотом вторжения. Есть согласие
не-императора ваших США, какое бы имя он ни носил. Прекращение огня с
настоящего времени на этом месте: не двигаться вперед, не двигаться назад.
Времени для отмены прекращения огня не установлено. Вы слышите, лейтенант
Дэниелс? Вы понимаете?
-- Да, -- отрешенно ответил Остолоп. -- Боже правый.
Он не помнил, когда в последний раз испытывал похожие чувства. Может
быть, в ноябре 1918-го, но тогда прекращения огня ждали. А сейчас это был
гром среди ясного неба. Он обернулся и изо всех сил заорал:
-- Логан!
-- Сэр? -- донесся слабый голос радиста с расстояния в сто пятьдесят
ярдов.
-- У нас перемирие с ящерами?
-- Да, сэр. Я пытался сказать вам, сэр, как только получил сообщение,
но вы...
Остолоп снова повернулся к Чууку. Ящер уже передал ему сообщение.
Следовало дать ему формальный ответ, чтобы чужак знал, что его поняли
правильно.
-- Я слышу вас, лидер малой боевой группы Чуук. И я понимаю вас. У нас
здесь, как повсюду в США, наступило прекращение огня, без ограничения
времени.
-- Истинно так, -- сказал Чуук. -- Здесь то, что мы имеем. Это
прекращение огня не только с вами. Оно также с СССР, -- Остолопу
понадобилась секунда, чтобы понять: ящер имеет в виду Россию, -- а еще с
дойчевитами.
Остолоп и здесь быстро сообразил, какая страна имеется в виду.
-- Боже, -- благоговейно сказал он. -- Вы смешали всех в одну кучу, а
это целых полмира. -- Он подметил еще кое-что. -- Вы ведь заключили
перемирие со странами, которые ответили атомным взрывом на ваши бомбежки.
-- Истинно, -- снова сказал Чуук. -- Разве мы глупцы, чтобы идти на
перемирие с империями, которые мы победили?
-- Если смотреть с вашей позиции, то, полагаю, вы правы, -- отметил
Остолоп.
Он подумал: что будет с Англией? Чуук ничего не сказал об англичанах, а
Остолоп восхищался ими с тех пор, как видел в деле во Франции во время
войны, которая должна была покончить с войнами навсегда. Что ж, ящеры
однажды попробовали захватить Англию и получили по морде. Возможно, они
чему-то научились.
Чуук сказал:
-- Вы -- хорошие бойцы, Большие Уроды. Это я говорю вам обоснованно.
Это -- истинно. Мы пришли на Тосев-3 -- на эту планету, этот мир, мы думали,
мы победим, и победим быстро. Мы не победили быстро. Вы воюете хорошо.
-- Вы и сами неплохие вояки. -- Остолоп повернул голову. -- Один из
ваших ребят попал мне прямо сюда. -- Он показал на челюсть слева.
-- Мне повезло. Меня не подстрелили. Многие самцы, которые есть мои
друзья, они подстрелены, -- сказал Чуук.
Остолоп кивнул. Каждый фронтовик понимающе относится к таким рассказам.
-- Мы ведь бойцы, вы и я. -- Чуук издал свистящий выдох облегчения. --
Я думаю теперь один раз, теперь еще раз, что бойцы Расы, бойцы на кончике
языка боя, эти бойцы больше похожи на Больших Уродов, чем другие самцы
далеко от боя. Вы слышите, лейтенант Дэниелс? Вы понимаете?
После каждого вопроса он забавно покашливал.
-- Лидер малой боевой группы Чуук. я слышу вас хорошо, -- Остолоп. -- И
я понимаю вас хорошо. Что вы говорите, когда что-то просто правильно? Вы
говорите "истинно", не так ли? Истинно, Чуук.
-- Истинно, -- согласился Чуук.
Он заговорил в какой-то предмет, размерами не больше книжки. Сразу
после этого ящеры начали вставать и высовывать носы из-за укрытий. "Это у
него с собой радиостанция, -- понял Остолоп, -- и у каждого из его солдат.
Чертовски хорошая штука. Хорошо бы и нам иметь такие".
Он обернулся и помахал своим людям. Один за другим они тоже стали
подниматься с земли. Последним показался из укрытия Герман Малдун. Остолоп
нисколько не осуждал его. В него столько раз стреляли, что он, вероятно, с
трудом поверил, что это не хитрость. Да и Остолоп тоже не поверил бы, не
стой он здесь -- такой уязвимый, если ящеры совершат какую-нибудь подлость.
Настороженно, не выпуская оружия, люди и ящеры приближались друг к
другу. Некоторые пытались говорить с противниками, хотя самцы Чуука знали
английский куда хуже, чем он, и лишь немногие из американцев хоть что-то
знали на линго ящеров. Это было неплохо. Не нужно много слов, чтобы убедить
собеседника, что сейчас вы никого не хотите убивать, хотя еще пять минут
назад собирались. Остолоп наблюдал такие сцены на ничьей земле во Франции в
1918 году. Лишь немногие его товарищи могли говорить с "боша-ми", но и этого
было достаточно.
Конечно, в те времена янки (Дэниелс вспомнил, как он злился, когда
французы принимали его за янки) и боши обменивались куревом и пайками. Он
обменялся пайком только раз. Просто чудо, что немцы так чертовски хорошо
воевали, питаясь такими отбросами.
Он не мог представить, что увидит здесь что-то подобное. Ящеры не
курили, а их еда была еще хуже, чем у бошей. Но оглядевшись, он обнаружил,
что некоторые из его парней чем-то меняются с ящерами. Что ж такого могло у
них быть интересного для ящеров?
Чуук тоже наблюдал за окружающим, хотя голова его была почти
неподвижной, а поворачивались только глаза. Остолоп подумал, не собирается
ли он остановить неофициальную торговлю. Вместо этого ящер спросил:
-- Вы, лейтенант Дэниелс, не имеете с собой каких-либо плодов или
пирожных с тем, что вы, Большие Уроды, называете "имбирь"?
В голове Остолопа словно вспыхнул свет. Он слышал, что ящеры чертовски
падки на это зелье.
-- Боюсь, что нет, лидер малой боевой группы. -- Вот ведь не повезло.
Подумать только, какие интересные штуки могли дать ящеры в обмен! -- Но,
похоже, у кого-то из моих парней есть.
Теперь он понял, почему кое-кто из ребят носил с собой продукты с
имбирем. Выходит, они скрытно торговали с ящерами. В любое другое время это
привело бы его в ярость. Но если смотришь на торговлю после заключения
перемирия, разве рассердишься?
-- Йес-с. Истинно, -- сказал Чуук.
Нетерпеливо подпрыгивая на каждом шагу, он поспешил прочь своей смешной
походкой, чтобы посмотреть, что у американцев есть на продажу. Остолоп
улыбнулся ему вслед.
* * *
По голубому небу лениво ползли пухлые облака. Солнце стояло высоко и
давало приятное тепло, а то и жару. Это был прекрасный день для прогулок
рука об руку с девушкой, в которую вы -- влюблены? Дэвид Гольдфарб не
употреблял этого слова в разговоре с Наоми Каплан, но все чаще повторял его
мысленно в эти последние несколько дней.
С другой стороны, мысли Наоми, казалось, фокусировались на политике и
войне, а не любви.
-- Ведь ты же в королевских ВВС, -- с негодованием сказала она. -- Как
ты можешь не знать, достигнуто у нас перемирие с ящерами или нет?
Он рассмеялся.
-- Как я могу не знать? Нет ничего проще: мне об этом не говорят. Чтобы
делать свою работу, мне не нужно знать про перемирие -- вот достаточная
причина не сообщать мне этого. Все, что я знаю: я не слышал шума ни одного
самолета ящеров -- и не слышал ни об одном самолете ящеров над Англией --
после начала их перемирия с янки, русскими и нацистами.
-- Это и есть перемирие, -- настаивала Наоми. -- Это и должно быть
перемирием. Гольдфарб пожал плечами:
-- Может быть, да, а может быть, и нет. Согласен, я не знаю и ни об
одном нашем самолете, который бы направлялся бомбить континент, но в
последнее время мы и так нечасто это делали -- чудовищно возросли потери.
Может быть, у нас что-то вроде неформальной договоренности: ты не трогаешь
меня -- я не трогаю тебя, но мы не все переносим на бумагу из опасения
раскрыть, что мы делаем -- или, наоборот, не делаем.
Наоми нахмурилась.
-- Это неправильно. Это недостойно. Это непорядочно.
В этот момент ее высказывание выглядело поистине немецким. Гольдфарб
прикусил язык, чтобы не сказать об этом вслух.
-- Соглашения ящеров с другими нациями заключены официально и
накладывают на участников определенные обязательства. Почему этого не
сделано в отношении нас?
-- Я же сказал, что наверняка не знаю, -- сказал Гольдфарб. -- Хочешь
услышать мои предположения? -- Когда она кивнула, он продолжил: --
Американцы, русские и нацисты -- все они использовали супербомбы такого же
типа, какими располагают ящеры. Мы подобных не создали. Может быть, в их
глазах мы не заслуживаем перемирия, потому что у нас бомб нет. Но когда они
попытались завоевать нас, они узнали, что нас нелегко победить. И поэтому
они оставили нас в покое, не объявляя об этом.
-- Полагаю, возможно, -- отметила Наоми после серьезных размышлений. --
Но все равно это непорядочно.
-- Может быть, -- сказал он. -- Неважно, что это такое, но я рад, что
сирены воздушной тревоги не орут ежедневно или дважды в день, а то и каждый
час.
Он ожидал, что Наоми скажет: такая нерегулярность налетов тоже означает
беспорядок. Но вместо этого она показала на малиновку с ярко-красной
грудкой, преследовавшую стрекозу.
-- Вот это единственный вид летательного аппарата, который я хотела бы
видеть в небе.
-- Хм-м, -- произнес Гольдфарб. -- Мне больше по душе приятный полет
самолета "Метеор", но я был бы несправедлив, если бы не признал твоей
правоты.
Некоторое время они шли молча, довольные обществом друг друга. На
обочине дороги с цветка на цветок с жужжанием перелетала пчела. Гольдфарб
обратил внимание на этот звук и на незасеянное поле: вблизи от Дувра их было
несколько.
Наоми -- очевидно, между прочим и не имея в виду ничего конкретно --
заметила:
-- Моим отцу и матери ты нравишься, Дэвид.
-- Я рад, -- ответил он, и вполне правдиво. Если бы Исааку и Леа
Капланам он не понравился, то не гулял бы сейчас с их дочерью. -- Мне они
тоже нравятся.
Это тоже была правда: они нравились ему так, как молодому человеку
могут нравиться родители девушки, за которой он ухаживает.
-- Они считают тебя серьезным, -- продолжила Наоми.
-- В самом деле? -- спросил Гольдфарб, чуть насторожившись.
Если под серьезностью они разумели: он не будет стараться соблазнить их
дочь, -- значит, они не знали его так хорошо, как им казалось. Он это уже
пробовал. Впрочем, может быть, они знали Наоми, потому что у него ничего не
вышло. И тем не менее он не ушел разозленный из-за того, что она отказалась
спать с ним. Поэтому он и считается серьезным? Может, и так. Он решил, что
должен что-нибудь сказать.
-- Я думаю, это хорошо, что их не беспокоит, откуда я -- или, я бы
сказал, откуда мои отец и мать.
-- Они считают тебя английским евреем, -- ответила Наоми. -- И я тоже.
-- Наверное, так. Я ведь родился здесь.
Сам он никогда не думал о себе как об английском еврее, и не потому,
что его родители сбежали из Варшавы из-за погромов еще до Первой мировой
войны. Евреи Германии свысока смотрели на своих восточноевропейских
соплеменников. Когда Наоми предстанет перед его родителями, станет
совершенно ясно, что они совсем не то, чем в ее представлении являются
английские евреи. Если... Он задумчиво заговорил:
-- Моим отцу и матери ты тоже понравишься. Если я получу отпуск и ты на
день отпросишься в пабе, не согласишься ли ты съездить в Лондон и
познакомиться с ними?
-- Мне бы этого очень хотелось, -- ответил она, затем наклонила голову
набок и посмотрела на него. -- А как ты представишь меня им?
-- А как бы ты хотела? -- спросил он.
Наоми покачала головой: это не ответ. "Честно", -- подумал он. Он
прошел еще пару шагов, прежде чем рискнуть задать несколько иной вопрос:
-- А что, если я представлю тебя как свою невесту?
Наоми остановилась. Глаза ее широко раскрылись.
-- Ты именно это имеешь в виду? -- медленно проговорила она.
Гольдфарб кивнул, хотя внутри чувствовал себя так, как иногда в
"ланкастере", делающем неожиданный противозенитный маневр.
-- Мне этого очень хотелось бы. -- И она шагнула в его объятья.
Ее поцелуй снова вернул Дэвида к норме, зато закружилась голова. Когда
одна его рука мягко легла на ее грудь, она не оттолкнула ее. Вместо этого
она вздохнула и прижала его руку плотнее. Приободрившись, он сдвинул другую
руку с ее талии на правую ягодицу -- и она тут же, повернувшись ловко, как
танцовщица, вырвалась из его рук.
-- Рано, -- сказала она. -- Пока не надо. Мы скажем моим родителям. Я
познакомлюсь с твоими матерью и отцом -- этого же хотят и мои мать и отец.
Мы найдем раввина, чтобы он поженил нас. И вот тогда. -- Ее глаза
заблестели. -- И я тебе говорю -- не только ты испытываешь нетерпение.
-- Хорошо, -- сказал он. -- Может быть, нам следует сказать твоим отцу
и матери прямо сейчас.
Он повернулся и зашагал в сторону Дувра. Чем скорее он устранит все
препятствия, тем скорее она перестанет вырываться из его объятий. Казалось,
ноги его не чувствовали под собой земли на всем пути обратно в город.
* * *
Голос Мордехая Анелевича прозвучал ровно, как польские долины, и
твердо, как камень:
-- Я не верю вам. Вы лжете.
-- Прекрасно. Пусть будет так, как вы сказали.
Польский фермер доил корову, когда Анелевич нашел его. Он отвернулся от
еврейского лидера, переключившись на работу.
"Ссс! Ссс! Ссс!" Струи молока били в помятое жестяное ведро. Корова
попыталась отойти.
-- Стой ты, глупая сука, -- прорычал поляк.
-- Но послушайте, Мечислав, -- запротестовал Мордехай. -- Это ведь
просто невозможно, скажу вам. Как могли нацисты переправить бомбу из
взрывчатого металла в Лодзь так, чтобы об этом не знали ни мы, ни ящеры, ни
польская армия?
-- Я ничего не знаю, -- ответил Мечислав. -- Был слух, что они это
сделали. Я должен сказать вам, что кто-то находился в доме Лейба в
Хрубешове. Означает это для вас что-нибудь?
-- Может быть, да, может быть, нет, -- сказал Анелевич с глубочайшим
безразличием, какое только мог изобразить.
Он не хотел, чтобы поляк знал, как это его потрясло. Генрих Ягер
останавливался у еврея по имени Лейб, когда перевозил из Советского Союза в
Германию взрывчатый металл. Следовательно, сообщение подлинное: кто еще мог
бы знать об этом? Подробность была не такого рода, чтобы о ней упомянули в
отчете. Мордехай настороженно спросил:
-- Что еще вы слышали?
-- Она где-то в гетто, -- сказал Мечислав. -- Не имею ни малейшего
представления, где именно, поэтому не теряйте времени на расспросы. Если бы
не перемирие, всем вам, жидам, сейчас бы уже поджаривали пятки в аду.
-- Я вас тоже люблю, Мечислав, -- сказал Анелевич. Поляк хмыкнул, не
понимая. Мордехай топнул ногой по грязи.
-- Что это за человек? -- спросил Мечислав.
Мордехай не ответил ему -- возможно, вообще не слышал. Как Скорцени
переправил бомбу из взрывчатого металла в Лодзь, минуя всех? Как он доставил
ее в еврейский район? Как он выбрался оттуда потом? Хорошие вопросы, беда
только в том, что у Мордехая не было ответа ни на один.
И еще один вопрос перекрывал все остальные. "Где бомба?"
Это беспокоило его на протяжении всего пути обратно в Лодзь -- как
застрявший между зубами кусочек хряща беспокоит язык. Этот хрящ все еще
досаждал ему, когда он вошел в помещение пожарной команды на Лутомирской
улице. Соломон Грувер копался в моторе пожарной машины.
-- Отчего такое вытянутое лицо? -- спросил он, отрываясь от работы.
Он был далеко не единственным, кто мог услышать разговор. Менее всего
Анелевич хотел бы посеять в гетто панику.
-- Пойдем со мной наверх, -- сказал он как можно более обыденным тоном.
Длинное лицо Грувера помрачнело. Он вообще выглядел угрюмым --
кустистые брови, резкие черты лица и густая седеющая борода. Когда он
мрачнел, то выглядел так, будто только что умер его лучший друг. Он положил
ключ и последовал за Мордехаем в комнату наверху, где обычно встречались
руководители еврейского Сопротивления.
На лестнице он тихо сказал:
-- Берта здесь. Она узнала что-то интересное -- что именно, я не знаю
-- и сейчас как раз рассказывает. Может она знать о том, что принесли вы?
-- Лучше, чтобы так, -- сказал Анелевич. -- Если мы не сможем
справиться с этим сами, нам придется оповестить банду Румковского, а может
быть, даже ящеров, хотя это уж самое последнее дело.
-- Ой! -- Брови Грувера зашевелились. -- Что бы это ни было, оно должно
быть плохим.
-- Нет, не плохим, -- сказал Мордехай.
Грувер бросил на него вопросительный взгляд.
-- Хуже, -- уточнил Анелевич, когда они добрались до верха лестницы.
Грувер заворчал. Каждый раз, когда Анелевич отрывал ногу от потертого
линолеума, он задумывался, успеет ли снова поставить ее на пол. Это уже было
не в его власти. Если Отто Скорцени нажмет кнопку или щелкнет выключателем
на радиопередатчике, то Мордехай Анелевич исчезнет, и, возможно, так быстро,
что не успеет понять, что он уже мертв.
Он рассмеялся. Соломон Грувер уставился на него.
-- Вы принесли такую весть и еще нашли что-то забавное?
-- Возможно, -- ответил Анелевич.
Именно в эту минуту Скорцени должен быть очень огорчен. Он рисковал
жизнью, переправляя бомбу в Лодзь (Анелевич знал, какое мужество для этого
требовалось), но по времени он просчитался. Он не сможет взорвать ее сейчас,
не разрушив только что достигнутое перемирие между ящерами и рейхом.
Два серьезного вида еврея вышли из комнаты.
-- Мы позаботимся об этом, -- пообещал один из них Берте Флейшман.
-- Благодарю, Михаил, -- сказала она и почти натолкнулась на Анелевича
и Грувера. -- Привет! Я не ожидала увидеть вас здесь.
-- Мордехай наткнулся на что-то интересное, -- сказал Соломон Грувер.
-- Что -- один бог знает, потому что он не говорит. -- Он посмотрел на
Мордехая. -- Во всяком случае, пока не говорит.
-- Теперь скажу, -- сказал Анелевич.
Он вошел в комнату. Когда Грувер и Берта Флейшман вошли за ним, он
закрыл дверь и мелодраматическим жестом повернул ключ. У Берты брови
поползли на лоб -- как только что у Грувера.
Мордехай говорил минут десять, передавая как можно точнее то, что
сказал ему Мечислав. Когда он закончил, он понял, что этого слишком мало.
-- Я не верю ни единому слову. Это просто проклятые нацисты стараются
нас распугать и заставить разбежаться, как цыплят на птичьем дворе. --
Грувер покачал головой, повторяя: -- Я не верю ни слову.
-- Я бы тоже не поверил, если бы сообщение направил нам кто-то другой,
а не Ягер, -- сказал Анелевич. -- Если бы не он, вы знаете, что сделала бы с
нами бомба с нервно-паралитическим газом. -- Он повернулся к Берте. -- А что
думаете вы?
-- Насколько я себе представляю, не имеет значения, верно это или нет,
-- ответила она. -- Мы должны действовать так, как будто она существует, не
так ли? Мы не можем позволить себе игнорировать это.
-- Фу! -- сказал с отвращением Грувер. -- Мы потратим время и силы и
чего мы достигнем? Ничего.
-- Возможно, вы правы, и искать нечего, -- сказал Мордехай. -- Но
предположим -- только предположим, -- вы ошибаетесь, и бомба находится
здесь. Что тогда? Может быть, мы найдем ее. Это было бы хорошо: заполучив
свою собственную бомбу, мы могли бы управлять ящерами и нацистами. Может
быть, ее найдут ящеры, используют это как оправдание и взорвут где-то еще
какой-то город -- посмотрите, что случилось с Копенгагеном. Или, может быть,
ее не найдем ни мы, ни ящеры. Представьте себе, что сорвались переговоры о
перемирии! Все, что требуется Скорцени, так это включить передатчик и...
Соломон Грувер поморщился.
-- Ладно. Вы убедили меня, черт бы вас побрал. Теперь мы должны
попытаться найти эту проклятую штуку -- если, как я сказал, ее можно найти.
-- Она где-то здесь, в нашей части города, -- сказал Анелевич, словно
его и не прерывали. -- Как мог эсэсовец переправить ее сюда? Где он мог ее
спрятать, если он это сделал?
-- Насколько она велика? -- спросила Берта. -- От этого может зависеть,
куда он мог ее поместить.
-- Она не может быть маленькой и не может быть легкой, -- ответил
Анелевич. -- Если бы так, то немцы могли бы доставлять эти бомбы на
самолетах или на ракетах. Поскольку они этого не делают, значит, бомбу
нельзя спрятать за чайником в вашей кухне.
-- Разумная мысль, -- отметил Грувер. -- Это существенный аргумент.
Количество мест, где может оказаться бомба -- если она вообще есть, --
ограничено.
Он упрямо отказывался признать, что такое возможно.
-- Поблизости от фабрик, -- сказала Берта Флейшман. -- Это место, с
которого надо начать.
-- Да, одно место, -- сказал Грувер. -- Большое такое место. Здесь,
вокруг гетто, десятки фабрик. Сапоги, патронные гильзы, рюкзаки -- мы делали
множество вещей для нацистов и по-прежнему делаем большинство из них для
ящеров. И где именно вы хотели бы начать?
-- Я скорее начат бы не с них, -- сказал Анелевич. -- Как вы сказали,
Соломон, они слишком велики. У нас может не оказаться достаточно времени.
Вероятно, все зависит от того, как скоро ящеры и нацисты рассорятся. Какое
же наиболее вероятное место, куда эсэсовский негодяй мог спрятать большую
бомбу?
-- А как можно определить, какое место он счел подходящим? -- спросил
Соломон Грувер.
-- Он не мог долго находиться в Лодзи. Он хотел спрятать эту штуку на
короткое время, убежать и затем взорвать. Ему не требовалось прятать ее
очень долго или очень хорошо. Но тут наступило перемирие, которое усложнило
его жизнь -- и, может быть, спасло наши.
-- Если только это не трепотня, чтобы заставить нас побегать, -- сказал
Грувер.
-- Если бы! -- заметил Анелевич.
-- Я знаю, что мы должны проверить, -- сказала Берта Флейшман. --
Кладбище и поля гетто южнее него.
Грувер и Анелевич обернулись к ней. В воздухе грязной комнаты словно
повис вопрос.
-- Если бы я делал эту работу, то выбрал бы именно это место, --
воскликнул Мордехай. -- Лучше не придумать -- ночью спокойно, в земле уже
много готовых ям...
-- В особенности на полях гетто, -- сказала Берта, вдохновленная
случайно сделанным предположением. -- Там так много братских могил, еще со
времен, когда свирепствовали болезни и голод. Кто обратит внимание на одну
новую могилу?
-- Да, если она где-нибудь и прячется, то именно отсюда надо начать
поиски.
-- Я согласен, -- сказал Мордехай. -- Берта, это чудесно. Если даже ты
не права, ты заслуживаешь комплимента.
Он нахмурился, раздумывая, действительно ли она воспримет его слова как
комплимент. Он почувствовал облегчение, когда понял, что не ошибся.
Она улыбнулась ему в ответ. Когда она улыбалась, она переставала быть
незаметной и безымянной. Она не была красивой -- в обычном смысле этого
слова, -- но улыбка придавала ей странное очарование. Она быстро стала
серьезной.
-- Нам понадобятся бойцы, а не просто землекопы, -- сказала она. --
Если мы найдем эту ужасную вещь, кое-кто захочет забрать ее у нас. Я имею в
виду ящеров.
-- Ты снова права, -- сказал Анелевич. -- Когда мы слили
нервно-паралитический газ из нацистской бомбы, то причинили им много опасных
неприятностей. Если у нас будет эта бомба, мы перестанем быть просто
неприятностью, мы обретем настоящую силу.
-- Но не тогда, когда она находится в яме под землей, -- сказал Грувер.
-- Пока она там, мы можем только взорваться вместе с нашими врагами. Это
лучше, чем Масада, но все равно скверно. Совсем скверно. Если мы сможем
вытащить бомбу и переправить ее, куда захотим, -- хорошо. По крайней мере,
для нас.
-- Да, -- выдохнул Мордехай.
Картины решительных действий пронеслись в его голове -- ущерб ящерам и
обвинение в том нацистов, тайная переброска бомбы в Германию и настоящая
месть за то, что сделал рейх с польскими евреями. Но тут в мечты вмешалась
действительность -- как это всегда и бывает.
-- Есть только одна бомба -- если она вообще есть. Мы должны найти ее,
мы должны извлечь ее из земли, если она там, -- вы правы и в том и в другом,
Соломон, -- прежде чем сможем думать, что делать с ней дальше.
-- Если мы отправимся из гетто вместе с половиной бойцов, остальные
люди поймут, что мы преследуем какую-то цель, если даже не поймут, какую
именно, -- сказал Грувер. -- Мы не хотим этого, не так ли? Сначала найдем,
затем посмотрим, сможем ли мы ее вытащить без лишнего шума. Если не
сможем... -- Он пожал плечами.
-- Мы пройдем через кладбище и поля гетто, -- заявил Анелевич: если он
здесь командир, он приказывает. -- Если мы что-нибудь найдем, то решим, что
делать дальше. Если же ничего не найдем, -- он тоже пожал плечами, -- мы
тоже решим, что делать дальше.
-- А если кто-нибудь спросит нас, что мы делаем там, как мы ему
ответим? -- спросил Грувер.
Он был большим мастером находить проблемы. С решением проблем у него
было хуже.
Хороший вопрос. Анелевич почесал голову. Им потребуется объяснение,
причем достаточно безвредное и убедительное. Берта Флейшман предложила:
-- Мы можем сказать людям, что подыскиваем места, где никто не
похоронен, чтобы можно было вырыть в этих местах могилы на тот случай, если
нам придется воевать внутри города.
Анелевич поразмышлял над этим, затем кивнул -- как и Соломон Грувер.
-- Это лучше, чем то, что приходило в голову мне. Послужит неплохим
прикрытием на ближайшие дни, хотя -- бьюсь об заклад -- там не так уж много
свободного места.
-- Слишком много могил, -- тихо сказала Берта.
Мужчины склонили головы.
Кладбище и поля гетто рядом с ним находились в северо-восточном углу
еврейского района Лодзи. Здание пожарной команды на Лутомирской улице
располагалось на юго-западе -- в двух, может быть в двух с половиной,
километрах от него.
Начался мелкий дождь. Анелевич благодарно взглянул на небеса: дождь
обеспечил им большую скрытность.
Белобородый раввин читал похоронную молитву над телом, завернутым в
простыню: дерево для гробов уже давно сделалось роскошью. Позади него, среди
небольшой толпы скорбящих, стоял сгорбленный человек, прижимая обе руки к
лицу, чтобы скрыть рыдания. Может быть, это его жена уходила в грязную
землю? Мордехай никогда не узнает.
Он и его товарищи шли между надгробий -- некоторые стояли прямо, другие
покосились, словно пьяные, -- в поисках свежей земли. Трава кое-где на
кладбище была по колено: за ним плохо ухаживали с тех пор, как немцы
захватили Лодзь, почти пять лет назад.
-- Она поместится в обычную могилу? -- спросил Грувер, задержавшись
возле одной, которой не могло быть более недели.
-- Не знаю, -- ответил Анелевич. Он сделал паузу. -- Нет. Наверное,
нет. Я видел обычные бомбы размером с человека. Самолет такие бомбы
поднимает. Та, что есть у немцев, должна быть больше.
-- Тогда мы напрасно теряем здесь время, -- сказал пожарный. -- Нам
надо идти на поля гетто, к братским могилам.
-- Нет, -- сказала Берта Флейшман. -- Там, где бомба, -- это не должно
выглядеть, как могила. Они могли сделать вид, как будто там был ремонт труб
или что-то еще.
Грувер потер подбородок, затем согласился:
-- Вы правы.
Пожилой человек в длинном черном пальто сидел возле могилы, старая
шляпа, надвинутая на глаза, защищала его лицо от дождя. Он закрыл
молитвенник, который читал, и сунул его в карман. Когда Мордехай и его
товарищи проходили мимо, он кивнул им, но не заговорил.
Прогулка по кладбищу не выявила никаких новых раскопов размером больше
обычных могил. Грувер, на лице которого было написано: "а что я вам
говорил?", Мордехай и Берта направились на юг -- в сторону полей гетто.
Здесь могильных памятников было меньше, и многие из них, как сказал
Соломон Грувер, означали, что в одной могиле погребено множество тел:
мужчины, женщины, дети, умершие от тифа, от туберкулеза, от голода, может
быть -- от разбитых сердец. На многих могилах росла трава. Теперь дела
обстояли заметно лучше. После ухода нацистов времена изменились, и могилы
были Теперь одиночными, а не братскими.
Берта задержалась перед одним крупным захоронением: единственным
надгробием служила обычная доска, отмечающая место вечного упокоения
несчастных там, внизу, да и она повалилась. Нагнувшись, чтобы выправить ее,
Берта нахмурилась.
-- Что это такое? -- спросила она.
Мордехай не мог видеть, что привлекло ее внимание, пока не подошел
ближе. А подойдя, тихо присвистнул. Вдоль доски тянулся провод с изоляцией
цвета старого дерева, его держали два загнутых гвоздя. Гвозди были ржавыми,
так что держали плохо. Провод заканчивался на верхнем крае доски, но шел
снизу, из-под земли.
-- Радиоантенна, -- пробормотал он и дернул. Она не поддавалась. Он
рванул изо всех сил. Проволока оборвалась, и он качнулся назад. Он раскинул
руки, чтобы удержаться от падения. -- Что-то внутри, явно постороннее, --
сказал он.
-- Не может быть, -- проговорил Соломон Грувер. -- Земля-то совсем не
тронутая... -- Он умолк, не договорив, и опустился на колени, не беспокоясь
о том, что сделает мокрая трава с его брюками. -- Посмотрите! -- удивленно
воскликнул он.
Мордехай Анелевич опустился рядом и снова присвистнул.
-- Дерн был вырезан кусками, а затем уложен обратно, -- сказал он,
проводя рукой по стыку. Если бы дождь был сильнее и земля размягчилась,
обнаружить это было бы невозможно. По-настоящему восхитившись, Анелевич
пробормотал: -- Они сделали мозаику и, когда все закончили, уложили кусочки
обратно в том же порядке.
-- А где же земля? -- потребовал ответа Грувер, как будто Анелевич сам
украл ее. -- Если они закопали эту штуку, у них должна была остаться лишняя
земля -- и ее надо было бросить по сторонам ямы, когда они ее копали.
-- А что, если они сначала расстелили брезент и выбрасывали землю на
него? -- предположил Мордехай. -- Вы не представляете себе, какими
аккуратными и предусмотрительными могут быть нацисты, когда делают что-то
подобное. Посмотрите, как они замаскировали антенну. Они не оставляют ни
малейшей возможности обнаружить что-нибудь важное.
-- Если бы эта доска не повалилась... -- потрясенно сказала Берта
Флейшман.
-- Бьюсь об заклад, она так и стояла, когда эсэсовские ублюдки были
здесь, -- сказал ей Анелевич. -- Если бы не ваш зоркий глаз, обнаруживший
антенну...
Он изобразил аплодисменты и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. Она и
в самом деле становится необычной, когда улыбается, подумал он.
-- Где же земля? -- повторил Соломон Грувер, упорствуя в своих
подозрениях и не замечая застывших в немой сцене товарищей, -- Что они с ней
сделали? Они не могли ее высыпать всю обратно.
-- Хотите, чтобы я угадал? -- спросил Мордехай. Пожарный кивнул. --
Если бы я проводил эту операцию, я погрузил бы землю в ту же телегу, в
которой привез бомбу, и отвез бы ее прочь. Накрыл бы брезентом -- и никто бы
ничего не заподозрил.
-- Думаю, вы правы. Думаю, именно так они и сделали. -- Берта Флейшман
посмотрела на оторванную проволоку. -- Теперь бомба не сможет взорваться?
-- Не думаю, -- ответил он. -- По крайней мере, теперь они не смогут
взорвать ее по радио, что уже хорошо. Если бы им не требовалась антенна, они
не стали бы ее здесь ставить.
-- Слава богу, -- сказала она.
-- Так, -- сказал Грувер с таким выражением, словно он по-прежнему не
верит им. -- Значит, теперь у нас есть своя бомба?
-- Если мы разберемся, как взорвать ее, -- ответил Анелевич. -- Если мы
сможем вытащить ее отсюда так, чтобы не заметили ящеры. Если мы сможем
перевезти ее так, чтобы -- боже упаси -- не взорвать ее вместе с собой. Если
мы сможем все это сделать, тогда мы получим собственную бомбу.
* * *
Со лба Ауэрбаха лил пот.
-- Давай же, дорогой. Ты и раньше это делал, помнишь? Давай! Такой
сильный мужчина, как ты, может сделать все, что захочет.
Ауэрбах внутренне собрался, вздохнул, буркнул про себя -- и с усилием,
для которого ему потребовалась вся энергия без остатка, тяжело поднялся на
костыли. Пенни захлопала в ладоши и поцеловала его в щеку.
-- Боже, как тяжело, -- сказал он, с трудом дыша.
Может быть, он проявил легкомыслие, может быть, он слишком долго лежал,
но ему показалось, что земля заколыхалась у него под ногами, как пудинг.
Обходясь одной ногой и двумя костылями, он чувствовал себя неустойчивым
трехногим фотографическим штативом.
Пенни отошла от него на пару шагов, к выходу из палатки.
-- Иди ко мне, -- сказала она.
-- Не думай, что я уже могу, -- ответил Ауэрбах.
Он пробовал костыли всего лишь в третий или четвертый раз. Начать
передвигаться на них было так же тяжело, как завести старый мотор "Нэша" в
снежное утро.
-- О, бьюсь об заклад, ты сможешь.
Пенни провела языком по губам. От полного внутреннего опустошения она
перешла в состояние полного бесстыдства, минуя промежуточные стадии.
Ауэрбах иногда задумывался, не две ли это стороны одной и той же
медали. Но именно сейчас времени размышлять у него не было. Она позвала:
-- Если подойдешь ко мне, вечером я...
То, что сказала она, притянуло бы к ней мужчину, пострадавшего даже
сильнее, чем Ауэрбах. Он наклонился, подпрыгнул на здоровой ноге, выбросил
вперед костыли, подтянул тело, поймал равновесие, выпрямился, затем повторил
это еще раз и оказался рядом с ней.
Снаружи раздался сухой голос:
-- Это лучшее побуждение к физиотерапии, о котором я когда-либо слышал.
Ауэрбах едва не упал. Пенни ойкнула и стала цвета свеклы, растущей в
Колорадо повсюду.
По тому, как начало жечь его собственное лицо, Ауэрбах решил, что и он
такого же цвета.
-- Ух, сэр, это не... -- начал он, но тут его язык запнулся.
В палатку вошел доктор. Это был молодой парень, не из местных и не из
плененных ящерами врачей.
-- Послушайте, меня не волнует, что вы собираетесь делать, не мое это
дело. Вот если от этого вы, солдат, начнете ходить, то это меня уже
касается. -- Он рассудительно сделал паузу. -- По моему профессиональному
мнению, после такого предложения и Лазарь бы поднялся и пошел.
Пенни покраснела еще больше. У Ауэрбаха же опыта общения с армейскими
докторами было побольше. Они всегда старались привести вас в замешательство
и делали это довольно успешно. Он спросил:
-- А кто вы, сэр?
У доктора на погонах были золотые дубовые листья.
-- Меня зовут Хэйуорд Смитсон...
Доктор вопросительно замолчал.
Ауэрбах назвал себя и свой чин. Затем и Пенни Саммерс, заикаясь,
назвала свое имя, истинное. Ауэрбах не удивился, что здесь она называла себя
вымышленным именем. Майор Смитсон продолжил:
-- Теперь, когда действует перемирие, я прибыл из Денвера с инспекцией,
чтобы проверить, как ящеры заботятся о раненых пленных. Я вижу, вы получили
казенные костыли. Это хорошо.
-- Да, сэр, -- ответил Ауэрбах. Его голос был слабым и сиплым, словно
после пятидесяти пачек "Кэмела", выкуренных за полтора часа. -- Я получил их
позавчера.
-- Их дали неделю назад, -- сказала Пенни, -- но Ране -- извините,
капитан Ауэрбах -- совсем не мог двигаться до позавчерашнего дня.
Ауэрбах ожидал, что Смитсон снова вернется к обсуждению предложенного
Пенни средства заставить раненого ходить, но, к его облегчению, Смитсон
оказался милосердным. Может быть, еще раз пошутить показалось ему излишним.
-- Вас ранили в грудь и в ногу, да? И они вас вытащили?
-- Да, сэр, -- ответил Ауэрбах. -- Они сделали для меня все, что могли,
ящеры и люди, которые помогали им. Правда, временами я чувствовал себя
подопытным кроликом, но теперь я на своих двоих -- впрочем, пока на одной,
-- вместо того чтобы занимать место на городском кладбище.
-- Больше бодрости, капитан, -- сказал Смитсон. Он вынул из кармана
блокнот с листами, сшитыми спиралью, авторучку и что-то записал. -- Должен
сказать, на меня произвели благоприятное впечатление те возможности,
которыми располагают ящеры. Они делали для пленных все, что только могли.
-- Они хорошо обращались со мной, -- сказал Ауэрбах. -- Это все, что я
могу вам сказать. Вчера я вышел из этой палатки в самый первый раз.
-- А как вы, мисс... э-э... Саммерс? -- спросил майор Смитсон. --
Полагаю, капитан Ауэрбах не единственный пациент, которого вы выходили?
Ауэрбах искренне надеялся, что является единственным пациентом,
которого Пенни лечила таким своеобразным способом. Он боялся, не заметила ли
она некоторой двусмысленности в вопросе, и ему стало приятно, когда он
понял, что нет.
-- О нет, сэр. Я работала во всем лагере. Они и в самом деле делали
все, что в их силах. Я считаю так.
-- У меня тоже создалось такое впечатление, -- сказал, кивнув, Смитсон.
-- Они делали все, что могли, но я думаю, они были ошеломлены. -- Он устало
вздохнул. -- Думаю, сейчас весь мир ошеломлен.
-- И много здесь раненых, сэр? -- спросил Ауэрбах. -- Как я сказал, я
немногое видел из того, что за пределами палатки, и никто не рассказывал
мне, что здесь, в Карвале, так много раненых пленников. -- Он бросил взгляд
на Пенни, казавшийся осуждающим. Для других медсестер, для измученных
врачей-людей и для ящеров он был всего лишь одним из раненых военнопленных
-- для нее же, как он полагал, он значил нечто большее.
Но Смитсон ответил невнятно:
-- Это не только раненые солдаты, капитан. Это... -- Он покачал головой
и не стал объяснять. -- Вы стоите на ногах уже некоторое время. Почему бы не
выйти и не посмотреть самому? Рядом с вами будет доктор, и кто знает, что
мисс Саммерс сделает для вас или с вами после этого?
Пенни снова вспыхнула. Ауэрбаху хотелось врезать доктору в зубы за
такие разговоры о женщине в ее присутствии, но он был бессилен. И ему было
любопытно, что произошло в мире за пределами палатки, и он уже постоял на
ногах какое-то время, не свалившись.
-- Хорошо, сэр, ведите, -- сказал он, -- но не слишком быстро, я ведь
не собираюсь выиграть состязание в скорости ходьбы.
Хэйуорд Смитсон и Пенни подняли входной клапан двери, чтобы Ране мог
выйти наружу и осмотреться. Он двигался медленно. Когда он вышел на солнце,
то остановился, мигая, пораженный яркостью света. И слезы, которые потекли
из его глаз, были вызваны не солнцем, а радостью: он вышел из заточения,
пусть даже совсем ненадолго.
-- Идемте, -- сказал Смитсон, пристраиваясь слева от Ауэрбаха.
Пенни Саммерс немедленно пристроилась по другую сторону от раненого.
Медленная процессия двинулась по проложенной ящерами дороге между рядами
палаток, скрывавших раненых людей.
Может быть, здесь и не было такого уж большого количества раненых, но
все же для них потребовался целый палаточный городок. Ауэрбах время от
времени слышал человеческие стоны, доносившиеся из ярко-оранжевых скользких
куполов. Доктор и медсестра поспешили увести Ауэрбаха подальше. Это
показалось ему неприятным. Смитсон поцокал языком.
По тому, как он говорил, здесь могла находиться половина Денвера, но --
не похоже. Ауэрбах терялся в догадках, пока не добрался до перекрестка
своего ряда палаток с другим, перпендикулярным. Если посмотреть от
перекрестка в одну сторону, то можно было увидеть то, что осталось от
небольшого городка Карваля -- другими словами, почти ничего. А если
посмотреть в другую сторону, наблюдалась совсем другая картина.
Он не мог и предположить, сколько беженцев поселилось в примыкающем к
ровным рядам палаток городке, построенном из всякого хлама.
-- Это просто новый Гувервилль, -- сказал он, недоверчиво рассматривая
его.
-- Это хуже, чем Гувервилль, -- мрачно ответил Смитсон. -- В
большинстве Гувервиллей для строительства хижин использовались ящики, доски
и листовой металл. Здесь, в центре этого ничто, таких материалов осталось
немного. Но люди все равно идут сюда, за многие мили.
-- Я видела, как все это происходит, -- сказала Пенни, кивнув. -- Здесь
есть пища и вода для пленных, поэтому люди идут сюда в надежде тоже получить
что-нибудь. Людям больше некуда деться, поэтому они продолжают прибывать.
-- Боже, -- проговорил Ауэрбах своим скрежещущим голосом. -- Просто
чудо, что они не пробуют проникнуть в палатки и украсть то, чего не хотят
дать им ящеры.
-- А помнишь стрельбу прошлой ночью? -- спросила Пенни. -- Двое людей
попытались проделать это. Ящеры пристрелили их, как собак. Не думаю, что еще
кто-нибудь попытается незаметно пробраться туда, куда не допускают их ящеры.
-- Незаметно для ящеров пробраться сюда в любом случае нелегко, --
сказал доктор Смитсон.
Ауэрбах посмотрел на себя, на свое побитое тело, которое он должен
таскать до конца жизни.
-- Так и есть, я сам убедился в этом. И тайно сбежать от них тоже
нелегко.
-- А в Денвере есть доктора-ящеры, которые присматривают за своими
пленными сородичами?
-- Да, и это входит в условия перемирия, -- ответил Смитсон. -- И я,
пожалуй, хотел бы остаться в городе, чтобы посмотреть на их работу. Если мы
не будем воевать, они смогут двинуть нашу медицину на столетие вперед за
ближайшие десять-пятнадцать лет. Нам надо так многому научиться! -- Он
вздохнул. -- Но эта работа тоже важна. Мы можем даже наладить
крупномасштабный обмен раненых людей на раненых ящеров.
-- Это было бы неплохо, -- сказал Ауэрбах.
Затем он посмотрел на Пенни, лицо ее отражало крайнее напряжение. Она
ведь не была раненым военнопленным. Она снова повернулась к Смитсону.
-- А не воевавших людей ящеры отпустят?
-- Не знаю, -- ответил доктор. -- Но я понимаю, почему вы спрашиваете.
Если дойдет до обмена -- гарантий никаких, -- я узнаю, что я смогу сделать
для вас. Ну, как?
-- Благодарю вас, сэр, -- сказал Ауэрбах, и Пенни кивнула.
Взгляд Ауэрбаха скользнул по брезентовым палаткам, старым телегам и
шалашам из кустарника, где обитали американцы, явившиеся в Карваль, чтобы
просить милостыню у ящеров. Невозможная мысль -- как удар в зубы: что война
сделала со страной! Он оглядел себя.
-- Знаете что? Я, в конце концов, не так уж плох.
* * *
Гудение самолета человеческого производства над Каиром заставило Мойше
Русецкого поспешить к окну его номера-камеры, чтобы посмотреть на машину. И
действительно, в небе летел самолет, окрашенный в лимонный цвет в знак
перемирия.
-- Интересно, кто в нем? -- обратился он к Ривке.
-- Ты сказал, Молотов уже здесь, -- ответила она, -- так что остается
фон Риббентроп, -- ту! на обоих лицах отразилось отвращение, -- и
американский министр иностранных дел, не помню, как его.
-- Маршалл, -- сказал Мойше. -- И по какой-то причине он называется
государственным секретарем.
Он поглощал, как губка, всякие пустяки: именно благодаря этому он так
легко учился в медицинской школе. Если бы его интересы лежали в какой-либо
другой области, он мог бы стать замечательным yeshiva-bucher [Ученым (ид.)].
Он снова повернулся к окну. Желтый самолет снижался, заходя на посадку на
аэродром к востоку от города.
-- Это не "Дакота". Думаю, что Маршалл прилетит на "Дакоте". Так что
это, вероятно, немецкий самолет.
Ривка вздохнула.
-- Если увидишь Риббентропа, скажи ему, что каждый еврей в мире желает
ему холеры.
-- Если он этого еще не знает, то он глуп, -- сказал Мойше.
-- Все равно скажи ему это, -- продолжила его жена. -- Раз у тебя будет
возможность сказать, не упусти ее. -- Гул моторов затих. Ривка несколько
натянуто рассмеялась. -- Надо привыкать к этому звуку, как само собой
разумеющемуся. Слышать его здесь, слышать его сейчас -- это очень странно.
Мойше кивнул.
-- Когда мирные переговоры только начинались, ящеры настаивали, чтобы
все прилетали сюда на их самолетах. Я полагаю, что им не хотелось, чтобы
нацисты -- или кто-нибудь еще -- послали сюда самолеты с грузом бомб вместо
дипломатов. Атвар был очень смущен, когда немцы, русские и американцы -- все
сказали "нет". Ящеры и в самом деле не понимали, что все переговоры ведутся
на равных. Ничего подобного раньше у них не было, они ведь привыкли
диктовать.
-- Будет исполнено, -- сказала она на шипящем языке чужаков. Каждый,
кто долго находился рядом с ними, знал эту фразу. Она продолжила на идиш. --
Вот так они думают. Это, наверное, их единственный образ мышления.
-- Я знаю, -- ответил Мойше. Он говорил так, словно бился головой в
стену. -- Слишком хорошо знаю.
Через громкоговорители муэдзины призвали правоверных к молитве. Каир
ненадолго притих. Еще один ярко-желтый самолет пролетел низко над городом к
аэропорту.
-- Вот это "Дакота", -- сказала Ривка, подойдя к стоящему у окна Мойше.
-- Значит, Маршалл теперь тоже здесь.
-- Значит, это он, -- ответил Мойше. Он почувствовал себя так, словно
расставлял фигуры на шахматной доске, как когда-то в Варшаве, и только что
поставил в надлежащее место последние две фигуры. -- Посмотрим, что будет
дальше.
-- Что ты скажешь Атвару, если он вызовет тебя и спросит, что ты
думаешь об этих людях? -- спросила Ривка.
Мойше изобразил несколько щелчков и хлопков.
-- Благородный адмирал?
Ривка бросила на него предостерегающий взгляд, означавший: "не старайся
быть забавным". Он вздохнул:
-- Не знаю. Я даже не понимаю, зачем он вызывает меня и задает свои
вопросы. Я не был...
Ривка поспешным жестом остановила его. Мойше замолк. Он собирался
сказать, что никогда не был возле людей такого уровня. Ривка была права.
Ящеры наверняка прослушивали каждое его слово. Если они не понимали,
насколько мелкой пташкой он является, не стоит разубеждать их. Подумав, он
решил, что, изображая себя более важным, чем на самом деле, он добьется
лучшего обращения с собой и большей безопасности.
И действительно, через пару часов в номер отеля вошел Золрааг и
объявил:
-- Вас вызывают в штаб благородного адмирала Атвара. Вы идете
немедленно.
-- Будет исполнено, благородный господин, -- ответил Мойше.
Ящеры определенно не собирались обращаться с ним как с равным. Они
говорили ему, куда идти и что делать, и он подчинялся.
Охранники не казались жаждущими пристрелить его, как это было, когда
ящеры перевезли его в Каир. Но они по-прежнему обращались с ним грубо и
возили в бронированной военной машине, самом негодном для человека средстве
передвижения из всех, когда-либо изобретенных.
На пути к штабу Атвара Золрааг заметил:
-- Ваша проницательность в отношении политических стратегий, которые
могут быть использованы, представляет интерес для благородного адмирала.
Поскольку вы сами возглавляли не-империю, то подготовлены к важным
переговорам с другими такими же тосевитскими самцами.
-- Это определенно лучше, чем быть расстрелянным, -- мрачно сказал
Мойше.
Он был рад, что научился держаться соответствующим образом. Да,
короткое время после прихода ящеров он возглавлял евреев в Польше, пока не
понял, что не может больше подчиняться захватчикам. Представить, что он
возвысился до уровня Гитлера, Халла и Сталина, -- для этого надо было иметь
очень живое и богатое воображение. Насколько он знал, все, что было меньше
планеты, ящеры считали слишком мелким, чтобы беспокоиться о незначительных
отличиях. Для него эти отличия вовсе не были незначительными, но он -- слава
богу! -- не был ящером.
Атвар накинулся на него сразу же, едва он вошел в уставленную машинами
комнату, которую занимал главнокомандующий.
-- Если мы заключим соглашение с этими самцами, как вы считаете, они
будут соблюдать его? -- потребовал он ответа, заставив Золраага перевести
его слова на польский и немецкий.
Он говорил с человеком, который сам видел, как Польшу разодрали на
части Германия и СССР, заключившие свое секретное соглашение, и как они
начали войну между собой менее чем через два года после этого, несмотря на
то что соглашение формально еще действовало. Осторожно подбирая слова, Мойше
ответил:
-- Они будут соблюдать его -- но только до тех пор, пока соглашение
будет соответствовать их интересам.
Адмирал разразился нераспознаваемыми звуками. Золрааг снова перевел:
-- Значит, вы говорите, что эти тосевитские самцы вообще ненадежны?
По правилам, которых придерживались ящеры, ответ должен был быть --
"нет". Мойше не считал, что такой прямой ответ помог бы остановить войну. Он
сказал:
-- Вы можете предложить многое, что будет в их интересах. Если,
например, вы и они договоритесь об условиях вывода ваших самцов из их стран,
они, вероятно, будут соблюдать любые соглашения, которые предотвратят
возвращение Расы.
Судя по усилиям Золраага в Варшаве, ящеры имели о дипломатии весьма
смутное представление. Факты, очевидные для любого человека, даже для не
имеющего опыта правителя -- например, для самого Мойше, -- временами
поражали чужаков, как настоящее открытие. А временами, несмотря на искреннее
желание понять, они были не в состоянии сделать это.
Так и теперь -- Атвар сказал:
-- Но если мы уступим требованиям этих настойчивых тосевитов, мы внушим
им мысль о равенстве с нами. -- Через мгновение он добавил: -- А если они
поверят в равенство с нами, то вскоре они начнут думать, что они превосходят
нас.
Последнее замечание напомнило Мойше о том, что ящеры вовсе не дураки:
они могут быть невежественны в том. как одна нация обращается с другой, но
они не глупы. Игнорировать различие было бы смертельно опасно. Мойше
осторожно сказал:
-- То, что вы уже сделали, должно отчетливо доказать им, что они не
превосходят вас. А то, что они сделали против вас, должно показать вам, что
и вы не превосходите их, как вы думали вначале, когда пришли в этот мир.
Когда ни одна сторона не превосходит другую, разве не лучше договариваться,
чем воевать?
После того как Золрааг перевел, Атвар уставился на Русецкого
уничтожающим взглядом:
-- Когда мы пришли на Тосев-3, то думали, что вы, Большие Уроды, все
еще те варвары с копьями, какими вас показывали наши космические зонды. Но
очень скоро мы обнаружили, что мы не в такой степени превосходим вас, как мы
считали, когда погружались в холодный сон на время полета. Это самое
неприятное открытие, когда-либо сделанное Расой. -- Он добавил усиливающее
покашливание.
-- Здесь ничто не остается неизменным, тем более -- на долгое время, --
сказал Мойше.
Некоторые польские евреи старались остановить время, чтобы жить так,
как они жили до эпохи Просвещения и до того, как по Европе прошла
промышленная революция. Они даже думали, что у них это получилось -- пока
нацисты не обрушили на них все худшее в современном мире.
Мойше говорил с гордостью. Это не могло оставить равнодушным
главнокомандующего флотом вторжения. Атвар возбужденно ответил:
-- В этом-то и беда ваша, тосевиты. Вы слишком изменчивы. Возможно, мы
заключим сейчас мир с вами, с такими, какие вы есть. Но будете ли вы такими,
какие вы сейчас, когда прибудет флот колонизации? Можно посомневаться.
Какими вы будете? Чего будете хотеть? Что вы будете знать?
-- У меня нет ответов на эти вопросы, благородный адмирал, -- тихо
сказал Мойше.
Он подумал о Польше, у которой была большая армия, хорошо
подготовленная для войны на том уровне, какой был привычен на одно поколение
раньше. Против вермахта поляки бились храбро -- и тщетно: за какие-то две
недели они пришли к позорному разгрому. Они просмотрели то, как изменились
правила войны.
-- У меня тоже нет ответов на эти вопросы, -- сказал Атвар.
В отличие от польской армии он. по крайней мере, ощущал возможность
изменений. Они пугали его больше, чем набожных евреев, которые старались не
замечать ни Вольтера, ни Дарвина, ни Маркса, ни Круппа, ни Эдисона и братьев
Райт. Адмирал продолжил:
-- Я должен быть уверен, что этот мир останется в целости и будет готов
к заселению самцами и самками из флота колонизации.
-- Этот вопрос вы должны задать себе, благородный адмирал, -- сказал
Мойше, -- хотите ли вы иметь часть мира, готового для заселения, или же
весь, но в руинах?
-- Истинно, -- сказал Атвар. -- Но возникает и другой вопрос: если мы
теперь оставим вам, тосевитам, часть земной поверхности этого мира на ваших
условиях, то для чего вы используете образовавшуюся базу в промежутке
времени от данного момента до прибытия флота колонизации? Следует ли нам
закончить войну теперь, но заложить яйца для следующей, более
крупномасштабной? Вы сами тосевит, ваши соплеменники сделали немного, но
вели одну войну за другой. Как вы себе это представляете?
Мойше предположил, что должен быть благодарен адмиралу за то, что тот
использует его в качестве звучащего учебника вместо того, чтобы просто
расстрелять. И он был благодарен, пока Атвар не задал еще один вопрос, не
имевший ответа.
-- Временами одна война обусловливает другую. Последняя большая война,
которую мы вели, началась тридцать лет назад. Она посеяла семя для этой
новой. Но мир с другими свойствами может удержать мир от такой войны.
-- Может, -- печальным эхом отозвался главнокомандующий. -- Но я не
могу принять "может". Мне нужна определенность, а ее нет в вашем мире. Даже
вы, Большие Уроды, не можете договориться. Возьмите Польшу, где вы жили, а
Золрааг был администратором. Немцы считают ее своей, потому что они там
были, когда Раса пришла на То-сев-3. СССР претендует на половину ее по
соглашению, которое, по их словам, нарушила Германия. А местные тосевиты
утверждают, что она не принадлежит ни одной из этих не-империй, но только им
самим. Если мы покинем Польшу, кому по справедливости мы должны вернуть ее?
-- Польша, благородный адмирал, -- это место, которое, я надеюсь, вы не
покинете, -- сказал Мойше.
-- Несмотря на то, что вы сделали все, чтобы затруднить наше пребывание
там? -- спросил Атвар. -- Вы можете иметь яйцо, Мойше Русецкий, или же
детеныша. Но одновременно и то и другое иметь вы не можете.
-- Я понимаю, -- сказал Мойше, -- но Польша -- это особый случай.
-- На Тосев-3 все случаи особые -- спросите Больших Уродов, -- ответил
Атвар. -- Еще одна причина ненавидеть этот мир.
Вячеслав Молотов выпил очередной стакан чая со льдом, сделав посредине
этого процесса паузу -- чтобы проглотить пару соляных таблеток. Жара в Каире
была невероятной, нервирующей, даже смертельно опасной: один из его
помощников полковник НКВД Серов, который говорил на языке ящеров бегло, как
никто другой в Советском Союзе, пострадал от теплового удара и теперь
поправлялся в госпитальной палате с кондиционированным воздухом. Госпиталь
устроили англичане для лечения своих соотечественников, пострадавших таким
же образом.
Ни отель "Семирамида", в котором поселились советская делегация и
другие дипломаты-люди, ни отель "Шепхед", где проходили переговоры, не могли
похвастаться кондиционированием. Советская делегация держала постоянно
включенными вентиляторы, и поэтому все бумаги требовалось придавливать,
чтобы они не разлетелись по комнате. Даже когда вентиляторы работали,
воздух, который они гнали, был горячим.
Во время переговоров вентиляторы не включались. Ящеры, как, к своему
неудовольствию, обнаружил Молотов, еще когда впервые летал на один из их
космических кораблей для обсуждения военных вопросов с адмиралом Атваром,
наслаждались жарой. До того как полковник Серов пал жертвой служебного
долга, он докладывал, что ящеры постоянно говорят о том, какая хорошая в
Каире погода -- почти такая, как у них дома.
Молотов подошел к шкафу и вынул темно-синий галстук. Застегивая ворот
рубашки, он позволил себе краткий мученический вздох: здесь, в Каире, он
позавидовал ящерам с их телом, покрытым всего лишь краской. Затягивая узел
галстука, он подумал, что имеет преимущество перед большинством коллег. У
него была тонкая шея, что позволяло воздуху циркулировать под рубашкой.
Большинство советских представителей имели обличье быка, двойные подбородки
и жирные складки на шеях. Для них тесный воротник и затянутый галстук
становились невыносимой пыткой.
На мгновение он подумал, как наслаждаются пленные ящеры в трудовых
лагерях СССР к северо-востоку от Ленинграда и в северных областях Сибири. И
как они еще будут наслаждаться, когда придет февраль.
-- Точно так, как я сейчас наслаждаюсь Каиром, -- проговорил он,
проверяя в зеркале, ровно ли повязан галстук.
Удовлетворенный, он надел шляпу и спустился по лестнице, чтобы
дождаться транспортного средства ящеров, которое должно доставить его на
очередное заседание.
Его переводчик, похожий на птицу человечек по имени Яков Донской, уже
расхаживал по холлу отеля. Он расцвел улыбкой, увидев подходившего Молотова.
-- Доброе утро, товарищ народный комиссар, -- сказал он. Для него
появление Молотова означало, что все встало на свое место.
-- Доброе утро, Яков Вениаминович, -- ответил Молотов и внимательно
посмотрел на часы. Ящеры...
Точно в назначенное время бронированное транспортное средство
остановилось перед отелем. Он все ждал, что когда-нибудь ящеры опоздают, но
этого никогда не случалось. Донской сказал:
-- Я уже некоторое время нахожусь здесь. Риббентроп уехал сорок минут
назад, Маршалл -- примерно через двадцать минут. Что было раньше, не знаю.
Ящеры перевозили людей-дипломатов по отдельности. Молотов предполагал,
что тем самым они не позволяли им договариваться между собой. Эта тактика
давала им определенные преимущества. Люди не решались слишком свободно
общаться между собой и в самом отеле. НКВД обследовало комнату Молотова на
предмет подслушивающих устройств. Он был уверен, что другие разведывательные
службы проделали то же самое в помещениях своих руководителей. Но он
настолько же был уверен, что они ничего не нашли. Ящеры в этом виде
технологии слишком далеко ушли от человечества.
Он повернулся к Донскому.
-- Скажите ящерам, что было бы "культурно", если они бы устроили в
машине сиденья, более подходящие к формам нижней части тела человека.
Донской обратился к ящеру с наиболее замысловатой раскраской, но не на
их языке, а на английском, на котором велись переговоры. Это был родной язык
Джорджа Маршалла и Энтони Идена, фон Риббентроп и Шигенори Того говорили на
нем достаточно бегло. Иден и Того формально не были участниками переговоров,
но ящеры разрешили им присутствовать на заседаниях.
Ящер ответил Донскому на английском, который для Молотова звучал так
же, как родной язык чужаков. Переводчик, однако, понял ответ -- ведь это
была его работа. Он перевел:
-- Струксс говорит: "нет". Он говорит, что мы должны быть благодарны им
за то, что они ведут с нами переговоры вообще, и нечего просить у них того,
чего они не могут обеспечить.
-- Скажите ему, что он "некультурный", -- сказал Молотов. -- Скажите,
что он -- невежественный варвар и что даже нацисты, которых я ненавижу,
больше понимают в дипломатии, чем его род, и что его вышестоящие начальники
узнают о его высокомерии. Переведите ему мои слова в точности.
Донской заговорил по-английски. Ящер издал жуткий шипящий звук, затем
ответил.
-- Он говорит, причем с таким видом, что делает огромную уступку, что
он посмотрит, можно ли что-нибудь сделать. Я понимаю это так, что он
сделает, как вы сказали.
-- Очень хорошо, -- самодовольно сказал Молотов. В определенном
отношении ящеры были очень схожи с его собственным народом: если вы убедите
кого-то, что ваше положение выше, он будет пресмыкаться перед вами, но будет
тиранить вас, если выше по рангу сочтет себя.
Бронированная машина -- гораздо менее шумная и менее пахнущая, чем ее
аналоги человеческого производства, -- затормозила перед отелем "Шепхед",
где помещалась штаб-квартира Атвара. Молотову показалось забавным и
показательным, что ящеры выбрали для себя отель, который имел самый высокий
статус во времена британского колониального режима.
Он вышел из машины ящеров с облегчением, и не только потому, что
сиденье не соответствовало его телу, но и потому, что внутри было еще жарче.
Струксс повел его и Якова Донского в комнату заседаний, в которой остальные
представители людей сидели, изнемогая от жары, в ожидании, когда соизволит
появиться Атвар. Джордж Маршалл попивал ледяной чай и обмахивался веером,
который он, вероятно, привез из дома. Молотов пожалел, что не захватил с
собой или не приобрел подобное приспособление. Мундир Маршалла выглядел
свежим и накрахмаленным.
Молотов через Донского попросил слугу-египтянина, маячившего в углу
зала, подать ледяного чая. Неудивительно, что тот оказался знающим
английский язык. Поклонившись Молотову -- который сохранял спокойное
выражение лица, презирая себя за такую уступку, -- он поспешил удалиться,
чтобы тут же вернуться с высоким запотевшим бокалом. Молотову хотелось
прижать бокал к щеке, прежде чем пить, но он удержался. Веер был бы более
пристойным.
Через несколько минут появился Атвар, сопровождаемый ящером с гораздо
менее замысловатой раскраской -- своим переводчиком. Делегаты-люди встали и
поклонились. Ящер-переводчик обратился к ним на английском, который казался
гораздо более правильным, чем тот, на котором говорил Струксс. Яков Донской
перевел Молотову:
-- Адмирал Атвар с признательностью воспринимает вежливость и
благодарит за это.
Фон Риббентроп пробормотал что-то на немецком языке, который Донской
тоже понимал.
-- Он сказал, что им следовало бы проявить больше вежливости по
отношению к нам теперь и вообще отнестись к нам с большей вежливостью с
самого начала.
Как и почти все, что говорил нацистский министр иностранных дел,
заявление было в равной степени верно и бесполезно. Фон Риббентроп, плотного
сложения, в тесном воротнике и с белым лицом, был похож на вареную свинину с
голубыми глазами. Насколько представлял себе Молотов, у него и мозги были,
как у вареной свинины, Но ради интересов народного фронта он удержался от
колкости.
Донской стал переводить слово за словом.
Иден спросил Атвара:
-- Должен ли я понимать, что мое присутствие здесь означает: Раса
распространяет прекращение огня и на Великобританию точно так, как на других
участников войны, представленных за этим столом?
Красивый англичанин -- второе "я" Черчилля -- уже задавал свой вопрос
раньше, но не получал прямого ответа. На этот раз Атвар ответил.
Переводчик-ящер, только что переводивший вопрос Идена, теперь передал
по-английски ответ Атвара.
-- Благородный адмирал в своей щедрости решил, что перемирие
распространяется и на ваш остров. Оно не распространяется ни на одну из
других территорий вашей империи за морем от вас и от этого острова.
Энтони Иден, хотя и умел сохранять невозмутимость, все же не дотягивал
до уровня Молотова. Советский министр иностранных дел без труда обнаружил
его ужас. Как и предсказывал Сталин, Британская империя уже мертва, и ее
смерть возвестило зелено-коричневое существо ростом с ребенка, с острыми
зубами и поворачивающимися на бугорках глазами. "Несмотря на весь ваш
героизм, диалектика приговаривает вас к свалке истории, -- подумал Молотов.
-- Даже и без ящеров это все равно случилось бы".
Джордж Маршалл:
-- Для нас, адмирал, перемирия недостаточно. Мы хотим, чтобы вы ушли с
нашей земли, и мы подготовились к тому, чтобы нанести еще больший ущерб
вашим соплеменникам, если вы не покинете землю добровольно и быстро.
-- Германский рейх высказывает то же самое требование, -- заявил фон
Риббентроп помпезно. -- Фюрер настаивает на полном освобождении территории,
добровольно находившихся под покровительством рейха и его союзников, включая
Италию, на момент, когда вы и ваш народ прибыли из глубин космоса.
Как считал Молотов, ни одна из стран не находилась под покровительством
рейха добровольно. Однако не это беспокоило его в данный момент. Прежде чем
Атвар ответил фон Риббентропу, Молотов резко сказал:
-- Большая часть территорий, на которые предъявляют свои требования
немцы, была незаконно отторгнута от миролюбивых рабочих и крестьян
Советского Союза, которому, как справедливо требует товарищ Сталин,
генеральный секретарь коммунистической партии большевиков, они и должны быть
возвращены.
-- Если вы, тосевиты, не можете договориться, где проходят границы
ваших империй и не-империй, почему вы ждете, что мы сделаем это за вас? --
спросил Атвар.
Фон Риббентроп посмотрел на Молотова, который ответил ему каменной
невозмутимостью. Они оба могли быть союзниками в борьбе против ящеров, но
друзьями -- ни теперь, ни в будущем -- они не будут никогда.
-- Может быть, -- сказал Шигенори Того, -- поскольку такая ситуация
нетипична, то оба государства людей согласятся на то, чтобы Раса оставила за
собой некоторую территорию между ними, которая служила бы буфером и помогала
бы в установлении и поддержании мира во всем нашем мире.
-- Необходимо уточнить границы этой территории, но в принципе идея
приемлема для Советского Союза, -- сказал Молотов. С учетом германских
успехов не только с бомбами из взрывчатого металла, но и с
нервно-паралитическим газом и управляемыми ракетами большого радиуса
действия, Сталин хотел бы иметь буфер между советской границей и фашистской
Германией. -- Поскольку Раса уже находится в Польше...
-- Нет! -- сердито прервал его фон Риббентроп. -- Для рейха это
неприемлемо. Мы настаиваем на полном выводе, и мы продолжим войну, пока не
добьемся этого. Так заявил фюрер.
-- Фюрер много чего заявлял, -- не без удовольствия сказал Энтони Иден.
-- Например, "Судеты -- последняя территориальная претензия, которая есть у
меня в Европе". Заявление вовсе не означает соответствия реальности.
-- Если фюрер обещает войну, то он ее начинает, -- ответил фон
Риббентроп, и это возражение Молотову показалось более удачным, чем можно
было ожидать от Риббентропа.
Джордж Маршалл кашлянул, затем сказал:
-- Если уж мы перешли на цитаты, джентльмены, то позвольте привести
цитату из Бена Франклина, подходящую к нынешним обстоятельствам. "Мы должны
все быть в одной связке, или же нас повесят по отдельности".
Яков Донской прошептал перевод Молотову, затем добавил:
-- На английском это игра слов, которую я не могу передать по-русски.
-- К черту игру слов, -- ответил Молотов. -- Скажите им, что Франклин
прав, и Маршалл тоже прав. Если мы собираемся образовать народный фронт
против ящеров, то надо забыть об удовольствии целиться друг в друга. -- Он
дождался, когда Донской закончит перевод, затем добавил, но уже для самого
переводчика:
-- Если я лишен удовольствия сказать Риббентропу то, что я о нем думаю,
я хотел бы, чтобы и никто другой этого тоже не мог сделать. Это не
переводите.
-- Да, Вячеслав Михайлович.
Он посмотрел на комиссара иностранных дел. Молотов пошутил? Его лицо
отрицало это. Но лицо Молотова всегда и все отрицало.
* * *
Уссмак поднял топор, взмахнул им и почувствовал отдачу в руки, когда
лезвие врезалось в ствол дерева. С шипением он высвободил лезвие и ударил
снова. Чтобы срубить дерево при такой работе, понадобится вечность, и он
скорее умрет от голода, чем сможет выполнить норму, которую Большие Уроды
СССР установили для самцов Расы.
Нормы были такие же, как для людей Когда до своего позорного плена
Уссмак думал о Больших Уродах, то на первом месте было именно слово "Уроды".
Теперь он понял, что значит "Большие". Все инструменты, которые ему и его
товарищам дали охранники, были рассчитаны на их род, а не на ящеров. Они
были большие, тяжелые и неудобные. Самцов из СССР это не волновало.
Бесконечный тяжкий труд при недостаточном питании вел к смерти пленников
одного за другим. Охранников это тоже не волновало.
В короткий момент ярости Уссмак нанес сильнейший удар по дереву.
-- Нам надо продолжать отказываться от работы, и пусть нас за это
убьют, -- сказал он. -- Мы умрем в любом случае.
-- Истинно, -- сказал другой самец неподалеку. -- Вы были нашим
старшим. Почему вы поддались русским? Если бы мы держались вместе, мы
заставили бы их дать то, чего мы хотели. Было бы хорошо иметь больше пищи и
меньше работы.
Как и Уссмак, он утратил так много плоти, что кожа свисала с костей.
-- Я боялся за наш дух, -- сказал Уссмак. -- Я был дураком. Наш дух
будет потерян здесь довольно скоро, что бы мы ни делали.
Самец приостановил работу -- и охранник поднял автомат, прорычав
предупреждение. Охранники не трудились изучать языка Расы -- они считали,
что их и так поймут, и горе тому, кто не поймет. Самец снова поднял топор.
Взмахнув им, он сказал:
-- Мы можем попробовать еще одну забастовку.
-- Можем, конечно, -- сказал Уссмак, но голос его прозвучал неуверенно.
Самцы из третьего барака один раз попробовали, но проиграли. Больше они
никогда не выступят единой группой. Уссмак был уверен в этом.
Вот что он получил за мятеж против вышестоящих. Какими бы гадкими ни
представлялись они ему, самые худшие из них были в сто, в тысячу, в миллион
раз лучше, чем его теперешние вышестоящие, на которых он горбатился. Если бы
он знал тогда то, что знает сейчас... Его рот открылся в горьком смехе. Это
то самое, что старые самцы всегда говорят молодым, только вошедшим в жизнь.
Уссмак не был старым, даже с учетом времени, проведенного в холодном сне,
когда флот летел на Тосев-3.
-- Работать! -- заорал охранник на своем языке. Усиливающего
покашливания он не добавил, так что фраза звучала предположением. Однако
игнорирование этого предположения могло стоить жизни.
Уссмак ударил по стволу дерева. Летели щепки, но дерево падать
отказывалось. Если он не срубит его, они вполне могут оставить его здесь на
весь день. Звезда Тосев оставалась в небе почти все время в этот сезон
тосевитского года, но все равно не могла согреть воздух после недавних
холодов.
Он нанес еще два сильных удара. Дерево вздрогнуло, затем с треском
повалилось. Уссмак почувствовал что-то вроде веселья. Если самцы быстро
распилят дерево на куски, которые требуют охранники, то смогут получить
почти достаточно еды.
Набравшись храбрости, он на своем спотыкающемся русском языке спросил
охранника:
-- Правда, что есть перемирие?
Этот слух достиг лагеря с новой партией заключенных Больших Уродов.
Может быть, охранник проникнется к нему добрым отношением после того, как он
срубил дерево, и даст ему прямой ответ.
Так и оказалось, Большой Урод сказал:
-- Да.
Он достал из мешочка на поясе измельченные листья, завернул их в листок
бумаги, зажег один конец, а второй взял в рот. Это было удивительно для
Уссмака, поскольку дым разрушительно действовал на легкие. Вероятно, это не
могло быть так приятно, как, например, имбирь.
-- Мы будем свободны? -- спросил Уссмак. Тосевитские заключенные
говорили, что это может случиться по условиям перемирия. Они знали об этом
гораздо больше, чем Уссмак. А ему оставалось только надеяться.
-- Что? -- спросил охранник. -- Что? Вы будете свободны? -- Он сделал
паузу, чтобы вдохнуть дым и выпустить его в виде горького белого облака.
Затем он снова сделал паузу, чтобы издать несколько лающих звуков, которые
Большие Уроды использовали для выражения смеха. -- Свободны? Вы? Говно!
Уссмак знал, что это слово означает определенный вид выделений из тела,
но не понимал, как это может относиться к его вопросу. Охранник сделал свой
ответ лучше, грубее, яснее:
-- Вы будете свободны? Нет! Никогда! -- Он засмеялся громче, что
по-тосевитски означало "веселее". И как бы отвергая саму эту мысль, он навел
автомат на Уссмака. -- А теперь работать!
Уссмак продолжил работу. Когда наконец охранники разрешили самцам Расы
вернуться в бараки, он поплелся назад заплетающимися шагами: и от усталости,
и от отчаяния. Он знал, что это опасно. Он уже видел самцов, которые теряли
надежду и вскоре умирали. Но знать об опасности не значит удержаться от
опасного действия.
Они выполнили дневную норму. Паек из хлеба и соленых морских созданий,
который выдавали Большие Уроды, был слишком мал, чтобы выдержать еще один
день изнурительной тяжкой работы, но именно его они и получали.
Уссмак взобрался на жесткие неудобные нары сразу после еды и тут же
провалился в густую душную пелену сна. Он знал, что не сумеет восстановить
силы к тому времени, когда самцов выведут утром наружу. Завтра будет то же,
что и вчера, может быть, немного хуже, но вряд ли лучше.
Так пройдет следующий день, и еще один, и еще, и еще... Освободиться? И
снова лающий хохот охранника зазвенел в его слуховых перепонках. Когда сон
охватил его, он подумал: как приятно было бы никогда не просыпаться...
* * *
Людмила Горбунова смотрела на запад, и не потому что надеялась увидеть
вечернюю звезду (в любом случае Венера тонула в лучах солнца), -- просто в
бездумной тоске.
Справа и сзади прозвучал голос:
-- Вы не слетали бы сейчас еще с одним заданием на позиции вермахта, а?
Она дернулась -- не слышала, как подошел Игнаций. Но ни возмущения, ни
смущения не чувствовала. Менее всего ей хотелось показать свое состояние, в
особенности когда речь шла о нацистском полковнике-танкисте. "Немецком
полковнике-танкисте", -- мысленно поправила она себя. Для нее это звучало
приятнее -- а кроме того, мог ли быть убежденным фашистом человек, назвавший
врученную ему медаль "жареным яйцом Гитлера"? Она сомневалась, хотя и
понимала, что объективность ее сомнительна.
-- Вы не ответили мне, -- сказал Игнаций.
Ей хотелось притвориться, будто партизанский начальник ничего не
сказал, но это было бы глупо. Кроме того, поскольку на русском он говорил
лучше, чем любой другой поляк, игнорировать его -- означало отрезать
возможность разговаривать с единственным человеком, хорошо ее понимавшим.
Поэтому она постаралась сказать правду, но так, чтобы это не выглядело
согласием:
-- Чего мне хочется, не имеет никакого значения. Но ведь между немцами
и ящерами перемирие, так ведь? Если у немцев есть разум, то они не сделают
ничего такого, что заставило бы ящеров потерять терпение и возобновить
войну.
-- Если бы у немцев был разум, то разве они были бы немцами? --
парировал Игнаций.
Людмила не решилась бы брать уроки фортепьяно у такого циничного
учителя. Впрочем, возможно, война раскрыла, его истинное призвание. После
паузы -- для того чтобы она успела понять его слова -- он продолжил:
-- Я думаю, что немцы одобрят любые неприятности в тех областях Польши,
которые они не контролируют.
-- Вы и в самом деле так считаете?
Людмила сама смутилась, с какой нетерпеливостью она задала свой вопрос.
Игнаций улыбнулся. Изогнулись губы на полном лице, не типичном для
страны, где лица большей частью сухощавые, слабо осветились глаза... Эту
улыбку трудно было назвать приятной. Она ничего не рассказала ему о встрече
с Ягером: это было только ее дело и ничье больше. Но независимо от того,
рассказывала она ему или нет, он, похоже, сделал какие-то собственные
заключения, и замечательно точные.
-- Я на самом деле стараюсь -- естественно, не разглашая особо,
раздобыть некоторое количество германских противотанковых ракет. Для вас
представляет интерес задача доставить их сюда, если я смогу договориться?
-- Я буду делать то, что потребуется, чтобы принести победу рабочим и
крестьянам Польши в борьбе против чужаков-империалистов, -- ответила
Людмила. Временами риторика, которой она обучалась с детства, очень
выручала. Кроме того, произнося заученные фразы, она успевала поразмыслить.
-- Вы уверены, что везти ракеты по воздуху -- лучший способ доставки?
По-моему, безопаснее и легче везти их окольными дорогами и тропами.
Игнаций покачал головой.
-- Ящеры патрулируют все закоулки и дальние углы даже активнее, чем во
время больших боев на фронтах. Да и нацисты не хотят, чтобы кого-то поймали
с противотанковыми ракетами, ведь это показало бы, что они попали в Польшу
после начала перемирия, и дало бы ящерам повод для возобновления военных
действий. Но если вы привезете сюда ракеты по воздуху так, что с земли этого
никто не заметит, то мы сможем использовать их, как захотим: кто сможет
доказать, когда мы их раздобыли?
-- Понятно, -- медленно проговорила Людмила; ей и в самом деле стало
понятно. У нацистов в этом деле интерес был прямой, в то время как Игнаций,
похоже, сам не знал другого способа выкрутиться. -- А что будет, если меня
собьют, когда я буду доставлять вам ракеты?
-- Мне будет недоставать вас и самолета, -- ответил партизанский вожак.
Людмила посмотрела на него с ненавистью. Его ответный взгляд был
ироническим и пустым. Она подумала, что он вряд ли о ней пожалеет, несмотря
на то, что она со своим самолетом составляла военно-воздушные силы
партизанского отряда. Может быть, он захотел заставить ее лететь, чтобы
избавиться от нее... нет, это глупо. У него нашлось бы немало простых
способов. К чему жертвовать бесценным "физлером"?
Он поклонился ей: буржуазное притворство, которое он сохранил даже
здесь, в окружении чисто пролетарском.
-- Будьте уверены, я дам вам знать, как только получу сообщение, что
план осуществляется и что я убедил германские власти в отсутствии риска. А
сейчас я оставляю вас любоваться красотой солнечного заката.
Закат был красив, хотя ее и передернуло от интонаций Игнация. Небо было
окрашено в розовый, оранжевый, золотой цвета, облака на нем казались
охваченными пламенем. И хотя эти же цвета были у огня и крови, она не думала
о войне. Она размышляла о том, что должна сделать через несколько коротких
часов, когда солнце взойдет снова. Как пойдет ее жизнь завтра, через месяц,
через год?
Она словно разрывалась пополам. Одна половина требовала возвращения в
Советский Союз любым способом. Притяжение родины оставалось сильным. Но
одновременно она задумывалась над тем, что с ней станет, если она вернется.
Ее досье должно быть уже под контролем, поскольку известно, что она связана
с немцем Ягером. Сойдет ли ей с рук перелет в иностранное государство --
оккупированное ящерами и немцами -- по приказанию германского генерала?
Вдобавок она находится в Польше уже несколько месяцев и до настоящего
времени даже не попыталась вернуться. Если у следователя НКВД будет
настроение выискивать во всем подозрительное -- как это часто случалось
(противное сухое лицо полковника Лидова мелькнуло перед ее внутренним
взором), -- то они отправят ее в гулаг, не задумываясь.
Другая половина стремилась к Ягеру. Но и этот вариант не казался
разумным. Вместо НКВД у нацистов было гестапо. Они тоже будут рассматривать
Ягера через увеличительное стекло. Они и с ней обойдутся сурово и, может
быть, даже более варварски, чем народный комиссариат внутренних дел. Она
старалась представить, что проделывают в НКВД с пленными нацистами. Гестапо
вряд ли поступает мягче с советскими гражданами.
Значит, она не может отправиться на восток. И тем более она не может
отправиться на запад. Ей оставалось лишь то место, где она находилась, и
этот вариант также был неприятным. Игнаций так и не стал ее командиром, за
которым можно идти в бой с песней.
Пока она стояла, думала и смотрела, золото на небе погасло. Горизонт
стал оранжевым, края купола неба -- розовыми. Облака на востоке превратились
из огненных языков в плывущие хлопья. Наступала ночь.
Людмила вздохнула.
-- На самом деле я хочу одного, -- сказала она в пространство, -- уйти
куда-нибудь -- одной или с Генрихом, если он захочет, -- и забыть эту войну
и что она вообще когда-то началась. -- Она рассмеялась. -- И раз уж я желаю
этого, почему бы мне не пожелать заодно и луну с неба?
* * *
Томалсс расхаживал взад и вперед по бетонному полу камеры. Его когти
стучали по твердой неровной поверхности. Он подумал, сколько времени
понадобится, чтобы проделать на полу канавку или даже протереть бетон
насквозь до земли, -- тогда бы он прорыл отверстие в земле и сбежал.
Конечно, это зависело от того, насколько толстым был бетон. Если
тосевиты положили лишь тонкий слой его, понадобится не больше трех или
четырех сроков жизни.
В небольшие узкие вертикальные окна его камеры проникало очень мало
света. Окна были помещены слишком высоко, чтобы он мог выглянуть наружу -- и
чтобы кто-то из Больших Уродов смог посмотреть внутрь. Ему объяснили, что
если он поднимет крик, его без лишних слов пристрелят. Он поверил.
Предостережение вполне соответствовало характеру тосевитов.
Он пытался вести счет дням, царапая черточки на стене. Не получилось.
Он забыл однажды сделать отметку -- или подумал, что потерял день, -- и на
следующее утро нарисовал две черточки вместо одной -- только затем, чтобы
впоследствии решить, сбился он в конце концов или все-таки не сбился... В
результате его самодельный календарь оказался неточным, а потому
бесполезным. Точно он теперь знал только одно: он здесь навсегда.
-- Чувствительное лишение, -- сказал он. Если никто снаружи не
подслушивал его, он говорил сам с собой. -- Да, чувствительное лишение: этот
эксперимент, который проклятая самка Лю Хань проделывает со мной. Как долго
я смогу не испытывать ничего и не допустить повреждения рассудка? Не знаю.
Надеюсь, что и не узнаю.
Что предпочтительнее -- постепенный переход в безумие, когда он
наблюдает за каждым своим шагом вниз, или быстрое убийство? Этого он тоже не
знал. Он даже начал задумываться, не следует ли предпочесть физические
мучения, которые Большие Уроды, как и положено варварам, изобретали не
задумываясь. Если пытки начинают казаться привлекательными -- разве это не
путь в безумие?
Он сожалел, что благополучно перенес холодный сон на борту космического
корабля, что увидел проклятый Тосев-3, что повернул глаза в сторону этой Лю
Хань, что наблюдал, как скользкий окровавленный детеныш появляется из
генитального отверстия между ее ног, жалел -- о, как он об этом жалел! --
что взял этого детеныша и стал изучать...
Эти сожаления, конечно, были бесплодны. Он лелеял их постоянно. И никто
не смог бы отрицать, что они были в высшей степени рациональны и разумны,
являясь продуктом работы соприкасающегося с действительностью разума.
Он услышал резкий металлический щелчок и почувствовал, как слегка
дрогнула постройка, в которой он находился. Он слышал шаги в комнате перед
камерой и стук закрывающейся внешней двери. Кто-то открывал замок,
удерживавший его в заточении. Замок щелкнул со звуком, отличным от того, с
каким открылся наружный.
Внутренняя дверь, скрипя петлями, которым требовалось масло,
отворилась. Томалсс радостно задрожал -- так сильно хотелось ему поговорить
с кем-нибудь, пусть даже с Большим Уродом.
-- Благород... ная госпожа, -- проговорил он, узнав Лю Хань.
Она не сразу ответила ему. В одной руке она держала автомат, другой
прижимала к бедру детеныша. Томалсс с трудом узнал в детеныше существо,
которое он изучал. Когда детеныш принадлежал ему, он не надевал на него
никакой одежды, исключая необходимый предмет, охватывавший тело посредине,
-- чтобы предотвратить расплескивание выделений по лаборатории.
Теперь же -- теперь Лю Хань одела детеныша в сияющие ткани ярких
цветов. Даже в черных волосах детеныша были привязаны кусочки лент.
Украшение поразило Томалсса, как глупое и ненужное: сам он просто заботился
о том, чтобы волосы были чистыми и неспутанными.
Детеныш некоторое время смотрел на него. Наверное, вспоминал? Он не мог
это проверить: его исследования прервались прежде, чем он смог изучить
подобные вещи. Он даже не мог узнать, сколько времени уже находится здесь.
-- Мама? -- спросил детеныш по-китайски без вопросительного
покашливания. Маленькая ручка показала на Томалсса. -- Это? -- И снова
вопрос был задан на тосевитском языке, без намека на то, что он учился языку
Расы.
-- Это маленький чешуйчатый дьявол, -- ответила Лю Хань, также
по-китайски. Она повторила: -- Маленький чешуйчатый дьявол.
-- Маленький чешуйчатый дьявол, -- как эхо повторил детеныш. Слова были
произнесены не совсем правильно, но даже Томалсс, чье знание китайского
языка было далеко от превосходного, без труда понял его.
-- Хорошо, -- сказала Лю Хань и сморщила свое подвижное лицо в
выражении, которое Большие Уроды использовали, чтобы показать дружественное
расположение.
Детеныш не ответил такой же гримасой. Он не делал этого и когда
находился у Томалсса, -- может быть, из-за того, что некому было подражать.
Дружеская мина сошла с лица Лю Хань.
-- Лю Мэй почти не улыбается, -- сказала она. -- В этом я обвиняю вас.
Томалсс понял, что самка дала детенышу имя, напоминающее ее
собственное. "Семейные отношения среди тосевитов критичны", -- напомнил он
сам себе, вновь на мгновение превратившись из пленника в исследователя.
Затем он увидел, что Лю Хань ждет ответа. Полагаться на терпение Большого
Урода с автоматом в руках не следовало. Он поспешил заговорить:
-- Может быть, я и виноват, благородная госпожа. Возможно, детенышу
требовался образец для подражания. Я не могу улыбаться, поэтому я не мог
служить образцом. Нам подобные вещи оставались неизвестными, пока мы не
встретились с вами.
-- Вам не следовало браться за изучение их, -- ответила Лю Хань. -- А в
первую очередь вы не должны были забирать у меня Лю Мэй.
-- Благородная госпожа, я жалею, что взял детеныша, -- сказал Томалсс и
подтвердил это усиливающим покашливанием.
Детеныш -- Лю Мэй, напомнил он себе -- завозился на руках у Лю Хань,
словно вспомнил что-то знакомое.
-- И я не могу отменить то, что сделал. Слишком поздно.
-- Слишком поздно для многих вещей, -- сказала Лю Хань, и он подумал,
что она собирается пристрелить его на месте. Лю Мэй снова заерзала у нее на
руках. Лю Хань посмотрела на маленькую тосевитку, вышедшую из ее тела. -- Но
еще не поздно для всего остального. Вы видите, что Лю Мэй становится
настоящей человеческой личностью, она одета в соответствующую человеческую
одежду, говорит на человеческом языке.
-- Да, я это вижу, -- ответил Томалсс. -- Она очень... -- Он не знал
по-китайски слово "приспособляющаяся" и стал придумывать, как выразить иначе
то, что он имел в виду. -- Если меняется способ ее жизни, то она меняется
вместе с ним очень быстро.
Тосевитская приспособляемость донимала Расу с того дня, когда флот
вторжения пришел на Тосев-3. Еще одному примеру приспособляемости не было
причин удивляться.
Даже в сумрачной маленькой камере глаза Лю Хань заблестели.
-- Вы помните, когда вы возвращали мне моего ребенка, вы
злорадствовали, потому что растили ее, как маленького чешуйчатого дьявола,
чтобы она не стала достойным человеческим существом? Вот то, что вы тогда
сказали.
-- Видимо, я был неправ, -- сказал Томалсс. -- Я жалею, что сказал это.
Мы, Раса, постоянно обнаруживаем, что о вас, тосевитах, мы знаем гораздо
меньше, чем нам кажется. В этом одна из причин, почему я взял детеныша:
постараться узнать побольше.
-- Одна из вещей, которую вы узнали, -- вам вообще не следовало брать
ее! -- возмущенно отреагировала Лю Хань.
-- Истинно! -- воскликнул Томалсс и снова добавил усиливающее
покашливание.
-- Я принесла сюда Лю Мэй, чтобы показать вам, насколько неправы вы
были, -- сказала Лю Мэй. -- Вам, маленьким чешуйчатым дьяволам, не нравится,
когда вы неправы.
В голосе ее слышалась насмешка: Томалсс достаточно хорошо знал, как
говорят тосевиты, и был уверен в своем истолковании. Она продолжала
по-прежнему насмешливым тоном:
-- Вы не были достаточно терпеливым. Вы не подумали о том, что
произойдет, когда Лю Мэй побудет среди людей некоторое время.
-- Истинно, -- снова сказал Томалсс, на этот раз тихо.
Каким глупцом он был, насмехаясь над Лю Хань и не задумываясь о
возможных последствиях. Подобно тому как Раса недооценивала Больших Уродов в
целом, точно так же он недооценил эту самку. И теперь, как и вся Раса, он
расплачивался за ошибку.
-- Я скажу вам кое-что еще, -- сказала Лю Хань. Очевидно, она хотела
его напугать. -- Вы, маленькие чешуйчатые дьяволы, вынуждены были
согласиться на переговоры о мире с различными нациями человечества, потому
что понесли слишком большой урон в боях.
-- Я не верю вам, -- сказал Томалсс.
Она была его единственным источником информации здесь -- она легко
может приносить ложные сведения, чтобы сломить его моральный дух.
-- Меня не волнует, верите ли вы. Это -- истина, несмотря ни на что, --
ответила Лю Хань.
Ее безразличие заставило его задуматься. Возможно, он ошибся -- но,
может быть, это так и было задумано.
-- Вы, маленькие чешуйчатые дьяволы, по-прежнему угнетаете Китай.
Пройдет не так много времени, и вы поймете, что это -- тоже ошибка. Вы
наделали большое количество ошибок, здесь и по всему миру.
-- Может быть, это и так, -- отметил Томалсс. -- Но я здесь ошибок не
делаю. -- Он поднял ногу и топнул в бетонный пол. -- Если я ничего не могу
делать, то и ошибок у меня нет.
Лю Хань несколько раз хохотнула по-тосевитски.
-- В таком случае вы останетесь превосходным самцом на долгое время.
Лю Мэй принялась плакать. Лю Хань стала поднимать и опускать детеныша,
успокаивая его куда успешнее, чем это получалось у Томалсса.
-- Я хотела показать вам, насколько вы неправы. Подумайте об этом как о
части вашего наказания.
-- Вы умнее, чем я думал, -- с горечью сказал Томалсс. Не хуже ли
думать о своей собственной глупости? Пока он этого не знал. Здесь, в камере,
у него достаточно времени поразмышлять обо всем.
-- Скажите это другим маленьким дьяволам -- если я вас когда-нибудь
отпущу, -- сказала Лю Хань.
Она пятилась, держа его под прицелом автомата, пока не захлопнула за
собой дверь.
Он смотрел ей вслед. Отпустит она когда-нибудь его? Он понял, что
сказанное имело целью подействовать на его разум. Это на самом деле так? Или
нет? Сможет он убедить ее? Если сможет, то как? Если он будет беспокоиться
об освобождении, это повредит его рассудок, но как ему удержаться от этих
мыслей?
Она оказалась гораздо умнее, чем он думал.
* * *
Сэм Игер стоял на первой базе: он только что отбил мяч влево. Сидевшая
в канавке за первой базой Барбара захлопала в ладоши.
-- Приличный удар, -- сказал защитник базы, коренастый капрал по
фамилии Грабовски. -- Значит, вы раньше играли в мячик, не так ли? Я имею в
виду как профессионал.
-- Много лет, -- ответил Сэм. -- Если бы не ящеры, я и сейчас продолжал
бы. У меня обе челюсти искусственные, верхняя и нижняя, поэтому в армию меня
не брали, пока все не пошло к черту.
-- Да, я слышал, что и с другими парнями такое случалось, -- ответил
Грабовски, кивая. -- Я понял так, что вы привыкли играть на парковых
любительских площадках вроде этой?
Поле не показалось Игеру любительской площадкой. Это было обычное
игровое поле, похожее на сотни других, хорошо ему знакомых: крытая трибуна,
справа и слева сидячие места под открытым небом, рекламные плакаты на
ограждении поля -- теперь жухлые, осыпающиеся, побитые, потому что в
Хот-Спрингсе некому и нечего рекламировать.
Грабовски не успокаивался:
-- Черт возьми, мне кажется, так должно выглядеть поле для игры в поло.
В городских парках тоже было жарко.
-- Все зависит от того, как вы смотрите на вещи, -- сказал Сэм.
Хлоп!
Парень сзади него отбил мяч. Сэм размахнулся для второго удара: в такой
игре, как эта, игрок на его позиции редко сможет подыграть. Но на этот раз
получилось. Он мягко переправил мяч на вторую базу.
Там стоял Ристин. Ящер собирался перебросить мяч на первую базу,
поставив Игера перед выбором: увернуться или получить мячом между глаз. Сэм
бросился на землю. Мяч попал в рукавицу Грабовски, когда солдат, ударивший
по низкому мячу, был все еще в шаге от "мешка".
-- Готов! -- закричал пехотинец, изображавший судью. Игер поднялся и
вытер подбородок.
-- Приличная двойная игра, -- сказал он Ристину, перед тем как уйти с
поля, -- сам не смог бы сыграть лучше.
-- Я благодарю вас, благородный господин, -- ответил Ристин на своем
языке. -- Это хорошая игра, в которую вы, тосевиты, играете.
Вернувшись к скамье, Сэм схватил полотенце и вытер потное лицо. Играть
в мяч в Хот-Спрингсе летом -- все равно что играть прямо в горячем
источнике.
-- Игер! Сержант Сэм Игер! -- позвал кто-то с трибун.
Не похоже, чтобы кричал кто-то из толпы зрителей -- если можно назвать
толпой три или четыре десятка людей. Видимо, его ищут.
Он высунул голову из канавки.
-- Да, в чем дело?
К бортику подбежал парень с серебряными полосками лейтенанта на
погонах:
-- Сержант, у меня приказ доставить вас прямо сейчас обратно в
госпиталь.
-- Хорошо, сэр, -- ответил Сэм. Лейтенант не рассердился, услышав
неуставной ответ, и Сэму это понравилось. -- Позвольте мне только избавиться
от шипов и надеть уличную обувь. -- Он поспешно переобулся, одновременно
крикнув товарищам по команде: -- Вам придется подыскать мне замену.
Он снял свою бейсбольную кепку и надел военный головной убор. Брюки
испачкались, но почистить их сейчас возможности не было.
-- Мне тоже пойти? -- спросила Барбара, когда он направился к
лейтенанту. Она пересадила Джонатана с колен на плечо и стала подниматься.
Но Игер покачал головой.
-- Тебе лучше остаться, дорогая, -- сказал он. -- Похоже, мне
приготовили какое-то задание. -- Он увидел, как офицер взялся руками за
пояс, и это показалось ему плохим знаком. -- Я лучше пойду.
Они быстрым шагом, почти бегом направились к главному госпиталю армии и
флота. Поле Бена Джонсона находилось в парке Уиттингтон, на западном конце
Уиттингтон-авеню. Они прошли мимо старой католической школы, по Бэтхаус-Роу
и вышли к госпиталю.
-- А что же случилось-то? -- спросил Игер, когда они вошли внутрь.
Лейтенант не ответил, но повел его к помещениям для высших чинов. Сэм
забеспокоился. Не попал ли он в какую-то неприятность, и если так, то
насколько она велика? Чем дальше вдоль дверей офисов они шли, тем большим
казался ему масштаб неприятности.
На двери с узорчатым стеклом была приклеена карточка с надписью,
сделанной на пишущей машинке: "Кабинет командира базы". Игер сдерживал
волнение. И не мог справиться с ним.
-- Хокинс. сэр, -- сказал лейтенант, отдавая честь капитану за столом,
заваленным бумагами. -- Сержант Игер доставлен согласно приказу.
-- Благодарю вас, Хокинс. -- Капитан поднялся из-за стола. -- Я доложу
генерал-майору Доновану. -- Он исчез в кабинете. Выйдя через мгновение, он
оставил дверь открытой. -- Входите, сержант.
-- Есть, сэр.
Как жаль, что лейтенант не дал ему возможности привести себя в порядок,
прежде чем предстать перед двухзвездным генералом. Пусть за глаза его и
называют "диким Биллом", вряд ли он одобрит пот, грязь и запах,
показывавшие, что Игер только что бегал в жаре и сырости.
Но ничего уже не поделать. Сэм вошел в дверь, и адъютант закрыл ее за
ним. Отдав честь, он доложил:
-- Сержант Сэмюель Игер, сэр, явился по вашему приказанию.
-- Вольно, сержант, -- сказал Донован, ответив на приветствие.
Ему было лет шестьдесят, голубые глаза и печать Ирландии на лице. На
груди его красовалось не меньше двух банок "фруктового салата" [Орденские
планки. -- Прим. ред.], в том числе и голубая ленточка с белыми звездами.
Глаза Игера раскрылись. Просто так почетную медаль конгресса не дают. Едва
он оправился от удивления, как Донован удивил его еще больше, бегло
заговорив на языке ящеров:
-- Я приветствую вас, тосевитский самец, который так хорошо понимает
самцов Расы.
-- Я приветствую вас, благородный господин, -- автоматически ответил
Игер на этом же языке. Он перешел на английский. -- Я не знал, что вам
известен их _линго_.
-- Мне полагается знать все. Это моя работа, -- ответил Донован без
малейшего намека на шутку. -- Но конечно, все не получается, -- сказал он,
скривившись. -- И тем не менее это моя работа. Вот почему я послал за вами.
-- Сэр? -- вежливо удивился Игер.
"Но ведь я ничего не знаю".
Донован порылся в бумагах на столе. Отыскав нужную, он посмотрел на нее
через нижнюю часть бифокальных очков.
-- Вы были переведены сюда из Денвера вместе с вашей женой и двумя
ящерами, Ульхассом и Ристином. Правильно? -- Ответа Игера он ждать не стал.
-- Это было до того, как вы стали учить Ристина играть в бейсбол, так?
-- Да, сэр, -- сказал Игер. Кажется, Дикий Билл в самом деле знал все.
-- Хорошо, -- сказал генерал. -- Вы были прикомандированы к денверскому
проекту уже давно, не так ли? Еще когда вы находились в Чикаго. Правильно?
-- На этот раз он дождался кивка Игера. -- Это значит, что вы знаете об
атомных бомбах больше, чем кто-либо другой в Арканзасе. Правильно?
-- Я ничего о них не знаю, сэр, -- ответил Игер. -- Я ведь не физик.
Хм, сэр, допустимо ли мне говорить с вами на эту тему? Все держалось в
строжайшем секрете.
-- Допустимо. Больше того, я вам приказываю, -- ответил Донован. -- Но
меня радует, что вы озабочены вопросами секретности, сержант, поскольку я
собираюсь сказать вам кое-что, о чем категорически запрещается говорить за
пределами этой комнаты, пока я не разрешу. Вы поняли?
-- Да, сэр, -- сказал Сэм.
Судя по суровому тону коменданта базы, нарушив запрет, Сэм вполне мог
оказаться у стенки с завязанными глазами, и никто тогда не побеспокоился бы
предложить ему сигарету.
-- Хорошо, -- повторил Донован. -- Вы, вероятно, теряетесь в догадках,
какая чертовщина вам предстоит и зачем я вас сюда вытащил. Правильно? --
Ответ не требовался. -- Причина проста: у нас здесь только что появилась
одна из этих атомных бомб, и я хочу знать о ней как можно больше.
-- Здесь, сэр? -- удивился Сэм.
-- Я уже сказал. Ее отправили из Денвера до объявления перемирия, затем
она была в дороге. Имеет смысл подумать над этим, а? Чтобы переправить ее
сюда, должны были воспользоваться кружным путем. Ее нельзя было бросить на
полпути или оставить на ничейной земле, где ящеры при определенном везении
могли найти ее. Теперь это наше дитя.
-- Да, сэр, полагаю, я понял, -- ответил Игер. -- Но разве при ней не
было кого-то из Денвера, кто знал бы о ней все?
-- Им пришлось плохо, -- сказал Донован. -- Секретность и еще раз
секретность. Эта штука доставлена с печатной инструкцией, как ее подготовить
к взрыву, с таймером и радиопередатчиком. Вот так. Готовился приказ
доставить ее к цели, затем быстро отступить и взорвать при необходимости.
-- Я расскажу вам, что смогу, сэр, но подобно тому, как я сказал
раньше... э-э, как я сказал раньше, -- основы правильной речи Сэм освоил,
женившись на Барбаре, -- я не знаю всего, что нужно знать.
-- Это моя работа, сержант, а не ваша. Так что говорите.
Донован наклонился вперед, приготовившись внимательно слушать.
Сэм рассказал ему все, что знал об атомных бомбах, о теории и практике.
Кое-что он по крохам собрал в научных статьях пресловутого журнала
"Эстаундинг", еще до нашествия ящеров; несколько больше сведений он
почерпнул, делая переводы для Энрико Ферми и других физиков Металлургической
лаборатории, а также из их разговоров между собой.
Донован ничего не записывал. Поначалу это возмущало Игера. Затем он
понял, что генерал не хочет оставлять никаких письменных следов. Стало ясно,
насколько серьезно генерал относился к делу.
Когда он закончил, Донован задумчиво сказал:
-- Хорошо, сержант. Благодарю вас. Это проясняет одну из моих главных
забот: мне надо остерегаться этой штуки под ногами не больше, чем любого
другого оружия. Я так и думал, но с оружием, таким новым и таким мощным,
вовсе не хочется рисковать головой из-за простого недопонимания.
-- Теперь я понимаю смысл вопроса, -- согласился Игер.
-- Хорошо. Следующий вопрос: вы участвуете и в ракетных делах, с
Годдардом. Можем мы установить эту штуку на ракету и пустить, куда нам надо?
Она весит десять тонн или около того.
-- Нет, сэр, -- сразу ответил Сэм. -- Новая ракета, которую мы делаем,
может нести одну тонну. Доктор Годдард работает над тем, как увеличить
грузоподъемность, но... -- Голос его упал.
-- Но он болен, и кто знает, сколько он еще проживет? -- закончил
Донован, -- И кто знает, сколько времени потребуется, чтобы построить
большую ракету после того, как ее сконструировали, а? Хорошо. А есть
возможность сделать атомные бомбы поменьше, чтобы их можно было поставить на
ракеты, которые мы имеем? Это еще один путь решения проблемы.
-- Честно, я не знаю, сэр. Если это может быть сделано, то бьюсь об
заклад, в Денвере над этим работают. Но не знаю, смогут они справиться или
нет.
-- Ладно, сержант. Это хороший ответ, -- сказал Донован. -- Если бы вы
знали, сколько людей стараются стать важными персонами и сделать вид, что
знают больше, чем на самом деле... Черт возьми, не стоит нагружать вас этими
пустяками. Вы свободны. Если мне понадобятся ваши мозги из-за этого жалкого
адского устройства, я снова вызову вас. Надеюсь, не потребуются.
-- Я тоже на это надеюсь, -- сказал Сэм. -- Поскольку это означало бы
нарушение перемирия.
Он отдал честь и вышел из кабинета Донована.
Генерал-майор не стал придираться к его форменной одежде. "Неплохой
парень", -- подумал Сэм.
* * *
Германский майор в порту Кристиансанда рылся в огромном
ящике-картотеке.
-- Бэгнолл, Джордж, -- сказал он, вынув одну из карточек. -- Скажите
ваш личный номер, пожалуйста.
Бэгнолл выпалил число по-английски, затем медленно повторил по-немецки.
-- Данке, -- поблагодарил майор; он носил фамилию Капельмейстер и
обладал на редкость немузыкальным голосом. -- А теперь, летчик-инженер
Бэгнолл, скажите, не нарушили ли вы слово, данное подполковнику Хеккеру в
Париже в позапрошлом году? То есть: применяли вы с тех пор оружие против
германского рейха? Говорите только правду, ответ у меня имеется.
-- Нет, не применял, -- ответил Бэгнолл.
Он почти поверил Капельмейстеру -- офицер-нацист в заштатном норвежском
городке, вытащив карточку, назвал имя человека, которому он давал это
обещание. Его поразила доведенная до абсурда тевтонская дотошность.
Удовлетворенный, немец написал что-то на карточке и сунул ее обратно в
ящик. Затем он проделал ту же процедуру с Кеном Эмбри. Закончив с Кеном, он
вытащил несколько карточек и назвал Джерому Джоунзу имена людей из экипажа
"ланкастера", с которыми служили тогда Эмбри и Бэгнолл, а затем спросил:
-- Который из них вы?
-- Никто, сэр, -- ответил Джоунз и назвал имя и личный номер.
Майор Капельмейстер прошелся по картотеке.
-- У каждого второго англичанина -- имя Джоунз, -- пробормотал он. --
Однако я не нахожу Джоунза, под описание которого вы подходили бы. Очень
хорошо. Прежде чем вы сможете проследовать в Англию, вы должны подписать
обязательство не выступать против германского рейха никогда в будущем. Если
вы будете схвачены во время или после нарушения этого обязательства, вам
придется плохо. Вы поняли?
-- Я понял, что вы сказали, -- ответил Джоунз. -- Я не понимаю,
_почему_ вы об этом говорите. Разве мы не союзники против ящеров?
-- В настоящее время между рейхом и ящерами действует перемирие, --
ответил Капельмейстер. Улыбка его была неприятной. -- Должен быть заключен
мир. Тогда понадобится уточнить взаимоотношения с вашей страной, вы
согласны?
Трое англичан посмотрели друг на друга. Бэгнолл не задумывался, что
означает перемирие для людей. Судя по выражению лиц, ни Эмбри, ни Джоунз
тоже не думали об этом. Чем больше всматриваешься в предмет, тем сложнее он
кажется. Джоунз решил уточнить:
-- А если я не подпишу обязательство, тогда что?
-- Вы будете считаться военнопленным со всеми привилегиями и льготами,
положенными военнопленным, -- сказал майор.
Джоунз помрачнел. Привилегии и льготы ныне были весьма сомнительны.
-- Дайте мне ручку для росписи кровью, -- сказал он и расписался на
карточке.
-- Данке шен, -- снова поблагодарил майор Капельмейстер, когда
англичанин вернул карточку и ручку. -- Сейчас, как вы правильно заметили, мы
-- союзники, и с вами будут обращаться соответствующим образом. Разве это не
правильно?
Все трое были вынуждены согласиться. Путешествие через союзную с
Германией Финляндию, нейтральную, но благосклонную к желаниям Германии
Швецию и оккупированную немцами Норвегию было быстрым, продуманным и
приятным, насколько это возможно во времена всеобщей беды.
Пока Капельмейстер искал карточки, Бэгноллу представилось, как копии их
совершали свое путешествие в каждую деревушку, где стояли на страже
нацистские солдаты и бюрократы. Если Джером Джоунз отступится от своего
слова, его настигнет возмездие везде, где хозяйничает рейх.
После того как обязательство оказалось в его руках и было упрятано в
бесценную картотеку, майор превратился из раздражительного чиновника в
любезного:
-- Теперь вы свободны и можете подняться на борт грузового судна
"Гаральд Хардрад". Вам повезло. Погрузка корабля почти закончена, и скоро он
направится в Дувр.
-- Много прошло времени с тех пор, как мы в последний раз видели Дувр,
-- сказал Бэгнолл. -- А у ящеров нет привычки обстреливать суда, идущие в
Англию? С нами ведь они формально перемирия не заключали?
Капельмейстер покачал головой.
-- Не совсем так. Неформальное перемирие, которое они установили с
Англией, похоже, удерживает их от обстрелов.
Трое англичан вышли из учреждения и направились в доки, где стоял
"Гаральд Хардрад". В доках пахло солью, рыбой и угольным дымом. У сходней
стояли немецкие часовые. Один из них побежал к Капельмейстеру, чтобы
проверить, можно ли англичанам подняться на борт. Он вернулся, помахал
рукой, и остальные солдаты отступили в сторону.
Бэгнолла с товарищами поместили в такой крохотной каюте, что, будь у
нее красные стены, она могла бы сойти за лондонскую телефонную будку. Но
после долгой отлучки он готов был с радостью висеть на вешалке для шляп,
лишь бы добраться домой.
Но сидеть взаперти в каюте он не желал. Бросив свои скудные пожитки на
койку, он вышел на палубу. Немцы в форме закатывали на судно по сходням
небольшие запаянные металлические баки. Когда первый бак оказался на палубе,
солдат перевернул его и поставил на дно. Обнаружилась аккуратная надпись по
трафарету: Норск Гидро, Веморк.
-- Что в нем? -- спросил Бэгнолл. Его немецкий стал почти совершенным;
человек из другой страны мог бы принять его за немца, но только не настоящий
немец.
Парень в каске улыбнулся.
-- Вода, -- ответил он.
-- Если не хотите говорить, просто не говорите, -- пробурчал Бэгнолл.
Немец рассмеялся и, перевернув следующую бочку, помеченную точно так
же, поставил ее рядом с первой. Рассерженный Бэгнолл, топая по стальной
обшивке палубы, ушел прочь. Нацист захохотал ему вслед.
Позже бочки убрали куда-то в трюм, где Бэгнолл не мог их видеть. Он
рассказал эту историю Эмбри и Джоунзу, а те принялись немилосердно
подшучивать над товарищем, спасовавшим перед немцем.
Густой черный дым повалил из трубы "Гаральда Хардрада", когда буксиры
вытащили его из гавани Кристиансанда. Пароходу предстояло путешествие по
Северному морю в Англию. И хотя Бэгнолл возвращался домой, все же лучше бы
было обойтись без моря. Джорджа никогда не укачивало даже на самых худших
маневрах уклонения в воздухе, но здесь постоянные удары волн в борт судна
заставляли его раз за разом перегибаться через борт. Его товарищи больше не
насмехались -- они были тут же, рядом с ним. И некоторые матросы тоже. Этот
факт не улучшал самочувствия Бэгнолла, но зато примирял с судьбой: беда не
приходит одна -- в этой поговорке немало правды.
Пару раз над судном пролетали реактивные самолеты ящеров, так высоко,
что их следы в воздухе было легче рассмотреть, чем сами машины. У "Гаральда
Хардрада" имелись зенитки на носу и корме. Как и все на борту, Бэгнолл знал,
что против самолетов ящеров они бесполезны. Ящеры, однако, не снижались для
осмотра или атаки. Перемирие, формальное или неформальное, действовало.
Бэгнолл несколько раз замечал на западе облачные горы, принимая их за
берега Англии: он смотрел глазами сухопутного человека, еще и наполовину
ослепленными надеждой. Но вскоре облака рассеивались и разрушали иллюзию. И
наконец он заметил нечто неподвижное и нерассеивающееся.
-- Да, это английский берег, -- подтвердил матрос.
-- Он прекрасен, -- сказал Бэгнолл.
Эстонский берег показался ему прекрасным, когда он уплывал прочь. Этот
же казался прекрасным, потому что он приближался. На самом деле оба
ландшафта были очень похожи: низкая, плоская земля, медленно поднимающаяся
из мрачного моря.
Затем вдали, у самого океана, он разглядел башни Дуврского замка. От
этого близость к дому стала невыразимо реальной. Он повернулся к Эмбри и
Джоунзу, стоявшим рядом.
-- Интересно, Дафна и Сильвия все еще работают в "Белой лошади"?
-- Можно только надеяться, -- сказал Кен Эмбри.
-- Аминь, -- эхом отозвался Джоунз. -- Было бы неплохо встретить
женщину, которая не смотрит на тебя так, словно собирается пристрелить, а
будет просто спать с тобой. -- Его вздох был полон тоски. -- Помнится, здесь
попадались подобные женщины, но это было так давно, что я начинаю забывать.
Подошел буксир -- помочь "Гаральду Хардраду" пришвартоваться к пирсу,
переполненному людьми. Как только швартовы на носу и корме привязали судно к
пирсу, как только были уложены сходни, на борт ринулась орда одетых в твид
англичан с безошибочно определяемой внешностью ученых. Они вцеплялись в
каждого немца, задавая единственный вопрос то по-английски, то по-немецки:
-- Где она?
-- Где что? -- спросил одного из них Бэгнолл.
Услышав несомненно английский выговор, тот ответил без малейшего
колебания:
-- Как что, вода, конечно же!
Бэгнолл почесал в затылке.
* * *
Повар вылил черпак супа в миску Давида Нуссбойма. Он зачерпнул суп с
самого дна большого чугунного котла -- много капустных листьев и кусков
рыбы. Пайка хлеба, которую он вручил Нуссбойму, была полновесной, может,
даже и потяжелее. Это был тот же черный хлеб, грубый и жесткий, но теплый,
недавно из печи и с приятным запахом. Чай был приготовлен из местных
кореньев, листьев и ягод, но в стакан повар добавил достаточно сахара, чтобы
получилось почти вкусно.
И тесниться во время еды ему больше не приходилось. Клерки, переводчики
и прочие служащие питались раньше основной массы зэков. Нуссбойм с
отвращением вспомнил толкучку, в которой он должен был локтями защищать
отвоеванное пространство; несколько раз его сталкивали со скамьи на пол.
Он сосредоточился на еде. С каждым глотком супа в него втекало
благополучие. Он был почти сыт. Он отпил чая, наслаждаясь каждой частицей
растворенного сахара, текущей по языку. Когда живот полон, жизнь выглядит
неплохо -- некоторое время.
-- Ну, Давид Аронович, как вам нравится разговаривать с ящерами? --
спросил Моисей Апфельбаум, главный клерк полковника Скрябина. Он обратился к
Нуссбойму на идиш, но тем не менее назвал его по имени-отчеству, что везде в
СССР было проявлением показной вежливости, хотя в гулаге, где отчество
отбрасывалось даже на русском, казалось абсурдным.
Тем не менее Нуссбойм ответил в его стиле:
-- По сравнению со свободой, Моисей Соломонович, это не так много. По
сравнению с рубкой леса...
Он не стал продолжать. Ему не надо было продолжать.
Апфельбаум кивнул. Это был сухощавый человек средних лет, с глазами,
казавшимися огромными за стеклами очков в стальной оправе.
-- О свободе вам нет нужды беспокоиться, тем более здесь. В гулаге есть
вещи и похуже, чем рубка леса, поверьте мне. Неудачники роют канал. Можно
быть неудачником, но можно быть умнее. Хорошо быть умным, не так ли?
-- Пожалуй, да, -- ответил Нуссбойм.
Клерки, повара и доверенные зэки, которые обеспечивали функционирование
гулага -- потому что вся система рухнула бы за несколько дней, если не
часов, если бы НКВД само делало всю работу, -- представляли во многом лучшую
компанию, чем зэки из прежней рабочей бригады. Пусть даже многие из них были
убежденными коммунистами ("большими роялистами, чем сам король", --
вспомнилось ему), такими же приверженцами принципов Маркса-Энгельса-Ленина,
как и те, кто сослал их сюда, но они были по большей части образованными
людьми. С ними Давиду было куда проще, чем с обычными преступниками,
составлявшими большинство в бригадах.
Теперь у него была легкая работа. За нее он получал больше еды. Он мог
бы считать себя -- нет, не счастливым: надо быть сумасшедшим, чтобы быть в
гулаге счастливым, -- но он был довольным, насколько это возможно. Он всегда
верил в сотрудничество с власть имущими, кто бы это ни был -- польское
правительство, нацисты, ящеры, а теперь и НКВД.
Но когда зэки, с которыми он прежде работал, шаркая ногами, шли в лес в
начале тяжкого рабочего дня, они бросали на него такие взгляды, что кровь
стыла в жилах. Со времен учебы в хедере ему на память приходили слова "мене,
мене, текел упарсин". Он чувствовал вину за то, что ему легче, чем его
бывшим товарищам, хотя разумом понимал, что, работая переводчиком у ящеров,
он приносит гораздо больше пользы, чем срубая очередную сосну или березу.
-- Вы не коммунист, -- сказал Апфельбаум, изучая его своими
увеличенными глазами. Нуссбойм согласился. -- Тем не менее вы остаетесь
идеалистом.
-- Может, и так, -- сказал Нуссбойм.
Ему хотелось добавить: "Вам-то какое дело?" Но он промолчал -- он не
такой дурак, чтобы оскорблять человека, имеющего легкий и доверительный
доступ к коменданту лагеря.
Мозоли на его руках уже начали размягчаться, но он знал, как легко в
его руках могут снова оказаться топорище и ручки пилы.
-- Это необязательно идет вам на пользу, -- сказал Апфельбаум.
Нуссбойм пожал плечами.
-- Если бы все шло мне на пользу, разве я был бы здесь?
Апфельбаум сделал паузу, чтобы отпить своего эрзац-чая, затем
улыбнулся. Его улыбка была настолько очаровывающей, что в душе у Нуссбойма
зашевелилось подозрение.
-- И снова хочу напомнить вам, что есть вещи гораздо хуже, чем то, что
вы имеете сейчас. От вас даже не требовали доносить на товарищей из вашей
старой бригады, не так ли?
-- Нет, слава богу, -- сказал Нуссбойм и поспешно добавил: -- И я
никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из них сказал что-то, о чем стоило бы
донести.
После этого он полностью сосредоточился на миске с супом. К его
облегчению, Апфельбаум больше не давил на него.
И он не особенно удивился, когда через два дня полковник Скрябин вызвал
его к себе в кабинет и сказал:
-- Нуссбойм, до нас дошел слух, который касается тебя. Я думаю, что ты
скажешь мне, правда это или нет.
-- Если это касается ящеров, гражданин полковник, я сделаю все, что в
моих силах, -- сказал Нуссбойм в надежде отвести беду.
Не повезло. На самом деле он и не ждал, что повезет.
-- К сожалению, дело не в этом. Нам сообщили, что заключенный Иван
Федоров неоднократно после поступления в лагерь высказывал антисоветские и
мятежные мнения. Ты знал Федорова, я думаю? -- Он дождался кивка Нуссбойма,
-- Есть доля истины в этих слухах?
Нуссбойм попытался обратить все в шутку:
-- Товарищ полковник, вы можете мне назвать хотя бы одного зэка,
который не сказал чего-то антисоветского под настроение?
-- Это не ответ, -- сказал Скрябин. -- Ответ должен быть точным. Я
повторяю: слышал ты когда-нибудь, чтобы заключенный Федоров высказывал
антисоветские и мятежные мнения? Отвечай "да" или "нет".
Он говорил по-польски, в легкой и, казалось, дружеской манере, но
оставался столь же непреклонным, как раввин, вдалбливающий ученикам трудное
место из Талмуда.
-- Я не помню, -- сказал Нуссбойм. Если "нет" означало ложь, а "да" --
неприятности, что оставалось делать? Тянуть время.
-- Но ты сказал, что такие вещи говорит каждый, -- напомнил Скрябин. --
Ты должен знать, относился он к числу таких болтунов или же был исключением?
"Будьте вы прокляты", -- подумал Нуссбойм. А вслух сказал:
-- Может быть, он говорил, а может быть, и нет. Я вам говорил, мне
трудно запомнить, кто что когда сказал.
-- Когда ты говоришь о ящерах, с памятью у тебя все в порядке, --
сказал полковник Скрябин. -- Ты всегда очень аккуратен и точен. -- Он
швырнул Нуссбойму через стол напечатанный на машинке листок. -- Вот. Просто
подпиши это, и все будет так, как должно быть.
Нуссбойм посмотрел на листок с отвращением. Он немного понимал устный
русский язык, поскольку многие слова были близки к их польским эквивалентам.
Но буквы чужого алфавита никак не складывались в слова.
-- Что здесь говорится? -- подозрительно спросил он.
-- Что несколько раз ты слышал, как заключенный Федоров высказывал
антисоветские мнения, и ничего более.
Скрябин протянул ему ручку с пером. Нуссбойм взял ручку, но медлил
поставить подпись на нужной строке. Полковник Скрябин погрустнел.
-- А я так надеялся на вас, Давид Аронович, -- имя и отчество Нуссбойма
он произнес гулко, словно бил в погребальный колокол.
Быстрым росчерком, который, казалось, ничего не имел общего с его
разумом, Нуссбойм подписал донос и швырнул его обратно Скрябину. Он понял,
что ему следовало закричать на Скрябина, прежде чем человек из НКВД заставил
его предать Федорова. Но, привыкнув всегда соглашаться с власть имущими, вы
не думаете о последствиях, пока не станет слишком поздно. Скрябин взял
бумагу и запер ее на замок в своем столе.
На ужин в тот вечер Нуссбойм получил дополнительную миску супа. Он съел
все до капли, и каждая капля имела вкус пепла.
Атвар пожалел, что не пристрастился к имбирю. Ему требовалось хоть
что-то, чтобы укрепить свой дух, прежде чем продолжить торг с целой комнатой
Больших Уродов, вооруженных серьезными аргументами. Повернув оба глаза к
Кирелу, он сказал:
-- Если мы будем должны заключить мир с тосевитами, то придется пойти
на большинство уступок, на которых они первоначально настаивали.
-- Истинно, -- меланхолически согласился Кирел. -- Они определенно
самые неутомимые спорщики, с которыми когда-либо встречалась Раса.
-- Они такие. -- Атвар изогнул тело от отвращения. -- Даже те, с
которыми нам нет нужды вести настоящие переговоры, -- британцы и японцы
продолжают свои бесконечные увертки, в то время как две китайские клики
одновременно настаивают на том, что заслуживают присутствия здесь, хотя,
кажется, ни одна из них не соглашается признать другую. Сумасшествие!
-- А немцы, благородный адмирал? -- спросил Кирел. -- Из всех
тосевитских империй и не-империй их государство, кажется, создает Расе
больше всего проблем.
-- Я восхищаюсь вашим даром недооценки, -- едко заметил Атвар. -- Посол
Германии кажется темным даже для тосевита. He-император, которому он служит,
по всей видимости, протух, как неоплодотворенное яйцо, оставленное на
полгода под солнцем. Или можете лучше истолковать его попеременно
сменяющиеся угрозы и просьбы? -- Дожидаться ответа главнокомандующий ящеров
не стал. -- И тем не менее из всех тосевитских империй и не-империй немцы
кажутся самыми передовыми в области технологии. Можете вы распутать этот
парадокс?
-- Тосев-3 -- это мир, полный парадоксов, -- ответил Кирел. -- Среди
них еще один теряет способность удивлять.
-- Это тоже истинно. -- Атвар испустил усталый свистящий выдох. --
Боюсь, что какой-то из них рано или поздно приведет к несчастью. И я не
знаю, какой именно, а очень хотел бы знать.
Заговорил Пшинг:
-- Благородный адмирал, наступило время, назначенное для продолжения
дискуссий с тосевитами.
-- Благодарю вас, адъютант, -- сказал Атвар, хотя ни малейшего чувства
благодарности он сейчас не испытывал. -- Пунктуальные твари, должен
заметить. Вот халессианцы, хотя уже столько времени в нашей империи,
постарались бы опоздать даже на собственную кремацию, если бы смогли. -- Его
рот раскрылся в ехидной усмешке. -- Теперь я бы сделал то же самое, если б
мог.
Атвар с сожалением отвернул глаза от самцов и вместе со своим
переводчиком вошел в зал, где его ожидали представители тосевитов. Они сразу
же поднялись с мест, изображая уважение.
-- Скажите им, чтобы они сели и мы смогли продолжить, -- сказал Атвар
переводчику. -- Скажите это вежливо.
Переводчик, самец по имени Уотат, перевел его слова на английский.
Тосевиты вернулись к своим креслам и сели в обычном порядке. Маршалл,
американский самец, и Иден, его британский двойник, всегда сидели рядом,
хотя Иден формально не являлся официальным участником этих переговоров.
Дальше сидели Молотов и фон Риббентроп от Германии. Того от Японии, подобно
Идену, был скорее наблюдателем, чем участником переговоров.
-- Мы начинаем, -- сказал Атвар.
Тосевитские самцы наклонились вперед -- вместо того чтобы сидеть
выпрямившись, что они обычно предпочитали. Такой наклон, как уже знал Атвар,
означает интерес и внимание. Он продолжил:
-- В большинстве случаев мы в принципе согласились уйти с территории,
контролировавшейся к моменту нашего прибытия на Тосев-3 США, СССР и
Германией. Мы сделали это, несмотря на требования, которые мы получили от
нескольких групп Больших Уродов, сводившиеся к тому, что СССР и Германия
неправомерно владеют некоторыми из этих территорий. Ваши не-империи
достаточно сильны, чтобы поддерживать договоренность с нами, и это дает
приоритет вашим требованиям.
Фон Риббентроп выпрямился и смахнул воображаемую пылинку с одежды,
закрывающей его торс.
-- Он самодовольный, -- сказал Уотат Атвару, поворачивая один глаз,
чтобы показать на германского посла.
-- Он -- дурак, -- ответил Атвар. -- Но вам не надо говорить ему этого:
если вы дурак, то, услышав об этом, никакой выгоды вы не получите. Теперь я
возобновляю обсуждение... По причине нашей снисходительности мы соглашаемся
также вывести наших самцов из северной территории, которая, кажется, не
является частью ни США, ни Англии...
Название он забыл. Маршалл и Иден вместе напомнили его:
-- Канада!
-- Да, Канада, -- сказал Атвар.
Большая часть этой территории была слишком холодной, чтобы представлять
какую-то ценность для Расы при любых обстоятельствах. Маршалл, похоже,
считал ее для каких-то практических целей частью США, хотя она и обладала
суверенитетом. Атвар в полной мере не осознавал этого, но для него данный
вопрос был сейчас маловажным.
-- Теперь вернемся к нерешенному вопросу, на котором данные переговоры
прервались на нашем прошлом заседании, -- сказал Атвар, -- вопросу о Польше.
-- Польша целиком должна быть нашей! -- громко сказал фон Риббентроп.
-- Никакое другое решение невозможно и неприемлемо. Так заявил фюрер.
Уотат пояснил:
-- Это титул германского не-императора.
-- Знаю, -- ответил Атвар.
-- У меня больше нет нужды дискутировать по этому вопросу, -- закончил
свою речь германский посол.
Заговорил Молотов. Это был единственный тосевитский посол, который не
пользовался английским.
-- Этот взгляд неприемлем для рабочих и крестьян СССР, которые
притязают на восточную половину этого региона. Я лично достиг договоренности
по этой территории с германским министром иностранных дел; исторически она
принадлежит нашей стране.
Атвар отвернул глаза от обоих спорящих Больших Уродов и попробовал
другой ход:
-- Может быть, мы разрешим полякам и польским евреям создать свои новые
не-империи, расположенные между землями ваших не-императоров.
Молотов промолчал, а фон Риббентроп ответил:
-- Как я уже сказал, фюрер считает это нетерпимым. Ответ -- "нет".
Адмиралу хотелось расслабиться длинным шипящим выдохом, но он
воздержался. Большие Уроды, несомненно, изучают его поведение так же
внимательно, как он и его штат исследователей и психологов изучают их.
Он попробовал зайти с другой стороны:
-- Тогда, возможно, для Расы целесообразнее остаться сувереном над
территорией, называемой Польшей.
Предлагая это, он понял, что идет навстречу амбициям тосевита Мойше
Русецкого. Теперь он видел, что Мойше Русецкий глубоко понимал своих
собратьев Больших Уродов.
-- В принципе для Советского Союза это приемлемо, в зависимости от
установления точных границ оккупированной территории, -- сказал Молотов.
Уотат тихим голосом добавил свой комментарий:
-- Тосевиты СССР считают немцев не более приятными соседями, чем мы.
-- Истинно, -- сказал Атвар, обрадовавшись, но не показывая этого
Большим Уродам.
Фон Риббентроп повернул голову к Молотову и несколько секунд смотрел на
него. Атвар пришел к выводу, что немцем владеет гнев -- или результаты
изучения Расой мимики и жестов тосевитов не представляют никакой ценности.
Но фон Риббентроп заговорил без неуместной страстности:
-- Мне жаль повторяться, но это неприемлемо для Германии и для фюрера.
Польша находилась под германским суверенитетом -- и должна в него вернуться.
-- Это неприемлемо для Советского Союза, -- сказал Молотов.
-- Советский Союз сейчас не контролирует ни метра польской земли --
ситуация изменилась, -- парировал фон Риббентроп. Он снова повернулся к
Атвару. -- Польша должна быть возвращена Германии. Фюрер абсолютно ясно
сказал, что не пойдет на уступки, и предупреждает о тяжелых последствиях,
если его справедливые требования не будут удовлетворены.
-- Он угрожает Расе? -- спросил Атвар.
Германский посол не ответил. Атвар продолжил:
-- Вам, немцам, следует помнить, что у вас наименьшая территория из
всех участвующих в переговорах сторон. Понятно, что мы можем уничтожить вас,
не повреждая планету Тосев-3 настолько, чтобы она стала не пригодной для
флота колонизации. Ваша непримиримость в данном вопросе соблазняет нас пойти
на эксперимент.
Отчасти это был блеф. У Расы не имелось столько ядерного оружия, чтобы
превратить Германию в радиоактивный шлак, какой бы притягательной ни
казалась такая перспектива. Однако Большие Уроды не знали, что у Расы есть и
чего нет.
Поэтому Атвар надеялся, что его угроза подействует. Маршалл и Того
склонились над своими бумагами и принялись неистово записывать. Адмирал
подумал, что это, вероятно, выдает их возбужденное состояние. Иден и Молотов
сидели неподвижно. Атвар уже привык к бесстрастному поведению Молотова. С
Иденом он впервые имел дело длительное время; Иден поразил его своей
компетентностью, но имел на переговорах слабую позицию.
Фон Риббентроп сказал:
-- Значит, война может возобновиться, господин главнокомандующий. Когда
фюрер высказывает решимость в любом спорном вопросе, следует принимать то,
что он говорит как должное. Должен ли я информировать его, что вы начисто
отвергаете его справедливые требования? Если так, я предупреждаю вас, что не
могу отвечать за последствия.
Его короткий тупоконечный язык высунулся и смочил вывернутые слизистые
оболочки, окружавшие небольшой рот тосевитов. Это, как утверждали ученые
Расы, являлось признаком нервного возбуждения у Больших Уродов. Но почему
фон Риббентроп нервничает? Может быть, потому, что он сам блефует по приказу
своего не-императора. Или потому, что германский лидер на самом деле
возобновит военные действия, если его требования вернуть Польшу будут
отвергнуты?
Атвар подбирал слова с большей тщательностью, чем мог ожидать жалкий
тосевит:
-- Скажите этому самцу, что его требования на всю Польшу отвергаются.
Скажите ему еще, что со стороны Расы перемирие между нашими силами и
германскими будет соблюдаться, пока мы занимаемся другими нерешенными
вопросами. И еще: если немцы первыми нарушат перемирие, то Раса ответит
силой. Вы поняли?
-- Да, господин адмирал, я понял, -- ответил фон Риббентроп, выслушав
Уотата. -- Как я сказал, у фюрера нет привычки угрожать попусту. Я передам
ему ваш ответ. Затем мы все будем ждать его ответа. -- Большой Урод снова
облизал свои мягкие розовые губы. -- Я сожалею, высказывая это, но думаю,
что долго ждать не придется.
* * *
Майор Мори вручил Нье Хо-Т'ингу чашку чая, над которой поднимался
легкий парок.
-- Благодарю вас, -- сказал Нье, наклоняя голову.
Японец, по его понятиям, действовал учтиво. Нье по-прежнему считал его
восточным империалистическим дьяволом, который, однако, умел быть вежливым.
Мори ответил полупоклоном.
-- Я недостоин вашей благодарности, -- ответил он на испорченном
китайском.
Под маской фальшивой униженности японец скрывал свою наглость. Нье
предпочитал иметь дело с маленькими чешуйчатыми дьяволами. Они без уверток
показывали себя такими, какие они есть.
-- Вы уже решили, какой курс выгоден для вас? -- спросил Нье.
Осматривая лагерь японцев, он подумал, что решение очевидно. Восточные
дьяволы были оборваны, голодны и начинали испытывать недостаток в
боеприпасах, которые были единственным средством, позволявшим отнимать
продовольствие у местных крестьян. Нашествие маленьких чешуйчатых дьяволов
прервало движение поездов снабжения. Японцы были более дисциплинированы, чем
просто шайка бандитов, но разница постоянно уменьшалась.
Однако их майор дал совсем не такой ответ, какого ожидал Нье:
-- Я должен сказать вам, что мы не можем присоединиться к тому, что вы
называете народным фронтом. Маленькие дьяволы формально не прекратили войну
против нас, но они и не ведут боев с нами. Если мы нападем на них, кто может
сказать, на что их это спровоцирует?
-- Иными словами, вы объединяетесь с ними против прогрессивных сил
китайского народа.
Майор Мори рассмеялся ему в лицо. Нье ответил пристальным взглядом. Он
думал о многих возможных реакциях японца, но такой не ожидал.
Мори сказал:
-- Думаю, вы заключили соглашение с гоминьданом. И это превратило их из
реакционных контрреволюционных псов в прогрессивных. Прекрасный магический
трюк, должен заметить.
Москит зажужжал и укусил Нье в запястье. Шлепая по руке, Нье успел
собраться с мыслями. Он надеялся, что, если и покраснел, то не настолько,
чтобы японец это заметил. Наконец он заговорил:
-- По сравнению с маленькими чешуйчатыми дьяволами реакционеры
гоминьдана прогрессивны. Я отмечаю это, хотя и не люблю их. По сравнению с
маленькими чешуйчатыми дьяволами более прогрессивны даже вы, японские
империалисты. Я тоже отмечаю это.
-- Аригато [Спасибо (яп.). -- Прим. перев.], -- сказал майор, вежливо и
сардонически поклонившись.
-- Мы раньше выступали вместе против чешуйчатых дьяволов. -- Нье знал,
что это, мягко говоря, преувеличение. Но японцы, все вместе и каждый в
отдельности, были гораздо лучшими солдатами, чем солдаты и
Народно-освободительной армии, и гоминьдана. Если бы отряд Мори вступил в
местный народный фронт, то маленьким чешуйчатым дьяволам не поздоровилось
бы. Поэтому Нье сделал еще одну попытку:
-- Артиллерийские снаряды, которыми вы снабдили нас. сослужили хорошую
службу, и маленькие дьяволы понесли большие потери.
-- Лично я рад, что это так, -- ответил Мори. -- Но в то время, когда
вы получали от меня эти снаряды, маленькие дьяволы и Япония находились в
состоянии войны. Сейчас, похоже, положение другое. Если мы присоединимся к
нападениям на чешуйчатых дьяволов и нас опознают, то все шансы на мирный
договор будут уничтожены. Без прямого приказа с Родных Островов я этого
делать не буду, что бы я ни чувствовал сам.
Нье Хо-Т'инг поднялся на ноги.
-- Тогда я возвращаюсь в Пекин.
В этих словах сквозило скрытое предупреждение: если японцы не позволят
ему вернуться или застрелят его, то целью китайских атак станут они, а не
маленькие дьяволы.
У Мори, хоть он и был всего лишь восточным дьяволом, хватило мозгов
понять предупреждение. Он тоже встал и поклонился Нье.
-- Как я сказал, я лично желаю вам удачи в борьбе против маленьких
чешуйчатых дьяволов. Но когда речь идет о нуждах страны, личные желания
должны отступить.
Будь он марксистом-ленинцем, он выразился бы другими словами, но смысл
остался бы прежним.
-- Я тоже не испытываю к вам личной неприязни, -- попрощался Нье.
Он выбрался из японского лагеря, расположенного где-то в сельской
местности, и направился в Пекин.
Земля на дороге рассыпалась под его сандалиями. Стрекозы пролетали
мимо, выполняя маневры, недоступные никакому истребителю. Крестьяне и их
жены гнули спины на пшеничных и просяных полях, занимаясь бесконечной
прополкой. Если бы Нье был художником, а не солдатом, он остановился бы,
чтобы сделать наброски.
Но он думал вовсе не об искусстве. Он думал о том, что японцы майора
Мори слишком долго находятся поблизости от Пекина. Маленькие чешуйчатые
дьяволы, если бы когда-нибудь им пришло такое в голову, могут использовать
японцев против народного фронта точно так же, как гоминьдан использовал
войска ящеров против Народно-освободительной армии. Это позволит маленьким
дьяволам воевать с китайцами, не подставляя под пули свои войска.
Он ничего не имел против японского майора, нет. Он уважал его, как
солдата, но это лишь ухудшало ситуацию: потенциально японец представлял
большую опасность. Острая, как бритва, логика диалектики вела к неизбежному
заключению: гнездо Мори должно быть ликвидировано как можно скорее.
-- Это даже к лучшему, -- громко сказал Нье.
Никто его не слышал, кроме пары уток, плававших в пруду. Если маленькие
чешуйчатые дьяволы имеют достаточно соображения, чтобы понимать косвенные
намеки, то исчезновение возможных союзников даст им понять, что народный
фронт ведет против них не только пропагандистскую кампанию, но и активно
действует.
Он добрался до Пекина к полуночи. Вдали слышались выстрелы. Кто-то
боролся за дело прогресса.
-- Что вы делаете здесь в столь поздний час? -- спросил
охранник-человек у ворот города.
-- Иду к своему кузену.
Нье протянул фальшивое удостоверение личности и сложенную банкноту.
Охранник вернул удостоверение, но не деньги.
-- Тогда проходите, -- сипло сказал он. -- Но если я увижу вас
поблизости в поздний час, то подумаю, что вы вор. Тогда вам плохо придется.
Он взмахнул дубинкой с шипами, наслаждаясь своей крохотной властью.
Нье изо всех сил старался не рассмеяться в лицо охраннику. Вместо этого
он нагнул голову, словно испугавшись, и поспешил мимо стража в город. До
общежития было недалеко.
Когда он пришел к себе, Лю Хань гонялась за Лю Мэй по пустой столовой.
Лю Мэй визжала от восторга. Она принимала это за веселую игру. Лю Хань
выглядела так, словно вот-вот упадет. Она погрозила дочери пальцем:
-- Ты пойдешь спать, как хорошая девочка, или я отдам тебя обратно
Томалссу.
Лю Мэй не обращала внимания. По усталому вздоху Лю Хань было видно, что
она не ожидала от Лю Мэй такого неповиновения.
Нье Хо-Т'инг спросил:
-- Что ты собираешься делать с маленьким чешуйчатым дьяволом по имени
Томалсс?
-- Я не знаю, -- сказала Лю Хань. -- Хорошо, что ты вернулся, но
трудные вопросы задашь в другой раз. А сейчас я слишком устала не только
чтобы думать, но даже смотреть. -- Она подбежала и выдернула Лю Мэй из-под
опрокидывающегося стула. -- Невозможная дочь!
Лю Мэй решила, что это забавно.
-- Как там чешуйчатый дьявол, достаточно наказан? -- настаивал Нье.
-- Он никогда не будет наказан достаточно за то, что он сделал со мной,
с моей дочерью, с Бобби Фьоре и другими мужчинами и женщинами, имен которых
я даже не знаю, -- яростно выкрикнула Лю Хань. Затем она несколько
успокоилась. -- Почему ты спрашиваешь?
-- Потому что вскоре может быть полезно предъявить самого маленького
дьявола или его тело их властям, которые обосновались здесь, в Пекине.
-- Это должно быть решение центрального комитета, а не только мое, --
сказала, нахмурившись, Лю Хань.
-- Знаю.
Нье смотрел на нее с настороженностью. Она далеко ушла от крестьянки,
горюющей из-за украденного ребенка. Когда стирались классовые различия,
когда предоставлялись и поощрялись возможности развить свои способности,
занять более высокий пост в Народно-освободительной армии, -- случались
удивительные вещи. Примером была сама Лю Хань. Вряд ли в своей деревне она
вообще знала о существовании центрального комитета. Теперь она умела
манипулировать им не хуже, чем ветеран партии.
-- Я не стал поднимать этот вопрос перед комитетом. Я хотел вначале
узнать твое мнение.
-- Благодарю за заботу о моем личном мнении, -- сказала она и
посмотрела на Нье, размышляя. -- Я не знаю. Полагаю, что я могла бы
согласиться с любым решением, если оно поможет нашему делу против маленьких
чешуйчатых дьяволов.
-- Говоришь как женщина партии! -- воскликнул Нье.
-- Может быть, и так, -- сказала Лю Хань. -- Я должна согласиться с
общим решением. Разве не так?
-- Так, -- согласился Нье Хо-Т'инг. -- Ты получишь инструкции, раз ты
этого хочешь. Я буду горд проинструктировать тебя лично.
Лю Хань кивнула. Нье сиял. Вовлекая в партию нового члена, он испытывал
такие же ощущения, как миссионер, привлекший в лоно церкви новообращенного.
-- Однажды, -- сказал он ей, -- ты займешь достойное место и будешь
давать инструкции, а не получать их.
-- Это было бы прекрасно, -- сказала Лю Хань.
Она смотрела сквозь него -- видимо, заглядывая в будущее. От этого
взгляда Нье занервничал: не видит ли она, как приказывает что-то ему?
Его улыбка сползла с лица. Если она будет прогрессировать с прежней
скоростью, такая перспектива не кажется совсем уж невероятной.
* * *
Топот конских копыт и стук железных шин двуколки всегда возвращали
Лесли Гровса во времена до Первой мировой войны, когда эти звуки были
обычными при перемещении из одного места в другое. Когда он отметил это,
генерал-лейтенант Омар Брэдли покачал головой.
-- Не совсем так, генерал, -- сказал он. -- В те времена дороги на
удалении от городов не были замощены.
-- Вы правы, сэр, -- согласился Гровс. Он нечасто уступал в спорах
кому-либо, даже атомным физикам, которые временами приходили скандалить в
управление Металлургической лаборатории, но на этот раз должен был
согласиться. -- Я вспоминаю, тогда маленькие городки считали себя средними,
а средние города -- большими, если у них были замощены все пригородные
дороги.
-- Именно, -- сказал Брэдли. -- Ведь когда я был мальчишкой, а вас еще
не было, никто и не знал ни об асфальте, ни о бетоне. Грунтовые дороги
гораздо лучше для лошадиных копыт. Это было более легкое время во многих
отношениях. -- Он вздохнул, как любой человек средних лет, вспоминающий о
днях своей юности.
Почти любой. Лесли Гровс был инженером до мозга костей.
-- Грязь, -- сказал он, -- Пыль. Фартуки на коленях, чтобы не
измазаться по уши, пока добираешься до нужного места. Навоза столько, что не
отгребешь палкой. А сколько мух! Мне бы в то в старое доброе время --
нормальный закрытый "паккард" на хорошем, ровном и прямом отрезке шоссе!
Брэдли хмыкнул:
-- У вас нет уважения к старым добрым временам.
-- К черту добрые старые времена, -- сказал Гровс. -- Если бы ящеры
явились в старые добрые времена, они разметали бы нас на кусочки так быстро,
что и не заметили бы.
-- Не стану спорить. А уж выходить среди зимы из домика с двумя дырками
и окошком в форме полумесяца было совсем не забавно. -- Он наморщил нос. --
А если подумать, то и в жару тоже было не лучше. -- Он громко расхохотался.
-- Да, генерал, к черту старые добрые дни. Нам и сегодняшних забот хватит.
-- Он показал вперед, поясняя, что он имеет в виду.
Гровс никогда раньше не посещал лагеря беженцев. Конечно, он знал о
них, но не больше. Он не чувствовал за собой вины: он делал очень много и
еще сколько-то сверх того. Если бы не он, США к этому времени уже проиграли
бы войну и уж точно не сидели бы почти как равные с ящерами за столом
переговоров.
Но жизнь в лагерях легче не становилась. Гровс был защищен от тяжелой
жизни тех, кто попал в жернова войны. Благодаря важности Металлургической
лаборатории он всегда имел в достатке еду и крышу над головой. Большинство
людей не были так удачливы.
О войне часто судят по кинохронике. Но в ней худшее обычно не
показывают. Люди на экране -- черно-белые. И вы не ощущаете их запаха.
Ветер дул им в спину, но от лагеря пахло так, как от многократно
увеличенного домика, о котором вспомнил Брэдли.
Люди в кадрах кинохроники не бегут к вам, как стадо живых скелетов, с
огромными глазами на лице, кожа на котором натянута, как на барабане, и с
вытянутыми просящими руками.
-- Пожалуйста, -- звучало снова, снова и снова. -- Еды, сэр? Денег,
сэр? Чего-нибудь, что у вас есть, сэр?
От просьбы истощенной женщины у Гровса покраснели уши.
-- Можем ли мы сделать для этих людей хоть что-то в дополнение к тому,
что мы уже делаем, сэр? -- спросил он.
-- Не представляю, -- ответил Брэдли. -- Вода им подается. Но я не
знаю, как снабжать их пищей, если у нас ее нет.
Гровс посмотрел на себя. Его живот был по-прежнему объемистым. Все, что
поступало сюда, в первую очередь шло армии, а не беженцам и не жителям
Денвера, работа которых не имела значения для военной машины. Этого требовал
здравый, холодный, логический расчет. Рациональный, как он знал. Но быть
рациональным трудно, в особенности здесь.
-- Но ведь теперь перемирие. Как скоро мы начнем привозить зерно с
севера? -- спросил он. -- Ящеры не станут бомбить товарные поезда, как они
это делали раньше.
-- Это так, -- согласился Брэдли, -- но во время наступления на город
они превратили железные дороги в кашу.
Инженеры до сих пор стараются исправить положение. Но даже если поезда
и пойдут, то возникает вопрос, где взять зерно. Ящеры до сих пор удерживают
большую часть нашей хлебной корзины. Может быть, у канадцев есть запасы.
Чешуйчатые ублюдки, похоже, не так сильно тряхнули их, как нас.
-- Им нравится теплая погода, -- сказал Гровс. -- Есть места получше,
чем север штата Миннесота.
-- Вы правы, -- сказал Брэдли. -- Но наблюдать, как умирают люди,
здесь, в центре Соединенных Штатов, это самое последнее дело, генерал.
Никогда не думал, что доживу до дня, когда мы, для того чтобы доставить то
малое, что можем, будем использовать вооруженную охрану против воров. И это
ведь на нашей территории! А что творится в районах, которые ящеры удерживали
последние два года? Как много людей умерло только потому, что ящеры и не
подумали накормить их?
-- Слишком много, -- сказал Гровс. -- Сотни тысяч? Должно быть.
Миллионы? Меня это не удивит.
Брэдли кивнул.
-- Если даже мы выдавим ящеров из США и они оставят нас на время одних
-- это самое большое, на что мы можем надеяться, -- какая страна нам
достанется? Меня это очень беспокоит. Помните Хуай Лонг, отца Кофлина и
технократов? Человек с пустым желудком будет слушать любого дурака, который
пообещает ему трехразовое питание, а у нас таких людей множество.
Как бы иллюстрируя его слова, к лагерю беженцев подъехали три телеги,
запряженные лошадьми. Люди в хаки и касках со всех сторон окружили телеги.
Примерно у половины из них были автоматы, у остальных -- винтовки с
примкнутыми штыками. Волна голодных людей остановилась на приличном
расстоянии от солдат.
-- Трудно отдать приказ стрелять на поражение в голодающих людей, чтобы
предотвратить разграбление ваших телег с продовольствием, -- угрюмо сказал
Брэдли. -- Если я такого приказа не отдам, продовольствие получат быстрые и
сильные, а больше никто. Не могу этого допустить.
-- Да, сэр, -- согласился Гровс,
Под жесткими и внимательными взглядами американских солдат их штатские
сограждане встали в очередь, чтобы получить по пригоршне зерна и бобов. По
сравнению с этой пайкой суповые кухни времен Великой депрессии были
пятизвездочными ресторанами с фирменными блюдами на голубых тарелках. Тогда
еда была дешевой и простой, но ее было много -- если только вы могли
перебороть свою гордость и принять благотворительный дар.
Теперь же... Глядя на изгибающуюся змеей очередь, Гровс задумался. Он
был так занят делом спасения страны, что высказанный генералом Брэдли вопрос
никогда не возникал у него: какую же страну он спасал?
Чем больше смотрел он на лагерь беженцев, тем меньше ему нравился
ответ, к которому он пришел.
* * *
Впервые в жизни Вячеславу Молотову понадобились все силы, чтобы
сохранить каменное выражение лица.
"Нет! -- хотелось ему закричать на Иоахима фон Риббентропа. -- Пусть
все идет, как идет! Нам надо решить так много вопросов! Если ты нажмешь
слишком сильно, то станешь жадной собакой из сказки, той, что бросила кость
в реку, чтобы схватить ее отражение в воде".
Но германский министр иностранных дел поднялся на ноги и заявил:
-- Польша была территорией германского рейха до того, как Раса пришла в
этот мир, и потому должна быть возвращена рейху. Так сказал фюрер.
Гитлер всегда был очень похож на собаку из сказки. Он понимал только
свои интересы, все остальное для него исчезало из реальности. Если бы он
довольствовался миром с Советским Союзом, пока не покончит с Британией, он
мог бы дурачить Сталина еще какое-то время и только потом неожиданно напасть
и таким образом не ввязываться в войну на два фронта. Но он не стал ждать.
Он не мог ждать. За СССР ему пришлось расплачиваться. Разве он не видит, что
за ящеров придется расплачиваться куда страшнее?
Очевидно, что он этого не видит. Здесь находится его министр
иностранных дел, выжимающий из себя слова, обидные для его
противников-людей. Сказанные в адрес ящеров, гораздо более могущественных,
чем Германия, эти слова поразили Молотова своим буквально клиническим
безумием.
Через своего переводчика Атвар сказал:
-- Это предложение неприемлемо для нас, потому что оно неприемлемо для
многих других тосевитов, беспокоящихся об этом регионе. Оно только разожжет
конфликт в будущем.
-- Если вы немедленно не вернете нам Польшу, то это разожжет конфликт
сейчас, -- воскликнул фон Риббентроп.
Главнокомандующий ящеров издал примерно такой же звук, какой издает
проколотая камера.
-- Можете передать фюреру, что Раса готова испытать удачу.
-- Я так и сделаю, -- сказал фон Риббентроп и выскочил из зала
заседаний в отеле "Шепхед".
Молотову захотелось побежать за ним и позвать его назад.
"Подожди, дурак!" -- безмолвный крик отдавался в его голове.
Мегаломания Гитлера может утянуть на дно, где вскоре окажется Германия,
и всех остальных. Даже страны, обладающие бомбами из взрывчатого металла и
ядовитым газом, могут причинить ящерам всего лишь большие неприятности --
пока не научатся доставлять это оружие дальше линии фронта.
Советский комиссар иностранных дел колебался. Может быть, наглое
поведение Риббентропа означает, что гитлеровцы располагают таким методом? Он
не верил в это. Ракеты их лучше, чем у кого бы то ни было, но настолько ли
они мощны, чтобы забросить десять тонн на сотню, а может быть, и на тысячу
километров? Советские ракетные специалисты заверили его, что нацисты не
могут опередить их _настолько_.
А если они ошибаются... Молотов не задумывался над тем, что случится,
если они ошибаются. Если немцы научатся забрасывать бомбы из взрывчатого
металла на сотни и тысячи километров, то они с одинаковым успехом смогут
бомбить и Москву, и ящеров.
Он переборол свое нарастающее возбуждение. Если бы у нацистов были
такие ракеты, они не были бы такими настойчивыми в вопросе с Польшей. Они
могли бы запускать свои бомбы из Германии и затем захватить Польшу просто на
досуге. На этот раз ученые, пожалуй, правы.
Однако... Гитлер в своих действиях руководствовался скорее эмоциями,
чем здравым смыслом.
Что, если нацистская доктрина -- всего лишь извращенная романтика? Если
вам чего-то хочется, это означает, что вещь должна стать вашей, а это, в
свою очередь, означает, что у вас есть право -- и даже обязанность -- пойти
и забрать ее. А если кто-нибудь имеет наглость сопротивляться, вы растопчете
его. Имеет значение только ваша воля.
Но если человек ростом в полтора метра и весом в пятьдесят килограммов
захочет того, что принадлежит человеку ростом в два метра и весящему сто
килограммов, и попытается взять это, результатом будут его расквашенный нос
и выбитые зубы -- независимо от силы желания. Гитлеровцы этого не поняли,
хотя нападение на Советский Союз должно было их чему-то научить.
-- Заметьте, товарищ адмирал, -- сказал Молотов, -- что уход
германского министра иностранных дел не означает, что остальные участники
переговоров отказываются обсуждать с вами остающиеся расхождения.
Яков Донской перевел эти слова на английский, Уотат -- на язык ящеров.
Если повезет, то чужаки втопчут гитлеровцев в грязь и избавят СССР от
большой проблемы.
* * *
-- Ягер! -- закричал Отто Скорцени. -- Тащи сюда свой тощий зад. Надо
кое о чем поговорить.
-- О чем с тобой говорить, кроме твоих манер медведя, мучающегося
зубной болью? -- парировал Ягер.
Он не поднялся с места. Он был занят штопкой носка, и это была трудная
работа, потому что приходилось держать его дальше от лица, чем он привык. За
последнее время он стал более дальнозорким. Рано или поздно человек
рассыпается, даже если его и не подстрелят. Это происходит само собой.
-- Извините меня, ваше великолепное полковничество, милорд фон Ягер, --
сказал Скорцени, наполняя свой голос густым сахарным сиропом, -- не будете
ли вы так милостивы и благосклонны, чтобы удостоить вашего покорного и
послушного слугу кратчайшим отрезком вашего драгоценнейшего времени?
Ругаясь, Ягер поднялся на ноги.
-- Знаешь, Скорцени, а мне больше понравилось: "Тащи сюда свой тощий
зад".
Штандартенфюрер СС хмыкнул.
-- Я так и думал. Идем. Прогуляемся немного.
Это означало, что у Скорцени есть новость и он не хочет, чтобы ее
услышал кто-то еще. И она предположительно означает, что где-то должен
разверзнуться очередной ад, причем, скорее всего, прямо здесь. Почти
плачущим голосом Ягер протянул:
-- А мне так нравилось перемирие.
-- Жизнь трудна, -- сказал Скорцени, -- и наша работа состоит в том,
чтобы делать ее еще труднее -- для ящеров. Твой полк ведь все еще силен,
правда? Как скоро вы можете быть готовы врезать нашим чешуйчатым приятелям в
рыло?
-- Мы отправили примерно половину "пантер" в ремонтный центр для
восстановления, -- ответил Ягер. -- Топливопроводы, новые люки для башен,
прокладки топливных помп... Мы воспользовались перемирием, чтобы заменить
все, что успеем, но поскольку оно продлилось, мы стали ремонтировать все
остальное. Никто не говорил мне, что оно будет нарушено.
-- Я тебе говорю, -- сказал эсэсовец. -- Сколько времени нужно группе,
чтобы выйти на полную боевую готовность? Вам ведь нужны эти "пантеры", так
ведь?
-- Да, пожалуй, -- ответил Ягер. -- Они вернутся через десять дней --
или через неделю, если кто-то, умеющий раздавать затрещины, навалится на
ремонтников.
Скорцени закусил губу.
-- Доннерветтер! Если я насяду на них как следует -- как думаешь, за
пять дней танки вернутся на фронт? Это мой крайний срок, и у меня нет
возможности нарушить его. Если к этому времени "пантер" здесь не будет, ты,
старик, двинешься без них.
-- Двинусь -- куда? -- спросил Ягер. -- Почему ты мне приказываешь? В
смысле почему ты, а не командир дивизии?
-- Потому что я получаю приказы от фюрера и от рейхсфюрера СС, а не от
генерал-майора в жестяной каске, командующего ничтожным корпусом, --
самодовольно ответил Скорцени. -- Вот что произойдет, как только вы будете
готовы выступить, а артиллеристы займутся своим делом: я взорву Лодзь к
чертовой матери, а вы -- и все остальные -- наброситесь на ящеров, которые
будут стараться понять, что произошло. Другими словами, война
возобновляется.
Ягер подумал, попало ли его сообщение евреям в Лодзи? Если так,
интересно, смогли они отыскать бомбу, которую эсэсовец спрятал где-то там? И
главное:
-- Что сделают ящеры, если мы взорвем Лодзь? Они отвечали городом на
каждую бомбу, которую мы взрывали в ходе войны. Сколько городов они
разрушат, если мы применим такую бомбу, нарушив перемирие?
-- Не знаю, -- ответил Скорцени. -- Я знаю, что никто не просил меня
беспокоиться по этому поводу, а потому и не собираюсь. У меня есть приказ
взорвать Лодзь в ближайшие пять дней, так что целая толпа длинноносых жидов
улетит в небо вместе с ящерами. Мы научим ящеров и тех, кто к ним
подлизывается, тому, что мы слишком страшные, чтобы препятствовать нам.
-- Если взорвать евреев, то чему это научит ящеров? -- Ягер почесал
голову. -- Почему ящеры станут беспокоиться о том, что случится с евреями? И
с кем мы воюем -- с евреями или с ящерами?
-- Черт возьми, мы находимся в состоянии войны с ящерами, -- ответил
Скорцени, -- и мы всегда воюем с евреями, так ведь? Ты это знаешь. Ты
достаточно плакал и стонал об этом. Поэтому мы взорвем кучу жидов и кучу
ящеров, и фюрер будет так счастлив, что станцует джигу, как он сделал, когда
мы свалили лягушатников в девятьсот сороковом году. Итак -- максимум пять
дней. Ты будешь готов выступить?
-- Если мои танки вернутся из мастерских, то да, -- сказал Ягер. -- Как
я сказал, кто-то должен подстегнуть механиков.
-- Я позабочусь об этом, -- пообещал эсэсовец, широко и злобно
улыбаясь. -- Как думаешь, они не зашевелятся быстрее, если под ними
загорится земля?
Ягер не рискнул бы биться об заклад, ставя на то, что Скорцени не
высказался в буквальном смысле слова.
-- Я им разъясню, что если они не обрадуют меня, то будут отвечать
перед Гиммлером. С кем лучше иметь дело, со мной или с маленьким школьным
учителем в очках?
-- Хороший вопрос, -- сказал Ягер.
Если рассматривать Скорцени просто как человека, то он куда страшнее
Гиммлера. Но Скорцени -- всего лишь Скорцени. Гиммлер же олицетворяет
организацию, которую возглавляет, и эта организация придает ему устрашающие
черты совсем другого масштаба.
-- Правильный ответ: лучше, чтобы никто из нас двоих не разозлился, не
говоря уже о том, чтобы разозлились оба вместе, -- сказал Скорцени, и Ягер
вынужден был согласиться. -- Как только бомба взорвется, вы двинетесь на
восток. Кто знает, ящеры могут удивиться так сильно, что ты ухитришься
раньше времени посетить свою русскую подругу. Как тебе это нравится? -- Он
покачал бедрами вперед и назад, намеренно неприлично.
-- Мне доводилось слышать идеи, которые мне нравились меньше, -- сухо
ответил Ягер. Скорцени гулко расхохотался.
-- Бьюсь об заклад, так и было. На самом деле. -- И без предупреждения
он задал совершенно другой вопрос. -- Она еврейка, эта твоя русская?
Он спросил это самым обычным тоном, каким полицейский сержант
интересуется у подозреваемого в краже, где он был в одиннадцать часов ночи.
-- Людмила? -- спросил Ягер, испытывая облегчение оттого, что может
говорить правду. -- Нет.
-- Хорошо, -- сказал эсэсовец. -- Я так и думал, но хотел знать
наверняка. Значит, она не рассердится на тебя, если Лодзь взлетит на воздух,
правильно?
-- Не думаю, -- ответил Ягер.
-- Это прекрасно, -- сказал Скорцени. -- Да, это прекрасно. Тогда и
тебе будет хорошо. Помни, пять дней. Ты получишь свои танки, или кто-то
пожалеет, что вообще родился на свет.
Посвистывая на ходу, он направился в лагерь.
Ягер последовал за ним, но медленнее, стараясь не выдать своей
задумчивости. СС разрубила на части польского фермера, узнав, что он был
замешан в передаче сведений евреям в Лодзь. А теперь Скорцени спрашивает, не
еврейка ли Людмила. Скорцени, конечно, не знает всего, иначе некто Ягер уже
не был бы командиром полка. Но подозрения росли, как ростки, пробивающие
толщу гнилых листьев.
Ягер подумал, не следует ли передать в Лодзь еще одно сообщение через
Мечислава, но решил, что сейчас не стоит испытывать судьбу. Он надеялся, что
евреи уже получили его предупреждение и нашли бомбу. Надежда эта частично
родилась из стыда за позорное отношение к евреям, которое практиковал рейх,
а частично из страха: что ящеры сделают с Германией, если немцы взорвут
атомную бомбу в то время, когда идут переговоры о перемирии? Сказать, что
они воспримут это с неудовольствием, было бы очень мягко.
Познакомившись с Мордехаем Анелевичем, Ягер понял, что евреи нашли в
нем прекрасного руководителя. Если он узнал, что Скорцени спрятал в Лодзи
бомбу, он перевернет землю и небо, чтобы отыскать ее. Ягер сделал все, что
только было в его силах, чтобы предупредить евреев.
Через пять дней Скорцени нажмет кнопку. Может быть, покажется, что
поднялось новое солнце -- как это было под Бреслау. А может быть, вообще
ничего не произойдет.
И что тогда сделает Скорцени?
* * *
Разгуливать в полный рост на виду у ящеров казалось неестественным.
Остолоп Дэниелс обнаружил, что непроизвольно подыскивает ближайшую воронку
от снаряда или кучу обломков, за которой можно укрыться, если снова
раздастся стрельба.
Но стрельба не возобновлялась. Один из ящеров помахал ему чешуйчатой
рукой. Он ответил тем же. Такого перемирия на его памяти еще не было. Тогда,
в 1918-м, стрельба остановилась из-за того, что бошей сильно прижали. Теперь
не то -- ни одна сторона не уступила другой. Он думал, что бои могут
возобновиться в любое время. Но пока они не начинались и, возможно, и не
начнутся. Он надеялся, что не начнутся. Он уже навоевался на две жизни.
Двое его людей купались в речке неподалеку. До перемирия в течение
длительного времени ни у кого не было возможности поддерживать чистоту. В
условиях фронта вы остаетесь грязным, в основном из-за опасности быть
подстреленным, когда вы открываете свое тело воде и воздуху. Через некоторое
время вы перестаете ощущать запах, который исходит от вас: все остальные
пахнут точно так же. Теперь Остолоп начал привыкать к отсутствию вони.
С севера, со стороны Кинси, донесся шум двигателя внутреннего сгорания.
Остолоп обернулся и посмотрел на дорогу. К ним подъезжал большой штабной
"додж", на таких имели привычку разъезжать офицеры, пока бензина не стало
слишком мало, чтобы повсюду болтаться на автомобиле. Появление его было
признаком уверенности начальства в том, что перемирие продлится еще.
Так же уверенно на антенне штабной машины трепетал трехзвездный флаг. У
парня, стоявшего за пулеметом в задней части машины, на каске тоже были
нарисованы три звезды. На поясе у него болтались два револьвера с костяными
ручками.
-- Выше головы, ребята, -- воззвал Остолоп. -- К нам с визитом
пожаловал генерал Паттон.
Паттон славился своей жестокостью и любил демонстрировать ее всем и
каждому. Дэниелс надеялся, что он не станет доказывать ее, выпустив пару
пулеметных лент в сторону ящеров.
Штабная машина затормозила. Колеса еще не остановили вращение, а Паттон
уже соскочил с машины и направился к Остолопу, который оказался ближе всех.
Остолоп встал по стойке смирно и отдал честь, подумав, что ящеры наверняка
взяли на мушку этого агрессивного вида пришельца.
Беда только в том, что, начав стрелять в Паттона, они выстрелят и в
него.
-- Вольно, лейтенант, -- сказал Паттон сухим тоном. Он показал через
линию фронта на пару ящеров, занимавшихся каким-то своим делом. -- Значит,
это враги, лицом к лицу. Уродливые дьяволы, не так ли?
-- Да, сэр, -- сказал Остолоп. -- Конечно, то же самое они говорят о
нас, сэр. Называют нас Большими Уродами, я имею в виду.
-- Да, я знаю. Каждый видит свою красоту, как говорится. Мне они,
лейтенант, кажутся уродливыми сукиными сынами, и если они называют меня
уродом, что ж, слава богу, я считаю это комплиментом.
-- Да, сэр, -- снова ответил Остолоп.
Паттон, похоже, не был склонен к стрельбе по окружающему ландшафту, за
что Остолоп был ему чрезвычайно благодарен.
-- Они соблюдают правила перемирия в этом районе? -- спросил генерал.
Казалось, он может начать войну снова, если ответ будет отрицательным.
Но Остолоп отрапортовал:
-- Так точно, сэр. Надо отдать справедливость ящерам: когда они берут
обязательство, они исполняют его. Лучше, чем немцы и японцы, и, может быть,
русские, насколько мне известно.
-- Вы говорите так, словно уже сталкивались с этим, лейтенант...
-- Дэниелс, сэр. -- Остолоп едва не рассмеялся. Он был примерно в
возрасте Паттона. Если ты не набрался опыта, приближаясь к шестидесятилетию,
то какого черта ты жил? -- Я прошел через мясорубку под Чикаго, сэр. Каждый
раз, когда мы договаривались с ящерами остановить огонь, чтобы собрать
раненых и все такое, они точно соблюдали договор. Может, они и ублюдки, но
ублюдки честные.
-- Чикаго. -- Паттон сделал кислую мину. -- Это была не война,
лейтенант, это была бойня, она обошлась им дорого, еще до того, как мы
применили против них атомное оружие. Их величайшее преимущество по сравнению
с нами -- быстрота и мобильность, и как они ими воспользовались? Никак, они
их отбросили прочь, лейтенант, и увязли в бесконечных уличных боях, где
человек с автоматом так же хорош, как ящер с автоматической винтовкой, а
человек с бутылкой "коктейля Молотова" может разделаться с танком, который
на открытой местности способен раздавить дюжину наших "шерманов", даже не
вспотев. Точно так же воевали и нацисты в России. Они тоже были дураками.
-- Да, сэр.
Дэниелс чувствовал себя мальчишкой, слушающим рассказы о том, как
выбрать лучший момент для захвата мяча и пробежки. Паттон знал военное дело
так, как Остолоп бейсбол.
Генерал принялся развивать тему:
-- И ящеры не учатся на своих ошибках. Если бы не их нашествие и немцы
прорвались бы к Волге, можете вы предположить, что немцы были бы такими
глупыми, что стали бы пытаться захватить Сталинград, отвоевывая дом за
домом? Как вы считаете, лейтенант?
-- Сомневаюсь, сэр, -- сказал Остолоп, в жизни ничего не слышавший о
Сталинграде.
-- Конечно, они не стали бы! Немцы -- умные солдаты, они учатся на
своих ошибках. Но после того как мы отогнали ящеров от Чикаго позапрошлой
зимой, что они сделали? Они снова поперли вперед, прямо в мясорубку. И
заплатили за это. Вот поэтому-то, если переговоры пойдут, как надо, им
придется убраться со всей территории США.
-- Будет чудесно, если это случится, сэр, -- сказал Остолоп.
-- Нет, -- сказал Паттон. -- Чудесно было бы убить каждого из них или
изгнать их из нашего мира совсем.
"Чего у него не отнимешь, -- подумал Остолоп, -- так это масштаба".
-- Поскольку мы не можем сделать этого, то нам придется научиться жить
вместе с ними в дальнейшем. -- Паттон махнул в сторону ящеров. -- Как,
братание происходит мирно, лейтенант?
-- Да, сэр, -- ответил Дэниелс. -- Иногда переходят сюда для --
полагаю, это можно назвать так -- профессионального разговора, сэр. Иногда
просят имбиря. Вероятно, вы знаете об этом.
-- О да, -- хмыкнув, сказал Паттон. -- Я знаю. Приятно было узнать, что
грешки есть не только у нас. Некоторое время меня это удивляло. И чем же они
платят за имбирь?
-- Ух, -- сказал Остолоп. Говорить так генералу лейтенант не должен,
поэтому он поспешил продолжить: -- Всякую всячину, сэр. Иногда сувениры,
всякий хлам, ничего не значащий для них, как это было у нас, когда мы
продавали бусины индейцам. У них есть самоприлипающие бинты, которые куда
лучше наших.
Глаза Паттона заблестели.
-- Они когда-нибудь предлагали спиртные напитки за имбирь, лейтенант?
Такое случалось?
-- Да, сэр, случалось, -- осторожно ответил Остолоп, гадая, не
обрушатся ли на него в следующий миг небеса.
Паттон медленно кивнул. Его глаза по-прежнему буравили Дэниелса.
-- Хорошо. Если бы вы ответили мне иначе, я подумал бы, что вы лжец.
Ящеры не любят виски -- я говорил вам, что они глупцы Они пьют ром. И даже
джин. Но шотландское, бурбон или ржаное? Они не прикасаются к виски. Поэтому
когда они добывают что-то, им не нужное, и меняют на то, чего им хочется, то
считают себя в выигрыше.
-- У нас не было проблем с пьяными и хулиганами, сэр, -- сказал
Остолоп, что было достаточно близко к истине. -- Я не препятствую тому,
чтобы ребята выпили по глотку во внеслужебное время, и не только во время
перемирия, но они всегда готовы к бою.
-- Вы выглядите как человек, который достаточно повидал, -- сказал
Паттон. -- Не могу пожаловаться на то, как вы обращаетесь со своими людьми,
если они, как вы говорите, готовы к бою. Армия ведь не занимается
подготовкой бойскаутов, так ведь, лейтенант Дэниелс?
-- Нет, сэр, -- быстро ответил Остолоп.
-- Правильно, -- прорычал Паттон. -- Нет. Это не значит, что
аккуратность и чистота не имеют значения для дисциплины и морали. Я рад
видеть ваше обмундирование чистым и хорошо починенным, лейтенант, и еще
больше меня радует вид купающихся людей. -- Он показал на солдат в речке. --
Очень часто люди на передовой считают, что армейские правила не относятся к
ним. Они ошибаются и иногда нуждаются в напоминании.
-- Да, сэр, -- сказал Дэниелс, вспоминая, каким грязным был он сам и
его форма, когда он наконец пару дней назад выбрал время помыться.
Он порадовался, что поблизости не оказалось Германа Малдуна -- Паттону
достаточно было бы одного взгляда, чтобы отправить его на гауптвахту.
Кстати, у самого Паттона подбородок был тщательно выбрит, форма -- чистая и
с отутюженными складками, а начищенные ботинки раздражающе блестели.
-- Судя по тому, что я увидел, лейтенант, у вас превосходная позиция.
Будьте настороже. Если наши переговоры с ящерами пойдут так, как надеются
гражданские власти, мы двинемся вперед и возвратим оккупированные территории
Соединенных Штатов. Если же они сорвутся, то мы схватим ящеров за морду и
дадим им под хвост.
-- Да, сэр, -- снова сказал Остолоп.
Паттон еще раз стальным взглядом посмотрел на ящеров и вспрыгнул в
штабную машину. Водитель завел мотор. Из выхлопной трубы вырвался едкий дым.
Большой шумный "додж" укатил прочь.
Остолоп облегченно вздохнул. Он пережил немало встреч с ящерами, а
теперь он пережил и встречу с собственным начальством. Как подтвердит любой
солдат на фронте, собственные генералы опасны для вас, по крайней мере в той
же степени, что и враг.
* * *
С немалым неудовольствием Лю Хань слушала дискуссию членов центрального
комитета о том, как привлечь на сторону Народно-освободительной армии массу
крестьян, наводнивших Пекин и желавших работать на маленьких чешуйчатых
дьяволов на уцелевших фабриках.
Ее неудовольствие стало заметным, потому что Хсиа Шу-Тао остановился на
середине своего доклада о новой пропагандистской листовке и ядовито заметил:
-- Сожалею, но мы, кажется, докучаем вам.
В голосе его сожаления не прозвучало; он жалел разве что о ее
присутствии здесь. Прежнюю презрительную наглость после неудавшейся попытки
изнасиловать Лю Хань он внешне не проявлял. Может быть, урок, который он
тогда получил, пошел ему на пользу. Во всяком случае, с той поры он подобных
попыток не повторял.
-- Все, что я услышала, показалось мне очень интересным, -- ответила Лю
Хань, -- но вы в самом деле думаете, что это вызовет интерес у крестьянина,
у которого в мыслях только -- набить свой живот и животы детей?
-- Эта листовка была подготовлена специалистами по пропаганде, --
сказал Хсиа снисходительным тоном. -- Почему вы позволяете себе заявлять,
что вы знаете больше, чем они?
-- Потому что я крестьянка, а не специалист по пропаганде, -- сердито
ответила Лю Хань. -- Если бы кто-то подошел ко мне и на манер христианских
миссионеров начал бы проповедовать о диктатуре пролетариата и необходимости
захвата средств производства, я не поняла бы, о чем он говорит, и не
захотела бы учиться этому. Я думаю, что ваши специалисты по пропаганде --
представители буржуазии и аристократии, далекие от истинных чаяний рабочих и
особенно крестьян.
Хсиа Шу-Тао вытаращил глаза. Он никогда не принимал ее всерьез, иначе
не рискнул бы напасть в тот злосчастный день.
Раньше он не замечал, как хорошо она овладела жаргоном коммунистической
партии. Лю Хань получила удовольствие от того, что повернула этот сложный
набор терминов против тех, кто их придумал.
Сидевший напротив Нье Хо-Т'инг спросил ее:
-- А как, по вашему мнению, сделать его пропаганду более эффективной?
Лю Хань оценила, с какой осторожностью ее любовник -- который был также
ее учителем в овладении учением коммунистической партии -- вмешался в спор.
Нье был старым товарищем Хсиа. Может быть, он проявил сарказм по отношению к
ней, поддерживая своего друга?
Она решила, что это не так, что вопрос был задан искренне.
-- Не учите крестьян идеологии. Большинство из них мало что поймет из
ваших слов. Вместо этого скажите им, что работа на чешуйчатых дьяволов
приносит народу вред. Скажите им, что те вещи, которые они помогают делать
маленьким дьяволам, будут использованы против их родственников, оставшихся в
деревне. Скажите им, что если они будут работать на чешуйчатых дьяволов, то
они и их родственники подвергнутся репрессиям. Это они могут понять. И если
мы потом разбомбим и сожжем фабрику или убьем рабочих, выходящих из нее, они
поймут, что мы говорим правду.
-- Однако они не проникнутся идеями, -- заметил Хсиа, и настолько
решительно, что Лю Хань подумала: не он ли написал большую часть текста
листовки, которую она критиковала?
Она посмотрела на него через стол.
-- Да? Ну и что? Гораздо важнее удержать крестьян от работы на
маленьких дьяволов. Если проще удержать их без пропаганды идей, то не стоит
и беспокоиться об этом. Нам не следует напрасно расходовать ресурсы, так
ведь?
Хсиа смотрел на нее сердито и удивленно. Год назад Лю Хань была
невежественной крестьянкой, но теперь она ушла очень далеко вперед. А можно
ли и других поднять так быстро до ее уровня политической сознательности? Она
сомневалась в этом. Она видела революционное движение изнутри, а другим эта
возможность может и не представиться.
Снова вмешался Нье:
-- Мы не можем ничего тратить понапрасну. Мы готовимся к длительной
борьбе, которая может продлиться целые поколения. Маленькие чешуйчатые
дьяволы хотят всех нас довести до уровня невежественных крестьян. Этого мы
не можем допустить, поэтому мы должны познакомить крестьянство с
определенной целью нашей программы. Та ли цель обсуждается сейчас -- это, я
должен заметить, другой вопрос.
Хсиа Шу-Тао выглядел так, словно его ткнули ножом. Даже старый друг не
поддержал его в полной мере.
-- Мы исправим все, как требуется, -- промямлил он.
-- Хорошо, -- одобрила Лю Хань. -- Это очень хорошо, благодарю вас.
Тот, кто победил, может проявить милость. Но -- не слишком.
-- Когда вы внесете изменения, то, пожалуйста, дайте мне взглянуть на
них, прежде чем отнесете документ к печатнику, -- добавила она.
-- Но...
Хсиа был готов взорваться от негодования. Однако, бросив взгляд на
сидящих вокруг стола, он заметил, как закивали другие члены центрального
комитета. Их Лю Хань убедила. Хсиа прорычал:
-- Если я дам вам текст, сможете ли вы прочитать его?
-- Я прочитаю его, -- ровным голосом ответила она. -- Было бы хорошо,
чтобы я смогла его прочитать, вы ведь это имели в виду? Рабочие и крестьяне,
для которых предназначается листовка, -- это ведь не ученые, которые должны
знать тысячи иероглифов. Послание должно быть сильным и простым.
Снова одобрительные кивки. Хсиа Шу-Тао наклонил голову в знак того, что
уступает. Но взгляд его был все еще чернее тучи. Лю Хань задумчиво
посмотрела на него.
Попытка изнасиловать ее была недостаточной для того, чтобы вычистить
Хсиа из центрального комитета, не говоря уже о партии. А как насчет
обструкционизма? Если он затянет с исправлениями или вообще не даст ей
исправленный текст листовки, что весьма вероятно, этого будет достаточно?
Она надеялась, что Хсиа выполнит свой долг как революционер, но
одновременно горела жаждой мести.
* * *
Атвар расхаживал взад и вперед по комнате, приспособленной -- хотя и не
очень удачно -- к потребностям Расы. Его короткий хвост рефлекторно
вздрагивал. Миллионы лет назад, когда не имевшие разума предки Расы были
длиннохвостыми плотоядными, охотившимися на равнинах Родины, это
подрагивание отвлекало жертву от другого конца тела -- того, который с
зубами. Если бы можно было так легко отвлечь Больших Уродов!
-- Как жаль, что мы не можем изменить наше прошлое, -- сказал он.
-- Благородный адмирал? -- Вопросительное покашливание Кирела показало,
что командир флагмана флота вторжения не уловил ход его мысли.
Адмирал объяснил:
-- Если бы мы больше воевали прежде, до образования единой империи,
наша военная технология в области оружия была бы более развитой. И мы
располагали бы лучшим оружием для завоевания других планет. То, что у нас
было, хорошо послужило нам против работевлян и халессианцев, и мы решили,
что так будет всегда. Тосев-3 стал крематорием для многих наших
предположений.
-- Истинно -- и неоспоримо истинно, -- сказал Кирел. -- Но если бы наши
внутренние войны длились дольше и велись более эффективным оружием, мы могли
уничтожить себя, а не объединиться под властью Императора.
Он опустил глаза. То же самое проделал и Атвар, испустив при этом
долгий шипящий выдох.
-- Только безумие этого мира заставляет меня исследовать гипотетические
варианты. -- Он снова прошелся по комнате, конец его толстого короткого
хвоста дергался вверх и вниз. В конце концов он вспылил. -- Командир,
правильно ли мы делаем, ведя переговоры с Большими Уродами и ради
практических целей соглашаясь уйти из нескольких их не-империй? Этот
поступок не имеет прецедентов, но ведь и с оппонентами, способными
производить свое собственное атомное оружие, мы также не встречались прежде.
-- Благородный адмирал, я верю, что это правильный курс, каким бы
болезненным он ни был, -- сказал Кирел. -- Если мы не можем завоевать всю
поверхность Тосев-3, не повреждая больших частей ее и не вынуждая Больших
Уродов продолжать ее разрушение, то лучше сохранить за собой некоторые
области и ожидать прихода флота колонизации. Мы получим возможность надежно
закрепиться и приготовиться к безопасному приему колонистов и ресурсов,
которые они доставят.
-- То же самое говорю себе и я, раз за разом, -- сказал Атвар. -- И мне
все еще трудно убедить себя в правильности нашего выбора. Видя, как тосевиты
за то короткое время, пока мы находимся здесь, усовершенствовали свою
технологию, я задумываюсь, как далеко они уйдут к моменту, когда флот
колонизации наконец достигнет пределов этого мира.
-- Компьютерные проекты показывают, что мы сохраним значительное
опережение, -- попытался утешить его Кирел. -- Другой возможный путь -- тот,
который предлагал изменник Страха: использовать наше ядерное оружие в
широких масштабах, чтобы принудить Больших Уродов к покорности, -- к
сожалению, испортит всю земную поверхность.
-- Я больше не доверяю компьютерным проектам, -- сказал Атвар. --
Слишком часто они не оправдывались: мы не настолько хорошо знаем Больших
Уродов, чтобы моделировать и экстраполировать их поведение с какой-либо
точностью. В остальном, однако, как вы сказали, остается в силе ироническая
закономерность: тосевитов гораздо меньше беспокоит разрушение значительной
части их мира, чем нас. Поэтому они позволяют себе вести с нами войну в
неограниченных масштабах, в то время как мы по необходимости вынуждены
отступать.
-- Позволяют себе? -- спросил Кирел. -- Отступать? Я не ослышался,
благородный адмирал, вы намереваетесь изменить политику?
-- Не стратегию, а лишь тактику, -- ответил Атвар. -- Если немцы,
например, осуществят свою угрозу, которую их лидер донес до нас через особь
фон Риббентропа, и возобновят ядерную войну против нас, то я буду
действовать так, как предупреждал, и основательно разрушу германскую
территорию. Это научит то, что останется от Германии, самому главному: с
нами не следует шутить -- и благотворно повлияет на поведение других
тосевитских не-империй.
-- Так и следует, благородный адмирал, -- согласился Кирел.
Он был достаточно тактичен, чтобы не отметить, как сильно этот план
напоминает план Страхи, и за это адмирал мысленно поблагодарил его.
-- Не могу, однако, представить, чтобы германские тосевиты пошли на
такой риск перед лицом наших ясных и безошибочных предупреждений.
-- И я тоже, -- сказал Атвар. -- Но во взаимоотношениях с Большими
Уродами единственной определенной вещью является неопределенность.
* * *
Генрих Ягер оглядывался по сторонам. Ему казалось, что это чудо.
Конечно, он не мог видеть все танки и другие бронированные машины своего
полка: они были укрыты вдоль линии фронта, будущей линии атаки. Но он
никогда не думал, что его подразделение снова выйдет на полную боевую
готовность, не ожидал, что получит полный запас топлива и боеприпасов.
Он перегнулся через край люка своей "пантеры" и кивнул Отто Скорцени.
-- Я не хотел, чтобы мы делали это, но если мы должны это сделать, мы
сделаем все, как следует.
-- Сказано солдатом, -- заметил эсэсовец, стоявший рядом со Скорцени.
Парни в черной форме за последние несколько дней скопились в ближних
тылах. Если разведка ящеров засекла их появление, то Ягер поведет свой полк
прямиком в мясорубку. Он думал, что ящеры не настолько сообразительны, и
надеялся, что не ошибается. Эсэсовец тем временем не замолкал:
-- Это долг каждого офицера, как и каждого солдата: подчиняться
приказам вышестоящих и фюрера, не задавая вопросов и независимо от личных
чувств.
Ягер с молчаливым презрением посмотрел вниз на это обутое в сапоги
невежество. Если довести его мысль до логического конца, то вермахт
превратится в скопище автоматов, таких же негибких, как русские или ящеры.
Если вы получили приказ, который не имеет смысла, вы уточняете его. Если в
нем по-прежнему отсутствует смысл или он может привести к очевидной
катастрофе, вы игнорируете его.
Чтобы поступать так, вам требуется сила воли. Отказываясь выполнять
приказ, вы рискуете карьерой. Но если вы убедите вышестоящих начальников,
что вы правы или что полученный вами приказ вызван непониманием ситуации, вы
выживете. Может быть, даже получите повышение.
Ягер же не просто не подчинился приказу. Если взглянуть на вещи с
определенной точки зрения, то окажется, что он оказывал помощь врагу. Так
решил бы любой эсэсовец, узнавший, что именно он сделал.
Поэтому он изучающе рассматривал тощего невысокого человека, стоявшего
рядом со Скорцени. Может, именно он ублажал себя с женой Кароля или его юной
дочерью, в то время как пара других держала несчастную? Может, это он
вырезал эсэсовские руны на животе польского фермера? Может, этот улыбающийся
молодчик только и ожидает, когда взорвется бомба, чтобы арестовать Ягера и
начать вырезать руны уже на нем?
Скорцени бросил взгляд на свои наручные часы.
-- Теперь уже скоро, -- сказал он. -- Когда рванет, мы двинемся вперед,
и сигнал будет передан армиям и на других фронтах. Ящеры еще пожалеют, что
не согласились на наши требования.
-- Так, а что будет потом? -- спросил Ягер, как раньше, все еще
надеясь, что отговорит Скорцени нажимать эту судьбоносную кнопку. -- Мы
можем быть уверены, что ящеры разрушат, по крайней мере, один город рейха.
Так они поступали каждый раз, когда кто-либо применял против них бомбу из
взрывчатого металла. Но теперь это будет не просто война -- нарушение
перемирия. Разве в ответ они не сделают кое-что похуже?
-- Не знаю, -- весело сказал Скорцени. -- И знаешь, старик, я бы не
стал обманываться. Все по земле ходим. Работа, которую мне поручил фюрер,
состоит в том, чтобы пнуть в яйца ящеров и евреев так сильно, как я только
могу. И это я собираюсь сделать. А что случится потом, пусть случается.
Тогда и начнем беспокоиться.
-- Вот это национал-социалистический образ мыслей, -- сказал другой
эсэсовец, улыбаясь Скорцени.
Скорцени даже не оглянулся на подпевалу. Вместо этого штандартенфюрер
направил свой взор вверх на Ягера. Не давая чернорубашечному коллеге и
намека на собственные мысли, он не скрывал их от полковника-танкиста. И если
он не считал все это "благочестивым трепом", Ягер съел бы свою форменную
фуражку.
И тем не менее даже если Скорцени не в восторге от лозунгов, под
которыми воюет, они представляют для него ценность.
Гитлер посылал его, как сокола, на избранных врагов. И подобно соколу,
он не задумывался над тем, куда и зачем он летит, а только о том, как
нанести самый сильный удар, когда он доберется до места
Ягер сам воевал по таким же принципам, пока то, что Германия сделала с
евреями в захваченных странах, ему не пришлось увидеть своими глазами. Он
понимал, что Германию остановило только нашествие ящеров. Когда глаза
открылись, то закрыть их снова нелегко. Ягер пытался, и у него не
получилось.
Он пытался также -- со всеми предосторожностями -- открыть глаза и
некоторым другим офицерам, включая Скорцени. Все они без исключения желали
оставаться слепыми -- ничего не видеть и не обсуждать. Он понял это. Он даже
симпатизировал им. Если вы отказываетесь замечать пороки вашего начальства и
вашей страны, то с каждодневной рутиной дел справляться становится легче.
Пока Ягер воевал только с ящерами, он легко подавлял свои сомнения.
Никто ни мгновения не сомневался, что ящеры -- смертельный враг, и не только
для Германии, но для всего человечества. Их следовало остановить во что бы
то ни стало. Но бомба из взрывчатого металла в Лодзи предназначалась не
только ящерам. Даже в первую очередь _не_ ящерам. Скорцени понимал это. Он
установил ее там после того, как не удалась его затея с предназначенной
евреям Лодзи бомбой с нервно-паралитическим газом. Это была его месть -- и
месть Германии евреям за то, что однажды они расстроили планы Гитлера.
Попробуй Ягер поступить по-человечески, ему пришлось бы плохо.
Скорцени, насвистывая, отошел в сторону. Затем он вернулся с переносной
рацией. Но ручной пульт, который прилагался к ней, был необычным. На нем
было всего два элемента -- выключатель и большая красная кнопка.
-- Я определяю время: одиннадцать ноль-ноль, -- сказал Скорцени,
взглянув еще раз на часы.
Второй эсэсовец поднес запястье правой руки к глазам.
-- Я подтверждаю: время -- одиннадцать ноль-ноль, -- официально заявил
он.
Скорцени захихикал.
-- Разве это не забавно? -- спросил он.
Второй эсэсовец посмотрел на него недоуменно -- этих слов в письменной
инструкции не было. Ягер только фыркнул. Он много раз видел, как безразлично
Скорцени относится к писаным приказам. Штандартенфюрер повернул выключатель
на 180 градусов.
-- Передатчик включен, -- сказал он.
-- Я подтверждаю, что передатчик включен, -- прогудел второй эсэсовец.
И тут Скорцени снова нарушил правила. Он привстал на цыпочки и дал
пульт в руки Ягеру:
-- Не будешь так любезен?
-- Я? -- Ягер едва не уронил пульт. -- Ты в своем уме? Боже мой, нет.
Он отдал пульт Скорцени. И только после этого подумал, что ему
следовало выпустить его из рук или ухитриться разбить о броню танка.
-- Ладно, пусть это тебя не беспокоит, -- сказал Скорцени. -- Я в
состоянии убить собственную собаку. Я в состоянии убить целую кучу сукиных
сынов.
Его большой палец вдавил красную кнопку.
Даже если бы погода была прохладной, от Вячеслава Молотова, ожидавшего
в холле отеля "Семирамида" бронированной машины ящеров, которая должна была
отвезти его в отель "Шепхед", все равно валил бы пар.
-- Идиотизм, -- пробормотал советский комиссар иностранных дел Якову
Донскому. Когда речь шла о фон Риббентропе, он не старался скрыть своего
презрения. -- Идиотизм, сифилитический парез или и то и другое вместе.
Скорее всего, и то и другое.
Фон Риббентроп, тоже дожидавшийся отъезда, находился в пределах
слышимости, но он не говорил по-русски. И даже если бы он говорил по-русски,
Молотов не изменил бы ни слова. Переводчик бросил взгляд на германского
министра иностранных дел, затем ответил почти шепотом:
-- Это действительно против правил, товарищ комиссар иностранных дел,
но...
Молотов сделал ему знак замолчать.
-- Не надо никаких "но", Яков Вениаминович. С тех пор как мы сюда
прибыли, ящеры собирали нас на заседания в одно и то же время. И чтобы ради
этого наглого нациста, потребовавшего заседания еще и в полдень... -- Он
покачал головой. -- Я считал, что только бешеные собаки и англичане выходят
на улицу в полуденную жару, а вовсе не немецкие бешеные собаки.
Прежде чем Донской успел сказать что-то в ответ, перед отелем
остановилось несколько машин для транспортировки личного состава. Ящерам,
похоже, пришлось не по нраву перевозить всех дипломатов-людей одновременно,
но фон Риббентроп не дат достаточного времени на организацию заседания, на
котором он настаивал, так что ничего другого ящеры предпринять не успели.
Когда участники заседания прибыли в штаб-квартиру Атвара,
охранники-ящеры постарались разделить их, чтобы Молотов не смог переговорить
с Маршаллом, Иденом или Того. Не дали они и шанса переговорить с фон
Риббентропом. Но это был напрасный труд: Молотову было нечего сказать
германскому министру иностранных дел.
Точно в полдень главнокомандующий ящеров вошел в зал, сопровождаемый
своим переводчиком. Через этого самца Атвар передал:
-- Итак, представитель не-империи Германии, я согласился на ваше
требование провести особое заседание в это особое время. Теперь вы
объясните, почему вы этого потребовали. Я буду слушать со всей
внимательностью.
Это означало -- "лучше, чтобы это было что-то хорошее". Даже через двух
переводчиков Молотов без труда понял смысл сказанного. До фон Риббентропа
эти слова донес только один переводчик, так что ему должно было быть вдвое
яснее.
Тем не менее он этого никак не выказал.
-- Благодарю вас, господин адмирал, -- сказал он, поднимаясь на ноги.
Из внутреннего кармана пиджака он вынул сложенный лист бумаги, развернул. --
Адмирал, я зачитаю вам заявление Адольфа Гитлера, фюрера германского рейха.
Когда он произносил имя Гитлера, его голос наполнился большим
благочестием, чем у Римского Папы (до того, как Папа превратился в
радиоактивную пыль), упоминающего Иисуса. А почему бы и нет? Фон Риббентроп
считал, что Гитлер непогрешим; когда он готовил германо-советский пакт о
ненападении, так грубо нарушенный фашистами впоследствии, он объявил на весь
мир: "Фюрер всегда прав". При этом он в отличие от дипломатов не обладал
достаточным двуличием, чтобы складно лгать.
Теперь же он напыщенным тоном читал по бумажке:
-- Фюрер заявляет, что, поскольку Раса недопустимо оккупирует
территорию, по праву принадлежащую Германии и отказывается покинуть эту
территорию, несмотря на незаконность оккупации, то рейх полностью оправдан в
принятии самых строгих мер против Расы и уже начал такие меры. Мы...
Молотов почувствовал, как у него что-то упало внутри. Таким способом
нацисты могут потребовать уступок от любого государства. Фашистский режим
начал новое замаскированное наступление, и теперь, следуя давно знакомому
образцу, привел обоснование новому неспровоцированному акту агрессии.
Тем временем фон Риббентроп продолжал:
-- ...подкрепляем наши законные требования взрывом новейшей бомбы из
взрывчатого металла и военными действиями, которые последуют за этим
взрывом. Бог даст германскому рейху победу, которую он заслужил. --
Германский министр иностранных дел сложил бумагу, убрал ее и выбросил вперед
правую руку в нацистском приветствии. -- Хайль Гитлер!
Энтони Иден, Шигенори Того и Джордж Маршалл выглядели такими же
потрясенными, как и Молотов. Вот он, народный фронт: Гитлер ни с кем не
проконсультировался, прежде чем снова начать военные действия. Он и очень
возможно, что и все остальные, должны будут заплатить за это.
Уотат закончил свои шипения, похлопывания и поскрипывания для Атвара.
Молотов ждал, что сейчас адмирал взорвется и пообещает ужасные разрушения в
Германии за то, что уже сделано. Комиссар иностранных дел должен был
встретить подобную реакцию с невозмутимостью.
Вместо этого Атвар произнес несколько слов, обращаясь к переводчику,
который и объявил громогласно:
-- Благородный адмирал повелел мне сказать вам, что он рассмотрит
данное заявление.
Пока Уотат переводил, командующий ящеров покинул зал.
Он вернулся через несколько минут и снова заговорил с переводчиком.
Одно за другим Уотат перевел его слова на английский. Одновременно Донской
переводил с английского на русский для Молотова:
-- Благородный адмирал удивляется, почему представитель не-империи
Германия заставил нас прийти сюда, чтобы выслушать заявление, не содержащее
в себе ни малейшего намека на реальность. На самом деле никакого атомного
взрыва не было ни на территории Германии, ни вблизи нее. Никакой необычной
военной активности среди германских войск не замечено. Благородный адмирал
спрашивает: не испортились ли мозги у вас, представитель фон Риббентроп, или
у вашего фюрера?
Фон Риббентроп уставился на Атвара. Молотов и остальные представители
смотрели на фон Риббентропа. Где-то произошло что-то значительное, и
произошло не так, как ожидалось, -- это было очевидно. Но что? И где?
* * *
Отто Скорцени давил на красную кнопку, пока не побелел ноготь на его
большом пальце. Генрих Ягер ждал, что южный горизонт осветится новым
краткоживущим солнцем и затем последует артподготовка. Он сказал через
переговорное устройство Иоганнесу Дрюккеру:
-- Будьте готовы запустить двигатель.
-- Яволь, господин полковник, -- ответил водитель.
Но новое солнце так и не взошло. Серый польский день продолжался
спокойно. Скорцени снова ткнул большим пальнем в кнопку. Ничего не случилось
-- Христос на кресте, -- пробормотал эсэсовец. Затем, чувствуя, что это
слишком слабо, чтобы удовлетворить его, добавил: -- Богом проклятый ублюдок
жрущей дерьмо суки.
Он еще раз нажал кнопку, прежде чем с отвращением швырнуть передатчик
на землю, и обернулся к чернорубашечнику, стоявшему рядом:
-- Дай мне запасной. Шнелль!
-- Яволь, герр штандартенфюрер!
Другой офицер СС поспешил прочь и спешно вернулся с передатчиком и
пультом, точно такими же, какие только что не сработали.
Скорцени щелкнул выключателем и нажал кнопку на новом пульте. И снова
бомба в Лодзи не взорвалась.
-- Дерьмо, -- устало проговорил Скорцени, словно более выразительные
ругательства потребовали бы от него слишком много сил.
Он было начал разбивать второй передатчик, но удержался.
Покачав головой, он сказал:
-- Что-то где-то грохнулось. Иди и передай на общей частоте:
"Баклажан".
-- "Баклажан"? -- Эсэсовец выглядел как пес, у которого отобрали
лакомую кость. -- Неужели мы должны?
-- Бьюсь об заклад на твою задницу, Макс, другого выхода нет, --
ответил Скорцени. -- Если бомба не взрывается, нам не двинуться. Она не
взорвалась. Теперь мы должны послать войскам сигнал отбоя, чтобы они знали,
что атака задерживается. Как только она взорвется, мы пошлем сигнал "Нож". А
теперь беги, черт тебя побери! Если какой-нибудь нетерпеливый идиот откроет
огонь из-за того, что не получил сигнала об отмене атаки, Гиммлер пустит
твои кишки на подтяжки.
Ягер никогда не видел, чтобы кто-либо двигался так быстро, как бедный
Макс.
-- Что теперь? -- спросил он Скорцени.
Он не часто видел этого крупного грубоватого австрийца в состоянии
нерешительности, но именно нерешительность овладела Скорцени.
-- Будь я проклят, если знаю. Может, какой-то могильщик, или как там
его называют жиды, обнаружил антенну, прикрепленную к могильному столбу, и
оторвал ее? Если ничего другого не случилось, то простое повторное
подключение исправит дело. А вот если что-то серьезнее, если евреи
обнаружили бомбу... -- Он покачал головой. -- Вот это совсем худо. По
каким-то странным причинам они совсем нас не любят.
И даже его смех, обычно неистово веселый, теперь прозвучал печально.
"По каким-то странным причинам". Только так Скорцени мог определить то,
что рейх сделал с евреями. Пожалуй, он подошел к истине ближе, чем
большинство германских офицеров, но все же недостаточно близко, по мнению
Ягера. Полковник спросил:
-- И что ты собираешься делать?
Скорцени посмотрел на него, как на идиота.
-- А как ты думаешь? Я собираюсь просочиться в Лодзь и заставить
сработать эту дрянь тем или другим способом. Как я сказал, надеюсь, что
проблема только в антенне. Но если не в ней и евреи разнюхали каким-то
образом о бомбе, мне будет весело.
-- Тебе нечего и думать идти туда самому, -- воскликнул Ягер. -- Если
евреи нашли ее, -- этого он и сам не знал наверняка, -- они превратят тебя в
кровяную колбасу.
Скорцени снова покачал головой.
-- Ошибаешься, Ягер. Это -- как говорят ублюдки из британской авиации
-- кусок пирога, вот что. Сейчас ведь перемирие, помнишь? Даже если жиды
украли бомбу, они не будут ее охранять, как зеницу ока. Зачем им эго? Они и
не заподозрят, что мы уже начали ее искать, потому что не могут
предположить, что мы собирались взорвать ее во время перемирия. -- Его
язвительность приобретала прежнюю силу. -- Конечно, нет. Мы -- хорошие
маленькие мальчики и девочки, правильно? С одним исключением: я нехороший
маленький мальчик.
-- M-м, я заметил, -- сухо сказал Ягер.
Теперь смех Скорцени был снова полон его злобного недовольства --
террорист быстро приходил в себя. И еще -- он чертовки хорошо размышлял на
ходу: каждое его слово казалось разумным.
-- Когда ты отправишься?
-- Вот только переоденусь, возьму пайки и позабочусь о паре вещей
здесь, -- ответил эсэсовец. -- Если бомба взорвется, она так даст в зубы
этим чешуйчатым сукиным сынам, что они это надолго запомнят.
Нелепо кокетливым жестом он сделал Ягеру ручкой и ушел.
С высоты купола "пантеры" Ягер смотрел ему вслед. Если его
подразделение находится в полной боевой готовности, может ли он уйти и
передать сообщение Мечиславу, чтобы тот кружными путями переправил его
Анелевичу? Ответ был прост и очевиден: уйти он не может. А значит, он ничего
не сможет сделать не только для тысяч евреев, которые превратятся в
грибовидное облако, но и для Германии. Чем ответят ящеры Фатерланду на взрыв
атомной бомбы во время перемирия? Ягер не знал. Да и не хотел знать.
Из нижней части башни "пантеры" Гюнтер Грилльпарцер спросил:
-- Сегодня представление отменяется, полковник?
-- Похоже, что так, -- ответил Ягер и затем не удержался: -- Хотя и не
скажу, что сожалею.
К его удивлению, Грилльпарцер сказал:
-- Аминь. -- После короткой паузы наводчик, похоже, решил, что
требуется какое-то объяснение. -- Видите ли, господин полковник, я не
сторонник жидов, но не похоже, чтобы теперь они нас тревожили в первую
очередь, вы понимаете, что я имею в виду? Вот ящерам я на самом деле хотел
бы дать пинка в зад, а не им. Они все равно все попадут в ад.
-- Капрал, по моему мнению, вам вполне подойдут красные лампасы на
брюки и генеральный штаб, -- сказал Ягер. -- Мне кажется, что у вас больше
здравого смысла, чем у большинства наших составителей планов, и это факт.
-- Если я им стану, значит, Германии помогает Бог, -- сказал
Грилльпарцер и рассмеялся.
-- Бог помогает Германии, -- согласился Ягер, но к смеху не
присоединился.
Остаток дня прошел словно в летаргическом сне. Ягер и его экипаж с
облегчением выбрались из своей "пантеры": каждый раз, выступая против
ящеров, вы бросаете кости, и раньше или позже на вас посмотрят "змеиные
глаза" ["Двойка", проигрышная комбинация игральных костей. -- Прим. ред.].
Где-то после полудня Отто Скорцени исчез. Ягер представил себе, как он
пробирается в Лодзь, с мешком за плечами и, скорее всего, прикрыв гримом
свой знаменитый шрам. Но под силу ли ему скрыть дьявольский блеск в глазах?
Ягер сомневался.
Иоганнес Дрюккер тоже исчез ненадолго, но вскоре вернулся с триумфом,
притащив столько колбасы, что ее хватило бы на ужин для всех.
-- Рыцарский крест этому человеку! -- воскликнул Гюнтер Грилльпарцер.
Повернувшись к Ягеру, он сказал с улыбкой: -- Прежде чем вы отправите меня в
генеральный штаб, господин полковник, я ведь тоже могу повеселиться, не так
ли?
-- Почему же нет? -- сказал Ягер. -- Почему бы и нет?
Когда сгустились сумерки, они развели костер и поставили на огонь
горшок, чтобы сварить колбасу. От вкусного пара, повалившего от горшка, у
Ягера потекли слюнки. Когда он заслышал приближающиеся шаги, то решил, что
идет экипаж другого танка, привлеченный запахом, в надежде получить свою
долю.
Но люди, которые подходили к костру, носили не форму танкистов, они
были в черной форме СС. "Значит, Макс и его друзья тоже не прочь попросить
колбаски?" -- удивленно подумал Ягер.
Макс вытащил из кобуры "вальтер" и направил в живот Ягеру. Эсэсовцы,
которые пришли с ним, взяли на прицел остальных танкистов.
-- Вы немедленно пойдете со мной, полковник, или я застрелю вас на
месте, -- сказал Макс. -- Вы арестованы за измену рейху.
* * *
-- Благородный адмирал, -- поздоровался Мойше Русецкий.
Он привык к встречам с Атваром. Он даже стал готовиться к ним. Чем
более полезным считал его Атвар, тем меньше вероятность того, что ему и его
семье придется расплачиваться за прежние выступления против ящеров. А
догадываться о ходах дипломатов великих держав было такой замечательной
игрой, что шахматы по сравнению с ней казались ребяческой забавой. Очевидно,
его догадки были гораздо точнее, чем у большинства ящеров. И поэтому вопросы
поступали бесконечным потоком. От него требовалось оценивать, как идут
переговоры, что вызывало восхищение у него самого: он был причастен к
секретам, известным лишь горстке людей. Атвар заговорил на своем языке.
Золрааг превратил его слова в обычную польско-германскую смесь:
-- Вам, конечно, известен тосевитский не-император Гитлер, и вы не
имеете хорошего мнения о нем -- я полагаю, это остается истинным?
-- Да, благородный адмирал. -- Мойше добавил усиливающее покашливание.
-- Хорошо, -- сказал Атвар. -- Из этого я делаю вывод, что тогда вы
выскажете более честное мнение о его действиях, чем, например, о действиях
Черчилля: ваша солидарность с другими Большими Уродами в отношении Гитлера
будет меньше. Это тоже правильно?
-- Да, благородный адмирал, -- повторил Мойше.
Напоминание о том, что Гитлер является его соплеменником, вовсе не
наполнило его радостью. Что бы ни говорили о ящерах, но они показали себя
лучшим народом, чем нацисты Адольфа Гитлера.
-- Очень хорошо, -- сказал Атвар через Золраага. -- Тогда такой вопрос:
как вы расцениваете поведение Гитлера и фон Риббентропа? Последний призывал
меня объявить о взрыве атомной бомбы и возобновлении военных действий
Германии против Расы, в то время как на самом деле этот взрыв и военные
действия -- исключая несколько эпизодов чуть активнее обычного -- не имели
места.
Мойше задумался.
-- Это в самом деле произошло, благородный адмирал?
-- Истинно, -- сказал Атвар слово, которое Русецкий понимал и на языке
ящеров.
Он задумался и почесал голову. Насколько он знал, в глазах Атвара этот
жест мог показаться грубым. Но с другой стороны, он был Большим Уродом, так
что в глазах Атвара он был грубым по определению. Он медленно проговорил:
-- Мне трудно поверить, что фон Риббентроп мог сделать такое заявление,
зная, что это неправда и что вы легко можете это проверить.
-- Таково ваше восприятие, -- сказал адмирал. -- Когда самец,
представитель Гитлера, сделал это заявление, я немедленно проверил и, найдя
его фальшивым, вернулся, чтобы проинформировать его об этом факте.
Единодушное мнение наших психологов -- мое заявление стало для него
сюрпризом. Теперь посмотрите сами.
По жесту Атвара Золрааг включил небольшой экран. Появилось изображение
фон Риббентропа, который выглядел одновременно наглым и напуганным. Ему
что-то говорили на пришепетывающем английском.
Глаза германского министра иностранных дел широко открылись, челюсть
отвисла, рука схватилась за край стола.
-- Благородный адмирал, этот человек в состоянии крайнего удивления, --
объявил Мойше.
-- Так мы и думали, -- согласился Атвар. -- Это поднимает следующий
вопрос: не является ли выдача фальшивой информации частью какого-то
нечестного плана гитлеровской стороны, или же эта информация должна была
быть правдивой? В любом случае, конечно, фон Риббентроп должен был считать
ее точной в тот момент, когда сообщал ее.
-- Да. -- Мойше снова почесал голову, стараясь определить, какую
возможную пользу мог получить Гитлер, умышленно обманывая своего министра
иностранных дел. -- Я прихожу к выводу, что немцы намеревались напасть на
вас.
-- Такое заключение сделали и мы, хотя и предупредили, что они сильно
пострадают, если предпримут такое нападение, -- сказал Атвар. -- Это
беспокоит: где-то на границе между нами и гитлеровскими войсками, а
возможно, за этой границей, вероятно, имеется ядерное оружие, которое по
какой-то причине не взорвалось. Мы искали его, но не нашли. После случая в
Эль-Искандрии у нас нет уверенности, что мы сможем найти его. Отсюда вопрос:
смирится ли Гитлер с неудачей и возобновит переговоры или все же постарается
взорвать бомбу?
Заглянуть внутрь мозгов Гитлера -- все равно что удалить ткань,
пораженную гангреной: отталкивающее, но необходимое дело.
-- Если немцы найдут способ взорвать бомбу, то я предполагаю, что они
это сделают, -- сказал Мойше. -- Но я должен повториться, что это всего лишь
предположение.
-- Оно совпадает с предположениями, которые сделали наши аналитики, --
сказал Атвар. -- Насколько оно точно, покажет только время, но я думаю, что
вы высказали мне лучшее и наиболее обоснованное суждение.
-- Истинно, благородный адмирал, -- сказал Мойше на языке Расы.
-- Хорошо, -- ответил ящер. -- Я придерживаюсь того мнения, что в
прошлом мы старались использовать вас в слишком широких пределах, и, как в
случае с любым инструментом, которым злоупотребляют, это вызвало трудности,
которых мы могли бы избежать, если бы вас держали в рамках, подходящих к
вашей ситуации. Кажется, это в значительной степени является причиной вашей
враждебности по отношению к нам и вашего выступления против нас.
-- В определенной степени дело обстоит именно так, -- согласился Мойше.
Это было наилучшее приближение к пониманию его характера, к которому
когда-либо приходили ящеры, и куда более предпочтительное, нежели
приравнивание его действий к измене.
-- Если нож ломается из-за того, что его использовали вместо лома,
разве виноват нож? -- продолжил Атвар. -- Нет, это ошибка того, кто
пользовался инструментом. Ввиду того, Мойше Русецкий, что ваша служба дала
лучшие результаты, когда вас стали использовать правильно, я склоняюсь к
тому, чтобы пересмотреть прошлые прегрешения. Когда переговоры между Расой и
тосевитами закончатся, возможно, мы возвратим вас на территорию, где вы были
повторно захвачены...
-- Благородный адмирал имеет в виду Палестину, -- добавил от себя
Золрааг. -- Названия, которые вы даете разным местам, создают нам
значительные трудности, в особенности когда к одному и тому же месту
относятся несколько названий.
Атвар продолжил:
-- Мы поселим вас там, как я сказал, с вашей самкой и детенышем и при
необходимости будем консультироваться с вами по тосевитским делам. Для нас
будет лучше признать с настоящего времени пределы вашей деятельности и не
заставлять вас добывать информацию или вести пропаганду, которую вы считаете
неприятной. Вы принимаете такое предложение?
Они хотят вернуть его в Палестину -- на Святую Землю -- вместе с
семьей? Они хотят использовать его как эксперта по человечеству без
принуждения и унижений? Он осторожно сказал:
-- Благородный адмирал, единственно, что меня беспокоит: все это звучит
слишком хорошо, чтобы быть истинным.
-- Это истина, -- ответил адмирал. -- Вы когда-нибудь видели, Мойше
Русецкий, чтобы Раса нарушала обещания, которые дала?
-- Я не видел такого, -- ответил Мойше. -- Но я видел, как Раса
приказывает, вместо того чтобы попробовать прийти к согласию.
Атвар вздохнул совершенно по-человечески.
-- На Тосев-3 это оказалось куда менее эффективным, чем мы бы желали. И
в связи с этим мы пробуем здесь новые методы, какими бы неприятными они нам
ни казались. Когда сюда прибудут самцы и самки флота колонизации, они,
несомненно, выскажут немало отрицательного в отношении нашей практики, но мы
зато сможем предложить им значительную часть поверхности живой планеты, на
которой можно поселиться. Принимая во внимание то, что могло бы случиться
здесь, это решение кажется мне приемлемым.
-- Я не вижу причин не согласиться с вами, благородный адмирал, --
сказал Мойше. -- Временами не каждый может получить все, что он хотел бы,
используя конкретную ситуацию.
-- С Расой такого еще никогда не случалось, -- сказал Атвар, снова
вздохнув.
От мировых проблем Мойше перешел к личным, сформулировав их одним
предложением:
-- Когда вы поселите меня и мою семью в Палестине, то мне хотелось бы
еще кое-чего.
-- Что же это? -- спросил адмирал.
Русецкий задумался, не слишком ли далеко он заходит в погоне за удачей,
но тем не менее рискнул:
-- Вы знаете, до захвата немцами Польши я учился на врача. Я хотел бы
продолжить эту учебу не только с людьми, но и с самцами Расы. Если будет
мир, то нам надо будет так многому научиться у вас...
-- Одна из моих главных забот в поддержании мирного сосуществования с
вами, Большими Уродами, это чему вы можете научиться у нас, -- сказал Атвар.
-- Вы уже узнали слишком много. Но я не считаю, что в медицине вы создадите
нам большую опасность. Очень хорошо, Мойше Русецкий, пусть будет так, как вы
сказали.
-- Благодарю вас, благородный адмирал, -- сказал Мойше. В каком-то
американском фильме прозвучало выражение, почему-то запомнившееся Русецкому:
"У этой сделки аромат розы". -- Роза, -- пробормотал он. -- Точно как роза.
-- Мойше Русецкий? -- спросил Атвар с вопросительным покашливанием:
Золрааг не смог перевести бормотание тосевита.
-- Мы заключили сделку, благородный адмирал, -- сказал Мойше, надеясь,
что у розы будет не слишком много шипов.
* * *
Страха отклонился от микрофона и снял наушники, которые плохо прилегали
к его слуховым перепонкам.
-- Еще одна радиопередача, -- сказал он, поворачивая один глаз в
сторону Сэма Игера. -- Я не вижу необходимости продолжать их, когда
переговоры между Расой и вами, Большими Уродами, идут так успешно. Вы не
можете себе представить, как вы должны были напугать этого тяжеловесного
старого Атвара, чтобы вообще заставить его пойти на переговоры.
-- Я рад, что он наконец уступил, -- сказал Сэм. -- Я сыт войной. Весь
этот мир сыт войной по горло.
-- Полумеры любого вида на Тосев-3 не приводят к успеху, -- согласился
Страха. -- Если бы в раскраске главнокомандующего флотом был я, мы привели
бы вас, тосевитов, к покорности быстрее и жестче.
-- Я знаю, -- кивнул Игер.
Беглый командир никогда не делал секрета из того, что предпочитает
кнут, а не пряник. Сэм вспомнил об американской атомной бомбе, спрятанной
где-то здесь, в Хот-Спрингсе, не более чем в нескольких сотнях ярдов от этой
душной маленькой студии. Конечно, он не мог рассказать Страхе об этой бомбе:
проговорись он -- и генерал Донован приколотит его скальп к стене. Поэтому
он заговорил о другом:
-- Три не-империи, способные делать атомные бомбы, стали бы серьезной
проблемой даже для вас.
-- Истинно так. Конечно, это так. -- Страха вздохнул. -- Когда наступит
мир -- если он наступит, -- что будет со мной?
-- Мы не вернем вас обратно Расе, чтобы они отомстили, -- сказал Сэм.
-- Мы уже поставили в известность ваших представителей в Каире. Это не очень
понравилось им, но они согласились.
-- Я уже знаю, -- ответил Страха. -- Значит, я буду жить всю жизнь
среди вас, тосевитов США? И как же я буду проводить время?
-- О! -- Сэм начал понимать, к чему клонит беглец. -- Некоторые самцы
Расы прекрасно устроились у нас. Весстил научил нас удивительно многому по
ракетной технике, а Ристин...
-- Превратился в Большого Урода, -- ядовито сказал Страха.
-- А как вы полагаете, что он должен был делать? -- спросил Сэм.
-- Он -- самец Расы. Он должен иметь достоинство помнить об этом, --
ответил Страха.
Через секунду Сэм сообразил, кого вдруг ему напомнил ящер: английского
сноба, который свысока смотрит на соотечественника, "ставшего местным" в
Танганьике, в Бирме или где-нибудь еще. Он видел немало кинофильмов о
джунглях с подобными персонажами. Беда в том, что он не мог объяснить это
Страхе без риска оскорбить его еще сильнее.
-- Может быть, когда мы заключим мир, то... -- Ему надо было
высказаться обиняком, но он сказал напрямую. -- Мы добьемся и амнистии.
-- Для таких, как Ристин, амнистия будет наверняка, -- сказал Страха.
-- Он получит ее, хотя она ему не нужна, чтобы наслаждаться жизнью. Для
таких, как Весстил, тоже возможна амнистия. Весстил многому вас научил --
это истинно, Сэм Игер, как вы сказали. Но он попал к вам, тосевитам, по
моему приказу. Он был пилотом моего челнока: когда я приказал, он был обязан
выполнить приказ, и он его выполнил. Несмотря на помощь, которую он оказал
вам, он может быть прощен. Но для меня, Сэм Игер, амнистии не будет. Я
попытался свалить адмирала Атвара, чтобы не дать ему проиграть войну с вами,
тосевитами. Я проиграл -- а он, выиграл ли он эту войну? Думаете, он
позволит мне жить на территории, которую получит Раса после наступления мира
-- если он наступит? Возможно, но я буду напоминать ему, что был прав, когда
подверг сомнению его действия, я одним своим видом буду напоминать ему, что
вторжение сорвалось. Нет. Если я еще должен жить, то должен жить среди вас,
Больших Уродов.
Сэм медленно наклонил голову. Изменники никогда не возвращаются домой;
похоже, что у ящеров дело обстоит так же, как у людей. Если бы Рудольф Гесс
прилетел обратно в Германию из Англии, разве встретил бы его Гитлер с
распростертыми объятиями? Вряд ли. Но Гесс в Англии был по крайней мере
среди своих соплеменников-людей. Здесь, в Хот-Спрингсе, Страха попал в такую
же ловушку, как человек, попавший в плен к ящерам, человек, которому суждено
провести остаток своих дней с ними -- или, точнее, на их Родине.
-- Мы сделаем все, что сможем, чтобы вам было удобно, -- обещал Игер.
-- В этом же ваши лидеры и вы заверяли меня с самого начала, -- ответил
Страха. -- И, насколько это в ваших возможностях, вы это сделали. Я не могу
жаловаться на ваши намерения. Но они распространяются только на настоящее
время, Сэм Игер. Если наступит мир, я останусь здесь как аналитик Расы и
пропагандист этой не-империи. Разве это не наиболее вероятный вариант?
-- Истинно, -- сказал Сэм. -- Вы заработали себе место здесь навсегда.
Вы не хотите заниматься этим?
-- Я буду -- и это все, что я могу сделать. Но вы меня не поняли, --
сказал Страха. -- Я останусь здесь, среди вас, тосевитов. Наверняка
останутся и несколько других самцов. И мы создадим нашу крошечную общину,
потому что мы принадлежим Расе. Наши глаза будут обращены к тому, что будет
делать здесь, на Тосев-3, основная часть Расы, и мы будем изучать это для
лидеров данной не-империи и никогда не станем частью ее. Как жить в таком
одиночестве? Возможно ли это? Я должен знать.
-- Извините, -- сказал Игер. -- Я сначала не понял.
Еще до того, как немцы завоевали Францию, в газетах писали о том, как
жили русские эмигранты в Париже. Если кто-нибудь из них уцелел, они
наверняка отнеслись бы к Страхе с симпатией: им довелось извне смотреть на
то, как большая часть их соотечественников строила что-то новое. Если это и
не было адом, то во всяком случае неплохой тренировочной площадкой.
Страха вздохнул.
-- Кроме того, через небольшое время -- по меркам, которыми пользуется
Раса, -- сюда прибудет флот колонизации. Будут инкубированы выводки яиц.
Будет ли среди них мое? Есть над чем посмеяться.
Его рот открылся -- и остался открытым.
У некоторых русских эмигрантов были русские жены, у других --
любовницы. Кому-то доставались жаждущие француженки. Страхе недоставало
самки-ящера не так, как мужчине недостает женщины: если Страха не видел
(вернее, не обонял) самку, он о ней и не думал. И тем не менее он продолжал
рассматривать Расу как единое целое, к которому уже никогда не будет
принадлежать.
-- Это трудно, командир, -- сказал Сэм.
-- Истинно, -- сказал Страха. -- Но когда я спускался в эту не-империю,
я не спрашивал, будет ли моя жизнь легкой, а только о том, будет ли она
продолжаться. Она продолжается. Она будет продолжаться и в тех
обстоятельствах, которые я для себя изберу. И скорее всего я буду долго
размышлять о том, правильное ли решение я принял.
Сэму хотелось сказать что-то подходящее к случаю, но ничего подобного в
своей жизни он не переживал.
* * *
Мордехай Анелевич равнодушно прошел мимо фабрики, на которой еще
несколько месяцев назад рабочие выпускали зимнюю одежду для ящеров. Затем
нацистская ракета попала прямо в здание. Теперь оно выглядело так, как любое
другое, которое разрушила бомба весом в одну тонну: сплошное крошево. Слава
богу, что ракета ударила во время ночной смены, когда людей было очень мало.
Анелевич осмотрелся. Улица была почти безлюдной. Он подтянул брюки,
будто поправляя их. Затем нырнул за полуразрушенную стену фабрики: это мог
сделать любой человек в поисках уединения, чтобы без помех облегчиться.
Из руин прозвучала фраза на идиш:
-- А, это вы. Нам не нравятся люди, которые забредают сюда, вы же
знаете.
-- И почему же, Мендель? -- сухо спросил Мордехай.
-- Потому что мы высиживаем яйцо и надеемся, что из него никогда ничего
не вылупится, -- ответил охранник тоном, куда менее сдержанным, чем тот,
которым он, вероятно, хотел бы ответить.
-- Зато теперь оно в нашем гнезде, а не там, куда его положили немцы,
-- ответил Анелевич.
Доставить бомбу сюда с полей гетто [Кладбище. -- Прим. ред.] тоже было
целой эпопеей, которую Мордехай не пожелал бы повторить ни за что в жизни.
Бомба была закопана неглубоко, иначе он и его товарищи не смогли бы вытащить
ее. Случилось так, что утром ящеры заметили зияющую яму. К счастью, их
удовлетворило вполне правдоподобное объяснение: в этой могиле были
похоронены умершие от холеры, и поэтому их пришлось эксгумировать и сжечь.
Как и подавляющее большинство ящеров, Буним был очень щепетилен в отношении
людских болезней.
Мордехай, скрытый во мраке разрушенной фабрики, выглянул наружу. Никто
из проходивших по улице людей не смотрел на него. Похоже, никто даже не
обратил внимания на то, что он так долго не выходит обратно. Он двинулся
дальше, внутрь здания. Путь был извилист и проходил между кучами кирпича и
обрушенными внутренними стенами здания, но за пределами видимости с улицы
обломки были расчищены.
Здесь в огромной корзине на особо прочной телеге покоилась бомба,
которую нацисты закопали на полях гетто. Потребовалось восемь лошадей, чтобы
привезти ее сюда, и если понадобится вывезти ее отсюда, снова потребуются
восемь крепких лошадей. Одной из причин того, что Мордехай выбрал для
укрытия именно это место, была конюшня, размещавшаяся за углом. Восемь самых
сильных тягловых лошадей, которых только сумело отыскать еврейское подполье,
содержались в постоянном ожидании, готовые при необходимости к быстрому
перегону на фабрику.
Словно по волшебству из тени появились двое охранников с автоматами
"шмайссер". Они кивнули Анелевичу. Он положил руку на бортик телеги.
-- Если бы была такая возможность, я увез бы эту проклятую штуку из
Лодзи совсем и поместил бы ее где-нибудь, где не так много ящеров.
-- Хорошо бы, -- сказал один из охранников, сухощавый, с бельмом на
глазу, по имени Хаим. -- Поместить ее куда-то, где и людей было бы поменьше.
А то любой, кто не из нас, может оказаться одним из "них".
Он не стал уточнять, кто такие "они". Скорее всего, не знал. Мордехай и
сам не знал, но разделял беспокойство Хаима. Враг твоего врага больше не
становился твоим другом -- он оставался врагом, только другого вида. Всякий,
кто обнаружил бы здесь бомбу -- ящеры, поляки, нацисты, даже евреи, которые
поддерживали Мордехая Хаима Румковского ("Разве не странное совпадение
имен?" -- подумал Анелевич), -- попытался бы забрать ее отсюда и
воспользоваться в своих интересах.
Анелевич снова легонько похлопал по корзине.
-- Если понадобится, мы сможем сыграть роль Самсона в храме [То есть
погибнуть вместе с врагами. -- Прим. перев.], -- сказал он.
Хаим и второй охранник кивнули. Этот второй спросил:
-- Вы уверены, что нацисты не смогут взорвать ее по радио?
-- Конечно, не смогут, Саул, -- ответил Анелевич. -- Мы абсолютно
уверены в этом. Но детонатор для ручного управления взрывом спрятан
неподалеку. -- Оба охранника кивнули: они знали, где именно. -- Бог
запрещает нам использовать его, вот и все.
-- Аминь, -- одновременно сказали Хаим и Саул.
-- Замечали что-нибудь по соседству? -- спросил Мордехай, как он
спрашивал каждый раз, когда приходил проверить бомбу. И, как всегда,
охранники покачали головами. Охрана корзины стала для них рутинным делом: ни
один не обладал богатым воображением. Анелевич знал, что его приход
доставляет им удовольствие.
Он направился к выходу на улицу, задержавшись, чтобы задать Менделю тот
же вопрос.
Мендель заверил его, что ничего необычного не заметил.
Анелевич убеждал себя, что беспокоится напрасно: никто, кроме
еврейского подполья -- и, конечно, нацистов, -- не знал, что в Лодзь
доставлена бомба, и никто, кроме нескольких его людей, не знает, где она
теперь. Нацисты не будут пытаться взорвать ее, тем более пока ящеры
соблюдают перемирие.
Он говорил себе это много раз. И все еще верил с трудом. После пяти лет
войны, сначала против немцев, затем сразу против немцев и ящеров, он с
трудом мог верить любым заверениям в безопасности.
Когда он вышел на улицу, то демонстративно поправил брюки, затем
посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, не присматривается ли кто-нибудь к
нему или к разрушенному зданию фабрики. Ничего не заметив, зашагал по улице.
Впереди него, метрах в пятнадцати, быстро шел высокий широкоплечий
человек со светло-каштановыми волосами. Он повернул за угол. Анелевич
последовал за ним, отметив только, что черное пальто коротковато прохожему:
полы его шлепали по икрам, вместо того чтобы закрывать лодыжки, как
полагалось. В Лодзи было немного таких крупных людей, что, без сомнения,
объясняло, почему этот человек не смог найти себе подходящее пальто. Ему
недоставало до двух метров всего шести или восьми сантиметров.
Нет, людей такого роста в гетто Анелевич почти не видел. Крупные,
мускулистые люди, которым требовалось много пиши, на скудном пайке погибали
быстрее, чем коротышки. Но такого высокого человека Анелевич видел не так
давно. Он нахмурился, стараясь вспомнить, где и когда это произошло. Один из
польских фермеров, временами передававший информацию евреям? Но его не было
в Лодзи. Анелевич был почти уверен.
И тут он побежал. Возле угла, за которым скрылся высокий человек, он
задержался, вертя головой туда-сюда.
Высокого нигде не было. Анелевич подбежал к следующему углу и снова
посмотрел во все стороны. По-прежнему никаких признаков высокого. С досады
он пнул камень мостовой.
Действительно ли на улицах лодзинского гетто появился Отто Скорцени или
ему привиделось? У эсэсовца не было разумных причин являться здесь, поэтому
Анелевич старался убедить себя, что увидел кого-то другого, такого же роста
и телосложения.
-- Это невозможно, -- проговорил он про себя. -- Если нацисты взорвут
Лодзь во время мирных переговоров, то один бог знает, что ящеры обрушат на
их головы: посеешь ветер, пожнешь бурю. Даже Гитлер вряд ли настолько
спятил.
Но как и от прошлых страхов, так и от этого опасения избавиться он не
мог. Если вдуматься, до какой же все-таки степени спятил Гитлер?
* * *
Дэвид Гольдфарб и Бэзил Раундбуш слезли с велосипедов и нетерпеливо
поспешили к таверне "Белая лошадь" -- как спешили бы к оазису в пустыне.
-- Жаль, что мы не можем взять с собой Мцеппса, -- заметил Раундбуш. --
Ты не хотел бы помочь бедному зануде провести вечер получше?
-- Я? -- спросил Гольдфарб. -- И не подумаю.
-- Похвальное поведение, -- сказал Раундбуш, кивая. -- Поступай так
всегда -- и ты далеко пойдешь, хотя если все время думать о том, чтобы не
думать, то это может испортить праздник, как думаешь?
У Гольдфарба хватило здравого смысла не впутываться в этот бесконечный
спор. Он распахнул дверь в "Белую лошадь" и окунулся в облако дыма и гул
голосов. Бэзил Раундбуш вошел и захлопнул дверь. После этого Гольдфарб
отодвинул в сторону черный занавес, закрывавший вход изнутри, и они вошли в
помещение.
Яркий электрический свет заставил их заморгать.
-- Мне здесь больше нравилось при факелах и отсветах очага, -- сказал
Дэвид. -- Придает атмосферу прошлого: чувствуешь, что Шекспир или Джонсон
могли бы заглянуть сюда, чтобы пропустить пинту пива вместе со всеми.
-- Загляни сюда Джонсон, одной пинтой не ограничилось бы, и это
совершенно точно. -- сказал Раундбуш. -- Все эти факелы возвращают нас в
восемнадцатое столетие, должен заметить. Но помни, старик, восемнадцатое
столетие было грязным и неприятным. Так что -- даешь электричество каждый
день!
-- Похоже, что так и будет, -- сказал Гольдфарб, направляясь к бару. --
Удивительно, как быстро можно восстановить электроснабжение в отсутствие
постоянных бомбежек.
-- Действительно, -- согласился Раундбуш. -- Я слышал, что если
перемирие продолжится, то вскоре будет отменено и затемнение. -- Он помахал
Наоми Каплан, которая стояла за стойкой. Она улыбнулась и помахала в ответ,
затем ее улыбка стала еще шире -- она увидела за спиной Раундбуша
низкорослого Гольдфарба. Раундбуш хмыкнул. -- Ты -- счастливый парень.
Надеюсь, ты знаешь это.
-- Можешь поверить, знаю, -- сказал Гольдфарб с таким энтузиазмом, что
Раундбуш рассмеялся. -- А если бы не знал, моя семья слишком часто
напоминает мне, чтобы я не забыл.
Его родители, братья и сестры одобрили Наоми. Он был уверен, что все
будет хорошо и дальше. К его огромному облегчению, она тоже с симпатией
отнеслась к ним, хотя их переполненная квартира в Ист-Энде была далека по
удобствам от комфорта верхушки среднего класса, в котором она выросла в
Германии -- до того, как Гитлер сделал жизнь евреев невозможной.
Они нашли очень узкое свободное место возле стойки и втиснулись в него,
локтями расширяя пространство. Раундбуш щелкнул серебряной монетой по
влажному полированному дереву.
-- Две пинты лучшего горького, -- сказал он Наоми и добавил еще
несколько монет. -- А это для вас, если не возражаете.
-- Благодарю вас, нет, -- сказала она и сдвинула лишние монетки обратно
к Раундбушу.
Остальные она смела в коробку под стойкой. Гольдфарбу хотелось, чтобы
она перестала работать здесь, но она получала гораздо больше, чем он.
Владелец "Белой лошади" мог поднимать цены, чтобы идти в ногу с инфляцией,
скачущей по британской экономике, и почти тут же повышать жалование. Скудное
жалование Гольдфарба, служащего королевских ВВС, отставало на несколько
бюрократических шагов. Когда его призвали в 1939 году, он мог думать, что
получает приличные деньги, -- теперь они почти равнялись нищете.
Он проглотил свою пинту и купил вторую. Наоми позволила ему взять пинту
и для нее, невзирая на протесты Бэзила Раундбуша.
Они уже подняли свои кружки, когда кто-то за спиной Гольдфарба спросил:
-- Кто эта твоя новая приятельница, старик?
Гольдфарб не слышал этого кентерберийского выговора уже целую вечность.
-- Джоунз! -- сказал он. -- Я не видел тебя так давно, что уж подумал,
что ты расстался с жизнью. -- Затем он бросил взгляд на товарищей Джерома
Джоунза, и его глаза расширились еще больше. -- Мистер Эмбри! Мистер
Бэгнолл! Я и не знал, что вы объявились дома!
Последовали представления. Джером Джоунз замигал от удивления, когда
Гольдфарб представил Наоми Каплан как свою невесту.
-- Счастливец! -- воскликнул он. -- Нашел себе прекрасную девушку, и
ставлю два против одного, что она не снайпер и не коммунистка.
-- Э-э... нет, -- сказал Дэвид. Он кашлянул. -- Я не ошибусь, если
предположу, что в недавнем прошлом ты не так уж плохо проводил время?
-- Ты и половины не предположишь! -- ответил специалист по радарам с
непривычной искренностью. -- Даже половины.
Гольдфарб узнал эту интонацию -- так говорят о местах и делах, о
которых не хочется вспоминать. Чем больше он думал об этом, тем больше ему
хотелось отвлечься.
К стойке бара вернулась Сильвия с подносом пустых кружек.
-- Боже мой, -- сказала она, взглянув на вновь прибывших. --
Посмотрите, кого ветер принес к нам. -- Она инстинктивно пригладила волосы.
-- Где же вы, парни, болтались? Я думала... -- Она не договорила, хотя ей в
голову явно пришла та же мысль, что и Гольдфарбу.
-- В прекрасном, романтичном Пскове. -- Джордж Бэгнолл закатил глаза.
-- Где это, как вы назвали? -- спросила Сильвия.
-- Если провести линию от Ленинграда до Варшавы, она пройдет недалеко
от Пскова, -- ответил Бэгнолл.
Гольдфарб мысленно представил себе карту.
Джером Джоунз добавил:
-- И все время, пока мы там были, единственное, что поддерживало нас,
так это воспоминания о "Белой лошади" и о работающих там прекрасных
заботливых девушках.
Сильвия посмотрела себе под ноги.
-- Принеси мне совок для мусора, -- сказала она Наоми. -- Тонем в
грязи. -- Она снова повернулась к Джоунзу. -- А ты даже более сдержан, чем
мне помнится.
Он улыбнулся, совершенно не смутившись. Бросив критический взгляд на
всех троих, Сильвия продолжила:
-- Вы были последними, кто видел меня за неделю до вашего отъезда.
Потом я слегла в постель с воспалением легких.
-- Я никогда не ревновал к микробам, -- сказал Джоунз.
Сильвия ткнула его локтем в ребра, достаточно сильно. Затем зашла за
стойку, сняла с подноса грязные кружки и принялась наполнять новые.
-- А где Дафна? -- спросил Кен Эмбри.
-- Я слышал, что в прошлом месяце она родила девочек-близнецов, --
ответил Гольдфарб, эффектно завершая последовательность вопросов.
-- Я бы сейчас кого-нибудь убил за кусочек бифштекса, -- сказал Бэгнолл
тоном, который никак нельзя было назвать шутливым. -- Никак не ожидал, что у
нас с едой хуже, чем на континенте. Черный хлеб, пастернак, капуста,
картошка -- то же самое, что ели немцы в последнюю зиму великой войны.
-- Если вы слишком сильно захотите бифштекса, сэр, то рискуете
погибнуть, -- сказал Гольдфарб. -- Владелец коровника в наши дни охраняет
его с винтовкой, и бандиты тоже легко добывают винтовки. Все обзавелись
винтовками, когда пришли ящеры, и далеко не все вернули их обратно. Вы ведь
знаете о перестрелках из-за еды? О них постоянно сообщают газеты и радио.
Сильвия кивком подтвердила согласие со сказанным.
-- Сейчас, как на Диком Западе, стрельба каждый день. Здесь, на берегу
океана, мы обходимся цыплятами и рыбой. Но говядина? Ее нет.
-- Куры тоже чего-то стоят, -- сказал Бэзил Раундбуш.
Гольдфарб промолчал, хотя с его крошечным жалованием у него было больше
оснований жаловаться, чем у офицера. Но если вы еврей, вы трижды подумаете,
прежде чем позволите другим думать о себе как о бедняке.
Джером Джоунз хлопнул себя по карману брюк.
-- В мире теперь деньги не самая большая забота, даже если
восемнадцатимесячное жалование свалилось на меня сразу. И между прочим,
денег оказалось больше, чем я ожидал. Сколько раз повышали вам жалование,
пока мы отсутствовали?
-- Три или четыре, -- ответил Гольдфарб. -- Но это не такие большие
деньги, как тебе кажется. Цены росли гораздо быстрее, чем жалование.
Несколько минут назад я как раз думал об этом.
Он посмотрел через стойку на Наоми, которая только что поставила кружку
перед одетым в прорезиненную одежду рыбаком, и тихо вздохнул. Как хорошо
было бы забрать ее отсюда и жить вместе на его жалование -- если бы его
хватало больше чем на одного человека.
Он поймал взгляд невесты. Она улыбнулась ему.
-- Угощаю всех моих друзей, -- сказал он, роясь в кармане и пытаясь
определить, какие скомканные банкноты там находятся.
По существующему с незапамятных времен обычаю после этого каждый обязан
был проставиться. Когда наступило время возвращаться в казарму, он пожалел,
что у его велосипеда нет радара. Завтра утром у него будет тяжелая голова,
но и с этим он тоже справится. С бифштексами, может быть, дело обстоит
неважно, но таблетки аспирина всегда найдутся.
* * *
Представители тосевитов уважительно поднялись с мест, когда Атвар вошел
в зал. Адмирал повернул один глаз в сторону Уотата.
-- Выскажите им подходящее приветствие, -- сказал он Уотату.
-- Будет исполнено, благородный адмирал, -- ответил переводчик и
переключился с прекрасного точного языка Расы на рыхлые неясности языка
Больших Уродов, который назывался английским.
Тосевиты отвечали один за другим, причем Молотов от СССР -- через
собственного переводчика.
-- Они говорят обычные вещи в обычной манере, благородный адмирал, --
доложил Уотат.
-- Хорошо, -- сказал Атвар. -- Я предпочитаю их обычные вещи в обычной
манере. На этой планете это само по себе уже необычно И говоря о необычном,
мы вернемся к вопросу о Польше. Скажите представителю из Германии, что мне
крайне не понравилась его недавняя угроза возобновления войны и что Раса
предпримет необыкновенно суровые меры, если такие угрозы повторятся в
будущем.
Уотат снова заговорил по-английски. Фон Риббентроп ответил на этом же
языке.
-- Благородный адмирал, за эту непристойную ошибку он оправдывается
неправильной расшифровкой инструкции от своего не-императора.
-- В самом деле? -- спросил Атвар. -- Действительно, этот самец может
оправдываться очень многими вещами, и некоторые из них могут даже быть
близки к правде. Скажите ему, что это хорошо, раз он просто ошибся. Скажите
ему, что его не-империя сильно пострадала бы, если бы он не ошибся.
На этот раз фон Риббентроп ответил более длинной речью и, очевидно, с
некоторым воодушевлением.
-- Он отрицает, что Германии требуется пугать Империю и Расу. Он
говорит, что, поскольку Раса ведет переговоры медленно, его не-империя имеет
право возобновить конфликтов то время и в таком виде, какие она выберет.
Однако он сожалеет, что неправильно информировал вас об этом времени и о
порядке возобновления.
-- Как это великодушно с его стороны, -- заметил адмирал. -- Скажите
ему, что мы не затягиваем переговоры. Укажите ему, что у нас уже есть основы
соглашений с СССР и США. Скажите ему, что непримиримая позиция его
собственного не-императора в отношении Польши привела к тупику в
переговорах.
Уотат снова перевел. Фон Риббентроп издал несколько звуков тосевитского
смеха, прежде чем ответить.
-- Он говорит, что любое соглашение с СССР не стоит листа бумаги, на
котором изложены его условия.
Фон Риббентроп еще не успел закончить, как Молотов заговорил на своем
языке, звучавшем для Атвара иначе, чем английский, но ничуть не лучше.
Переводчик Молотова обратился к Уотату, который доложил Атвару:
-- Он обвиняет немцев в нарушении когда-то заключенных соглашений и
приводит примеры. Хотите выслушать их полностью, благородный адмирал?
-- Не нужно, -- сказал ему Атвар. -- Я их уже слышал прежде и, если
понадобится, могу получить данные. Снова заговорил фон Риббентроп.
-- Он указывает, благородный адмирал, что у СССР имеется длинная
граница с Китаем, где продолжается конфликт местных Больших Уродов. Он также
указывает, что одна из борющихся китайских сторон идеологически близка
власти, управляющей СССР. Он спрашивает, можем ли мы поверить, что самцы
СССР перестанут снабжать своих единомышленников вооружением даже после
заключения соглашения с Расой.
-- Это интересный вопрос, -- сказал Атвар. -- Попросите Молотова
ответить.
Молотов говорил долго. Хотя Атвар не понимал его язык -- точно так же
как и английский, -- он заметил разницу в стиле между представителями
Германии и СССР. Фон Риббентроп был театральным, драматизирующим, склонным
превращать мелочи в крупные проблемы. Молотов выбрал противоположный подход:
адмирал не понимал, что он говорит, но речь тосевита звучала усыпляюще. Его
лицо было почти таким же неподвижным, как у самца Расы, что для Большого
Урода было очень необычно.
Уотат доложил:
-- Самец Молотов соглашается, что большое количество советского оружия
и боеприпасов уже находится в Китае: оно было послано в порядке помощи
китайцам или одной группе их для борьбы против японцев еще до нашего прихода
сюда. Далее он говорит, что по этой причине СССР не может считаться
виновным, если это оружие и боеприпасы будут обнаружены в Китае.
-- Обождите, -- сказал Атвар. -- СССР и Япония не были в состоянии
войны друг с другом, когда мы прибыли на этот жалкий шар из грязи. Тем не
менее Молотов подтверждает помощь китайцам против японцев?
-- Он подтверждает, благородный адмирал, -- ответил переводчик.
-- Тогда спросите его, почему мы не должны ожидать, что СССР будет
снабжать китайцев оружием против нас, хотя его не-империя не будет в
состоянии войны с нами.
Уотат перевел. Снова сработала цепочка: Молотов -- его переводчик --
Уотат -- Атвар.
-- Он говорит, что в отличие от японцев у Расы есть мощь и интерес
наказывать за любые подобные нарушения.
От такого захватывающего дух цинизма у адмирала вырвалось сильное
шипение. Тем не менее этот подход был достаточно реальным, чтобы сделать
возможной договоренность.
-- Скажите ему, что за нарушениями последуют наказания, -- сказал он,
добавив усиливающее покашливание.
-- Он признает правомерность вашего беспокойства, -- сказал Уотат.
-- Как хорошо с его стороны признать это, -- сказал Атвар. -- А теперь
вернемся снова к вопросу о Польше. Из тех, что остались у нас, он кажется
главным.
Едва договорив, он задумался, сохранится ли такое положение вещей в
будущем. Китай занимает гораздо большую площадь, и в нем живет гораздо
больше Больших Уродов, чем в Польше. Кроме того, у него очень длинная
граница с СССР, которую трудно перекрыть даже с использованием технологии
Расы. Раньше или позже самцы из СССР попробуют пойти на обман, а потом будут
отрицать, что они сделали это. Он чувствовал, что этого не избежать.
Попросил слова самец из Британии:
-- Прошу внимания!
Он был вежлив -- дождался приглашающего жеста Уотата и только затем
продолжил:
-- Я должен повторить, что правительство его величества, признавая
завоевание Расой значительной части нашей Империи, не может рассматривать
формальное признание этих завоеваний без гарантий перемирия, идентичного по
достоинству и в формальном отношении тому, которое вы уже заключили с
Соединенными Штатами, с Советским Союзом и Германией.
-- Поскольку завоевание остается реальным, то признание его не имеет
значения, -- ответил Атвар.
-- Великая история противоречит вам, -- сказал Иден.
По мнению Атвара, у Тосев-3 не было великой истории. Он не стал
указывать на это -- чтобы не раздражать Больших Уродов.
-- Вы должны знать, почему Британия не входит в перечень указанных вами
не-империй.
-- У нас нет атомного оружия, -- ответил британский самец. -- Но вы
должны знать, что так будет не всегда.
На мгновение Атвар заколебался: может, дать британцам формальное
перемирие, которого они домогались на переговорах, в ответ на остановку их
ядерной исследовательской программы? Но он промолчал: когда три тосевитские
не-империи уже обладают атомным оружием, еще одна ничего не изменит, даже
если британцы что-то выторгуют на этом предупреждении.
-- А Польша? -- спросил он.
-- Есть и должна быть нашей, -- заявил фон Риббентроп.
-- Нет!
Атвар понял это слово без помощи переводчиков: Молотов так часто его
использовал, что его можно было узнать безошибочно.
-- Раса будет некоторое время сохранять за собой те части Польши,
которые она теперь занимает, -- сказал адмирал. -- Мы продолжим дискуссии с
Германией, с СССР и даже с поляками и евреями в усилиях найти решение,
удовлетворяющее все стороны.
-- Генеральный секретарь Сталин дал мне инструкции согласиться на это,
-- сказал Молотов.
-- Фюрер не согласен, не согласится и не может согласиться, -- сказал
фон Риббентроп.
-- Я еще раз предупреждаю вас и фюрера: если вы возобновите войну
против Расы, а в особенности -- с ядерным оружием, ваша не-империя
пострадает самым страшным, как только можно представить себе, образом, --
сказал Атвар.
Фон Риббентроп не ответил, не закричал, даже не показал, что он
услышал.
Единственное, что всегда беспокоило Атвара больше, чем неповинующийся
неистовствующий Большой Урод, -- это молчащий Большой Урод.
* * *
Людмила Горбунова нажала на стартер "физлера". Двигатель "Аргус"
мгновенно ожил. Она не удивилась. Германская техника действовала безупречно.
Игнаций помахал ей. Она прибавила оборотов двигателю и кивнула в ответ.
Ей предстояло сильно разогнать "шторх", чтобы он оторвался от земли и не
врезался в деревья, стоящие впереди. Ее старый "У-2" никогда бы не смог
взлететь на столь малом пространстве.
Она кивнула еще раз. Партизаны вытащили деревянные колодки из-под
колес. В тот же миг Людмила отпустила тормоз. "Шторх" рванулся вперед. Она
потянула ручку на себя -- и нос машины скачком задрался вверх. Через стекло
пола кабины были видны деревья: темные тени их мелькнули внизу так близко,
что казалось, только протяни руку -- и коснешься. Поляки, обозначавшие
свечами край свободного пространства, задули их.
Машина с гудением летела вперед, Людмила не хотела подниматься выше.
Пока она находилась над территорией ящеров, ее вполне могли сбить как врага.
Ирония судьбы: для ощущения безопасности ей требовалось перелететь на
удерживаемую немцами территорию.
Но безопасность была не единственным ее желанием. Координаты места
приземления означали, что ей предстоит сесть на ту самую полосу, которой она
уже пользовалась. Если повезет, там ее будет ждать Генрих Ягер.
Справа в темноте блеснули вспышки выстрелов. Что-то попало в фюзеляж
сбоку -- звук был как от камня, ударившего в железную крышу. Людмила
прибавила газу, заставив "шторх" убраться как можно скорее.
Но навигацию ей это усложнило. На большей скорости ей понадобится
меньше времени, чтобы долететь до места. Насколько? Она стала прикидывать,
но первая прикидка показалась ей ошибочной, и она задумалась снова. Взгляд
на часы заставил ее всмотреться вниз в поисках посадочной площадки.
Она надеялась, что ей не придется заходить на второй круг. Если она
будет летать над немцами слишком долго, они вполне могут открыть по ней
огонь, а если круг сделать слишком большим, она может снова оказаться над
территорией, удерживаемой ящерами.
Вот она! Как и прежде, фонари, обозначавшие границы посадочной полосы,
были маленькими и тусклыми, но она заметила их. Выпустив огромные закрылки
"шторха", она резко уменьшила скорость полета -- словно нажала на тормоз
автомобиля, мчащегося по шоссе. Легкий самолетик, чуть дернувшись, замер в
пределах обозначенной фонарями площадки так, что еще оставался порядочный
запас места.
Людмила открыла дверь кабины. Она выбралась на крыло, затем спрыгнула
на землю. К "шторху" приблизились люди. Но был ли среди них Ягер, в темноте
она не смогла разобрать.
Зато они ее узнали.
-- Вы видите, Гюнтер? -- сказал один из них. -- Это летчица.
Он придал слову окончание женского рода, как это делал временами Ягер и
как часто делал Георг Шульц (тут она задумалась -- но только на мгновение,
-- что же могло случиться с Шульцем и Татьяной; вот уж кто стоил друг
друга).
-- Да, вы были правы, Иоганнес, -- ответил другой немец. -- Это только
показывает, что никто не может ошибаться все время.
В ответ в темноте кто-то фыркнул.
"Гюнтер, Иоганнес..."
-- Скажите, вы ведь из экипажа танка полковника Ягера, так ведь? --
тихо спросила Людмила. -- Он -- он тоже здесь?
Она не изображала безразличия: они не могли не знать об ее отношении к
Ягеру. Но тут она словно натолкнулась на невидимую стену.
-- Нет, его здесь нет, -- сказал один из них -- ей показалось, Гюнтер.
Он отвечал ей едва ли не шепотом, словно желая, чтобы его слова не
распространились дальше пределов, ограниченных размахом крыльев "шторха".
Холод пробежал по спине Людмилы.
-- Скажите, -- попросила она, -- с ним беда? Он мертв? Это произошло до
перемирия? Скажите мне!
-- Он не мертв -- пока, -- ответил Гюнтер еще тише, чем прежде. -- Он
даже не пострадал. И это произошло не в бою с ящерами. Это случилось три дня
назад.
-- Что случилось? -- спросила Людмила.
Гюнтер, словно ошалелый, молчал. Через мгновение, когда Людмила уже
собиралась выхватить пистолет и выбить из Гюнтера ответ любой ценой, другой
член экипажа по имени Иоганнес сказал:
-- Фройляйн, его арестовало СС.
-- Боже мой! -- прошептала Людмила. -- Почему? Что он сделал? Может,
это из-за меня?
-- Будь я проклят, если мы знаем, -- ответил Иоганнес. -- Эта мелкая
хилая эсэсовская свинья явилась, направила на него пистолет и увела. Вонючий
чернорубашечный ублюдок -- не знаю, кем он себя считает -- арестовал нашего
лучшего командира!
Его сотоварищи хором забормотали ругательства в тот же адрес.
Один из них сказал:
-- Пошли, ребята, нам ведь надо загрузить этот самолетик боеприпасами.
-- Должно быть, это из-за меня, -- сказала Людмила. Ее всегда
беспокоило, не привяжется ли к ней НКВД из-за Ягера, а вместо этого его
схватила его же служба безопасности. И это потрясло ее своей страшной
несправедливостью. -- И его никак нельзя освободить?
-- У СС? -- с крайним удивлением протянул тот, кто приглашал товарищей
заняться погрузкой боеприпасов в "шторх".
Похоже, что нацисты наделили своих сторожевых псов такой же страшной,
почти сверхъестественной силой, которую русские люди приписывали НКВД.
Но танкист по имени Гюнтер отозвался:
-- Христос на кресте, а почему бы и нет? Думаете, Скорцени будет просто
сидеть и разрешит, чтобы что-нибудь случилось с полковником Ягером,
независимо от того, кто его схватил? Уверен, что нет. Он -- эсэсовец, но
все-таки настоящий солдат, а не сволочной дорожный полицейский в черной
рубахе. Мы будем последним дерьмом, если не освободим нашего полковника, мы
не заслуживаем быть танкистами. Пошли!
Эта идея захватила его.
Но тот осторожный снова спросил:
-- Хорошо, мы освободим его. И что он будет делать потом?
Несколько секунд все молчали. Потом Иоганнес испустил звук, который
можно было бы принять за приглушенный взрыв хохота. Он показал на "физлер".
-- Мы вытащим его, сунем в самолет, и летчица улетит с ним отсюда хоть
к чертям собачьим. Раз у СС есть к нему дело, вряд ли он захочет остаться
здесь, это точно.
Танкисты столпились возле него, пожимая руку и хлопая по плечу. Людмила
присоединилась к ним. Затем спросила:
-- А вы при этом не подвергнетесь опасности?
-- Подождите-ка, -- сказал Иоганнес. Он отошел в сторону от "шторха" и
громко объявил: -- Летчик сказал, что в моторе неисправность. Мы пойдем
искать механика.
И они ушли, растворившись в ночи.
Оставшись одна, Людмила подумала, не загрузить ли часть боеприпасов в
"шторх" своими силами. Но потом передумала. Ведь ей могут понадобиться все
запасы топлива, которые есть у легкой машины, и лишний вес на борту только
уменьшит их.
Где-то в темноте пиликал сверчок. Ожидание затягивалось.
Рука сама потянулась к ручке "Токарева", висевшего на поясе. Если
начнется перестрелка, она сразу же побежит в ту сторону. Но тишину ночи
нарушали только насекомые.
Один из солдат, стоявший с фонарем для обозначения посадочной площадки,
обратился к ней:
-- Аллес гут, фройляйн? [Все в порядке, барышня? (нем.) -- Прим.
перев.]
-- Йа, -- ответила она, -- аллеc гут. [Да... все хорошо (нем.)]
Какая же она лгунья!
По земле затопали сапоги, быстро приближаясь... Людмила оцепенела. В
этой пропитанной запахом трав ночи она видела только движущиеся силуэты. Она
даже не могла сосчитать, сколько их, пока они не приблизились. Один, два,
три, четыре... пять!
-- Людмила!
Что это? Это он? Голос Ягера.
-- Да! -- по-русски ответила она, забыв о немецком.
Что-то блеснуло. Один из танкистов, сопровождавших Ягера, несколько раз
воткнул в землю нож -- наверное, чтобы очистить его, -- и затем убрал в
ножны. Когда он заговорил, оказалось, что это Гюнтер:
-- Увозите отсюда полковника, летчица. Тех, кто нас видел, уже нету...
-- Он погладил ножны, в которых покоился его нож. -- А все остальные здесь
-- из нашего полка. Нас никто не выдаст -- ведь мы сделали то, что
следовало, и все тут.
-- Вы просто сумасшедшие, и все тут, -- сказал Ягер с теплотой в
голосе. Его подчиненные окружили его, пожимая руки и обнимая его с добрыми
пожеланиями. Это могло бы показать Людмиле, какой он офицер, если бы она не
составила бы себе представления раньше.
Она показала на темные очертания ящиков с патронами.
-- Вам придется как-то избавиться от них, -- напомнила она танкистам.
-- Ведь я их должна была увезти.
-- Мы побеспокоимся об этом, летчица, -- пообещал Гюнтер. -- Обо всем
позаботимся. Не беспокойтесь. Может, мы и преступники, но не совсем
тупоголовые.
Остальные танкисты тихим гомоном подтвердили свое согласие.
Людмиле хотелось верить, что немецкая дотошность распространяется и на
преступление. Она потянула Ягера за плечо, чтобы отделить от его товарищей,
и показала на открытую дверцу кабины "физлера".
-- Влезай и садись на заднее сиденье, туда, где пулемет.
-- Лучше, если бы пользоваться им не потребовалось, -- ответил он,
взбираясь на крыло, чтобы войти в кабину.
Людмила последовала за ним. Она опустила дверь и захлопнула ее. Ткнула
в кнопку стартера. Мотор заработал. Посмотрела, как разбегались солдаты, и
порадовалась, что ей не пришлось никого просить крутнуть пропеллер.
-- Ты пристегнулся? -- спросила она Ягера. Когда он ответил "да", она
пустила "шторх" вперед по полю: ускорение могло выкинуть пассажира с
сиденья, если он не был привязан.
Как обычно, легкой машине потребовалась самая малость, чтобы взлететь.
После заключительного сильного удара шасси о землю "шторх" прыгнул в воздух.
Ягер наклонился в сторону, чтобы посмотреть вниз, на посадочную полосу. То
же самое проделала и Людмила, хотя увидеть можно было немного. Теперь, когда
они были в воздухе, люди, стоявшие внизу с фонарями, начали гасить их.
Через плечо она спросила:
-- С тобой все в порядке?
-- Почти да, -- ответил он. -- Они не успели пустить против меня свои
самые сильные средства -- не были уверены, насколько крупным изменником я
стал. -- Он горько рассмеялся, -- Гораздо большим, чем они могли себе
представить, должен тебе сказать. Куда мы летим?
Людмила разворачивала "шторх" на восток.
-- Я собиралась доставить тебя в партизанский отряд, в котором я
нахожусь уже некоторое время. Думаю, что там никто за тобой не придет и не
отыщет, потому что это за много километров от территории, занятой немцами.
Разве плохо?
-- Не годится, -- ответил он, снова удивив ее. -- Ты можешь отвезти
меня в Лодзь? Если хочешь, высади меня там и лети к партизанам. Но мне надо
обязательно попасть туда.
-- Зачем? -- Она почувствовала в своем голосе печаль. Ведь появилась
возможность наконец быть вместе, и вот... -- Что может быть столь важного в
Лодзи?
-- Долгая история, -- ответил Ягер и по-офицерски кратко рассказал суть
дела. И чем больше он говорил, тем шире раскрывались глаза Людмилы. Нет, СС
арестовало его не из-за нее, вовсе нет... -- И если я не попаду в Лодзь,
Скорцени может взорвать город вместе со всеми людьми и ящерами в нем. И если
это произойдет, что будет с перемирием? Что станет с Фатерландом? И что
будет со всем миром?
Несколько секунд Людмила не давала ответа. Затем очень тихо она
сказала:
-- Как бы ты себя ни называл, но ты -- не изменник.
Она несколько увеличила высоту полета, прежде чем совершить вираж. На
Шкале компаса на приборной доске машины побежали цифры, остановившись на
"юго-юго-восток".
-- В Лодзь мы отправимся вместе, -- сказала Людмила.
Томалсс спал, когда открылась наружная дверь здания, где он содержался.
Резкий щелчок замка внутренней двери заставил его вскочить на ноги с
твердого пола, его глаза завертелись в разные стороны, он не мог понять, что
происходит. Из узкого окна, которое предназначалось для освещения и
проветривания места его заточения, сейчас никакой свет не проникал.
Его охватил страх. До этого Большие Уроды никогда не приходили сюда
ночью. Как любой самец Расы, он считал нарушение непрерывности повседневной
рутины предвещающей и содержащей угрозой. Он счел, что именно это изменение
воспринял бы как зловещее даже тосевит.
Дверь распахнулась. Вошел не один, а целых три Больших Урода. У каждого
в одной руке был фонарь, в котором горело какое-то пахучее масло или жир, а
во второй -- автомат. Фонари были примитивные -- примерно такие, какими, по
представлению Расы, могли обладать жители Тосев-3. Автоматы, к сожалению,
примитивными не были.
В тусклом мерцающем свете Томалссу потребовалось время, чтобы узнать Лю
Хань.
-- Благородная госпожа, -- выдохнул он наконец.
Она стояла, глядя на него без единого слова. Он уже вверил свой дух
Императорам прошлого, уверенный, что они позаботятся о нем лучше, чем
властители Расы заботились о его теле, пока он был жив.
-- Стоять! -- выкрикнула сердито Лю Хань.
Томалсс ждал, что оружие в ее руке изрешетит его. Но вместо этого она
положила автомат на пол. Затем вытащила что-то, спрятанное на поясе ее
тканой одежды, закрывавшей ноги: это был мешок из грубой тяжелой ткани.
Пока двое самцов держали Томалсса под прицелом, Лю Хань надела мешок
ему на голову. Он стоял оцепеневший, не осмеливаясь сопротивляться.
"Если они сейчас начнут стрелять в меня, то я не узнаю, что оружие
начало действовать, пока пули не попадут в меня", -- подумал он.
Лю Хань затянула мешок у него на шее, но не слишком туго, чтобы он не
задохнулся.
-- Он может видеть? -- спросил один из самцов. Затем он обратился к
Томалссу: -- Ты можешь видеть, жалкий чешуйчатый дьявол?
Томалсс действительно был жалким.
-- Нет, благородный господин, -- правдиво ответил он. Лю Хань толкнула
его. Он едва не упал. Когда он восстановил равновесие, она положила руку ему
на спину.
-- Вы пойдете в том направлении, которое я укажу, -- сказала она
сначала по-китайски, а потом на языке Расы. -- Только в том направлении. --
Она добавила усиливающее покашливание.
-- Будет исполнено, -- выдохнул Томалсс.
Может, они выводят его наружу, чтобы застрелить где-нибудь в другом
месте. Но если так, то почему они не сказали ему? Может, для того, чтобы
насладиться его страхом? Большие Уроды весьма изобретательны в том, как
причинить боль.
Лю Хань снова подтолкнула его, на этот раз менее сильно. Он шагал
вперед, пока она не сказала: "Теперь налево", -- подкрепив слова тем, что
передвинула руку по его спине в соответствующую сторону. Он повернул налево.
Почему бы нет? В той черноте, в которой он оказался, это направление было не
хуже любого другого. Чуть спустя Лю Хань сказала:
-- Направо.
Томалсс повернул направо.
Он не представлял, где находится. А если бы и знал, то быстро и
безнадежно заблудился бы. Он поворачивал налево и направо, налево и направо
десятки раз, через разные промежутки времени и в разных последовательностях.
Улицы Пекина были очень тихими. Он предполагал, что время сейчас где-то
между полуночью и утренней зарей, но не был уверен. Наконец Лю Хань сказала:
-- Стойте.
Томалсс остановился, полный дурных предчувствий. Значит, момент
наступил? Где это? Лю Хань отвязала веревку, стягивавшую мешок, и сказала:
-- Досчитаете до ста на своем языке, громко и медленно. Затем снимете
мешок. Если вы его снимете раньше, то умрете сразу же. Вы поняли?
-- Д-да, благородная госпожа, -- дрожащим голосом ответил Томалсс. --
Будет исполнено. Один... два... три... -- Он считал как можно медленнее. --
Девяносто восемь... девяносто девять... сто.
Он поднял руки, ожидая, что пули тут же растерзают его, и сбросил мешок
резким конвульсивным движением.
Никто не выстрелил. Его глаза, озираясь, осматривали все вокруг. Он был
один в начале одного из бесчисленных пекинских хутунов. Он швырнул мешок на
землю. Мягкое "шлеп!" было единственным звуком, донесшимся до его слуховых
перепонок. По-прежнему настороженно он шагнул из хутуна на примыкавшую
улицу.
К своему удивлению, он узнал ее. Это была Нижняя Наклонная улица,
по-китайски "Сиа Сиех Тиех". На ней находились развалины Чан Чун Су -- храма
Вечной Весны. Теперь он знал, как добраться до штаб-квартиры Расы в центре
Пекина. Он не знал, позволено ли ему это, но решил, что должен попытаться.
Нижняя Наклонная улица даже шла в нужном направлении.
Вскоре он натолкнулся на патруль самцов Расы. Прежде чем опознать
своего, патруль едва не пристрелил Томалсса на том месте, где его отпустили
тосевиты. Какая ирония была бы в таком завершении его карьеры! Но когда он
сказал им, кто он, они поспешили доставить его в тщательно укрепленную
цитадель, которую Раса сохранила за собой в том месте, которое раньше
называлось Запрещенным Городом.
Его прибытие стало настолько важным событием, что даже разбудили
Ппевела. Вскоре помощник администратора по восточному региону главной
континентальной массы вошел в комнату, где Томалсс впервые за много дней
наслаждался достойной пищей, и сказал:
-- Я рад видеть вас снова свободным, исследователь-аналитик. Тосевиты
информировали нас вчера, что выпустят вас, но они не особенно надежны в
своих утверждениях.
-- Истинно, благородный господин, насколько я знаю, это очень верно, --
сказал Томалсс с усиливающим покашливанием. -- Они не сообщили, почему они
отпускают меня? Мне они никогда ничего не объясняли. -- Не дожидаясь ответа,
он набросился на блюдо жареных червей, поставленное перед ним поварами. Хотя
черви были высушены перед отправкой на Тосев-3 и затем снова возвращены в
прежний вид, на вкус они были такими же, как на Родине.
-- По их сообщениям, частично в виде жеста доброй воли и частично в
качестве предостережения: это так типично для Больших Уродов -- стараться
сделать и то и другое одновременно. -- И словно в подтверждение его слов
откуда-то издалека донеслись звуки стрельбы. -- Они говорят, что это покажет
нам, как они могут действовать по своей воле в этом и других городах этой
не-империи: отпускать, кого захотят, захватывать, кого захотят, убивать,
кого захотят. Они предупреждают нас, что борьба за интеграцию Китая в
Империю будет проиграна.
До того, как он опустился на поверхность Тосев-3, и даже до своего
пленения Томалсс счел бы это смехотворным и нелепым. Теперь же...
-- Они решительны, благородный господин, они одновременно
изобретательны и удивительно хорошо вооружены. Я боюсь, что они будут
создавать нам неприятности многие годы, а может быть, и несколько поколений.
-- Так может быть, -- согласился Плевел, удивив Томалсса.
-- Когда я был пленником, самка Лю Хань заявила, что Раса даровала
некоторым тосевитским не-империям перемирие. Разве такое может быть?
-- Может. И есть, -- сказал Ппевел. -- Есть не-империи, способные
производить свое собственное ядерное оружие. Они пускают его в ход против
нас. Китай -- все его соперничающие стороны -- такого оружия не имеет и
исключен из перемирия. Это обижает китайцев, потому они удваивают силу своей
борьбы с нами, добиваясь, чтобы включили в перемирие и их.
-- Значит, Раса обращается с варварами-тосевитами как с равными? --
Томалсс поднял глаза к потолку с удивлением и унынием. -- Даже слыша это из
ваших уст, благородный господин, я с трудом могу поверить в это.
-- Тем не менее это истинно, -- ответил Ппевел. -- Мы вели переговоры
даже с этими китайцами, хотя и не согласились на уступку, которой добились
другие не-империи. Нам придется делить власть на этой планете до прибытия
флота колонизации. А может быть, и после тоже. Не хочу предполагать, как это
будет. Это решение адмирала, а не мое.
У Томалсса закружилась голова, как будто он проглотил слишком много
тосевитской травы, которую многие самцы находили такой заманчивой. Слишком
многое изменилось, пока он был узником! Ему придется плотно поработать,
чтобы приспособиться к тому, что постоянно беспокоит Расу. Он сказал:
-- Тогда нам требуется вести еще более масштабные поиски понимания
самой природы Больших Уродов.
-- Истинно, -- согласился Ппевел. -- Когда вы физически оправитесь от
последствий своих тяжких испытаний, исследователь-аналитик, мы обеспечим вам
со всеми возможными предосторожностями нового тосевитского детеныша, с
которым вы сможете продолжить вашу прерванную работу.
-- Благодарю вас, благородный господин, -- сказал Томалсс глухим
голосом. После того, что случилось с ним, когда он работал с последним
детенышем -- Лю Мэй, он понял, что работа, которая когда-то поглощала его,
не стоит связанных с ней опасностей. -- С вашего милостивого позволения,
благородный господин, я буду вести эту работу на борту звездного корабля, в
лаборатории, а не здесь, на поверхности Тосев-3.
-- Это можно организовать, -- сказал Ппевел.
-- Благодарю вас, благородный господин, -- повторил Томалсс.
Он надеялся, что расстояние между поверхностью и кораблями в космосе
защитит его от Больших Уродов, их дикой мести, обусловленной семейными и
сексуальными особенностями. Он надеялся на это -- хотя и без прежней
уверенности, характерной для него в первые дни пребывания на Тосев-3, когда
победа казалась такой быстрой и легкой. Он радовался, вспоминая тогдашнюю
уверенность, и понимал, что ничего подобного больше не будет.
* * *
Пациенты и беженцы столпились вокруг замысловато раскрашенного ящера с
электрическим мегафоном в руках. Ране Ауэрбах двигался медленно и осторожно
-- только так он и мог перемешаться, -- стараясь занять по возможности
наиболее удобное место. И хотя передвигавшихся с такими же трудностями было
довольно много, он все же подобрался к оратору довольно близко, почти до
окружавших его вооруженных охранников.
Он поискал глазами Пенни Саммерс и заметил ее в толпе на
противоположной стороне. Он помахал ей, но она его не увидела.
Электрифицированный мегафон издавал странные звуки. Какой-то стоявший
вблизи ребенок засмеялся. Затем ящер заговорил на довольно сносном
английском:
-- Теперь мы оставляем это место. Раса и правительство этой не-империи
здесь, в Соединенных Штатах, мы теперь заключаем соглашение. Войны больше
нет. Раса оставит землю Соединенных Штатов. Это включает также этот город
Карваль, штат Колорадо.
Дальше он говорить не смог. По толпе пронеслись шум, радостные крики.
Какая-то женщина запела "Боже, благослови Америку". Со второго куплета к ней
присоединились все присутствовавшие. Слезы заливали глаза Ауэрбаха. Ящеры
уходят! Победа! И даже полученная рана вдруг показалась стоившей того.
Когда пение закончилось, ящер продолжил:
-- Теперь вы свободны.
И снова крики радости:
-- Теперь мы уйдем.
Ауэрбах издал клич повстанцев, хотя получилось больше похоже на приступ
кашля, чем на дикий вопль, который ему хотелось изобразить, но все равно
вышло неплохо.
Ящер продолжил:
-- Теперь вы свободны, теперь мы уходим -- теперь мы больше не берем на
себя заботы о вас. Мы уходим, мы оставляем заботу о вас не-империи
Соединенных Штатов. О вас будут заботиться они или никто. Мы уходим. Это
все.
Охранникам-ящерам пришлось угрожать оружием, чтобы люди расступились и
дали пройти оратору и им самим. В течение нескольких путающих секунд Ауэрбах
опасался, что они начнут стрелять. Когда люди стоят такой плотной толпой,
это может привести к настоящей бойне.
Медленным шагом он направился в сторону Пенни Саммерс. На этот раз она
заметила его и пошла к нему гораздо быстрее, чем перемещался он сам.
-- Что именно сказал этот чешуйчатый ублюдок? -- спросила она. -- Вроде
бы ящеры поднимаются с места и оставляют нас одних?
-- Они не могут сделать этого, -- сказал Ауэрбах. -- Ведь здесь тысячи
людей, и среди них такие, как, например, я, совсем плохие ходоки. Что же нам
делать, идти, что ли, к американским позициям у Денвера?
Он рассмеялся абсурдности этой идеи.
Но ящерам она вовсе не казалась абсурдной. Они погрузились на грузовики
и бронетранспортеры и после полудня укатили из Карваля прочь, направляясь на
восток, туда, где находились их космические корабли. К заходу солнца Карваль
снова стал городом людей.
Это был довольно большой город, оставленный без какого-либо управления.
Ящеры увезли с собой столько припасов, сколько смогли погрузить на свой
транспорт. За оставшееся началась настоящая война. Пенни удалось раздобыть
несколько черствых бисквитов, и она поделилась ими с Ран-сом. В результате в
животах у них бурчало не так сильно, как могло бы.
Слева, не так далеко от палатки выздоравливающих, чтобы нельзя было
расслышать, кто-то произнес:
-- Мы должны вздернуть всех этих вонючих ублюдков, которые лизали
ящерам хвосты, когда те были здесь. Подвесим их за яйца, вот что.
Ауэрбах содрогнулся. Это было сказано холодным и равнодушным тоном. В
Европе людей, которые сотрудничали с нацистами, таких как Квислинг, называли
коллаборационистами. Ауэрбаху и в голову не приходило, что кому-то в США
понадобится думать о коллаборационистах.
Пенни забеспокоилась:
-- От этого могут быть неприятности. Любой, кто захочет свести счеты,
сможет обвинить человека в сотрудничестве с ящерами. Кто сможет определить,
что правда, а что нет? Семьи будут враждовать столетиями.
-- Ты, вероятно, права, -- .сказал Ране. -- Но раньше нас ждут другие
неприятности. -- Он размышлял как солдат. -- Ящеры убрались отсюда, а армия
сюда не пришла. Мы съедим все, что есть в Карвале, самое позднее к исходу
завтрашнего дня и что будем делать дальше?
-- Уйти в Денвер, я думаю, -- ответила Пенни. -- Что еще нам остается?
-- Не много, -- ответил он. -- Но идти -- как? Это же сотни миль, да?
-- Он показал на костыли, лежавшие возле его койки. -- Ты вполне можешь
дойти одна, без меня. Я встречусь с тобой там через месяц, может, через
шесть недель.
-- Не глупи, -- сказала ему Пенни. -- Теперь ты ходишь гораздо лучше,
чем прежде.
-- Знаю, но все еще недостаточно хорошо.
-- Ты справишься, -- уверенно сказала она. -- А кроме того, я не хочу
оставлять тебя, дорогой.
Она задула мерцающую свечу, освещавшую их палатку. В темноте он услышал
шуршание одежды. Когда он потянулся к ней, рука нащупала теплую нагую плоть.
Чуть позже она подпрыгивала верхом на нем, и они оба стонали от экстаза и,
как он думал, от отчаяния -- а может, отчаяние владело лишь Рансом. Затем
она, не одеваясь, уснула возле него в палатке.
Он проснулся еще до восхода солнца и разбудил ее.
-- Раз уж мы собираемся сделать это, -- сказал он, -- лучше тронуться в
путь как можно раньше. Мы сможем немало пройти, пока не станет слишком
жарко, и отдохнем в течение самого жаркого времени дня.
-- Мне это кажется правильным, -- сказала Пенни.
Небо на востоке только розовело, когда они тронулись в путь. И они были
далеко не первыми, кто уходил из Карваля. В одиночку и небольшими группами
люди шли, одни -- на север, другие -- на запад, а несколько неприкаянных душ
шагали напрямую без дорог на северо-запад. Будь Ауэрбах в лучшем состоянии,
он так бы и поступил. Теперь же они с Пенни выбрали запад: в лошадиной реке
вода, вероятнее всего, еще есть -- в отличие от остальных потоков, которые
им пришлось бы пересечь, если идти на север.
Он шел на костылях гораздо увереннее, чем прежде, но все равно медленно
и устало. Мужчины и женщины постоянно обгоняли его и Пенни. Беженцы из
Карваля растянулись по дороге, насколько хватал глаз.
-- Некоторые из них умрут прежде, чем мы дойдем до Денвера, -- сказал
он.
Эта перспектива расстроила его гораздо меньше, чем могло бы случиться
до ранения. Генеральную репетицию встречи с Угрюмым Потрошителем он уже
пережил: само же представление вряд ли будет намного хуже.
Пенни показала в небо. Кружившиеся в нем черные тени не были ни
самолетами ящеров, ни даже людскими самолетиками. Это были стервятники,
кружившие в свойственном их роду терпеливом ожидании. Пенни не сказала
ничего. Этого не требовалось. Ране думал, как стервятник будет обклевывать
его кости.
Потребовалось два дня, чтобы дойти до Лошадиной. Он понимал, что если
бы она пересохла, его путь вскоре закончился бы навсегда. Но люди толпились
на берегу, тянувшемся до пересечения с шоссе 71. Вода была теплой и грязной,
и футах в двадцати от них какой-то идиот мочился в реку. Ауэрбах не стал
обращать внимания. Он вдоволь напился, сполоснул лицо, затем снял рубашку и
намочил ее. Так будет прохладнее.
Пенни обрызгала водой свою блузку. Мокрая ткань прилипла к телу,
подчеркивая формы. Ауэрбах смог бы оценить это, не будь он смертельно
усталым. И все же он кивнул и сказал:
-- Хорошая идея. Идем.
Они двинулись на север по шоссе 71 и на следующий день утром добрались
до Панкин-Центра. Здесь они снова нашли воду. Местный житель с печальными
глазами сказал им:
-- Хотелось бы дать вам поесть, люди, у вас такой вид, что вам надо
поесть. Но те, кто прошел раньше, оставили нас без всего, что у нас было.
Удачи вам.
-- Я же говорил тебе, иди одна, -- сказал Ауэрбах.
Пенни игнорировала его ворчание.
Тяжесть тела на костыли, затем на ногу -- так он устало ковылял на
север.
К концу дня он пришел к мысли, что стервятники уже повязывают салфетки
на шеи, готовясь к вкусному ужину из загорелого кавалерийского капитана. Он
рассчитал, что если упадет и умрет, то Пенни сможет идти быстрее и доберется
до Лаймона прежде, чем ее прикончат жара, жажда и голод.
-- Я люблю тебя, -- прокаркал он, не желая умирать, не сказав этих
слов.
-- Я тебя тоже люблю, -- ответила она. -- Вот почему я иду с тобой.
Он засмеялся, но прежде, чем он успел сказать что-то еще, он услышал
веселый крик. Балансируя на одной ноге и с одним костылем, он сказал в
радостном недоумении:
-- Армейская повозка.
Запряженные в нее лошади были самыми красивыми животными, которых он
когда-либо видел.
Повозка была уже набита людьми, но солдаты заставили потесниться
сидевших сзади и дали ему и Пенни крекеров и фляжку с водой.
-- Мы доставим вас в центр переселенцев, -- пообещал один из солдат, --
там о вас позаботятся.
На это ушла еще пара дней, но теперь на пути были пункты снабжения.
Ауэрбах проводил время, размышляя, что представляет собой переселенческий
центр. Солдаты этого тоже не знали. Когда наконец они добрались до места, он
сразу все понял: это было просто другое название лагеря беженцев, во много
раз большего, чем жалкое запущенное прибежище на окраине Карваля.
-- Сколько времени мы пробудем здесь? -- спросил он у жалкого клерка,
который вручил Пенни постели для двоих и направил в огромную оливкового
цвета общую палатку, одну из многих в длинном ряду.
-- Это один бог знает, дружище, -- ответил капрал. -- Войну можно было
остановить, но легче пока не будет. Хотя все меняется. Добро пожаловать в
Соединенные Штаты новой и не очень совершенной модели. Если повезет, от
голода не умрете.
-- Постараемся, -- сказала Пенни, и Ауэрбах вынужденно кивнул в знак
согласия.
Они вместе отправились знакомиться с новыми Соединенными Штатами.
* * *
Генрих Ягер не выглядел чужим на улицах Лодзи в своей зеленой рубашке и
черных брюках танкиста. Множество людей носили те или иные предметы
германского обмундирования, и если его одежда была в лучшем состоянии, чем у
большинства людей, это мало что значило. Свой полковничий китель он закопал,
как только выбрался из "шторха". Офицер вермахта -- не самая популярная
фигура, тем более здесь.
Людмила шагала рядом с ним. Ее одежда -- крестьянская куртка и брюки,
должно быть, принадлежавшие польскому солдату, -- была скорее мужской, чем
женской, но никто, исключая близоруких ящеров, не спутал бы ее с мужчиной,
даже посмотрев на автоматический пистолет на поясе. Ни брюки, ни оружие не
привлекали особого внимания. Многие женщины были одеты в брюки вместо юбки
или платья, и большинство, хотя и не все -- особенно женщины с еврейской
внешностью -- имели огнестрельное оружие.
-- Вы вообще-то Лодзь знаете? -- спросила Людмила. -- Вы знаете, как
найти человека, которого мы разыскиваем?
Она была слишком умна, чтобы называть имя Мордехая Анелевича там, где
их вполне могли подслушать.
Ягер покачал головой.
-- Нет и нет. -- Он говорил тихо: заговоривший на немецком, будь то
германский офицер или просто немец, вряд ли мог рассчитывать на
доброжелательное отношение в Лодзи ни у евреев, ни у поляков, ни у ящеров.
-- Но я думаю, что мы его найдем. В своем роде это большой человек здесь.
Он почти решил обратиться с вопросом к полицейскому. У него был выбор
из двух вариантов: польские полицейские в темно-синих мундирах или евреи с
повязками, оставшимися с времен германской администрации, и в кепи, которые
делали их абсурдно похожими на французских "фликов". Но потом он от этой
идеи отказался. Вместо этого они с Людмилой продолжали идти по Стодолнянской
улице на север, пока не добрались до еврейского квартала. Даже теперь он был
переполнен людьми. Каким он был под властью рейха, Ягер страшился себе и
представить.
На улицах в этой части города еврейских полицейских из комической оперы
было гораздо больше. Ягер старался их игнорировать и надеялся, что и они
распространят на него подобную милость. Он кивнул парню с дикой копной волос
и внушительной курчавой рыжеватой бородой, державшему винтовку "маузер" в
руках и имевшему вторую винтовку за спиной, причем грудь его крест-накрест
опоясывали пулеметные ленты, заполненные латунными патронами: типичный
еврейский бандит. Он вполне мог знать, где найти Анелевича.
-- Я ищу Мордехая, -- тихо сказал Ягер.
Парень осознал, что слышит чистый немецкий язык, глаза его слегка
расширились.
-- Да? В самом деле? -- переспросил он на идиш, проверяя, понимает ли
его Ягер. Ягер кивнул в знак того, что понимает. Тогда еврейский боец
прищурился: -- Значит, вы ищете Мордехая. Ну и что? А он вас ищет?
-- Наверняка да, -- ответил Ягер. -- Имя "Скорцени" для вас что-нибудь
значит?
Оно значило. Борец оцепенел.
-- Это вы? -- спросил он, делая такое движение винтовкой, будто
собрался направить ее на Ягера. Затем он поправил себя, -- Нет, вы не можете
быть Скорцени. Он как будто выше меня, а вы ниже.
-- Вы правы. -- Ягер показал на Людмилу. -- Вот она -- настоящий
Скорцени.
-- Ха! -- сказал еврей. -- Вы шутите. Ладно, забавник, идемте со мной.
Посмотрим, захочет ли Мордехай встретиться с вами. С вами обоими, -- уточнил
он, видя, как Людмила прильнула к Ягеру.
Как оказалось, далеко идти не пришлось. Ягер узнал в кирпичном здании,
к которому они приближались, помещение пожарной команды. Их сопровождающий
заговорил по-польски с седобородым человеком, возившимся с пожарной машиной.
Седой ответил на том же языке. Ягер смог разобрать только "Анелевич".
Людмила перевела:
-- Думаю, они говорят, что он наверху, но я не совсем уверена.
Она оказалось права. Еврей заставил их идти перед собой -- разумная
предосторожность, которую и Ягер бы не счел лишней. Они прошли через зал в
небольшую комнатку. В ней за столом сидел Мордехай Анелевич рядом с
некрасивой женщиной. Он что-то писал, но остановился, когда вновь пришедшие
предстали перед ним.
-- Ягер! -- воскликнул он, -- какого черта вы здесь делаете?
-- Вы знаете его? -- В голосе бородатого еврея слышалось разочарование.
-- Он говорит, что знает что-то о Скорцени.
-- Послушаем. -- Анелевич бросил взгляд на Людмилу. -- Кто эта ваша
подруга?
Она ответила за себя сама, с нескрываемой гордостью:
-- Людмила Владимировна Горбунова, старший лейтенант советских ВВС.
-- Советских ВВС? -- Губы Анелевича безмолвно повторили ее слова. -- У
вас странные друзья, Ягер, например, я и она. Что бы сказал Гитлер, если бы
узнал о них?
-- Он сказал бы, что я -- мертвое мясо, -- ответил Ягер. -- Впрочем,
поскольку я бежал из-под ареста за измену, он уже сказал это. А сейчас я
хочу удержать его от взрыва Лодзи, а может, и ящеров, чтобы они в отместку
не взорвали Германию. Хорошо это или плохо, но она, несмотря ни на что, мое
отечество. Скорцени не беспокоит, что будет потом. Он взорвет эту штуку
только потому, что кто-то приказал ему сделать это.
-- Ты был прав, -- сказала женщина, сидевшая рядом с Анелевичем. --
Значит, ты действительно видел его. А я-то думала, что ты беспокоишься по
пустякам.
-- Хорошо бы так, Берта, -- ответил он с тревогой и любовью в голосе.
Он снова перевел взгляд на Ягера. -- Я не думал, что... кто-нибудь, -- он,
вероятно, собирался сказать что-то вроде "даже вы, проклятые нацисты", но
сдержался, -- способен взорвать бомбу во время переговоров о перемирии. Вы
понимаете? -- Его взгляд отвердел. -- Вы сказали, что вас арестовали за
измену? Геволт! [Точного аналога в русском языке, пожалуй, не имеет. Можно
перевести с идиш как "Какой кошмар!!!" -- Прим. ред.] Они обнаружили, что вы
передавали нам сведения?
-- Да, это они узнали, -- ответил Ягер, устало кивая. После его
освобождения все так стремительно менялось, что он был не в состоянии
держать в голове все сразу. Позднее -- если настанет это "позднее" и не
обернется сумасшествием -- он постарается понять, что все это значит. --
Кароль мертв. -- Еще одно воспоминание, которое ему вообще не хотелось бы
удержать в памяти. -- На самом деле они не представляли, как много всего я
сообщил вам. Если бы они знали хоть одну десятую, то к тому моменту, когда
мои парни пришли выручать меня, я валялся бы на полу по кускам, -- а если бы
и мои парни знали эту самую десятую, они не пришли бы.
Анелевич всмотрелся в него и тихо сказал:
-- Если бы не вы, мы ничего не знали бы о бомбе, она бы взорвалась, и
один бог знает, что произошло бы потом.
Он говорил, будто сожалея, что Ягера спасли его люди, не знающие, что
он сделал: он понимал, насколько трудно офицеру принять это.
-- Вы говорите, что видели Скорцени? -- спросил Ягер, и Анелевич
кивнул. Ягер поморщился. -- Вы должны были найти бомбу. Он сказал, что она
была спрятана на кладбище. Вы ее переместили после того, как нашли?
-- Да, и это было нелегко, -- сказал Анелевич, вытирая лоб рукавом,
чтобы показать, насколько тяжело. -- Мы также вытащили детонатор -- не
только радиоуправляемый выключатель, но и ручное устройство, -- так что
Скорцени не сможет взорвать ее, даже если найдет и доберется до нее.
Ягер предостерегающе поднял руку.
-- Не зарекайтесь. Он может найти детонатор, который вы вытащили, а
может принести с собой другой. Не следует недооценивать то, что он может
сделать. И не забудьте -- я работал с ним.
-- Если у него будет детонатор, который можно использовать только
вручную, -- медленно проговорила Людмила по-немецки, -- он ведь не взорвет
себя вместе со всеми остальными? А если понадобится, пойдет он на это?
-- Хороший вопрос. -- Анелевич перевел взгляд с нее на Ягера. -- Вы
знаете его лучше. -- Это прозвучало осуждающе. -- Ну? Может он?
-- Я знаю две вещи, -- ответил Ягер. -- Первое: он вполне может сделать
что-то, чтобы взорвать ее вручную и тем не менее сбежать, -- нет, я не
представляю, как это сделать, но он -- может. Второе: вы не только
рассердили его, вы довели его до ярости, когда его бомба с
нервно-паралитическим газом не взорвалась. Он относит это на ваш счет. Кроме
того, у него есть приказ. И что бы вы о нем ни говорили, он смелый человек.
Если окажется, что он сможет взорвать ее только вместе с собой, он вполне
может пойти на это.
Мордехай Анелевич кивнул с удрученным видом.
-- Я боялся, что вы скажете именно это. С людьми, которые приносят себя
в жертву за идею, гораздо труднее иметь дело, чем с теми, кто хочет жить
ради нее. -- Он невесело хмыкнул. -- Ящеры жаловались, что слишком много
людей готовы стать жертвами. Теперь я понимаю, что они чувствуют.
-- Что вы собираетесь делать с нами теперь, когда мы здесь? -- спросила
Людмила.
-- Это еще один хороший вопрос, -- сказала женщина, Берта, сидящая
рядом с Анелевичем. Она с нежностью посмотрела на него; Ягер подумал, не
женаты ли они. Кольца у нее не было, но это ничего не значило. -- Что нам
делать с ними?
-- Ягер -- солдат, и хороший солдат, он знает Скорцени и знает, как
работает его голова, -- сказал руководитель евреев. -- Если бы он не был
надежным раньше, то не был бы здесь и сейчас. Мы дадим ему оружие, и пусть
он помогает нам охранять бомбу.
-- А что со мной? -- возмущенно спросила Людмила. Ягер был уверен, что
она не успокоится. Ее рука скользнула к рукоятке автоматического пистолета.
-- Я -- солдат. Спросите Генриха. Спросите нацистов. Спросите ящеров.
Анелевич поднял руку в успокаивающем жесте.
-- Я верю, -- ответил он, -- но сначала -- первоочередные дела.
Да, он был хорошим руководителем, лучше, чем представлял себе Ягер. Он
знал, как расставить приоритеты. Он также знал, когда можно посмеяться, что
и доказал тотчас же. -- И вы, вероятно, пристрелили бы меня, если бы я
попытался отделить вас от полковника Ягера. Так. Все в порядке. Вермахт,
красные ВВС, куча бешеных евреев, мы все заодно, правильно?
-- Заодно, -- согласился Ягер. -- Вместе мы спасем Лодзь или вместе
превратимся в дым. Примерно так.
* * *
Самец тряс Уссмака.
-- Поднимайтесь, старший самец! Вы должны подняться, -- настойчиво
сказал Ойяг, добавив усиливающее покашливание. -- Уже был сигнал подъема.
Если вы не выйдете, вас накажут. Весь барак будет наказан, если вы
откажетесь.
Очень медленно Уссмак начал распрямляться. У Расы считалось, что
вышестоящие ответственны за нижестоящих и должны защищать их интересы. Так
продолжалось несчетные тысячелетия. Там, на Родине, это, несомненно,
продолжалось и сейчас. Здесь, на Тосев-3, Уссмак был изгоем. Это ослабляло
его связи с группой, хотя некоторые в ней тоже были мятежниками. А сам он
был умирающим изможденным изгоем. Когда вы уверены, что ваша жизнь будет
недолгой, и когда вы уверены в том, что вам не хочется ее длить, групповая
солидарность истончается.
Ему удалось подняться на ноги и выбраться наружу, на утреннюю
перекличку. Тосевитские охранники, которые, вероятно, не могли определить
точное количество пальцев, дважды пересчитывая их на каждой руке,
пересчитали самцов Расы четыре раза, прежде чем убедились, что ни у кого за
ночь не выросли крылья и он не улетел. После этого они разрешили заключенным
идти на завтрак.
Он был скудным, даже по жалким меркам тюремного лагеря. Но Уссмак не
доел свою маленькую порцию.
-- Ешьте, -- убеждал его Ойяг. -- Как вы сможете выдержать еще день
работы, если не будете есть?
Уссмак задал встречный вопрос:
-- Как я могу выдержать еще день работы, даже если я поем? Так или
иначе, но я не голоден.
Это заставило другого самца тревожно зашипеть.
-- Старший самец, вы должны сообщить об этом врачам Больших Уродов.
Может быть, они смогут дать вам что-то, чтобы улучшить ваш аппетит и
состояние.
У Уссмака открылся рот.
-- Может быть, новое тело? И новый дух?
-- Вы не можете есть? -- спросил Ойяг. Усталый жест Уссмака показал:
нет, не может. Его компаньон, такой же жалкий и тощий, как он сам,
застеснялся, но быстро справился со смущением. -- Тогда можно я съем вашу
порцию?
Поскольку Уссмак не дал отрицательного ответа, этот самец проглотил его
пишу.
Словно во сне Уссмак вышел в лес вместе со своей бригадой.
Он поднял топор и начал медленно рубить дерево с бледной корой. Он
рубил его изо всех сил, но успех был незначительным.
-- Работай лучше, ты! -- заорал на него по-русски тосевитский охранник.
-- Будет исполнено, -- ответил Уссмак.
Он рубил еще, но охраннику результат казался по-прежнему
неудовлетворительным. В первые дни пребывания в лагере он задрожал бы от
страха. А теперь же он чувствовал лишь раздражение в своих тощих боках. Они
поместили его сюда. Что бы они ни делали, может ли быть хуже?
Он поплелся обратно в лагерь на обед. Как он ни устал, но съесть сумел
самую малость. И снова кто-то быстро доел остатки его обеда. Когда же,
слишком скоро, наступило время возвращаться в лес, он споткнулся, упал и не
смог подняться. Его поднял другой самец, направляя и подталкивая к
тосевитским деревьям.
Уссмак поднял топор и снова стал рубить дерево с бледной корой. Как он
ни старался, лезвие топора откалывало от ствола лишь небольшие щепки. Он был
слишком слаб и слишком апатичен, чтобы сделать больше. Если он не срубит
дерево, если бригада не распилит его на правильные куски, они не выполнят
свою норму и получат только штрафной паек.
"Ну и что?" -- подумал Уссмак: он не в состоянии съесть обычный паек,
зачем тогда беспокоиться о том, что он получит меньше?
Конечно, все остальные самцы тоже получат меньше. Но он не волновался о
других. Настоящий самец Расы не должен был так себя вести -- он это помнил.
Но он начал отдаляться от Расы, когда тосевитский снайпер убил Вотата,
командира его первого танка. Имбирь делал вещи и похуже. Из-за имбиря он
потерял еще один хороший экипаж, из-за имбиря он возглавил мятеж, на который
возлагал такие надежды. А результат... вот этот. Нет, больше он не настоящий
самец.
Он слишком сильно устал и опустил топор. "Передохну секунду", --
подумал он.
-- Работать! -- закричал охранник.
-- Дерьмо? -- сказал Уссмак, добавив вопросительное покашливание.
Ворча, Большой Урод отвел в сторону ствол своего оружия и покивал
головой вверх и вниз, дав разрешение. Охранники позволяли очистить чрево --
почти всегда. Это была одна из немногих вещей, которую они позволяли.
Спотыкаясь, Уссмак медленно отошел от дерева в кусты. Он присел, чтобы
облегчиться. Но ничего не случилось -- и неудивительно, он ведь был пустым
внутри. Он попытался подняться, но вместо этого повалился на бок. Он сделал
вдох. Чуть позже еще один. А через какое-то время еще.
Мигательные перепонки скользнули по его глазам. Веки опустились и
закрылись. В свои последние мгновения он подумал, примут ли Императоры
прошлого его дух, несмотря на все то, что он совершил? Вскоре он это узнает.
* * *
Поскольку ящер не вышел из кустов, Юрий Андреевич Пальчинский пошел
искать его. Ему пришлось продираться сквозь кусты, а ящер все не откликался
на зов.
-- Эта вонючая тварь заплатит, -- пробормотал он.
Затем он нашел Уссмака, споткнувшись об его тело и едва не упав лицом
вниз. Он выругался и занес ногу, чтобы дать ящеру хорошего пинка, но
остановился. К чему лишние усилия? Проклятая тварь была уже мертвой.
Он поднял Уссмака, закинул на плечо -- он весил всего ничего -- и понес
обратно в лагерь. Там сбоку была канава, в которую бросали зэков, умерших от
голода или уработавшихся до смерти в течение этой недели. Это было последнее
тело, поверх многих других.
-- На следующей неделе придется рыть новую канаву, -- пробормотал
Пальчинский.
Он пожал плечами. Это была не его забота. Забота бригады. Он повернулся
спиной к могиле и направился в лес.
* * *
-- Мы показали, что можем быть милосердными, -- заявила Лю Хань. -- Мы
отпустили одного чешуйчатого дьявола обратно к соплеменникам, несмотря на
его преступления против рабочих и крестьян. -- "Это я отпустила его,
несмотря на его преступления против меня, -- добавила она про себя. -- Никто
не скажет, что я не ставлю интересы партии, интересы Народно-освободительной
армии выше своих собственных". -- Через несколько дней истекает срок
перемирия, о котором мы договорились с чешуйчатыми дьяволами. Они
по-прежнему отказывают нам в переговорах о более масштабном перемирии. Мы
покажем им, что можем быть и сильными, как драконы. Они еще пожалеют, что не
пошли на уступки.
Он села на место. Члены пекинского центрального комитета сомкнулись в
кружок, обсуждая ее выступление. Нье Хо-Т'инг сказал что-то новичку,
красивому молодому человеку с пухлыми щеками, имя которого она не
расслышала. Тот покивал и посмотрел на Лю Хань восхищенным взглядом. Она
задумалась: восхитился он ее словами или ее телом? -- "Деревенский увалень",
-- подумала она, забыв на мгновение, как недавно сама была крестьянкой,
далекой от политики.
С другой стороны от Нье сидел Хсиа Шу-Тао. Он поднялся с места. Лю Хань
была уверена, что он не утерпит. Если бы она сказала, что Янцзы течет с
запада на восток, он все равно стал бы спорить, потому что это сказала она.
Нье Хо-Т'инг предостерегающе поднял палец, но Хсиа все равно ринулся в
бой:
-- Рвение так же полезно в деле революции, как и осторожность. Излишней
агрессивностью мы можем вынудить маленьких дьяволов к мощному ответу.
Кампания мелких беспокоящих действий, мне кажется, принесет лучший
результат, чем резкий переход от перемирия к полномасштабной войне.
Хсиа оглядел комнату, оценивая реакцию слушателей. Несколько человек
согласно кивнули, но другие, среди которых были четверо или пятеро его
сторонников, сидели молча, с каменными лицами. Лю Хань внутренне улыбнулась,
сохраняя внешнее безразличие. Ведь она подготовила почву, прежде чем начать
борьбу. Будь у Хсиа Шу-Тао хоть крупица здравого смысла, он должен был бы
понять это заранее. А теперь по лицу его прошла судорога, почти такая, как
тогда, когда Лю Хань ткнула коленом в его мужские части.
К ее удивлению, увалень, сидевший возле Нье Хо-Т'инга, взял слово:
-- Хотя войну и политику нельзя разделить в одно мгновение, все же
иногда необходимо показать противнику, что сила в конечном итоге исходит из
ствола оружия. С моей точки зрения, надо силовыми методами показать
маленьким чешуйчатым дьяволам, что их оккупация временна и в конце концов
закончится. Таким образом, как убедительно показала товарищ Лю Хань, мы
нанесем им ряд мощных ударов в тот самый момент, когда закончится срок
перемирия, соразмерив наши действия с их ответом.
Он говорил не как увалень, он говорил как образованный человек, может
быть, даже поэт. И теперь сидящие за столом закивали, одобряя его слова.
-- Как всегда, Мао Цзэдун анализирует четко, -- сказал Нье Хо-Т'инг. --
Его точка зрения наиболее обоснована, и мы будем выполнять программу борьбы
против маленьких чешуйчатых дьяволов, как он указывает.
И снова члены пекинского центрального комитета закивали, словно
какой-то кукольник потянул за ниточки, привязанные к их головам. Лю Хань
кивнула, как все. Ее глаза раскрылись от удивления: выходит, перед ней был
человек, возглавлявший революционное дело по всему Китаю! Мао Цзэдун высоко
оценил ее слова!
Он посмотрел на нее в ответ, сияя, словно Хо Тэй, маленький толстый
божок удачи, в которого коммунисты не верили, но которого Лю Хань не могла
изгнать из своей памяти. Да, он одобрил ее слова. Лицо его это отчетливо
выражало. Но другое тоже: он смотрел на нее, как мужчина смотрит на женщину,
не так грубо, как Хсиа Шу-Тао, но тоже раздвигая ее ноги -- одними глазами.
Что, в сущности, то же самое.
Она подумала, как ей отреагировать. У нее и раньше возникали сомнения в
близости с Нье Хо-Т'ингом как идеологического, так и личного порядка. Ее не
очень удивил интерес, проявленный к ней Мао: многие члены центрального
комитета, возможно даже большинство, испытывали большее вожделение к
революции, чем к женщинам. Хсиа был ужасным примером, почему это правило
приносило, скорее, пользу. Но с Мао наверняка случай особый.
Она слышала, что он женат. Даже если бы он захотел ее, даже если бы
потащил в постель, жену ради нее он не бросит... актрису, если ей не
изменяет память. Каким влиянием она будет обладать в роли любовницы и стоит
ли это того, чтобы предложить свое тело? Странно, раньше она и не думала ни
о чем подобном: благодаря ящерам она имела слишком много интимных связей с
нежеланными мужчинами. Но Мао показался ей привлекательным еще до того, как
она поняла, кто он.
Она улыбнулась ему, совсем чуть-чуть. Он тоже улыбнулся, вежливо. Нье
Хо-Т'инг ничего не заметил. Он, видимо, склонялся к тому, чтобы ничего не
видеть: она временами думала, что является для него скорее удобством, чем
любовницей. Иностранный дьявол Бобби Фьоре как личность был для нее гораздо
более значимым.
Так что же делать? Частично это зависело от Мао. Но Лю Хань древней
женской мудростью поняла, что если она вызовет интерес к себе, то он,
вероятно, ляжет с ней.
Хочется ли ей этого? Трудно сказать наверняка. Перевесит ли выгода риск
и осложнения? Прямо сейчас она решить не могла. Коммунисты мыслили в
масштабах лет, пятилетних планов, десятилетий борьбы. Она ненавидела
маленьких дьяволов, но они были слишком сильны, чтобы можно было отмахнуться
от них, как от глупцов. С их точки зрения или даже с точки зрения партии,
бросаться в обольщение, не просчитав последствий, было глупостью и только.
Она снова улыбнулась Мао. Может быть, это не имело смысла, во всяком
случае сейчас. Кто знает, сколько времени он здесь пробудет? Раньше она
никогда его в Пекине не видела и может больше никогда не увидеть. Но не
исключено, что он вернется. Если он вернется, надо, чтобы он вспомнил ее. А
пока -- сколько бы это "пока" ни длилось, ей надо принять решение. Времени у
нее достаточно. И что бы она ни решила, выбор должен остаться за нею.
* * *
Мордехай Анелевич играл в кошки-мышки с тех самых пор, когда немцы
захватили Польшу, начав Вторую мировую войну. И в каждой войне, будь то с
немцами, с ящерами и с тем, что Мордехай Хаим Румковский считал законной
еврейской администрацией в Лодзи, и в натравливании друг на друга ящеров и
немцев он был мышью, действовавшей против гораздо более мощных и крупных
противников.
Теперь он оказался в роли кота, хотя не особенно задумывался над этим.
Где-то прятался Отто Скорцени. Где -- он не знал. Не знал и того, насколько
Скорцени осведомлен. Не знал, что задумал эсэсовец. И все это ему не
нравилось.
-- Что бы вы сделали, если бы были на месте Скорцени? -- спросил он
Генриха Ягера.
Ягер не только был немцем, но и неоднократно работал вместе с этим
необыкновенным диверсантом. Вопрос поставил немца в неловкое положение.
Разумом Анелевич понимал, что Ягер не сторонник избиения евреев. А вот
эмоционально...
Танкист-полковник почесал голову.
-- Если бы я выполнял это задание вместо Скорцени, я залег бы и вел
себя тихо, пока не понял бы. что наступил подходящий момент, а потом ударил
бы резко и сильно. -- Он сердито хмыкнул. -- Но как поступит он, сказать не
могу. У него свой подход к делу. Иногда мне кажется, что он потерял
рассудок, -- а потом оказывается, что это вовсе не так.
-- После меня его никто больше не видел, -- сказал Анелевич,
нахмурившись. -- Он мог исчезнуть с лица земли -- но это слишком сильно
сказано, не так ли? Может, он действительно глубоко залег?
-- Но не надолго, -- заметил Ягер. -- Если он найдет бомбу, он
попытается взорвать ее. Конечно, теперь уже поздно и после взрыва серьезного
наступления не будет. Но ждать он не станет.
-- Детонатор мы вынули, -- сказал Анелевич. -- В бомбе его нет, хотя
если понадобится, мы можем снова быстро вставить его.
Ягер пожал плечами.
-- Это не имеет значения. Скорцени был бы глупцом, если бы не захватил
с собой еще один, -- а он далеко не глупец. Кроме того, он еще и инженер и
знает, как установить детонатор.
Сам обучавшийся на инженера, Анелевич поморщился -- не хотел иметь
ничего общего с эсэсовцем.
-- Он может набрать себе людей в Лодзи, -- спросила
Людмила Горбунова, -- или, скорее, действует в городе один?
Анелевич посмотрел на Ягера. Тот снова пожал плечами.
-- Город оставался в руках рейха в течение долгого времени. Здесь еще
остались немцы?
-- Вы имеете в виду время, когда он назывался Лицманнштадтом? --
спросил Мордехай и покачал головой, не дожидаясь ответа. -- Нет, после
прихода ящеров мы заставили арийских колонистов собрать пожитки и уехать. То
же сделали и поляки. Но знаете что? Кого-то из немцев мы могли при этом и
упустить.
Ягер пристально посмотрел на него. Анелевич почувствовал, как запылали
его щеки. Не время сводить счеты с немецким солдатом. Тем более -- с этим. И
надо помнить это, как бы трудно ни было.
-- Значит, немцев немного, так? -- уточнил Ягер. -- Если их хоть
сколько-то осталось, Скорцени их найдет. Возможно, у него есть связи с
поляками, они ведь тоже не любят вас, евреев.
Он что, тоже решил свести счеты? У Мордехая уверенности не было. Даже
если и так, то он, в общем-то, прав.
-- Но поляки, -- сказала Людмила, -- если помогут Скорцени, то взорвут
сами себя.
-- Это вы знаете, -- ответил Ягер. -- И я знаю. А поляки могут и не
знать. Если Скорцени скажет: "Тут спрятана большая бомба, которая уничтожит
всех евреев, а вас -- не тронет", -- они могут ведь и поверить ему.
-- Он умело врет? -- спросил Анелевич, стараясь разглядеть этого
противника сквозь паутину бесконечной пропагандистской кампании, которую
рейх развел вокруг имени Скорцени.
Но тут Ягер невольно заговорил, как рупор геббельсовской
пропагандистской машины.
-- Он хорош во всем, что касается диверсий, -- ответил он без тени
иронии и тут же привел пример -- Однажды он отправился в Безансон с мешком
имбиря для подкупа ящеров и вернулся на их танке.
-- Я в это не верю, -- сказала Людмила, прежде чем отреагировал
Анелевич.
-- Это так, веришь ты или нет, -- сказал Ягер. -- Я сам был там и
видел, как его голова высовывается из люка водителя. Я сам не верил, мне
казалось, он отправился туда, чтобы покончить с собой, не больше. Я ошибся.
И с тех пор я его никогда больше не недооценивал.
Анелевич передал его слова, далекие от ободрения, Соломону Груверу и
Берте Флейшман. Углы губ Грувера опустились еще ниже, придав ему более
мрачный, чем обычно, вид.
-- Не может он быть так хорош, -- сказал бывший сержант. -- Если он
таков, значит, он Бог, а это невозможно. Он просто человек.
-- Нам надо прислушаться к полякам, -- сказала Берта. -- Если у них
что-то происходит, мы должны узнать об этом как можно скорее.
Мордехай ответил ей благодарным взглядом. Она воспринимала ситуацию так
же серьезно, как он сам. Учитывая уравновешенность, которую она постоянно
проявляла, ее слова были весомым подтверждением его правоты.
-- Прислушаемся. Ну и что? -- сказал Грувер. -- Если он такой умный, мы
ничего не услышим. Мы не обнаружим его, пока он сам не захочет быть
обнаруженным, и мы не будем знать, что он затеял, пока он не нанесет удар.
-- Все это верно и тем не менее не означает, что мы должны сидеть сложа
руки, -- сказал Анелевич. Он ударил ладонью по боку пожарной машины,
ушибившись. -- Если бы только я был уверен, что это он! Если бы я вышел на
несколько секунд раньше, я увидел бы его лицо. Если, если, если... -- все
это угнетало его.
-- Одно то, что он может находиться в Лодзи, должно вызвать у нас
тревогу, -- сказала Берта. -- Кто знает, что он мог натворить, раз проник
сюда так, что мы не узнали об этом?
-- Он повернул за угол, -- сказал Анелевич, мысленно представляя себе
эту картину, словно прогоняя кусок кинопленки. -- Он повернул за угол, потом
за второй, очень быстро. Я должен был после этого угадать, в какую сторону
он пошел, -- и ошибся.
-- Перестань биться головой о стену, Мордехай, -- сказала Берта. --
Этим уже не поможешь, и ты сделал все, что мог.
-- Именно так, -- прогудел Грувер. -- Несомненно.
Анелевич едва ли слышал его. Он смотрел на Берту Флейшман. Никогда
раньше, насколько он помнил, она не называла его по имени. Он бы это
запомнил, совершенно точно.
Она смотрела на него. И немного покраснела, когда взгляды их
встретились, но не отвела глаз. Он знал, что нравится ей. И она ему тоже.
Когда не улыбалась, она была некрасивой и кроткой. В его постели бывали
женщины гораздо более привлекательные. Ему вдруг показалось, что он слышит
низкий голос Соломона Грувера: "Ну и что?" Воображаемый Грувер был прав. Он
спал с этими женщинами и наслаждался с ними, но ни на мгновение не
задумывался, что с какой-то из них проведет свою жизнь. Но Берта...
-- Если только мы пройдем через это... -- сказал он. Эти слова уже
составляли целое предложение, надо было только знать, как истолковать их.
Берта Флейшман знала.
-- Да. Если у нас получится, -- ответила она, и это был полный ответ.
Живой Соломон Грувер был не таким внимательным к происходящему вокруг,
чем воображаемый в голове у Анелевича.
-- Если мы пройдем через все это, -- сказал он, -- то надо будет что-то
сделать с этой штукой и не оставлять ее лежать там, где она находится. Но
если мы сейчас начнем ее перевозить, то только привлечем к ней внимание и
дадим шанс этому психу Скорцени.
-- Все правильно, Соломон, -- буквально каждое слово, -- торжественно
согласился Мордехай и расхохотался. Через мгновение к нему присоединилась
Берта.
-- Что тут смешного, -- возмутился Грувер с видом оскорбленного
достоинства. -- Я что, сказал шутку, боже упаси, не понимая ее?
-- Боже упаси, -- сказал Анелевич, рассмеявшись еще громче.
* * *
Когда Джордж Бэгнолл и Кен Эмбри шли к Дуврскому колледжу, над головой
раздался рев реактивных двигателей. Бэгнолл готов был автоматически
броситься в ближайшую яму, но удержался и посмотрел вверх. И сразу же
рациональная часть его разума убедилась: там, в небе, летали "метеоры", а не
истребители-бомбардировщики ящеров.
-- Ничего себе! -- вырвалось у Эмбри, подавившего точно такой же
рефлекс. -- Нас не было каких-то полтора года, а ощущение такое, словно мы
не в сорок четвертом году, а в девяносто четвертом.
-- Да нет же, -- сказал Бэгнолл. -- У нас они были, когда мы улетали,
но очень мало. Теперь "харрикейнов" вы вообще не увидите, и "спитфайры" тоже
выводятся из строя как можно быстрее. Новый смелый мир создается вокруг нас,
и тут не ошибешься.
-- Но место для экипажа бомбардировщика еще осталось -- по крайней
мере, на ближайшие двадцать минут, -- сказал Эмбри. -- На "ланкастеры" они
пока реактивные двигатели не ставят. А все остальное уже сделали... -- Он
покачал головой. -- Неудивительно, что нас снова отправили в школу Мы почти
такие безграмотные, словно всю жизнь летали только на "сопвич-кэмэлах". Беда
в том, что мы пока вообще ни на чем не летаем.
-- А Джоунзу еще хуже, -- сказал Бэгнолл. -- Мы-то остались при тех же
машинах, хотя все правила и поменялись. А вот радары его пришли буквально из
другого мира.
-- То же самое относится к системам наведения бомб, -- сказал Эмбри,
когда они поднялись по бетонным ступенькам и направились по коридору к
учебному классу.
Лектор, лейтенант по имени Константин Джордан, уже писал что-то на
классной доске, хотя до начала занятия оставалась минута или две. Прежде чем
сесть, Бэгнолл осмотрелся. Большинство учащихся были бледными, с
одутловатыми лицами, некоторые явно перемогали боль. И понятно -- кроме
таких редкостных личностей, как Бэгнолл и Эмбри, люди, так долго
находившиеся вне службы, что им потребовались курсы повышения квалификации,
оправлялись после тяжелых ранений. У двоих на лицах были страшные шрамы:
какие еще прятались под формой, можно было только предполагать.
За мгновение до того, как часы на башне пробили одиннадцать, лейтенант
Джордан повернулся к аудитории и начал лекцию:
-- Как я заметил в конце предыдущего занятия, то, что ящеры называют
"скелкванк", вызвало революцию в вопросе наведения авиабомб. Свет от
"скелкванка" в отличие от обычного, -- он показал на электрическую лампочку,
-- является организованным, так сказать. Он весь одной и той же частоты,
одинаковой амплитуды, в одинаковой фазе. У ящеров есть несколько способов
создания такого света. Мы работаем сейчас над тем, чтобы выбрать наиболее
подходящие для нас. Но мы отвлеклись. Нам попало достаточное количество
генераторов света "скелкванка", чтобы оборудовать ими многие
бомбардировщики, и вот поэтому вы здесь.
Карандаш Бэгнолла забегал по листку записной книжки. Нередко Джордж
делал паузу, чтобы встряхнуть руку и избавиться от писчего спазма. Все было
для него новым и жизненно важным -- теперь он понял значение термина,
впервые услышанного им в Пскове. Удивительные вещи можно делать с помощью
света "скелкванка"!
Джордан тем временем продолжал говорить:
-- Итак, мы освещаем цель светом лампы "скелкванка". Сенсорная головка,
соответствующим образом настроенная на него, управляет крыльями
стабилизатора авиабомбы и направляет ее на цель. Пока свет падает на цель,
наведение продолжает действовать. Мы все видели, как это используется против
нас, и гораздо чаще, чем могли себе представить. Кроме того, мы пользуемся
захваченными сенсорными головками, которых имеется ограниченное количество,
но мы ищем пути и способы выпускать и их. Да, мистер Мак-Брайд? У вас
вопрос?
-- Да, сэр, -- ответил офицер-летчик, поднявший руку. -- Этот новый
боеприпас очень хорош, сэр, но когда мы летим на боевое задание против
ящеров, как нам приблизиться на такое расстояние, чтобы была какая-то
надежда добраться до цели? Их оружие поражает нас на гораздо большем
расстоянии, чем наше. Поверьте мне, сэр, я знаю, что говорю.
Это был один из тех двоих, у которых половину лица занимали отек и
шрам.
-- Это большая трудность, -- согласился Джордан. -- Мы также ищем
возможности скопировать управляемые ракеты, которыми ящеры сбили так много
наших самолетов, но это оказалось сложной работой, несмотря на помощь
пленных ящеров.
-- Лучше пока с ними не воевать, вот все, что я могу сказать, --
ответил Мак-Брайд, -- иначе у нас вообще не останется летчиков. Без ракет,
которые были бы сравнимы с их ракетами, мы просто закуска, не более.
Бэгнолл никогда не думал о себе как о бутерброде-канапе, но описанное
очень походило на правду. Он желал бы выступить против люфтваффе на
"ланкастере", снаряженном бомбами со "скелкванком" и ракетами, чтобы сбивать
"мессершмитты" прежде, чем они набросятся на бомбардировщик. Через мгновение
он подумал, что однажды сможет вылететь на задание против немцев с таким
вооружением. Но если оно будет у него, то может появиться и у них.
Лейтенант Джордан продолжал лекцию еще несколько минут после того, как
колокол пробил полдень. Такая была у него привычка. Наконец он отпустил
своих учащихся с предупреждением:
-- Завтра у вас будет опрос по всему материалу, который мы прошли на
этой неделе. Тех, кто получит плохие отметки, мы превратим в жаб и отправим
ловить черных тараканов. Удивительно, что творит технология в наши дни, не
так ли? Встречаемся после ланча.
Когда Бэгнолл и Эмбри вышли в коридор, собираясь пойти в кафетерий на
невзыскательный, но бесплатный ланч, к ним обратился Джером Джоунз:
-- Не возражаете против обеда с моим другом?
Его другом оказался ящер, представившийся на шипящем английском языке:
Мцеппс. Когда Бэгнолл узнал, что до плена тот был техником по радарам, он
охотно позволил ему присоединиться к их группе. Разговор с ящером казался
необычным, даже более необычным, чем его первая напряженная встреча с
германским подполковником в Париже, буквально через несколько дней после
прекращения боев между короной и нацистами.
Но несмотря на странную внешность, Мцеппс вскоре поразил его поведением
настоящего офицера, оставшегося без места службы: он гораздо больше
беспокоился о своей работе, чем о том, как вписаться в общую картину.
-- Вы, Большие Уроды, все время ищете "почему, почему, почему", --
жаловался он. -- Кого интересует, почему? Просто работайте. Почему -- это не
важно.
-- До него никак не доходит, -- заметил Джоунз, -- что если мы
перестанем искать "почему, почему, почему", то будем не в состоянии
бороться, когда сюда явятся его чешуйчатые когорты.
Бэгнолл раздумывал над этими словами, пока они с Кеном Эмбри шли
обратно в класс лейтенанта Джордана. Он думал о теории и ее практическом
применении. Из сказанного Мцеппсом следовало, что ящеры редко используют
подобный способ обучения. "Что" для них важнее, чем "почему".
-- Удивляюсь, почему это так, -- проговорил он.
-- Почему -- что? -- спросил Эмбри. и Бэгнолл понял, что он заговорил
вслух.
-- В общем-то, ничего, -- ответил он. -- Просто потому что люди.
-- В самом деле? -- спросил Эмбри. -- По мне -- так и не скажешь.
Летчики, сидевшие в классе, удивленно уставились на Кена и Джорджа,
входивших в дверь. Почему-то эти двое хохотали как ненормальные.
* * *
Солнечные лучи, проникшие между планками жалюзи в окне, попали на лицо
Людмилы Горбуновой и разбудили ее. Протирая глаза, она села в постели. Она
не привыкла спать в постели. После одеял, расстеленных на сырой земле,
настоящий матрац казался упаднически мягким.
Она окинула взглядом квартиру, которую Мордехай Анелевич предоставил ей
и Ягеру. Туалет в ней был далек от идеала, старые обои отваливались от стен
-- Анелевич извинился за это. Казалось, люди Лодзи постоянно извиняются
перед пришельцами за то, как здесь у них плохо. Но Людмиле их жизнь не
показалась такой уж плохой. Она постепенно начала понимать, что проблема
заключается в том, что с чем сравнивать. Они привыкли ко всему тому, что
здесь было до войны. Она привыкла к Киеву. Это значит...
На этом она прервала размышления, потому что проснулся Ягер. Он
проснулся быстро и сразу. Она уже видела это за последнюю пару ночей. Она
просыпалась точно так же. И до войны с ней такого не было. Она задумалась,
было ли так с Ягером.
Он потянулся к ней и положил руку на ее голое плечо. Затем почему-то
хмыкнул.
-- Что тут забавного? -- спросила она, слегка рассердившись.
-- Вот это, -- ответил он, показывая рукой на квартиру. -- Все. И мы.
двое людей, которые ради любви к друг другу убежали прочь от всего, что
привыкли считать важным. И никогда снова мы не сможем вернуться к нему. Мы
-- как говорят дипломаты? -- перемещенные лица, вот мы кто. Как в сюжете из
дешевого романа. -- И по привычке быстро перешел к рассуждениям. -- Могло бы
так получиться, если бы не эта маленькая деталь -- бомба из взрывчатого
металла, внесшая суматоху в наши жизни?
-- Да, если бы не она...
Людмиле не хотелось вставать и одеваться. Здесь, лежа обнаженной на
простынях вместе с Ягером, она могла верить в то, что в Лодзь их привела
только любовь, а измена и страх не только за судьбу города, но и за весь мир
-- ничто по сравнению с любовью.
Вздохнув, она выбралась из постели и начала одеваться. С таким же
вздохом, но на октаву ниже, к ней присоединился Ягер. Едва они закончили
одеваться, как кто-то постучал в дверь. Ягер снова хмыкнул: возможно, у нею
были амурные мысли, но их пришлось отбросить. Так или иначе, они должны были
ответить стоящему за дверью. Хорошо хоть, что им не пришлось прерываться.
Ягер открыл дверь с такой настороженностью, словно ожидал увидеть в
коридоре Отто Скорцени. Людмила не представляла себе, возможно ли такое, но
ведь она не видела, сколько невозможных проделок Скорцени, о которых
рассказывал Ягер, оказывалось реальностью.
Скорцени за дверью не оказалось. Там стоял Мордехай Анелевич с
винтовкой "маузер" за спиной. Он снял ее с плеча и приставил к стене.
-- Знаете, что я предлагаю? -- сказал он. -- Нам следует дать знать
ящерам -- в виде слуха, понимаете? -- что Скорцени был в городе. Если они и
их марионетки начнут искать его, ему придется зашевелиться и что-то
предпринять, вместо того чтобы прятаться.
-- Но вы этого еще не сделали, не так ли? -- резко спросил Ягер.
-- Я только сказал, что стоило бы, -- ответил Анелевич. -- Нет,
пожалуй, если ящеры узнают, что Скорцени здесь, они начнут размышлять, что
он здесь делает, -- и начнут следить за ним. Мы не можем допустить этого --
иначе первый ход останется за ним: у него белые фигуры
-- Вы играете в шахматы? -- спросила Людмила.
За пределами Советского Союза, как она обнаружила, немногие люди играли
в шахматы. Ей пришлось использовать русское слово -- как сказать по-немецки,
она не знала.
Анелевич понял.
-- Да, играю, -- ответил он. -- Не так хорошо, как мне бы хотелось, но
так все говорят.
Ягер по-своему истолковал ситуацию:
-- Что вы делаете -- в противоположность тому, что вы упорно не хотите
делать, я имею в виду?
-- Я понял вас, -- ответил Анелевич с ехидной улыбкой. -- Я выставил на
улицы столько вооруженных людей, сколько мог, и я устраиваю проверки всем
домовладельцам, кто не связан непосредственно с ящерами, чтобы узнать, не
прячут ли они Скорцени. Вот так на настоящий момент... -- Он щелкнул
пальцами, чтобы показать, что он сделал на настоящий момент.
-- А бордели вы проверяли? -- спросил Ягер.
Это было еще одно немецкое слово, которого Людмила не знала. Когда она
переспросила, что оно значит, она вначале подумала, что Ягер шутит. Затем
она поняла, что он исключительно серьезен.
Мордехай Анелевич снова щелкнул пальцами, на этот раз расстроено.
-- Нет, но я должен был сообразить, -- сказал он, рассердившись на
себя. -- Бордель вполне мог стать для него хорошим укрытием, не так ли? --
Он слегка поклонился Ягеру. -- Благодарю. Сам я об этом не подумал.
Людмила до этого тоже не додумалась бы. Мир за пределами Советского
Союза, помимо роскоши, имел и неизвестные ей формы разложения. "Декаденты",
-- снова подумала она. Что ж. Ей надо привыкать к этому. На родину ей не
вернуться, ни теперь, ни когда-либо -- если только она не предпочтет
бесконечные годы в гулаге или, что более вероятно, быстрый конец от пули в
затылок. Она отбросила прежнюю жизнь так же бесповоротно, как Ягер -- свою.
Оставался вопрос: смогут они вместе построить новую жизнь здесь? Другого
выбора у них не было?
Если они не остановят Скорцени, ответ окажется удручающе очевидным.
Анелевич сказал:
-- Я возвращаюсь в помещение пожарной команды: мне надо выяснить
некоторые вопросы. Меня не особенно беспокоят "нафкех"... проститутки, --
уточнил он, когда увидел, что ни Людмила, ни Ягер не поняли слово на идиш,
-- но кто-то займется и ими. Мужчины -- эго мужчины, даже евреи. -- И он
вызывающе посмотрел на Ягера.
Немец, к облегчению Людмилы, не стал возмущаться.
-- Мужчины -- это мужчины, -- миролюбиво согласился он. -- Разве я был
бы здесь, если бы думал иначе?
-- Нет, -- сказал Анелевич. -- Мужчины -- это мужчины, даже немцы.
Он прикоснулся пальцем к полям своей шляпы, взял на плечо винтовку и
поспешил прочь.
Ягер вздохнул.
-- Похоже, легко не будет, как бы сильно мы этого ни желали. Даже если
мы задержим Скорцени, мы все равно останемся изгнанниками. -- Он рассмеялся.
-- Мы окажемся в гораздо худшем положении, чем изгнанники, если ко мне снова
привяжется СС.
-- Я только что подумала то же самое, -- сказала Людмила. -- Только
имела в виду не СС, а НКВД, конечно.
Она весело улыбнулась. Если два человека подумали одновременно об одном
и том же, значит, они хорошо подходят друг другу. Для нее в Генрихе Ягере
сосредоточился весь мир, и она не верила, что если двое так хорошо подходят
друг другу, то она может остаться в одиночестве. Ее взгляд скользнул в
сторону постели. Улыбка чуть изменилась. Здесь они хорошо подходили друг
другу, это точно.
Затем Ягер сказал:
-- Что ж, это неудивительно. У нас нет ничего другого, кроме
предположений, не так ли? Мы здесь -- и Скорцени.
-- Да, -- сказала Людмила, раздосадованная своим плохим немецким, и
перешла на русский. То, что она приняла за добрый знак, для Ягера было лишь
банальностью. И ей стало досадно, что она не смогла скрыть, как закружилась
ее голова.
На столе лежал ломоть черного хлеба. Ягер отправился в кухню и
возвратился, держа нож с костяной ручкой, которым разделил хлеб надвое. Он
протянул Людмиле половину и без малейшей иронии сказал:
-- Германский сервис во всей красе.
Это он пошутил? Или ожидал, что она поймет его буквально? Она
размышляла все время, пока ела свой завтрак. Ее тревожило, как, в сущности,
мало знает она о человеке, которому помогла спастись и чью судьбу она
связала со своей Ей не хотелось думать об этом.
Когда она улетела вместе с ним, он чудом вырвался из лап СС. Конечно,
тогда у него не было оружия. После того как он попал в Лодзь, Анелевич дал
ему "шмайссер" -- в знак доверия, причем даже большего, чем он мог бы
допустить. Ягер потратил много времени, используя масло, щетки и тряпки,
чтобы привести автомат в состояние, которое он счел достойным боевых
условий.
Теперь он начал проверять его снова. Наблюдая за тем, каким напряженным
стало его лицо, Людмила фыркнула -- и от восхищения, и от досады. Поскольку
он не поднял взгляда, она фыркнула снова и громче. Это отвлекло его и
напомнило, что он не один. Она сказала:
-- Иногда я думаю, что вы, немцы, должны жениться на машинах, а не на
людях. Шульц, сержант, -- ты ведешь себя точно так же. как он.
-- Если ты заботишься о своих инструментах как следует, то они
позаботятся о тебе, когда это понадобится, -- автоматически проговорил Ягер,
будто рассказывал таблицу умножения. -- Если они нужны тебе, чтобы остаться
в живых, то лучше как следует позаботиться о них, а иначе будет поздно
упрекать себя за небрежение.
-- Дело не в том, что ты делаешь. Дело в том, _как_ ты это делаешь:
словно в мире нет больше ничего, только ты и машина, какая бы она ни была, и
ты слушаешь только ее. За русскими я никогда такого не замечала. Шульц все
делал точно так же. Он хорошо думал о тебе. Возможно, он старался быть
похожим на тебя.
Похоже, это позабавило Ягера, проверявшего действие взводного
механизма: он кивнул сам себе и надел "шмайссер" через плечо.
-- Ты как-то говорила мне, что он тоже нашел русскую подругу?
-- Да. Я не думаю, что у них все получилось так хорошо, как у нас, но
все равно -- да.
Людмила не стала рассказывать ему, сколько времени потратил Шульц,
пытаясь стянуть с нее брюки, до встречи с Татьяной. Она не намеревалась
рассказывать ему об этом. Шульц ничего не добился, и ей даже не понадобилось
врезать ему по морде стволом пистолета, чтобы он убрал от нее свои лапы.
Ягер встал:
-- Пойдем-ка и мы в помещение пожарной команды. Я хочу кое-что сказать
Анелевичу. Не только в борделях -- Скорцени может найти убежище и в церкви.
Он -- австриец, а значит, католик или, вероятно, воспитан как католик, но
вообще это человек наименее набожный из тех, кого я знаю. Значит, появляется
еще одно или несколько мест, где надо его искать.
-- Сколько у тебя разных идей! -- Людмила и не подумала бы о чем-то,
связанном с религией. А здесь это устаревшее учреждение оказалось
стратегически важным. -- Да, я думаю, стоит проверить. Та часть Лодзи,
которая нееврейская, как раз католическая?
-- Да.
Ягер направился к двери. Людмила последовала за ним.
Держась за руки, они спустились по лестнице. Пожарная команда
находилась всего в нескольких кварталах -- надо было пройти по улице,
повернуть на Лутомирскую -- и вы уже на месте.
Они пошли по улице. Они собирались повернуть на Лутомирскую, когда
сильный удар, похожий на наступление конца света, сотряс воздух. В этот
страшный момент Людмила подумала, что Скорцени взорвал свою бомбу, несмотря
на все то, что они сделали, чтобы остановить его.
Но затем, когда стекла вылетели из окон, она поняла, что ошиблась. Этот
взрыв произошел неподалеку. Как взрывается бомба из взрывчатого металла, она
видела. Если бы она находилась так близко от места ядерного взрыва, то была
бы мертвой прежде, чем поняла, что произошло.
Люди кричали. Некоторые убегали от места, где взорвалась бомба, другие
бежали к нему, чтобы помочь раненым. Среди последних были и они с Ягером,
они бежали, расталкивая мужчин и женщин, бегущих навстречу.
Уши заложило, но она слышала обрывки фраз на идиш и на польском:
"...повозка перед... остановилась там... человек ушел прочь... взорвалась
перед..."
Затем она подошла достаточно близко, чтобы увидеть, где была взорвана
бомба. Здание пожарной команды на Лутомирской улице превратилось в кучу
обломков, сквозь которые начало пробиваться пламя.
-- Боже мой, -- тихо сказала она.
Ягер смотрел на ошеломленные и истекающие кровью жертвы с мрачной
решимостью на лице.
-- Где же Анелевич? -- спросил он, словно желая, чтобы боевой лидер
евреев возник из развалин. Затем добавил еще одно слово: -- Скорцени.
Ящер по имени Ойяг кивнул головой, изображая покорность.
-- Будет выполнено, благородный господин, -- сказал он. -- Мы будем
выполнять все нормы, которые вы требуете от нас.
-- Это хорошо, старший самец, -- ответил на языке Расы Давид Нуссбойм.
-- Если так, ваши пайки будут увеличены до нормальных ежедневных норм.
После смерти Уссмака ящеры из барака-3 стали работать, так сильно не
дотягивая до нормы, что голодали -- а точнее, стали еще более голодными.
Теперь наконец новый старший самец, хоть и не обладавший высоким статусом до
пленения, начал силой заставлять их выполнять норму.
Ойяг, по мнению Нуссбойма, мог бы стать лучшим старшим самцом для
барака, чем Уссмак. Этот последний, может быть, потому, что был мятежником,
старался вызвать возмущение и в лагере. Если бы полковник Скрябин не нашел
способа сорвать голодную забастовку, которую начал Уссмак, неизвестно,
сколько беспорядка и нарушений это вызвало бы.
Ойяг повращал глазами во все стороны, убедившись, что никто из самцов в
бараке не проявляет ненужного внимания к его разговору с Нуссбоймом. Он
понизил голос и заговорил на ломаном русском:
-- Есть еще одно дело, и я сделаю, если вы скажете, что вам это
нравится.
-- Да, -- сказал Нуссбойм.
Он вышел из барака и направился к штабу лагеря. Удача была на его
стороне. Когда он подошел к кабинету полковника Скрябина, секретарь
коменданта отсутствовал. Нуссбойм остановился в двери и стал ждать, чтобы
его заметили.
И действительно, Скрябин поднял взгляд от донесения, над которым
работал. После того как началось перемирие, поезда приходили в лагерь
регулярно. И бумаги теперь хватало, поэтому Скрябин наверстывал
бюрократическую переписку, которую ему пришлось отложить просто потому, что
не на чем было писать.
-- Входи, Нуссбойм, -- сказал он по-польски, положив ручку.
Чернильные пальцы на его пальцах показывали, насколько он был занят.
Казалось, он обрадовался возможности сделать перерыв. Нуссбойм поклонился.
Он надеялся застать полковника в добродушном настроении, и его надежда
осуществилась. Скрябин указал на стул перед столом.
-- Садись. Ты ведь пришел ко мне не без причины?
"Лучше, чтобы ты не тратил зря моего времени" -- означали его слова.
-- Да. гражданин полковник. -- Нуссбойм с благодарностью уселся.
Скрябин был в хорошем настроении: не каждый раз он предлагал стул и не
всегда говорил по-польски, заставляя в таких случаях Нуссбойма разгадывать
указания на русском. -- Я могу доложить, что налажено сотрудничество с новым
старшим самцом ящеров. У нас будет гораздо меньше неприятностей от барака-3.
чем было в прошлом.
-- Хорошо. -- Скрябин сжал испачканные в чернилах пальцы. -- Это все?
Нуссбойм поспешил ответить:
-- Нет, гражданин полковник.
Скрябин кивнул -- если бы его прервали только для такого пустякового
доклада, он заставил бы Нуссбойма пожалеть об этом. Переводчик продолжил:
-- Другой вопрос, однако, настолько деликатен, что я колеблюсь
представить его вашему вниманию.
Он был рад, что может говорить со Скрябиным по-польски: по-русски он бы
так выразиться не смог.
-- Деликатный? -- Комендант лагеря поднял бровь. -- Мы редко слышим
подобные слова в этом месте.
-- Я понимаю. Однако... -- Нуссбойм оглянулся через плечо, чтобы
убедиться, что стол позади него все еще не занят, -- это относится к вашему
секретарю Апфельбауму.
-- В самом деле? -- Скрябин придал голосу безразличие. -- Хорошо.
Продолжай. Внимательно слушаю. Так что там насчет Апфельбаума?
-- Позавчера, гражданин полковник, мы с Апфельбаумом и Ойягом шли возле
барака-3, обсуждая способы, с помощью которых пленные ящеры могли бы
выполнять норму. -- Нуссбойм подбирал слова с большой осторожностью. -- И
Апфельбаум сказал, что жизнь каждого стала бы легче, если бы великий Сталин
-- должен сказать, он использовал этот титул саркастически, -- если бы
великий Сталин так же беспокоился о том, сколько советские люди едят, как он
беспокоится о том, насколько упорно они работают для него. Это в точности
то, что он сказал. Он говорил на русском, а не на идиш, так что и Ойяг мог
понять его, а поскольку я понял с трудом, то попросил его повторить Он это
сделал, и во второй раз это прозвучало еще более саркастически.
-- В самом деле? -- спросил Скрябин. Нуссбойм кивнул. Скрябин почесал
голову. -- И ящер тоже слышал это и понял? -- Нуссбойм кивнул снова.
Полковник НКВД посмотрел на дощатый потолок. -- Я полагаю, он может сделать
заявление об этом?
-- Если потребуется, гражданин полковник, я думаю, что он сделает, --
ответил Нуссбойм. -- Вероятно, мне не следовало упоминать, но...
-- Но тем не менее, -- тяжко сказал Скрябин. -- Я полагаю, ты считаешь
необходимым написать формальное письменное обличение Апфельбаума.
Нуссбойм изобразил нежелание.
-- Я бы не хотел. Как вы помните, когда-то я обличил одного из зэков, с
которым прежде работал, так вот теперь мне этого не хотелось бы делать. Меня
осенило, что так будет...
-- Полезнее? -- предположил Скрябин.
Нуссбойм посмотрел на него широко раскрытыми глазами, радуясь тому, что
тот не может прочитать его мысли Нет, Скрябина не случайно поставили
начальником лагеря. Полковник полез в свой стол и вынул бланк с непонятными
указаниями, сделанными русскими буквами.
-- Напиши, что он сказал. Можно по-польски или на идиш. Мы будем
хранить его в деле. Я полагаю, что ящер может говорить об этом всем и
каждому. А ты, конечно, таких вещей допускать не должен.
-- Гражданин полковник, эта мысль никогда не могла бы прийти мне в
голову. -- Нуссбойм блестяще изобразил потрясенную невинность.
Он сознавал, что лжет, как лжет и полковник Скрябин. Но здесь, как и в
любой другой игре, существовали свои правила. Он взял ручку и принялся
быстро писать. Поставив подпись в конце доноса, он протянул бумагу Скрябину.
Он предположил, что Апфельбаум и сам придет с доносом. Но он выбрал
свою цель предусмотрительно. Клерку Скрябина придется туго, когда он станет
переубеждать своих политических друзей, отвергая выдвинутые обвинения: они
недолюбливали его за то, что он подлизывался к коменданту, и за привилегии,
которые он получал как помощник Скрябина. Обычные зэки презирали его -- они
презирали всех политических. И он не знал никого из ящеров.
Скрябин сказал:
-- Если бы это я узнал от другого человека, то мог бы подумать, что
цель этого изобличения -- занять место Апфельбаума.
-- Вряд ли вы можете так говорить обо мне, -- ответил Нуссбойм. -- Я не
могу занять его место и никогда не подумал бы, что смогу. Если бы в лагере
использовался польский язык или идиш, то да, вы могли бы так подумать обо
мне. Но я недостаточно знаю русский, чтобы делать эту работу. Все, что я
хочу, -- чтобы стала известна правда.
-- У тебя добродетельная душа, -- сухо сказал Скрябин. -- Однако
замечу, что добродетель не всегда является достоинством на пути к успеху.
-- Именно так, гражданин полковник, -- сказал Нуссбойм.
"Будь осторожнее", -- намекнул ему комендант. Он и намеревался быть
осторожным. Если он добьется того, что Апфельбаума выгонят с должности,
отправят с позором в более жуткий лагерь, здесь все может сдвинуться. Его
собственное положение улучшится Теперь, когда он признан таким же, как
политические [Автор находится в странной уверенности, что политические
заключенные находились в лагерях в лучших условиях, нежели уголовники. --
Прим. ред.], и связался с администрацией лагеря, он задумался, как лучше
использовать преимущества ситуации, в которой он находится.
В конце концов, если вы не позаботитесь о себе, кто позаботится о вас?
Он чувствовал себя жалким после того, как Скрябин заставил его подписать
первый донос -- против Ивана Федорова. Но на этот раз донос не беспокоил его
вовсе.
Скрябин небрежно сказал:
-- Завтра прибудет поезд с новой партией заключенных. Мне дали понять,
что целых два вагона будет с женщинами.
-- Это очень интересно, -- сказал Нуссбойм. -- Спасибо, что вы сказали
мне.
Разумные женщины пристроятся к наиболее влиятельным людям в лагере: в
первую очередь к администрации и охранникам, затем к заключенным [Еще одно
странное заблуждение автора -- Прим. ред.], которые в силах сделать их жизнь
сносной... или что-то в этом роде. Те, которые не сообразят, что для них
хорошо, отправятся валить деревья и рыть канавы, как прочие зэки.
Нуссбойм улыбнулся про себя. Наверняка человек такой... практичный, как
он, сможет найти такую же... практичную женщину для себя -- может быть, даже
такую, которая говорит на идиш. Где бы вы ни были, вы делаете, что можете.
Главное -- выжить.
* * *
Ящер с фонарем приблизился к костру, за которым Остолоп Дэниелс и
Герман Малдун тешились байками.
-- Это вы, лейтенант Дэниелс? -- спросил он на приличном английском
языке.
-- Это я, -- согласился Остолоп. -- Подходите ближе, лидер малой боевой
группы Чуук. Садитесь. Вы собираетесь завтра утром покинуть эти места -- это
верно?
-- Истинно так, -- сказал Чуук. -- Мы больше не будем в Иллинойсе. Мы
двигаться прочь, сначала главная база в Кентукки, затем прочь из этой
не-империи Соединенные Штаты. Я говорю вам две веши, лейтенант Дэниелс.
Первая вещь есть: я не сожалею уходить. Вторая вещь есть: я пришел сказать
прощайте.
-- Это очень любезно, -- сказал Остолоп. -- Прощайте и вы тоже.
-- Сентиментальный ящер, -- сказал Малдун, фыркнув от смеха. -- Кто бы
подумал, а?
-- Чуук -- неплохой парень, -- ответил Дэниелс. -- Как он сказал, когда
было заключено перемирие с ним и с ящерами, которыми он командовал, у нас с
ним больше общего, чем с нашими же начальничками.
-- Да, это, пожалуй, правильно, -- ответил Малдун одновременно с
Чууком, который снова произнес свое "истинно".
Малдун не унимался:
-- Было похоже на прежнюю войну, не так ли? Мы и немцы в окопах, и мы
были похожи друг на друга, будь я проклят, как это верно. Покажи этим парням
в чистеньком вошь -- и они упадут замертво.
-- Я также имею для вас вопрос, лейтенант Дэниелс, -- сказал Чуук. --
Вам не будет досадно, что я спрошу вас это?
-- Что именно? -- сказал Остолоп. Затем он сообразил, что имел в виду
ящер. Английский Чуука был приличным, но далеким от совершенства. --
Валяйте, спрашивайте, о чем хотите. Вы и я, мы оба в довольно хороших
отношениях, раз уж прекратили лупить друг друга по голове. Ваши заботы очень
похожи на мои, как в зеркале.
-- Вот что я хочу спросить тогда, -- сказал Чуук. -- Теперь, когда эта
война, эта битва сделана, что вы будете делать?
Герман Малдун тихо присвистнул сквозь зубы. Остолоп тоже.
-- Вот это вопрос, -- сказал он. -- В первую очередь, я думаю, надо
посмотреть, сколько времени еще армия захочет содержать меня. Меня ведь уже
не назовешь молодым человеком. -- Он потер свой щетинистый подбородок.
Большая часть щетины была белой, а не каштановой.
-- Что вы будете делать, если вы не солдат? -- спросил ящер.
Остолоп объяснил, что, может быть, снова станет бейсбольным менеджером.
Он подумал, не следует ли ему рассказать о бейсболе, но не стал.
Чуук сказал:
-- Я видел тосевитов, некоторые почти детеныши, некоторые больше,
играющие эту игру. Вам платить за возглавление команды их? -- Он добавил
вопросительное покашливание. Когда Остолоп подтвердил, что так и будет, ящер
сказал: -- Вы должны быть очень искусен быть способным делать это за деньги.
Будете это снова во время мира?
-- Не знаю, -- ответил Дэниелс. -- Кто скажет, что будет с бейсболом,
когда все выправится? Я полагаю, что первое, что я сделаю, когда уйду из
армии, так это отправлюсь домой в Миссисипи, чтобы посмотреть, остался ли
кто-нибудь в живых из моей семьи.
Чуук издал звук, выражающий удивление. Он показал на запад, в сторону
великой реки.
-- Вы живете на лодке? Ваш дом есть на Миссисипи?
Остолопу пришлось объяснить разницу между Миссисипи-рекой и штатом
Миссисипи. Когда он закончил, ящер сказал:
-- У вас, Больших Уродов, временами для одного места больше чем одно
имя, иногда у вас больше чем одно место на одно имя. Это сбивает с толк. Я
скажу небольшой секрет, что одна или две атаки были неправильны из-за этого.
-- Может быть, нам стоило назвать каждый город в сельской местности
Джоунсвиллем, -- сказал Герман Малдун и расхохотался собственной шутке.
Чуук тоже расхохотался, открыв рот так, что отражение пламени костра
заблестело на его зубах и змеином языке.
-- Вы не удивили меня, вы, тосевиты, если вы будете делать эту вещь. --
Он показал на Дэниелса. -- Тогда прежде, чем вы стали солдат, вы командовать
бейсбольные люди. Вы есть лидер от детеныш?
И снова Остолопу потребовалось время, чтобы понять ящера.
-- Прирожденный лидер, вы имеете в виду? -- И он снова расхохотался и
хохотал громко и долго. -- Я вырос на ферме в Миссисипи сам по себе. Там
были негры-арендаторы, которые обрабатывали поля больше, чем были у моего
папочки. Я стал менеджером потому, что мне не хотелось вечно ходить за
мулом, а потому я сбежал и стал играть в мяч. Я никогда не был великим, но
был очень неплохим.
-- Я слышать прежде такие рассказы о неповиновении властям от тосевиты,
-- сказал Чуук. -- Мне они очень странны. Мы не любим таких среди Расы.
Остолоп задумался над этим: целая планета ящеров, каждый занимается
своей работой и проживает свою жизнь по указке. Получается очень похоже на
то, что хотели сделать с народом красные и нацисты, только еще хуже. Но для
Чуука этот порядок вещей казался таким же естественным, как вода для рыбы.
Он не задумывался над плохими сторонами системы просто потому, что она
наполняла его жизнь порядком и значением.
-- А как насчет вас, лидер малой боевой группы? -- спросил Дэниелс
Чуука. -- После того как вы, ящеры, уйдете из США, что вы будете делать
дальше?
-- Я останусь быть солдат, -- отвечал ящер. -- После этого перемирия с
вашей не-империей я отправляюсь в другую часть Тосев-3, где перемирия нет, я
воюю дальше с Большие Уроды, пока раньше или позже Раса победит там. Затем я
иду на новое место и делаю то же самое. Все это на годы до прибудет флот
колонизации.
-- Значит, вы стали солдатом, как только вылупились? -- спросил
Остолоп. -- Вы не могли делать что-нибудь еще, когда ваши большие боссы
решили захватить Землю и просто призвали вас на войну?
-- Так было бы сумасшествие! -- воскликнул Чуук. Может быть, он понял
Остолопа слишком буквально, а может быть, и нет. -- Сто и пять десятков лет
назад Шестьдесят Третий Император Фатуз, который правил тогда, а теперь
помогает наблюдать за душами наших умерших, установил Солдатское Время.
Остолоп смог по звучанию почувствовать в словах заглавные буквы, но не
мог понять, что они означают.
-- Солдатское Время? -- переспросил он.
-- Да, Солдатское Время, -- сказал ящер. -- Время, когда Расе требуются
солдаты. Вначале подготовить самцов, которые пойдут флот вторжения, потом в
моей группе возраста и группа до моей -- самцы, которые будут снаряжать
флот.
-- Минутку. -- Остолоп поднял негнущийся скорченный указательный палец.
-- Вы хотите сказать мне, что когда у вас не Солдатское Время, то у вас,
ящеров, нет солдат?
-- Если мы не строить флот вторжения принести новый мир в Империю,
какая нужда мы имеем солдаты? -- Чуук обернулся. -- Мы не воюем сами с
собой. Работевляне и халессианцы есть разумные субъекты. Они не тосевиты,
буйствовать, когда захотят. У нас есть данные делать самцы-солдаты, когда
Император, -- он опустил взгляд к земле, -- решает: мы нуждаемся в них. За
тысячи лет времени мы не нуждаемся. У вас, Больших Уродов, другое? Вы
воевали свою войну, когда мы прибыли. Вы имеете солдаты во время между
войны?
Это прозвучало так, словно он спросил: когда вы сморкаетесь, то
вытираете руки о штаны? Остолоп посмотрел на Малдуна. Малдун уже смотрел на
него.
-- Да, когда мы не воюем, то содержим парочку-другую солдат, -- сказал
Остолоп.
-- На случай, если они нам понадобятся, -- сухо добавил Малдун.
-- Это растрата ресурса, -- сказал Чуук.
-- Еще более расточительно -- не иметь солдат наготове, -- сказал
Остолоп, -- на тот случай, когда их у вас нет, а у страны за соседней дверью
есть, и тогда они отобьют у вас имущество, возьмут то, что было вашим, чтобы
использовать для себя.
У ящера язык выскочил наружу, метнулся в воздухе и снова спрятался во
рту.
-- А, -- сказал он. -- Теперь я имею понимание. Вы всегда имеете врага
у соседняя дверь. У нас в Расе вещь другая. После того как Императоры, -- он
снова посмотрел в землю, -- сделали весь Родина одним под их правление,
какая нужда нам солдаты? Мы имеем нужда только во время завоевания. Тогда
правящий Император объявил Солдатское Время. После конец завоевание мы
больше солдаты не нуждаемся. Мы их на пенсию, дадим им умирать и готовить
новых не будем до нового времени нужды.
Остолоп тихо и удивленно присвистнул. А Герман Малдун пропел с
удивительно хорошим акцентом кокни:
-- Старые солдаты никогда не умирают. Они только исчезают. -- Он
повернулся к Чууку и объяснил: -- У нас есть такая песня. Я слышал ее во
время последней большой войны. Но у вас, ящеров, получается так, будто вы на
самом деле поступаете, как в этой песне. Разве не чепуха?
-- Мы так поступаем на Родине. Мы так поступаем на Работев-2. Мы так
поступаем на Халесс-1, -- сказал Чуук. -- Здесь, на Тосев-3, кто знает, как
мы поступаем? Здесь, на Тосев-3, кто знает, как поступать? Может быть, один
день, лейтенант Дэниелс, мы воевать снова.
-- Но только не со мной, -- сразу сказал Остолоп. -- Когда меня уволят
из армии, то обратно уже не возьмут. А если они это сделают, результат им не
понравится. Все те бои, через которые я прошел, выжали меня. Лидер малой
боевой группы Чуук, вам надо выбрать кого-нибудь помоложе.
-- Двоих помоложе, -- согласился сержант Малдун.
-- Я желаю вы оба хорошей удачи, -- сказал Чуук. -- Мы воевали один с
другим. Теперь мы не воюем, и мы не враги. Пусть остается так.
Он повернулся и вышел из круга желтого света костра.
-- В самом деле так? -- удивленно спросил Малдун. -- Я имею в виду,
такое может быть на самом деле?
-- Да, -- ответил Остолоп, точно понимая, о чем тот говорит. -- Когда
они не ведут войну, у них нет солдат. Хотите, чтобы у нас было так же, не
правда ли? -- Он не стал дожидаться, когда Малдун кивнет, это произошло
автоматически, как дыхание. Он просто заговорил мечтательным голосом: --
Никаких солдат, на сотни, может быть, тысячи лет...
Он сделал длинный выдох, мечтая о сигарете.
-- После этого вы, может, пожелаете, чтобы они победили, не так ли? --
сказал Малдун.
-- Да, -- сказал Остолоп. -- Может быть.
* * *
То, на чем лежал Мордехай Анелевич, никак не могло быть мягкой
постелью. Он поднялся на ноги. Что-то текло по щеке. Когда он провел по ней
рукой, ладонь оказалась красной.
Берта Флейшман лежала на улице среди разбросанных кирпичей, с которых
он только что поднялся. У нее был порез на ноге и еще один, гораздо худший,
на голове сбоку, кровь пропитала волосы. Она стонала: слов не было, только
стон. Глаза ее были затуманены.
Охваченный страхом, Мордехай нагнулся и поднял ее на руки. Его голова
была наполнена шипящим шумом, как будто гигантский воздушный шланг шипел
между ушами. Сквозь этот шум он не слышал не только стонов Берты, но и
криков, воплей, стонов десятков, может быть, сотен раненых людей.
Если бы он прошел еще полсотни метров, он не был бы ранен. Он был бы
мертв. Понимание этого медленно вошло в его оцепеневший мозг.
-- Если бы я не остановился, чтобы побеседовать с тобой... -- сказал он
Берте.
Она кивнула, все еще с отсутствующим выражением лица.
-- Что произошло? -- Ее губы произнесли эти слова, но они не прозвучали
-- а может быть, Анелевич оглох сильнее, чем ему казалось.
-- Какой-то взрыв, -- сказал он, затем, гораздо позднее, чем следовало,
он сообразил: -- Бомба.
Ему понадобилось еще несколько секунд, прежде чем он выпалил:
-- Скорцени!
Берта Флейшман услышала только это имя.
-- Боже мой! -- сказала она так громко, что Анелевич услышал и понял.
-- Мы должны остановить его!
Это сущая правда. Они должны остановить его, если смогут. Ящерам это
никогда не удавалось. Анелевич подумал, по силам ли это кому-то вообще. Так
или иначе, требовалось найти способ.
Он осмотрелся. Среди всего этого хаоса сидел на корточках Генрих Ягер,
вытягивая бинт из аптечки на своем поясе. Старый еврей, который протянул ему
поврежденную руку, не знал и не беспокоился о том, что перед ним танкист,
полковник вермахта. И Ягер -- судя по тому, как умело и осторожно он
работал, -- не беспокоился о религии человека, которому он помогал. Рядом с
ним его русская подруга -- еще одна история, о которой Анелевич знал меньше,
чем ему хотелось бы, -- перевязывала окровавленное колено маленького
мальчика чем-то похожим на старый шерстяной носок.
Анелевич хлопнул Ягера по плечу. Немец крутнулся на месте, схватив
автомат, который он положил на мостовую, чтобы помочь старику.
-- Вы живы! -- сказал он с облегчением, узнав Мордехая.
-- По крайней мере, я так думаю. -- Анелевич обвел рукой окружающий
хаос. -- Ваш друг грубо играет.
-- Это то самое, о чем я говорил вам, -- ответил немей. Он тоже
посмотрел по сторонам, но очень быстро. -- Это, вероятно, диверсия -- и
вероятно, не единственная. И где бы ни находилась бомба, правильнее думать,
что Скорцени уже близко от нее.
И, как по команде, еще один взрыв потряс Лодзь. Звук его прикатил с
востока: прикинув направление, Анелевич решил, что он произошел неподалеку
от разрушенной фабрики, где прятали украденную бомбу. Он не сказал Ягеру,
где находится фабрика, потому что не вполне доверял ему. Теперь этим
придется поступиться. Если Скорцени где-то там, ему пригодится любая помощь,
которую он сможет получить.
-- Идемте, -- сказал он.
Ягер кивнул, быстро закончил бинтовать и схватил свой "шмайссер".
Русская девушка -- летчица Людмила -- достала свой пистолет. Анелевич
кивнул. Они отправились в путь. Мордехай обернулся к Берте, но она снова
повалилась на мостовую. Ему хотелось взять ее с собой, но идти она не могла,
а ждать нельзя было. Следующий взрыв может случиться уже не в пожарном депо,
не в каком-то отдельном здании. Это может быть вся Лодзь.
От помещения пожарной команды не осталось ничего. Пламя от торящего
бензина высоко поднималось над обломками -- это горела пожарная машина.
Мордехай пнул изо всех сил кусок кирпича, попавший под ногу. Здесь был
Соломон Грувер. Потом -- если он остался жив -- он будет очень недоволен.
Винтовка "маузера" колотила в плечо, когда он спешил. Это его не
беспокоило -- он замечал ее только временами. А вот патронов у него в
карманах осталось маловато. В винтовке была полная обойма, пять патронов, в
карманах -- еще на одну или две обоймы. Он не собирался сегодня идти в бой.
-- Сколько у вас патронов? -- спросил он Ягера.
-- Полный магазин в автомате и еще один здесь. -- Немец показал на свой
пояс. -- Всего шестьдесят штук.
Это уже лучше, но все же не так хорошо, как надеялся Мордехай. Магазин
автомата можно выпустить за несколько секунд. Он напомнил себе, что Ягер
все-таки полковник-танкист. Если германский солдат -- а тем более германский
офицер -- не способен соблюдать дисциплину огня, то кто же?
Наверное, никто. Когда пули летят над головой, поддерживать любую
дисциплину становится трудно.
-- И еще у меня есть патроны в пистолете, -- сказала Людмила.
Анелевич кивнул. Она шла с ними. Казалось, что Ягер согласен, что она
имеет право идти с ними, но Ягер ведь спал с нею, поэтому его мнение
пристрастно. С другой стороны, она советская летчица и партизанила здесь, в
Польше, так что, в конце концов, она может оказаться полезной. Его
собственные бойцы-женщины доказали, что могут выполнять работу, которую не
способны выполнять некоторые мужчины.
Он прошел мимо многих собственных бойцов, когда вместе с Ягером и
Людмилой спешил к разрушенной фабрике.
Некоторые, крича, обращались к нему с вопросами. Он отвечал
неопределенно и не приглашал присоединиться к нему ни мужчин, ни женщин.
Никто из них не был посвящен в тайну бомбы из взрывчатого металла, и он
хотел сохранить круг людей, знающих о ней, как можно более узким. Если он
остановит Скорцени, то ему совсем ни к чему жить с риском разоблачения перед
ящерами. Кроме того, бойцы, не знающие, куда они идут, могут принести больше
неприятностей, чем пользы.
Его узнали двое полицейских из службы порядка и спросили, куда он идет.
Он их тоже проигнорировал. Он привык игнорировать службу порядка. Да и они к
этому привыкли. Люди, вооруженные дубинками, всегда вежливы с теми, кто
вооружен винтовкой или автоматом.
Ягер начал задыхаться.
-- Далеко еще? -- спросил он, запыхавшись.
Пот струился по его лицу, рубашка промокла на спине и под мышками.
Анелевич и сам вспотел. День был жарким, ярким и ясным, приятным для
тех, кто просто прогуливается, а не мчится по улицам Лодзи.
"Почему бы всему этому не случиться осенью?" -- подумал он. А вслух
ответил:
-- Не очень далеко. В гетто ничто не отстоит по-настоящему далеко. Вы,
нацисты, оставили нам немного пространства, вы ведь знаете.
Губы Ягера сжались.
-- Вы можете сдерживаться, когда говорите со мной? Если бы не я, вы
были бы уже дважды мертвы.
-- Это верно, -- заметил Анелевич. -- Но только для данного случая. А
сколько тысяч евреев умерло здесь прежде, чем кто-то что-нибудь сказал.
Он оказал доверие Ягеру. Немец явно обдумывал это на бегу, затем
кивнул.
К небу поднималось облако дыма. Как показалось Мордехаю, судя по звуку
взрыва, он произошел близко к тому месту, где была спрятана бомба. Кто-то
крикнул ему:
-- Где пожарная машина?
-- Она сама горит, -- ответил он. -- Первый взрыв, который вы слышали,
был в пожарном депо.
Спросивший в ужасе вытаращил глаза. Если бы у Мордехая было время
задуматься, то он и сам пришел бы в ужас. Что будет с гетто без пожарной
машины? Он выругался. Если они не остановят Скорцени, это уже неважно.
Он завернул за угол. Ягер и Людмила бежали рядом с ним. Внезапно
Мордехай остановился. В горящем здании находились конюшни, в которых
содержались ломовые лошади, на которых он собирался перевезти бомбу в случае
необходимости. Огонь превратил стойла в ловушки. Их ужасные крики, еще более
печальные, чем крики раненых женщин, эхом отдавались в его ушах.
Он хотел помочь животным, но заставил себя пройти мимо. Люди, которые
не знали, что он делал, старались вывести лошадей из конюшни. Он убедился,
что среди них нет его людей, охранявших бомбу. К своему облегчению, он их
действительно не обнаружил, но знал, что они вполне могли оказаться здесь.
Когда эта мысль мелькнула в его голове, он вдруг понял, что Скорцени взрывал
здания не просто так. Он старайся отвлечь, выманить охранников с их постов.
-- Этот ваш эсэсовский друг -- настоящий "мамзер", не так ли? -- сказал
он Ягеру.
-- Что? -- переспросил танкист.
-- Ублюдок, -- сказал Анелевич, заменив слово на идиш немецким.
-- Вы не знаете и половины, -- сказал Ягер. -- Боже, Анелевич, вы не
знаете даже десятой части.
-- Я узнаю, -- ответил Мордехай. -- Идемте, обогнем последний угол -- и
мы на месте.
Он скинул винтовку с плеча, снял с предохранителя и загнал патрон в
патронник. Ягер мрачно кивнул. Его "шмайссер" уже был готов к бою. Людмила
тоже на бегу не выпускала свой маленький автоматический пистолет. В целом не
так много, но лучше, чем ничего.
У последнего угла они задержались. Поторопившись, они рисковали попасть
прямо под циркулярную пилу. С большой предосторожностью Мордехай посмотрел
вдоль улицы в сторону разрушенной фабрики. Он не увидел никого, даже бросив
беглый взгляд, а он знал, куда надо смотреть. В конце концов, если бы даже
он и увидел кого-то, это не имело бы значения. Все равно им требовалось идти
вперед. Если Скорцени опередил их... Если повезет, он все еще возится с
бомбой. А если не повезет...
Он обернулся к Ягеру.
-- Как вы думаете, сколько дружков Скорцени может быть вместе с ним?
Губы полковника-танкиста сжались в безрадостной улыбке.
-- Единственный способ узнать -- посмотреть самим. Я иду первым, затем
вы, потом Людмила. Будем двигаться перебежками, пока не доберемся до нужного
места.
Мордехая возмутило то, что немец взял на себя командование, хотя
предложенная им тактика казалась разумной.
-- Нет, я пойду первым, -- сказал он и затем, убеждая себя и Ягера. что
это не бравада, добавил: -- У вас оружие более мощное. Вы прикроете меня.
Ягер нахмурился, но через мгновение кивнул. Он слегка хлопнул Анелевича
по плечу.
-- Тогда вперед.
Анелевич рванулся к стене, готовый мгновенно укрыться за кучей
обломков, если начнется стрельба. Стрельбы не было. Он быстро спрятался в
дверную нишу, которая отчасти прикрыла его. Едва он спрятался в ней, как тут
же к нему побежал Ягер, согнувшись и прыгая из стороны в сторону. Хотя он
был танкистом, но где-то научился и приемам пехотного боя. Анелевич почесал
голову. Немец был достаточно стар, чтобы быть участником последней войны. А
кто, кроме него самого, знал, что довелось ему сделать в войне нынешней?
Людмила побежала вслед за ними. В качестве укрытия она выбрала дверную
нишу на противоположной стороне улицы. Затаившись там, она переложила
пистолет в левую руку, чтобы при необходимости стрелять из этой позиции, не
высовываясь навстречу огню противника. Она тоже знала свое дело.
Анелевич промчался мимо нее и остановился в десяти или двенадцати
метрах от дыры в стене, служившей входом на разрушенную фабрику. Он стал
вглядываться внутрь, пытаясь проникнуть взглядом в темноту. Кто-то лежит
неподвижно, неподалеку от входа? Он не был уверен, но было похоже.
Позади него по мостовой прогрохотали сапоги. Он свистнул и помахал
рукой: Генрих Ягер присоединился к нему.
-- В чем дело? -- спросил немец, тяжело дыша.
Анелевич показал. Ягер прищурился. Складки на лице, которые
обнаружились при этом, наглядно показали, что он вполне мог воевать в Первую
мировую войну.
-- Это труп, -- сказал он в тот самый момент, когда Людмила тоже
втиснулась в тесную нишу перед дверью. -- Бьюсь об заклад на что угодно, что
его зовут не Скорцени.
Мордехай глубоко вздохнул. Дыхание у него никак не восстанавливалось.
"Нервы", -- подумал он. И давно не бегал так далеко. Он сказал:
-- Если мы сможем подойти к этой стене, то проникнем внутрь и доберемся
до бомбы по прямому пути, ведущему в середину здания. Как только мы окажемся
у стены, никто не сможет открыть по нам огонь так, чтобы мы не смогли
ответить.
-- Тогда вперед, -- сказала Людмила и побежала к стене.
Ругаясь про себя, Ягер последовал за ней. За ним -- Анелевич.
По-прежнему настороженно он заглянул внутрь. Да, там неподвижно лежал
охранник -- и его винтовка рядом.
Мордехай попытался сделать еще один глубокий вдох. Казалось, легкие
отказываются работать. В грудной клетке колотилось сердце. Он повернулся к
Ягеру и Людмиле. Внутри разрушенной фабрики было сумрачно, к этому он
привык. Но здесь, на ярком солнце, он видел своих товарищей очень смутно. Он
поднял взгляд на солнце. Яркий свет не слепил глаз. Он снова посмотрел на
Людмилу. Он подумал, что глаза ее очень голубые, а затем понял, почему:
зрачки сжались настолько сильно, что он едва мог рассмотреть их вообще. С
большим трудом он сделал еще один прерывистый вдох.
-- Что-то неладно, -- выдохнул он.
* * *
Генрих Ягер видел, что день померк вокруг него, но не понимал причины,
пока не заговорил Анелевич. После этого Ягер выругался, громко и грязно,
охваченный страхом. Он мог убить себя, и любимую женщину, и всю Лодзь только
из-за собственной глубочайшей глупости. Нервно-паралитический газ не имеет
запаха. Он невидим. Неощутим на вкус. И совершенно незаметно он может убить
вас.
Генрих откинул крышку аптечки, бинтом из которой он пользовался,
перевязывая раненого старого еврея. У него должно быть пять шприцев, один
для себя и по одному на каждого члена экипажа его танка. Если эсэсовцы
забрали их, когда арестовали его... Если они сделали это, он мертв, и не
только он.
Но чернорубашечники оплошали. Они не подумали отобрать аптечку и
посмотреть, что внутри. Он благословил их за такой промах.
Он вытащил шприцы.
-- Антидот, -- сказал он Людмиле. -- Стой спокойно.
Для того чтобы сказать несколько слов, ему тоже потребовались усилия:
газ делал свое дело. Еще несколько минут, и он тихо повалился бы и умер, не
понимая даже отчего.
Удивительно, но Людмила не стала спорить. Может быть, и ей уже было
трудно говорить и дышать. Он воткнул шприц ей в ногу, как его учили, и нажал
на плунжер.
Затем взял второй шприц.
-- Теперь вы, -- сказал он Анелевичу, сдергивая защитный колпачок.
Еврейский лидер кивнул. Ягер поспешил сделать ему инъекцию -- тот уже
начал синеть. Легкие и сердце явно отказывались работать.
Ягер выронил пустой шприц. Его стеклянный корпус разлетелся на кусочки
по мостовой. Он это слышал, но практически не видел. Действуя скорее ощупью,
чем с помощью зрения, он вытащил еще один шприц и воткнул себе в ногу.
Он почувствовал себя так, как будто в мускул вонзился электрический
провод под током. Укол не принес облегчения: он просто ввел себе другую
отраву, которая должна была противостоять действию нервно-паралитического
газа. Во рту пересохло. Сердце заколотилось так громко, что он отчетливо
слышал каждый удар. И улица, которая была тусклой и неразличимой, когда
сжались под действием газа его зрачки, теперь сразу стала ослепительно
яркой. Он замигал. Глаза наполнились слезами. Убегая от болезненно-яркого
света, он нырнул внутрь фабрики. Здесь, во мраке, свет казался почти
терпимым. Мордехай Анелевич и Людмила последовали за ним.
-- Что за дрянь вы нам вкололи? -- спросил еврей голосом, упавшим до
шепота.
-- Это антидот против нервно-паралитического газа -- вот все, что я
знаю, -- ответил Ягер. -- Его выдали нам на случай, если понадобится
двигаться по территории, залитой газом при атаке, или на случай, если
изменится направление ветра. Скорцени мог взять с собой газовые гранаты, а
может быть, просто бутылки, наполненные газом. Достаточно бросить ее, чтобы
она разбилась, сделать себе укол, подождать, а затем можно идти и делать,
что надо.
Анелевич посмотрел на мертвое тело охранника.
-- У нас тоже есть нервно-паралитический газ, вы знаете, -- сказал он.
Ягер кивнул. Анелевич помрачнел. -- Мы должны работать с ним еще осторожнее,
чем раньше, -- у нас были пострадавшие. -- Ягер снова кивнул: при обращении
с этим газом никакая осторожность не может быть излишней.
-- Хватит, -- сказала Людмила. -- Где бомба? Как добраться до нее и
остановить Скорцени, не погубив себя?
Это были хорошие вопросы. Если бы можно было подумать над ответом
неделю, получилось бы лучше, но у него не было недели на пустые размышления.
Он посмотрел на Анелевича. Решать предстояло лидеру еврейского
Сопротивления.
Анелевич показал в глубь здания.
-- Бомба там, меньше чем в сотне метров. Видите отверстие за
перевернутым столом? Путь туда не прямой, но он свободен. Одному из вас, а
может быть, обоим надо пойти туда. Это единственный путь, по которому вы
сможете добраться туда достаточно быстро, чтобы что-то еще можно было
сделать. Я пока побуду здесь. Есть еще один путь к бомбе. Я пойду по нему --
и посмотрим, что получится.
Ягеру и Людмиле предстояло сыграть роль приманки. Он не мог спорить,
хотя бы потому, что Анелевич знал это место, а он нет. Но еще он знал, что,
если начнется стрельба, наиболее вероятна гибель именно тех, кто отвлекает
на себя внимание. Во рту пересохло.
Анелевич не стал дожидаться возражений. Как любой хороший командир он
считал повиновение само собой разумеющимся. Показав еще раз на перевернутый
стол, он скрылся за кучей мусора.
-- Держись позади меня, -- прошептал Ягер Людмиле.
-- Вежливость -- реакционна, -- сказала она. -- У тебя лучше оружие. Я
должна идти первой и отвлечь огонь на себя.
С чисто военной точки зрения она была права. Он никогда не думал, что
чисто военная точка зрения может быть применима к женщине, которую он любил.
Но если здесь он поддастся любви или вежливости или еще чему-то подобному,
он проиграет. С неохотой он жестом разрешил Людмиле идти впереди.
Она этого не видела, потому что уже ушла. Он последовал за ней, держась
как можно ближе. Как сказал Анелевич, путь был довольно извилистым, но
простым. Расширившиеся от антидота зрачки позволяли видеть, куда ставить
ногу, чтобы шуметь поменьше.
Когда он решил, что они прошли примерно полдороги, Людмила замерла и
показала за угол. Ягер подошел поближе. Еврей-охранник лежал мертвый, одной
рукой все еще держась за свою винтовку. Так же осторожно Людмила и Ягер
перешагнули через него и пошли дальше.
Откуда-то спереди до Ягера донесся звон инструментов, ударяющихся о
металл, звук, который ему был хорошо знаком по обслуживанию танков. Обычно
это был приятный звук, сообщающий, что нечто сломанное вскоре будет
починено. И здесь тоже нечто сломанное торопливо чинили. Но здесь от звука
ремонта волосы у него на затылке встали дыбом.
И тут он сделал ошибку -- пробираясь мимо кучи обломков, задел кирпич.
Кирпич упал на землю с чудовищно громким треском. Ягер замер, ругаясь про
себя: "Вот почему ты не остался в пехоте, неуклюжий сын шлюхи!"
Он молился, чтобы Скорцени не услышал стук кирпича. Бог пропустил
молитву мимо ушей. Шум работ прекратился. Вместо него прозвучала очередь из
автомата. Скорцени не мог его видеть, но все равно стрелял. Он надеялся, что
отскочившие рикошетом пули сделают свое дело. Так почти и получилось.
Несколько пуль злобно прожужжали над самой головой, когда Ягер бросился на
землю.
-- Сдавайтесь, Скорцени! -- прокричал он, ползком продвигаясь вперед
вместе с Людмилой. -- Вы окружены!
-- Ягер? -- Это был один из редких моментов, когда он слышал удивление
в голосе Скорцени. -- Что ты здесь делаешь, жидофил? Я думал, что уже
отплатил тебе за добро. Тебя должны были повесить на рояльной струне. Что ж,
еще успеют. Через день.
Он выпустил еще одну длинную очередь. Патроны он не экономил. Пули
взвывали вокруг Ягера, выбивая искры, когда попадали в кирпичи и
поврежденные станки.
Тем не менее Ягер постепенно продвигался. Если бы ему удалось добраться
до следующей кучи кирпичей, он смог бы залечь за ней и сделать прицельный
выстрел.
-- Сдавайся! -- снова закричал он. -- Мы отпустим тебя, если ты
сдашься.
-- Ты скоро будешь слишком мертвым, чтобы беспокоиться о том, сдамся я
или нет, -- ответил эсэсовец. Затем он сделал паузу. -- Хотя -- нет.
Вообще-то ты уже должен был быть мертвым. Почему это не так?
Вопрос прозвучал совсем по-дружески, как будто они болтали за стопкой
шнапса.
-- Антидот, -- пояснил Ягер.
-- Вот так удар по яйцам! -- сказал Скорцени. -- Что ж, я думал, что
получу в одно место, а получил...
Последнее слово сопровождалось гранатой, которая со свистом пронеслась
по воздуху и ударилась о землю в пяти или шести метрах позади Ягера и
Людмилы.
Он схватил девушку и согнулся вместе с нею в тугой узел за мгновение до
того, как граната взорвалась. Взрыв был оглушительным. Горячие осколки
корпуса ударили ему в спину и в ноги. Он схватил "шмайссер", уверенный, что
Скорцени побежит вслед за взорвавшейся гранатой.
Раздался винтовочный выстрел, затем еще один. В ответ начал бить
автомат Скорцени. Но пули летели не в Ягера. Они с Людмилой откачнулись друг
от друга и оба бросились к заветной куче кирпичей.
Скорцени стоял, качаясь, как дерево на ветру. В полумраке его глаза
были огромны и целиком залиты зрачками: он принял огромную дозу антидота от
нервно-паралитического газа. Прямо в середине его старой рваной рубахи
расплывалось красное пятно. Он поднял свой "шмайссер", но, казалось, не
понимал, что делать с ним -- стрелять ли в Анелевича или в Ягера и Людмилу.
Его противники не колебались. Выстрелы винтовки Анелевича и пистолета
Людмилы прозвучали одновременно в тот самый момент, когда Ягер выпустил
очередь из автомата. На теле Скорцени расцвели красные цветы. Ветер, который
раскачивал его, превратился в шторм и сбил диверсанта с ног. Автомат выпал
из рук. Его пальцы потянулись к оружию, рука и предплечье рывками
передвигались по земле, по полтора сантиметра за одно движение. Ягер
выпустил еще одну очередь. Скорцени задергался под пулями, впивавшимися в
его тело, и наконец замер.
Только теперь Ягер заметил, что эсэсовец успел оторвать несколько
планок от большой корзины, в которой помещалась бомба из взрывчатого
металла. За ними виднелась алюминиевая оболочка, напоминавшая кожу
оперируемого, открытую через отверстие в простынях. Если Скорцени уже
вставил детонатор...
Ягер бегом бросился к бомбе. Он на долю секунды опередил Анелевича,
который в свою очередь на долю секунды опередил Людмилу. Скорцени успел
вынуть одну из панелей обшивки. Ягер заглянул в отверстие. Своими
расширенными зрачками он легко увидел, что в отверстии пусто.
Анелевич показал на цилиндрик длиной в несколько сантиметров,
валявшийся на земле.
-- Это детонатор, -- сказал он. -- Не знаю, тот ли это, который мы
вытащили, или же принесенный им -- как вы это говорили. Не имеет значения.
Имеет значение то, что он не использовал его.
-- Мы победили. -- Голос Людмилы прозвучал удивленно, как будто она
только сейчас поняла, _что_ они сделали и _что_ предотвратили.
-- Больше в эту бомбу никто никогда не вставит детонатор, -- сказал
Анелевич. -- Никто не сможет приблизиться к ней и остаться в живых даже
ненадолго -- без антидота. Как долго сохраняется этот газ, Ягер? Вы знаете
об этом больше, чем мы.
-- Лучи яркого солнца сюда не попадают. То, что остается на крышах,
смывается дождем. А здесь он может сохраниться довольно долго. Несколько
дней уж точно. А может быть, и недель, -- ответил Ягер.
Он по-прежнему чувствовал себя на взводе и готовым к бою. Может, это
последействие перестрелки, может -- антидота. Вещество, заставившее биться
его сердце, вероятно, ударяло и в мозг.
-- Теперь мы можем отсюда уйти? -- спросила Людмила. Она выглядела
испуганной: возможно, антидот вызывал у нее желание бежать, а не воевать.
-- Нам лучше отсюда уйти, сказал бы я, -- добавил Анелевич. -- Один бог
знает, сколько газа попадает в нас при каждом вдохе. И если его больше, чем
может переработать антидот...
-- Да, -- сказал Ягер, направляясь к выходу. -- А когда мы выйдем, надо
будет сжечь эту одежду. Мы должны сделать это сами, и мы должны мыться,
мыться и мыться. Не обязательно вдохнуть газ, чтобы он вас убил. Он сделает
то же самое, если попадет на кожу -- медленнее, чем при вдыхании, но так же
верно. Пока мы не уберем его, будем опасны для всех окружающих.
-- Ничего себе, ну и зелье вы, немцы, сделали, -- сказал Анелевич у
него за спиной.
-- Ящерам оно тоже не понравилось, -- ответил Ягер.
Лидер еврейского Сопротивления буркнул что-то невнятное и замолк.
Чем ближе Ягер подходил к улице, тем ярче становился свет. В конце
концов ему пришлось прикрыть веки и смотреть сквозь узкую щель между ними.
Он не знал, как долго его зрачки останутся расширенными, а потому с
безжалостной прагматичностью задумался, где в Лодзи он может обзавестись
солнечными очками.
Он прошел мимо лежавшего у входа мертвого охранника-еврея, затем шагнул
на улицу, которая, казалось, вспыхнула так, словно взорвалась бомба из
взрывчатого металла. Евреям, вероятно, следует расставить посты вокруг
разрушенной фабрики под тем или иным предлогом -- Для того, чтобы уберечь
людей от отравления.
Людмила вышла наружу и остановилась рядом. Ягер заметил ее. Он не знал,
что случится дальше. Он даже не был уверен, как и предположил Анелевич, что
они не вдохнули слишком много газа. Если день снова покажется темным, он
может использовать еще два шприца, остававшихся в его аптечке. Для троих это
составит по две трети полной дозы. Понадобится ли она? А если понадобится,
будет ли ее достаточно?
Однако он знал, чего не случится наверняка. Лодзь не вспыхнет огненным
шаром, как новое солнце. И ящеры не направят свой справедливый гнев на
Германию -- по крайней мере, по этой причине. Он не вернется в вермахт, а
Людмила -- в советские ВВС. Их будущее, продлится ли оно часы или
десятилетия, решилось здесь.
Он улыбнулся ей. Ее глаза были почти закрыты, но она улыбнулась в
ответ. Он видел это с большой ясностью.
* * *
Жужжащий шум тосевитских самолетов Атвар много раз слышал в записях, но
редко -- в действительности. Он повернул один глаз в сторону окна своей
резиденции. Вскоре он смог разглядеть, как неуклюжая, окрашенная в желтый
цвет машина медленно поднимается в небо.
-- Это что, последний из них? -- спросил он.
-- Да, благородный адмирал, на этом улетает Маршалл, представитель
не-империи Соединенные Штаты, -- ответил Золрааг.
-- Переговоры окончены, -- сказал Атвар. Это прозвучало неуверенно. --
Мы находимся в состоянии мира и занимаем большие части Тосев-3.
"Неудивительно, что я говорю так неуверенно, -- подумал он. -- Мы
добились мира, но не завоевания. Кто мог представить такое, когда мы
улетали?"
-- Теперь мы будем ожидать прибытия флота колонизации, благородный
адмирал, -- сказал Золрааг. -- С его прибытием и с постоянным нахождением
Расы на Тосев-3 начнется вхождение всего этого мира в Империю. Оно пройдет
медленнее и с большим трудом, чем мы представляли себе до прихода сюда, но
это должно быть сделано.
-- Я тоже так считаю, и поэтому я согласился остановить проявление
враждебности в крупных масштабах в настоящее время, -- сказал Атвар.
Он повернул один глаз к Мойше Русецкому, который все еще стоял, глядя,
как самолет Больших Уродов исчезает вдали. Адмирал попросил Золраага:
-- Переведите ему то, что вы только что сказали, и узнайте его мнение.
-- Будет исполнено, -- сказал Золрааг, прежде чем переключиться с языка
Расы на уродливое гортанное хрюканье, которое он использовал, разговаривая с
тосевитом.
Русецкий, отвечая, выдал еще больше хрюкающих звуков. Золрааг превратил
их в слова, которые можно было понять:
-- Его ответ кажется мне не вполне уместным, благородный адмирал. Он
выражает облегчение, что представитель Германии отбыл, не втянув Расу и
тосевитов в новую войну.
-- Я признаюсь, что и сам испытываю некоторое облегчение, -- сказал
Атвар. -- После того громкого заявления, которое сделал Большой Урод и
которое оказалось либо блефом, либо эффектным примером германской
некомпетентности -- наши аналитики по-прежнему не имеют общего мнения, -- я
действительно ожидал возобновления войны. Но, очевидно, тосевиты решили
поступить более рационально.
Золрааг перевел это Русецкому, выслушал ответ и открыл рот от
изумления.
-- Он говорит, что ожидать от Германии рационального поступка -- то же
самое, что ожидать хорошей погоды в середине зимы: да, она может стоять день
или два, но большую часть времени она вас будет разочаровывать.
-- Если вы будете ожидать чего-то от тосевитов или от тосевитской
погоды, то большую часть времени вы действительно проживете в разочаровании.
Не надо это переводить, -- прокомментировал главнокомандующий.
Русецкий смотрел на него так, что можно было подумать, что тот
встревожен: Большой Урод как будто немного знал язык Расы. Атвар мысленно
пожал плечами: Русецкий давно узнал его мнение о тосевитах. Он сказал:
-- Скажите ему, что раньше или позже его народ придет под власть
Императора.
Золрааг деловито перевел. Русецкий не отвечал. Вместо этого он подошел
к окну и снова посмотрел в него. Атвар почувствовал раздражение: тосевитский
самолет давно исчез из виду. Но Русецкий продолжал смотреть сквозь стекло и
ничего не говорил.
-- Что он делает? -- утратив терпение, рассердился Атвар. Золрааг
перевел вопрос. Мойше Русецкий ответил:
-- Я смотрю через Нил на пирамиды.
-- Зачем? -- спросил Атвар, все еще рассерженный. -- Почему вас
интересуют эти -- что это такое? -- эти большие похоронные монументы, так
ведь? Они массивны, да, согласен, но они варварские, даже по тосевитским
меркам.
-- Мои предки были рабами в этой стране три, а может быть, четыре
тысячи лет назад, -- ответил ему Русецкий. -- Может быть, они помогали
возводить пирамиды. Так говорится в наших легендах, хотя я не знаю, правда
ли это. Кто вспоминает теперь о древних египтянах? Они были могущественны,
но они исчезли. Мы, евреи, были рабами, но мы по-прежнему здесь. Откуда вы
можете знать, что разовьется из того, что есть сейчас?
Теперь у Атвара от удивления открылся рот.
-- Тосевитские претензии на античность всегда вызывают у меня смех, --
сказал он Золраагу. -- Если послушать, как Большой Урод говорит о трех или
четырех тысячах лет -- это шесть или восемь тысяч наших, -- так это большой
исторический период. Мы к этому времени уже поглотили и Работев, и Халесс, и
некоторые из нас уже думали о планетах звезды Тосев. В истории Расы это
случилось всего лишь позавчера.
-- Истинно так, благородный адмирал, -- ответил Золрааг.
-- Конечно, истинно, -- сказал Атвар, -- и вот поэтому мы в конце будем
торжествовать по случаю нашего поселения здесь, несмотря на противостояние,
вызванное неожиданным технологическим прорывом Больших Уродов. Мы
довольствуемся в продвижении вперед по одному малому шагу каждый раз. А
здесь целая тосевитская цивилизация, как только что сказал Русецкий,
двинулась вперед, по обычаю Больших Уродов, сломя голову -- и потерпела
огромное поражение. У нас нет таких трудностей, не будет и в дальнейшем. Мы
обосновались, пусть даже всего лишь на части этого мира. С прибытием флота
колонизации наше присутствие станет неопровержимо постоянным. И нам
останется дождаться очередного тосевитского коллапса культуры,
распространить наше влияние на области, где он произойдет, повторяя этот
процесс, пока на этой планете не останется ни одного места, не
подконтрольного Империи.
-- Истинно, -- повторил Золрааг. -- Из-за тосевитских сюрпризов флот
вторжения может не выполнить все, что предусматривал план, составленный на
Родине. -- Вряд ли Кирел мог быть более осторожным и дипломатичным, выражая
эту мысль. -- Однако завоевание продолжится, как вы сказали. В конце концов,
какое будет иметь значение, если на это понадобятся поколения, а не дни?
-- В конце концов это не имеет никакого значения, -- ответил Атвар. --
История на нашей стороне.
* * *
Вячеслав Молотов кашлянул. Последний Т-34 уже давно прогрохотал по
Красной площади, но воздух был по-прежнему насыщен дизельными выхлопами.
Если Сталин даже и ощущал дискомфорт, то не подавал виду. Он хмыкнул с
доброй улыбкой:
-- Что ж, Вячеслав Михайлович, это был не совсем Парад Победы, не
такой, какого мне бы хотелось в ознаменование победы над гитлеровцами, но он
будет, он будет.
-- Несомненно, товарищ генеральный секретарь, -- сказал Молотов.
Один раз в своей жизни Сталин допустил ошибку, недооценив ситуацию.
Когда Молотов отправился в Каир, в глубине души он ждал провала миссии --
из-за непримиримой позиции, которую он по требованию Сталина должен был там
занять. Но если, разгадывая намерения Гитлера, Сталин чудовищно ошибся, то
действия ящеров он просчитал правильно.
-- Ящеры в точности соблюдают соглашение, к которому вы их вынудили, --
сказал Сталин. Военные демонстрации вроде сегодняшней приносили ему такую же
радость, как мальчишке, играющему с оловянными солдатиками. -- Они убрались
с советской земли, за исключением территории бывшей Польши, которую они
выбрали, чтобы закрепиться. И здесь, товарищ комиссар иностранных дел, я
вашей ошибки не нахожу.
-- За что я благодарю вас, Иосиф Виссарионович, -- ответил Молотов. --
Лучше иметь общие границы с теми, кто соблюдает соглашение, чем с теми, кто
нарушает их.
-- Точно так, -- сказал Сталин. -- И изгнание нами остатков немецких
войск с советской земли продолжается вполне удовлетворительно. Некоторые
области на южной Украине и вблизи финской границы еще в опасности, но в
целом гитлеровское нашествие -- как и нашествие ящеров -- может
рассматриваться как дело прошлого. Мы снова двинемся вперед, к истинному
социализму.
Он сунул руку в карман брюк и вынул трубку, коробок спичек и кожаный
кисет. Открыв его, он набил трубку, затем зажег спичку и подержал ее над
чашечкой. Его щеки втянулись, когда он втянул воздух, чтобы трубка
разгорелась. Из трубки поднялся дымок, облачка дыма появились и из его
ноздрей и угла рта.
Молотов наморщил нос. Он ожидал почувствовать махорку, едкую вонь
которой можно было сравнить с дизельными выхлопами после чистого воздуха. Но
то, что курил Сталин, имело богатый и полный вкуса аромат, который,
казалось, можно нарезать ломтями и подавать на блюде на ужин.
-- Турецкий? -- спросил он.
-- Вообще-то нет, -- ответил Сталин. -- Американский -- подарок
президента Халла. Более слабый, чем мне нравится, но в своем роде неплохой.
А вскоре будет и турецкий. Поскольку северный берег Черного моря находится
под полным нашим контролем, возобновится движение судов, и мы начнем
поставки по железной дороге из Армении и Грузии.
И как обычно, упомянув свою родину, он посмотрел на Молотова лукавым
взглядом, как бы напоминая о своем происхождении. Не склонный к безрассудным
действиям, Молотов промолчал. Сталин снова выпустил клуб дыма и продолжил:
-- И конечно, нам также потребуется выработать подходы к торговле с
ящерами.
-- Товарищ генеральный секретарь? -- спросил Молотов.
Скачки мысли Сталина оставляли логику далеко позади. Иногда это
приносило советскому государству большие выгоды: так, безжалостная
индустриализация, объекты которой оказались за пределами дальности действия
нацистской авиации, помогла спасти СССР во время войны с Германией. Конечно,
противостоять нападению было бы легче, если бы не убежденность Сталина в
том, что все, кто предостерегал его о скором нашествии гитлеровцев, лгали.
Нельзя было сказать наперед, можно ли довериться интуиции. Оставалось только
ждать. А когда речь шла о судьбе советского государства, процесс ожидания
был очень нервным.
-- Торговля с ящерами нужна, -- повторил Сталин словно неразумному
дитяти. -- В регионах, которые они занимают, не производится все то, что им
требуется. Мы будем снабжать их сырьем, которого им будет недоставать. Как
социалисты мы не можем быть хорошими капиталистами и при обмене будем сильно
проигрывать -- пока не начнем использовать производимые ими товары.
-- А-а. -- Молотов начал понимать. На этот раз, похоже, интуиция
Сталина сработала как надо. -- Вы хотите, чтобы мы начали копировать их
методы и приспосабливать их для наших нужд.
-- Правильно, -- сказал Сталин. -- Мы должны были делать то же самое с
Западом после Октябрьской революции. Нацисты нанесли нам тяжелый удар, но мы
выдержали. Теперь мы -- и все человечество -- отдали половину мира ящерам в
обмен на будущее для следующего поколения.
-- До того, как придет флот колонизации, -- сказал Молотов.
Да, логика подкрепляла интуицию Сталина в основательности причин для
торговли с ящерами.
-- До того, как придет флот колонизации, -- согласился Сталин. -- Нам
потребуется еще больше собственных бомб, нам понадобятся ракеты, нам
понадобятся считающие машины, которые почти думают, нам нужны корабли,
которые летают в пространстве, так чтобы ящеры не могли смотреть на нас
сверху без того, чтобы и мы не следили за ними. У ящеров все это есть.
Капиталисты и фашисты находятся на пути получения этого. Если мы отстанем,
они похоронят нас.
-- Иосиф Виссарионович, я думаю, вы правы, -- сказал Молотов.
Он сказал бы это в любом случае, независимо от того, прав Сталин или не
прав. Если бы он в самом деле считал, что тот не прав, он стал бы искать
пути и способы добиться того, чтобы последнее решение ушло в песок, прежде
чем вступит в силу. Это было опасно, но временами необходимо: что было бы
сейчас с Советским Союзом, если бы Сталин ликвидировал всех ученых в стране,
которые хоть что-то понимали в ядерной физике? "Под пятой ящеров", --
подумал Молотов.
Сталин воспринял согласие Молотова как должное.
-- Конечно, я прав, -- самодовольно сказал он. -- Я сейчас не
представляю себе, как мы сможем препятствовать высадке флота колонизации, но
одну вещь мы должны помнить -- и это самое главное, Вячеслав Михайлович:
количество ящеров просто увеличится, но не произойдет ничего принципиально
нового.
-- Совершенно верно, товарищ генеральный секретарь, -- осторожно
согласился Молотов.
И снова Сталин опередил его на шаг.
Правда, на этот раз дело было не в интуиции. В то время как Молотов
торговался с ящерами, Сталин, должно быть, работал над решениями по
социальному и экономическому развитию.
-- Это неизбежно, что они не будут иметь ничего принципиально нового.
Марксистский анализ показывает, что так и должно быть. Несмотря на всю свою
технику, они являются представителями древней экономической модели, которая
полагается на рабов -- в том числе и частично механических, а частично на
расы, которые они себе подчинили, -- и создает зависимый высший класс. Такое
общество без всяких исключений крайне консервативно и сопротивляется
обновлению любого вида. И за счет этого мы сможем победить их.
-- Как это правильно аргументировано, Иосиф Виссарионович! -- сказал
Молотов с неподдельным восхищением. -- Михаил Андреевич не смог бы
обосновать это более убедительно.
-- Суслов? -- Сталин пожал плечами. -- Небольшой вклад в эти
рассуждения он тоже внес, но основная идея, конечно, моя.
-- Конечно, -- согласился Молотов, сохраняя, как всегда,
невозмутимость. Он подумал, что молодой идеолог партии мог бы не согласиться
с авторством, но не имел намерения спрашивать. В любом случае это не имело
значения. Не имеет значения, кто сформулировал идею, главное, что она в
русле учения, в которое Молотов верил. -- И как показывает диалектика,
товарищ генеральный секретарь, история -- на нашей стороне!
* * *
Наслаждаясь летней погодой, Сэм Игер прогуливался по Центральной авеню
Хот-Спрингс. Он наслаждался также и тем, что мог в любой момент спрятаться
от летней погоды. Надпись на стекле заведения "Гриль Юга" гласила: "Наше
кондиционирование с охлаждением воздуха работает снова". Визг и шум
вентиляторов и компрессоров служили подтверждением.
Он повернулся к Барбаре.
-- Хочешь зайти сюда на небольшой ланч? Она посмотрела на надпись,
затем отпустила одной рукой коляску Джонатана.
-- Подергай мне руку, -- сказала она. Сэм так и сделал. -- О, мерси! --
вскрикнула она, но не очень громко, потому что Джонатан спал.
Сэм подержал дверь открытой, пропуская ее.
-- Самый лучший известный мне знак внимания.
Он последовал за ней.
В ресторане они мгновенно расстались с летом. Кондиционирование воздуха
по-настоящему охлаждало его: Сэм почувствовал себя так, как будто наступил
ноябрь в Миннесоте. Он испугался, не превратится ли пот на его теле в мелкие
льдинки.
Официант-негр с галстуком-бабочкой появился как по волшебству, держа
меню под мышкой.
-- Следуйте за мной, сержант и мэм, -- сказал он. -- Я проведу вас в
кабину, где вы сможете припарковать эту коляску рядом.
Вздохнув от удовольствия, Сэм сел на каштанового цвета диванчик из
искусственной кожи. Он показал на свечу в подсвечнике, а затем на
электрические огни в люстре над головой.
-- Теперь свеча снова стала украшением, -- сказал он. -- Ты скажешь,
что так и должно быть. Но когда не было ничего лучшего, приходилось
использовать свечи для освещения... -- Покачал головой. -- Мне это не
нравилось.
-- И мне тоже. -- Барбара открыла меню и ойкнула от удивления. --
Посмотри-ка на цены!
С некоторым опасением Сэм занялся изучением списка. Он подумал, не
придется ли им влезть в долги, когда они выйдут из ресторана. В бумажнике у
него было около двадцати пяти долларов: армейское жалование не поспевало за
инфляцией. Собственно, он решил, что разок можно поесть и здесь, только
потому, что большей частью питался бесплатно.
Барбара не сказала ему, насколько поднялись цены. Все оказалось
примерно на треть дешевле, чем он ожидал, а написанное от руки добавление
рекомендовало холодное пиво "Будвайзер".
Он удивился дешевизне, когда вернулся официант.
-- Да, сэр, это первая поставка из Сент-Луиса, -- ответил негр. --
Только вчера пришла. Начинаем получать то, чего не видели с самого прихода
ящеров. Все становится лучше, вот так.
Сэм глянул на Барбару. Дождавшись ее кивка, он заказал два
"Будвайзера". Красно-белая с голубым этикетка заставила их улыбнуться.
Официант церемонно разлил пиво. Барбара высоко подняла свой бокал.
-- За мир, -- сказала она.
-- Присоединяюсь.
Сэм отпил первый глоток и почмокал губами. Отпил снова и задумался.
-- Ты знаешь, дорогая, после того как последние пару лет я пил большей
частью домашнее пиво, я бы не сказал, что это мне нравится больше. Не тот
букет, ты понимаешь, что я имею в виду?
-- О, хорошо понимаю, -- сказала Барбара. -- Если бы я одна так думала,
то сочла бы, что это из-за моего невежества по части пива. Но это не
означает, что я не могу пить "Будвайзер". -- И она тут же подкрепила слова
действием. -- И как хорошо снова увидеть знакомую бутылку -- все равно что
встретить старого друга, вернувшегося с войны.
-- Да...
Игер задумался, как там поживают Остолоп Дэниелс и остальные игроки
"Декатур Коммодорз", ехавшие вместе с ним в поезде по северному Иллинойсу,
когда ящеры нанесли первый удар.
Официант поставил гамбургер перед ним и сэндвич с ростбифом -- перед
Барбарой. Затем с радостной улыбкой водрузил на стол между ними полную
бутылку кетчупа "Хайнц".
-- Это мы получили сегодня утром, -- сказал он. -- Вы будете первыми,
кто его пробует.
-- Хочешь? -- спросил Сэм. Он передал бутылку Барбаре, чтобы она первой
попробовала его. Кетчуп вел себя точь-в-точь как положено -- не желал
выливаться из бутылки. Но когда он все-таки выпрыгнул, его оказалось слишком
много -- хотя после почти двух лет отсутствия разве могло быть его слишком
много?!
Смазав свой гамбургер, Сэм откусил большой кусок. Глаза его полезли на
лоб от блаженства. В отличие от "Будвайзера" в гамбургере он не
разочаровался [Неприхотливый народ... -- Прим. ред.].
-- M-м... м-м-м... -- сказал он с набитым ртом. -- Это настоящий
"Маккой".
-- M-м... хм-м-м, -- согласилась Барбара, проявив такой же энтузиазм и
такие же дурные манеры.
Сэм расправился с гамбургером в несколько укусов, затем добавил кетчупа
в овсянку, которая заняла место французского жаркого. Обычно он этого не
делал. И насколько он знал, никто этого не делал: настоящий южанин, который
увидел бы такое варварство, вероятно, выгнал бы его из города. Но сегодня
Сэма это не волновало. Он радовался каждому глотку сладко-кислого томатного
вкуса. Кстати, Барбара проделала то же самое, и он улыбнулся, сочтя свое
поведение оправданным.
-- Еще пива? -- спросил официант, собирая тарелки.
-- Да, -- сказал Сэм, снова бросив взгляд на Барбару. -- Но почему бы
вам на этот раз не принести особого местного? Я рад видеть "Будвайзер", но
он не так хорош, как мне помнится.
-- Вы, наверно, уже четвертый человек, который это говорит сегодня,
сэр, -- заметил негр. -- Я вам сейчас же принесу гордость Хот-Спрингс.
Едва он поставил перед Сэмом и Барбарой бокалы с местным пивом -- более
темного и богатого янтарного цвета, чем у "Будвайзера", -- как проснулся и
завозился Джонатан. Барбара вынула его из коляски и взяла на руки, малыш
сразу успокоился.
-- Ты ведь хороший мальчик, ты дашь нам доесть ланч, -- сказала она
ему. Затем она проверила его. -- Ты даже сухой. Очень скоро я и тебя
покормлю. -- Она посмотрела на Сэма. -- И может быть, очень скоро я смогу
начать кормить его смесями из бутылки.
-- Ух-ух, -- сказал Сэм. -- Если так пойдет и дальше, то, наверное, уже
недалеко время, когда он начнет пить обычное молоко.
Он улыбнулся сыну, который хватался за бутылку Барбары. Она отодвинула
ее подальше. Джонатан собрался заплакать, но Сэм состроил ему рожицу, и
малыш засмеялся.
-- В каком же безумном мире ему придется расти.
-- Я только надеюсь, что это будет _мир_, -- сказала Барбара, положив
руку на головку ребенка. Джонатан попытался ухватить ее палец и засунуть в
рот. В эти дни Джонатан хватал и совал в рот все, что попадется. -- Мир с
бомбами, ракетами, газом... -- Она покачала головой. -- Флот колонизации
ящеров достигнет Земли, когда Джон будет еще молодым человеком. Кто знает,
что произойдет тогда?
-- Ни ты, ни я и никто, -- сказал Сэм. -- Даже ящеры не знают.
Цветной официант положил на стол счет. Сэм вынул из заднего кармана
бумажник, вытащил десятку, пятерку и еще два доллара -- неплохие чаевые
официанту. Барбара положила Джонатана обратно в коляску. Когда она повезла
ребенка к двери, Сэм закончил свою мысль:
-- Нам остается только ждать и смотреть, что получится, больше ничего.
Гарри ТАРТЛДАВ
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ
Harry TURTLEDOVE
THE WORLDWAR SAGA: STRIKING THE BALANCE
Copyright © 1996 by Harry Turtledove
Легко скользнув в невесомости, адмирал Атвар завис над голографическим
проектором. Он тронул рычажок на корпусе прибора. Изображение, которое
появилось над проектором, было послано с Тосев-3 на Родину зондами Расы
восемь местных столетий назад.
Воин -- Большой Урод -- сидел верхом на животном. Он был облачен в
кожаные сапоги, ржавую кольчугу и помятый железный шлем; тонкая одежда,
сотканная из растительных волокон и окрашенная в синий цвет соками растений,
защищала броню от жара звезды, которую Раса называла Тосев. Для Атвара --
как и для любого самца Расы -- Тосев-3, третья планета звезды, был холодным
местом, но местные жители так, видимо, не считали.
Длинное копье с железным наконечником торчало вверх из утолщения на
устройстве, которое воин использовал, чтобы удерживаться на спине животного.
Еще у воина был щит с нарисованным на нем крестом, на поясе висели длинный
прямой меч и пара ножей.
У тосевита можно было рассмотреть как следует только лицо и одну руку.
Но и этого было достаточно, чтобы понять, что он такой же волосатый или,
может, даже шерстистый, как животное, на котором он сидит. Густой жесткий
желтый мех покрывал подбородок Большого Урода и место на лице вокруг рта;
полоски меха виднелись и над обоими его плоскими неподвижными глазами.
Тыльную сторону руки покрывал редкий слой волос.
Атвар прикоснулся к своей ровной чешуйчатой коже. Каждый раз, глядя на
всю эту шерсть, он удивлялся, почему Большие Уроды не чешутся ежеминутно.
Оставив один глаз нацеленным на тосевитского воина, он повернул второй в
сторону Кирела, командира корабля "127-й Император Хетто".
-- Вот это и есть враг, к противостоянию с которым мы готовились, --
горько сказал он.
-- Истинно так, благородный адмирал, -- сказал Кирел. Раскраска его
тела была почти такой же многоцветной и сложной, как и у Атвара, и,
поскольку он командовал флагманским кораблем флота вторжения, выше его по
рангу был только главнокомандующий флотом.
Атвар стукнул по рычажку проектора левым указательным когтем. Большой
Урод исчез. Вместо него возникло прекрасное трехмерное изображение ядерного
взрыва, который разрушил тосевитский город Рим: Атвар узнал окружающую
местность. Но это могла быть и другая бомба -- та, что испарила Чикаго, или
Бреслау, или Майами, или авангард атакующих войск Расы к югу от Москвы.
-- И вместо того противника, о котором мы думали, на деле имеем вот
это, -- сказал Атвар.
-- Истинно так, -- повторил Кирел и в качестве печального комментария
сочувственно кашлянул.
Атвар издал долгий свистящий выдох. Стабильность и предсказуемость --
вот два столпа, на которых сотню тысяч лет покоилась Империя Расы;
стабильность и предсказуемость позволили Империи подчинить себе три
солнечные системы. На Тосев-3, казалось, не было ничего предсказуемого,
ничего устойчивого. Неудивительно, что Раса столкнулась здесь с такими
неприятностями. Большие Уроды вообще не подчинялись правилам, изученным
мудрецами Расы.
Еще раз вздохнув, адмирал Атвар снова нажал на рычажок.
Грозное облако ядерного взрыва исчезло. Но изображение, которое
заменило его, пугало гораздо сильнее. Это была сделанная со спутника
фотография базы, которую Раса устроила в регионе СССР, известном местным
жителям как Сибирь -- а суровый климат Сибири даже Большие Уроды считали
ужасным.
-- Мятежники по-прежнему упорствуют в своем неподчинении должным
образом назначенным властям, -- мрачно проговорил Атвар. -- Хуже того,
коменданты двух ближайших баз выступили против того, чтобы направить своих
самцов на подавление восстания, опасаясь, что те перейдут на сторону
мятежников.
-- Это и в самом деле тревожно, -- сказал Кирел, еще раз сочувственно
кашлянув. -- Если мы используем самцов с дальней авиабазы, чтобы разбомбить
мятежников, решит ли это проблему?
-- Не знаю, -- ответил Атвар. -- Но, что пугает меня куда больше, я не
знаю, во имя Императора... -- он на мгновение опустил взгляд при упоминании
о суверене, -- как мятеж мог произойти вообще. Подчинение порядку и
объединение в общую систему Расы как в единое целое впечатывается в наших
самцов с того момента, как они вылупляются из яйца. Как они могли
перешагнуть через это?
Теперь вздохнул Кирел:
-- Борьба в этом мире разлагает моральные устои характера самцов так же
сильно, как здешняя океанская вода разъедает оборудование. Мы ввязались не в
ту войну, которую планировали перед отлетом из дома, и одного этого
достаточно, чтобы дезориентировать немалое количество самцов.
-- Вы совершенно правы, командир корабля, -- отметил Атвар. -- Вожак
мятежников -- низкорожденный водитель танка, только представьте себе это! --
потерял, оказывается, по крайней мере три комплекта самцов-сослуживцев: два
убиты, включая тот экипаж, с которым он участвовал на этой самой базе в
операциях против тосевитов, и третий -- арестованный и наказанный за
употребление имбиря.
-- По диким заявлениям этого Уссмака можно понять, что он сам тоже
употребляет имбирь, -- сказал Кирел.
-- Угрожает обратиться к Советам за помощью, если мы нападем на него,
это вы имеете в виду? -- спросил Атвар. -- Мы обязаны отговорить его. Если
он думает, что они помогут ему просто по доброй воле, значит, тосевитская
трава поистине отравила его разум. Если бы не наше оборудование, которое он
готов передать СССР, я сказал бы, что мы должны приветствовать его переход в
Большие Уроды.
-- Принимая во внимание ситуацию такой, какова она есть, господин
адмирал, надо решить, какого курса нам придерживаться?
Вопросительный кашель Кирела прозвучал с некоторым осуждением -- а
может быть, это совесть Атвара воздействовала на его собственную слуховую
перепонку.
-- Я пока не знаю, -- беспомощно проговорил адмирал.
Когда он впадал в сомнения, первым инстинктом, типичным для самца, было
-- ничего не делать. Дать ситуации развиться настолько, чтобы вы могли
понять ее более полно. Эта стратегия хорошо срабатывала на Родине, а также
на Работев-2 и Халесс-1, двух других населенных мирах, находящихся под
контролем Расы.
Но в противостоянии с тосевитами ожидание зачастую приводило к худшим
результатам, чем действия в отсутствие полной информации. Большие Уроды
действовали стремительно. Они не задумывались о долгосрочных последствиях. К
примеру, атомное оружие -- вначале оно помогло им. А если они опустошат
Тосев-3, что тогда?
Атвар не мог пустить на самотек это "что тогда". Колонизационный флот
уже находился в пути, покинув Родину. Адмирал не мог встретить его в мире,
который он сделал необитаемым в процессе победы над Большими Уродами. С
другой стороны, он не мог и бездействовать, и потому оказался в неприятном
положении, вынужденный реагировать на действия тосевитов, вместо того чтобы
перехватить у них инициативу.
Но у мятежников не было ядерного оружия, и они не были Большими
Уродами. Он мог бы оставить их в ожидании... если бы они не угрожали отдать
свою базу СССР. Когда имеешь дело с тосевитами, нельзя просто сидеть и
наблюдать. Большие Уроды никогда не довольствуются тем, чтобы дело кипело на
медленном огне. Они швыряют его в микроволновку и доводят до кипения как
можно скорее.
Поскольку Атвар больше ничего не сказал, Кирел попытался подтолкнуть
его:
-- Благородный адмирал, разве вы можете вести настоящие переговоры с
этими мятежными и бунтующими самцами? Их требования невозможны: им мало
амнистии и перевода в более теплый климат -- что само по себе уже достаточно
плохо, -- но они еще и требуют прекратить войну против тосевитов, чтобы
самцы больше не гибли "напрасно", если говорить их словами.
-- Нет, мы не можем позволить мятежникам диктовать нам условия, --
согласился Атвар. -- Это было бы недопустимо. -- Его рот раскрылся,
произведя горький смешок. -- И более того, по всем мыслимым меркам ситуация
на обширных просторах Тосев-3 нетерпима, и похоже, что наши силы не обладают
возможностью существенным образом улучшить ее. Что из этого следует,
командир корабля?
Одним из возможных ответов было -- новый главнокомандующий флотом.
Собрание командиров флота вторжения однажды уже пыталось сместить Атвара --
после того, как СССР взорвал первую тосевитскую бомбу из расщепляющегося
материала. Тогда заговор провалился. Если они попробуют сделать это снова,
то Кирел логически становится первым преемником Атвара. Адмирал ожидал
ответа своего подчиненного, и для него было важно не столько, _что_ он
скажет, а _как_ скажет.
Помедлив, Кирел ответил:
-- Если бы среди представителей Расы были сторонники тосевитов,
противостоящие всеобщей воле, -- конечно, Раса не могла породить таких
порочных сторонников, это говорится только в виде гипотезы, -- то их сила в
отличие от сил мятежников могла бы привести к необходимости вести
переговоры.
Атвар обдумал это. Кирел, в общем, был консервативным самцом и выразил
свое предложение консервативным образом, приравняв Больших Уродов к
аналогичным группировкам внутри Расы, и от такого уравнения чешуя Атвара
начала зудеть. Но предположение, как бы оно ни было сформулировано, было
более радикальным, чем то, которое Страха -- командир, возглавлявший
оппозицию против Атвара, -- когда-либо выражал вслух перед тем, как
дезертировать и перебежать к Большим Уродам.
-- Командир корабля, -- резко потребовал ответа Атвар, -- вы
высказываете то же предложение, что и мятежники: чтобы мы обсуждали с
тосевитами способы закончить нашу кампанию незадолго до полной победы?
-- Благородный адмирал, разве вы сами не сказали, что наши самцы,
похоже, не способны добиться полного завоевания Тосев-3? -- ответил Кирел,
по-прежнему четко соблюдая субординацию, но не отказываясь от своих идей. --
Если так, то не следует ли нам разрушить планету, чтобы быть уверенными, что
тосевиты никогда не смогут угрожать нам, или же...
Он остановился: в отличие от Страхи он обладал чувством такта и
понимал, как далеко можно зайти, не пересекая границу терпения Атвара.
-- Нет, -- ответил главнокомандующий, -- я отказываюсь допустить, что
приказы Императора не будут исполнены в точности. Мы будем защищаться в
северной части планеты, пока не улучшится их жуткая зимняя погода, а затем
возобновим наступление против Больших Уродов. Тосев-3 будет нашим.
Кирел распростерся в позе послушания, которая была принята в Расе.
-- Будет исполнено, благородный адмирал.
И снова ответ точно соответствовал субординации. Кирел не спрашивал,
как это должно быть сделано. Раса доставила сюда из Дома только ограниченное
количество материальных средств. Они были гораздо более высокого качества,
чем все, что использовали тосевиты, но запасы были ограничены. Как ни
старались пилоты Расы, танкисты, ракетчики и артиллеристы, они не смогли
разрушить производственные мощности Больших Уродов. Оружие, которое теперь
производили на Тосев-3, хотя и лучшего качества, чем то, которым они
обладали, когда Раса впервые высадилась на планете, оставалось варварским.
Но они продолжали выпускать его.
Некоторые боеприпасы можно было выпускать на заводах, захваченных у
тосевитов, и у звездных кораблей Расы тоже были свои производственные
мощности, и они могли бы сыграть решающую роль... в войне меньших масштабов.
Если учесть то, что грузовые корабли доставили с Родины, то по-прежнему
оставалась надежда адекватности вооружения для предстоящей кампании, да и
Большие Уроды тоже находились в тяжелом положении, вне всякого сомнения. Так
что победа, возможно, еще достижима.
Или, конечно... но Атвар не позаботился задуматься об этом.
* * *
Даже с флагом перемирия Мордехай Анелевич чувствовал себя нервно,
приближаясь к немецким укреплениям. После того, как он умирал от голода в
варшавском гетто, после того, как он возглавил в Варшаве еврейских бойцов
Сопротивления, поднявшихся против нацистов и оказавших помощь ящерам в
изгнании их из города, у него больше не было иллюзий. Он твердо знал, что
гитлеровские войска хотели сделать с его народом -- стереть с лица земли.
А ящеры хотели поработить всех, как евреев, так и гоев. Евреи не
понимали этого, когда поднялись против нацистов, но даже если и так, они не
стали бы особенно беспокоиться. По сравнению с уничтожением порабощение
выглядело не так уж плохо.
Немцы no-прежнему воевали с ящерами и бились упорно. Ни одна из сторон
не отрицала ни их военной доблести, ни технического искусства. Анелевич
издали наблюдал, как взорвалась ядерная бомба восточнее Бреслау. Если бы он
видел это с меньшего расстояния, он не шел бы сейчас торговаться с
нацистами.
-- Хальт!
Голос донесся словно из воздуха. Мордехай остановился. Через мгновение
из-за дерева, как по волшебству, появился немец в белом маскировочном халате
и окрашенной в белый цвет каске. Взглянув на немца, Анелевич, обряженный в
красноармейские валенки, польские военные брюки, мундир вермахта,
красноармейскую меховую шапку и гражданский овчинный полушубок, почувствовал
себя сбежавшим с распродажи случайных вещей. Его досаду усиливало еще и то,
что он нуждался в бритье. Губы немца скривились.
-- Это вы тот еврей, которого мы ожидаем?
-- Нет, я святой Николай, просто опоздал к Рождеству, -- ответил
Анелевич.
До войны он был студентом технического факультета и бегло говорил
по-немецки, но сейчас, чтобы позлить часового, ответил на идиш. Тот только
хмыкнул. Может быть, шутка не показалась ему забавной, а может быть, он
просто не понял ее. Он взмахнул винтовкой.
-- Пойдете со мной. Я доставлю вас к полковнику.
Это было то самое, ради чего Анелевич оказался здесь, но ему не
понравилось, как обошелся с ним часовой. Немец говорил так, будто у
Вселенной не было иного выхода. Может быть, это и в самом деле так.
Мордехай последовал за немцем через холодный и молчаливый лес.
-- Ваш полковник, должно быть, хороший офицер, -- сказал он тихо,
потому что обступивший лес угнетал его. -- Этот полк проделал большой путь
на восток после того, как вблизи Бреслау взорвалась бомба.
Это было одной из причин, по которой ему требовалось поговорить с
местным командиром, хотя он и не собирался объяснять подробности рядовому,
который, вероятно, принимал его за простую пешку.
Флегматичный, как старая корова, часовой ответил: "Да-а" -- и снова
замолк.
Они пошли по поляне мимо окрашенного в белый цвет танка "пантера". Двое
танкистов возились с двигателем. Глядя на них, слушая ругательства,
вызванные прикосновением кожи в промежутке между перчаткой и рукавом к
холодному металлу, вы могли бы подумать, что война не имеет отличий от
других видов механического промысла. Конечно, у немцев и убийство было
поставлено на промышленную основу.
Они миновали еще несколько танков. Большинство из них ремонтировалось.
Это были более крупные и сильные машины по сравнению с теми, что
использовались нацистами при завоевании Польши четыре с половиной года
назад. С тех пор нацисты многому научились, но и теперь их танки даже близко
не достигли такого уровня, чтобы их можно было сравнить с танками ящеров.
Двое мужчин готовили какое-то варево в небольшом котелке на алюминиевой
походной печке, поставленной на пару камней. Кушанье явно было мясным --
кролик, может быть и белка, а то и собака. Что бы там ни было, но пахло
вкусно.
-- Еврейский партизан доставлен, герр оберст, -- совершенно
безразличным голосом доложил часовой. Так лучше -- в голосе могло прозвучать
и презрение, пусть и незначительное.
Оба сидевших на корточках у печки подняли головы. Старший поднялся на
ноги. Очевидно, он и был полковником, хотя на его фуражке и мундире не было
знаков различия. Ему было лет сорок, лицо узкое, умное, несмотря на то, что
кожа загрубела от постоянной жизни на солнце и под дождем, а теперь еще и
под снегом.
-- Это вы? -- Анелевич раскрыл рот от удивления. -- Ягер!
Он видел этого немца больше года назад и всего в течение одного вечера,
но не мог забыть его.
-- Да, это я, Генрих Ягер. Вы знаете меня? -- Серые глаза
офицера-танкиста сузились, углубив сетку морщинок у их внешних краев. Затем
они расширились. -- Этот голос... Вы называли себя Мордехаем, так ведь?
Тогда вы были чисто побриты.
Он потер свой подбородок, в жесткой рыжеватой щетине которого
проглядывалась седина.
-- Вы знаете друг друга?
Это проговорил круглолицый человек помладше, дожидавшийся, когда будет
готов ужин. Голос его прозвучал разочарованно.
-- Вы можете сказать так, Гюнтер, -- усмехнувшись, ответил Ягер, в
последнее мое путешествие по Польше этот человек решил подарить мне
разрешение жить дальше. -- Его внимательные глаза бросили короткий взгляд на
Мордехая. -- Я думаю, сейчас он очень жалеет об этом.
Вкратце дело сводилось к следующему. Ягер перевозил взрывчатый металл,
украденный у ящеров. Мордехай отпустил его в Германию с половиной этой
добычи, отправив вторую половину в США. Теперь обе страны создавали ядерное
оружие. Мордехай радовался тому, что оно есть у Штатов. Радость по поводу
того, что и Третий Рейх получил его, была куда более сдержанной.
Гюнтер уставился на него.
-- Как? Он отпустил вас? Этот неистовый партизан?
Он говорил так, словно Анелевича здесь не было.
-- Он так поступил. -- Ягер снова окинул взглядом Мордехая. -- Я
ожидал, что у вас будет роль повыше этой. Вы могли бы управлять областью, а
то и целой страной.
Мордехай менее всего мог предположить, что в первую очередь нацист
подумает именно об этом. Он сокрушенно пожал плечами.
-- Одно время я был на таком посту. Но потом не все обернулось так,
как, по моим надеждам, должно было бы. Случается и такое.
-- Ящеры выявили, что вы за их спиной ведете кое-какие игры, не так ли?
-- спросил Ягер.
В прошлом, когда они встречались в Хрубешове, Анелевич понял, что тот
вовсе не был дураком. И сейчас ничего не сказал такого, что заставило бы
еврея изменить это мнение. И прежде, чем молчание стало бы неловким, немец
махнул рукой.
-- Впрочем, бросьте беспокоиться. Это не мое дело, и чем меньше я думаю
о том, что не является моими делами, тем лучше для всех. А чего вы хотите от
нас здесь и сейчас?
-- Вы наступаете на Лодзь, -- сказал Мордехай.
Лично ему казалось, что этот ответ сам по себе исчерпывающий. Но он
ошибся. Ягер нахмурился и произнес:
-- Вы правы, черт возьми. У нас не так часто бывает возможность
наступления на ящеров. Чаще они наступают на нас.
Анелевич тихо вздохнул. Вполне возможно, что немец не понимает, о чем
он говорит. Он начал издалека.
-- Вы ведь неплохо сотрудничали с партизанами здесь, в западной Польше,
не так ли, полковник?
Ягер был в чине майора, когда Мордехай встречался с ним в прошлый раз.
И хотя сам Анелевич с тех пор отнюдь не взлетел по карьерной лестнице, немец
по ней наверняка поднялся.
-- Да, это так, -- отвечал Ягер, -- почему бы и нет? Партизаны ведь
тоже люди!
-- Среди партизан много евреев, -- сказал Мордехай. Подход издалека
явно не сработал, и он резанул напрямую: -- В Лодзи остается еще немало
евреев, в том самом гетто, которое вы, нацисты, создали для того, чтобы
морить нас голодом, до смерти мучить на тяжелых работах и вообще уничтожать
нас. Когда вермахт войдет в Лодзь, через двадцать минут после этого там
появятся эсэсовцы. И в ту секунду, когда мы увидим первого эсэсовца, мы
снова перейдем к ящерам. Мы не хотим, чтобы они победили вас, но еще меньше
мы желаем, чтобы нас победили вы.
-- Полковник, почему бы мне не послать этого паршивого еврея подальше
хорошим пинком в зад? -- спросил молодой Гюнтер.
-- Капрал Грилльпарцер, когда мне понадобятся ваши предложения, будьте
уверены, что я обращусь к вам, -- произнес Ягер голосом гораздо более
холодным, чем все снега в округе.
Когда он снова повернулся к Мордехаю, на лице его было написано
смятение. Он знал кое-что о зверствах, которые творили немцы с евреями,
попавшими в их лапы, знал и не одобрял. В вермахте таких было немного, и
Анелевич радовался, что его партнер в переговорах -- именно этот немец. Но
тот по-прежнему смотрел на проблему со своей точки зрения.
-- Вы хотите, чтобы мы отказались от рывка, который дал бы нам выигрыш.
Это трудно оправдать.
-- Я вам скажу, что вы потеряете ровно столько, сколько выиграете, --
ответил Анелевич, -- вы получите от нас информацию о том, что делают ящеры.
Если нацисты войдут в Лодзь, то ящеры будут получать от нас информацию обо
всем, что касается вас. Мы знаем вас слишком хорошо. Мы знаем, что вы
делаете с нами. И вдобавок мы прекратим саботаж против ящеров. Вместо этого
мы будем нападать и стрелять в вас.
-- Пешки, -- пробормотал сквозь зубы Гюнтер Грилльпарцер. -- Дерьмо,
все, что нам надо, так это повернуть против них поляков, а те уж
позаботятся.
Ягер начал орать на своего капрала, но Анелевич схватил его за руку.
-- Теперь это не так-то просто. Когда война только начиналась, у нас не
было оружия и мы не очень-то умели с ним обращаться. Теперь не то. У нас
оружия больше, чем у поляков, и мы перестали стесняться отвечать огнем,
когда кто-нибудь в нас стреляет. Мы можем нанести вам ущерб.
-- Доля правды в этом есть -- у меня был случай убедиться, -- сказал
Ягер, -- но, думаю, Лодзь следует взять. Мы немедленно получим преимущество,
достаточное, чтобы оправдать нападение. Помимо всего прочего, это передовая
база ящеров. Чем я буду оправдываться, если обойду этот город?
-- Как там говорят англичане? На пенни мудрости да на фунт глупости!
Это о вас, если вы начнете снова ваши игры с евреями, -- отвечал Мордехай.
-- Вам нужно, чтобы мы работали с вами, а не против вас. Неужели вам мало
досталось от средств массовой информации после того, как весь мир узнал, что
вы творили в Польше?
-- Меньше, чем вам кажется, -- сказал Ягер ледяным тоном, и лед этот
предназначался Мордехаю. -- Многие, кто слышал об этом, не верят.
Анелевич закусил губу. Он знал, что Ягер говорит чистую правду.
-- По вашему мнению, они не верят потому, что не доверяют сообщениям
ящеров, или потому, что думают, что люди не могут быть такими злодеями?
На это Гюнтер Грилльпарцер снова выругался и приказал часовому, который
привел Мордехая в лагерь, повернуть винтовку так, чтобы ствол ее смотрел в
сторону еврея.
Генрих Ягер вздохнул.
-- Вероятно, и то и другое, -- сказал он, и Мордехай оценил его честный
ответ, -- хотя "отчего" и "почему" сейчас особого значения не имеют. А вот
"что" -- это важно. Если, допустим, мы обойдем Лодзь с севера и с юга, а
ящеры врежутся в одну из наших колонн за пределами города, фюрер не очень
порадуется этому.
И он закатил глаза, чтобы дать понять, насколько далеко он зашел в
своем допущении.
Единственное, что Адольф Гитлер мог сделать радостного для Анелевича,
-- это отправиться на тот свет, и лучше, чтобы это произошло еще до 1939
года. Тем не менее еврейский лидер понял, о чем говорит Ягер.
-- Если вы, полковник, обойдете Лодзь с севера и юга, я обеспечу, чтобы
ящеры не смогли организовать серьезной атаки на вас.
-- Вы в состоянии это обеспечить? -- спросил Ягер. -- Вы по-прежнему
можете сделать так много?
-- Я так считаю, -- ответил Анелевич. В голове мелькнуло: "Я надеюсь".
-- Полковник, я не собираюсь говорить о том, чем вы обязаны мне... --
(Конечно, он не собирался говорить об этом, он просто уже об этом говорил),
-- но хочу сказать, между прочим: то, что я добыл тогда, смогу добыть и
теперь. А вы?
-- Не знаю, -- ответил немец.
Он взглянул на кастрюлю с варевом, достал ложку и миску, отмерил
порцию. И, вместо того чтобы приняться за еду, протянул алюминиевую миску
Мордехаю.
-- В тот раз ваши люди кормили меня. Теперь я могу покормить вас. --
Спустя мгновение он добавил: -- Это мясо куропатки. Мы подстрелили пару штук
нынче утром.
Анелевич, поколебавшись, зачерпнул ложкой еду. Мясо, каша или ячменные
зерна, морковь и лук -- все это он проворно проглотил.
Закончив, он вернул миску и ложку Ягеру, который протер их снегом и
взял порцию для себя.
Жуя, немец проговорил:
-- Я поразмыслю над тем, что вы мне сказали. Я не обещаю, что все
получится, но сделаю все, что в моих силах. И что я еще скажу, Мордехай:
если мы окружим Лодзь, вам стоит выполнить ваше обещание. Доказать, что
сотрудничество с вами полезно, убедить ценностью того, что вы сообщите.
Пусть люди, стоящие надо мной, захотят попробовать сотрудничать с вами
снова.
-- Понимаю, -- ответил Анелевич, -- но это относится и к вам. Добавлю:
если после этого дела вы проявите вероломство с вашей стороны, то вам не
понравятся партизаны, которые появятся в ваших тылах.
-- Я понимаю, -- сказал Ягер. -- Чего бы ни хотели мои начальники... --
Он пожал плечами. -- Я уже сказал, что сделаю все, что в моих силах. По
крайней мере, я даю вам слово. А оно стоит дорого.
Он тяжело уставился на Анелевича, словно вызывая его на возражение.
Анелевич не принял вызова, и немец кивнул. Затем тяжело выдохнул и
продолжил:
-- В конце концов, войдем мы в Лодзь или обойдем ее, значения не имеет.
Если мы захватим территорию вокруг города, он все равно падет, раньше или
позже. И что произойдет потом?
Он был совершенно прав. При таком раскладе будет только хуже, а не
лучше. Анелевич отдал ему должное -- волнение его казалось искренним. А
Гюнтер Грилльпарцер, казалось, готов был расхохотаться. Впустите группу
солдат, таких как он, в Лодзь и увидите, что результаты не обманут ваших
ожиданий.
-- Что произойдет потом? -- Мордехай тоже вздохнул. -- Просто не
представляю.
* * *
Уссмак занял кабинет командира базы, ставший теперь "его" кабинетом, --
но до сих пор сохранял раскраску тела, положенную водителю танка. Он убил
Хисслефа, командовавшего гарнизоном на этой базе, в регионе СССР названном
"Сибирь". Уссмак подумывал, не означает ли "Сибирь" по-русски "сильный
мороз"? Большой разницы между ними он не видел.
Вместе с Хисслефом погибло много его ближайших подчиненных, их убили
остальные самцы, которых охватило бешенство после первого выстрела Уссмака.
Во многом выстрел и последовавший взрыв бешенства были вызваны имбирем. Если
бы у Хисслефа хватило ума разрешить самцам собраться в общем зале и там
громко пожаловаться друг другу на войну, на Тосев-3 и в особенности на эту
гнусную базу, то он, скорее всего, остался бы в живых. Но нет, он ворвался,
как буря, намереваясь разогнать их, не считаясь ни с чем, и вот... его труп,
окоченелый и промерзший -- вернее, в этой сибирской зиме _жутко_ окоченелый
и _жутко_ промерзший, -- лежит за стенами барака и дожидается более теплого
времени для кремации.
-- Хисслеф был законным командиром, а вот ведь что случилось с ним, --
проговорил Уссмак. -- Что же тогда будет со мной?
За ним не стоял авторитет тысячелетней императорской власти,
заставлявший самцов выполнять любые приказы почти инстинктивно. А значит,
либо он должен быть абсолютно прав, приказывая что-либо, либо ему придется
заставлять самцов на базе повиноваться ему из страха перед тем, что случится
с ними при неповиновении.
Он раскрыл рот и горько рассмеялся.
-- Я тоже мог бы стать Большим Уродом, правящим не-империей, -- сказал
он, обращаясь к стенам.
Они должны править, опираясь на страх, -- у них ведь нет традиций
законной власти. Теперь он испытывал симпатию к ним. Всем нутром он
чувствовал, как это трудно.
Уссмак открыл шкаф, в который был встроен рабочий стол Хисслефа, и
вытащил сосуд с порошком имбиря. Это был "его" порошок, слава Императору
(Императору, против офицеров которого он восстал, хотя и старался не думать
об этом). Он выдернул пластиковую пробку, высыпал немного порошка на ладонь
и, высунув длинный раздвоенный язык, принялся слизывать, пока весь порошок
не исчез.
Веселое настроение пришло сразу же, как это бывало всегда. Отведав
имбиря, Уссмак чувствовал себя сильным, быстрым, умным, непобедимым. Разумом
он понимал, что ощущения на самом деле были всего лишь иллюзией, исключая
разве только обострение чувств. Когда он вел свой танк в бой, он
воздерживался от имбиря до возвращения: ведь когда вы чувствуете, что вы
непобедимы, а на самом деле это не так, -- шансы быть убитым увеличиваются.
Он видел, как много раз это случалось с другими самцами, и старался
вспоминать об этом пореже.
Впрочем, теперь...
-- Теперь я буду пробовать все, что смогу, потому что не хочу думать о
том, что произойдет потом, -- сказал он.
Если командующий флотом захочет разбомбить базу с воздуха, Уссмак и его
товарищи по мятежу не смогут защититься, потому что не располагают
противовоздушными снарядами. Он не сможет сдаться законной власти, потому
что перешел грань, когда убил Хисслефа, -- как и его последователи,
совершившие множество убийств.
Но и держаться неопределенно долго он тоже не в силах. На базе вскоре
придут к концу запасы продовольствия и водородного топлива -- для обогрева.
Пополнения запасов не предвидится. Он не думал об этом, направляя личное
оружие на Хисслефа. Он думал только о том, чтобы тот заткнулся.
-- Это все из-за имбиря, -- раздраженно сказал он, хотя голова гудела,
когда он произносил слова вслух, -- я от него становлюсь таким же
близоруким, как Большие Уроды.
Он боялся передать базу и все, что на ней было, Большим Уродам из СССР.
Он не знал, что произойдет, если дело дойдет до сдачи. Русские давали
множество обещаний, но что они выполнят, когда он попадет им в когти?
Слишком много натворил он в боях с Большими Уродами, чтобы доверять им.
Конечно, если он не сдаст базу русским, они вполне в состоянии отнять
ее сами. Холод мешает им гораздо меньше, чем Расе. Страх перед нападением
Советов и до мятежа преследовал всех днем и ночью. Сейчас положение стало
еще хуже.
-- Никто не хочет делать тяжелую работу, -- проговорил Уссмак.
Выходить на жестокий мороз, чтобы убедиться, что русские не подобрались
к баракам, готовясь к обстрелу из минометов, никому не хотелось, но если
самцы не будут выполнять это задание, они обречены. Многие не задумывались
над этим. Сюда их привел Хисслеф, но он обладал законной властью. У Уссмака
ее не было, и он хорошо чувствовал это.
Он включил радио, стоявшее на столе, и принялся нажимать кнопки поиска
станций. Некоторые передачи принадлежали Расе; другие, тонувшие в шуме
помех, доносили нераспознаваемые слова Больших Уродов. Вообще-то ему не
хотелось слушать ни тех ни других, он чувствовал себя страшно далеким от
всех.
Затем, к своему удивлению, он поймал передачу, которая как будто была
тосевитской, но ведущий не просто говорил на его родном языке -- он явно был
самцом Расы! Ни один из тосевитов не мог избежать акцента, раздражающего или
просто забавного. А этот самец, судя по тому, как он говорил, занимал
довольно высокое положение.
-- ...снова говорю вам, что войну ведут идиоты с причудливой раскраской
тела. Они не предусмотрели ни одной трудности, с которой встретится Раса при
попытке завоевать Тосев-3, а когда они узнали об этих трудностях, что они
предприняли? Да ничего, во имя Императора! Нет, только не Атвар и его клика
облизывателей клоак. Они лишь утверждали, что Большие Уроды -- просто
дикари, вооруженные мечами, какими мы их считали, отправляясь в путь из
Дома. Сколько добрых, смелых и послушных самцов погибло из-за их упрямства?
Подумайте об этом те, кто еще жив.
-- Истинная правда! -- воскликнул Уссмак.
Кто бы ни был этот самец, он понимал, как обстоит дело. И он имел
представление о картине войны в целом. Уссмак слышал передачи с участием
пленных самцов и раньше. Большинство из них лишь патетически повторяли
фразы, написанные тосевитами. Получалась слабая неубедительная пропаганда. А
этот самец выступал так, будто он сам подготовил свой материал, и радовался
каждому оскорблению, которое он адресовал командующему флотом. Уссмак
пожалел, что пропустил начало передачи, он мог бы узнать имя и ранг
выступавшего. Тот продолжал говорить:
-- Повсюду на Тосев-3 самцы все чаще проникаются мыслью, что
продолжение этого бесполезного кровавого конфликта -- страшная ошибка.
Многие бросили оружие и сдались тосевитам той империи или не-империи,
которую они пытались отвоевать. Большинство тосевитских империй и не-империй
хорошо относятся к пленникам. Я, Страха, командир корабля "Двести Шестой
Император Йоуэр", могу лично подтвердить это. Взбалмошный дурак Атвар
собирался уничтожить меня за то, что я осмелился противостоять его
бессмысленной политике, но я сбежал в Соединенные Штаты и ни на мгновение не
пожалел об этом.
Страха! Уссмак повернул оба глаза к радиоприемнику. Страха был третьим
по рангу самцом во флоте вторжения. Уссмак знал, что он перебежал к Большим
Уродам, но не знал точно, по какой причине, -- поймать предыдущие передачи
командира ему не удавалось. Он вцепился когтями в лист бумаги, раздирая ее
на полосы. Страха говорил правду и вместо награды за это, как следовало бы,
-- пострадал.
Тем временем беглый командир продолжил:
-- Сдача тосевитам -- не единственный ваш выбор. Я слышал сообщение о
бравых самцах из Сибири, которые, устав от бесконечных приказов и не желая
выполнять невозможное, восстали -- ради свободы -- против своих, введенных в
заблуждение, командиров. Теперь они управляют своей базой независимо от
дурацких планов, которые составляются самцами, комфортно устроившимися
высоко над Тосев-3 и считающими себя мудрыми. Вы, кто слышит мой голос,
игнорируйте приказы, бессмыслицу которых вы можете видеть даже одним глазом,
причем закрытым перепонкой. Убеждайте ваших офицеров. Если это не поможет,
подражайте смельчакам из Сибири и добывайте себе свободу. Я, Страха,
закончил.
Голос командира сменили помехи. Уссмак почувствовал себя даже более
сильным и живым, чем после имбиря. Он понимал, что наслаждения, которое он
испытывал от интоксикации, в действительности не существует. А вот то, что
сказал Страха, было реальным, каждое слово. С самцами на этой планете
обходились подло, ими жертвовали без должной цели -- и без всякой цели
вообще, как мог бы подтвердить Уссмак.
Страха сказал также кое-что крайне важное. Когда он разговаривал с
самцами, находящимися на орбите, то он угрожал, что сдаст базу местным
Большим Уродам, если Раса не примет его требований или атакует мятежников.
Он колебался, не решаясь предпринять нечто большее, чем угрозы, поскольку не
знал, как Советы будут относиться к самцам, которых захватят. Но Страха
развеял его сомнения. Уссмак не очень разбирался в тосевитской географии, но
знал, что Соединенные Штаты и СССР -- это две из самых больших и сильных
не-империй на Тосев-3.
Если Соединенные Штаты хорошо обращаются с захваченными самцами,
несомненно, что и СССР должен делать то же самое. Уссмак удовлетворенно
присвистнул.
-- Теперь у нас есть новое оружие против вас, -- проговорил он и
повернул оба глаза в сторону звездных кораблей, все еще находящихся на
орбите вокруг Тосев-3.
Рот его раскрылся. Немного же знают эти самцы на орбите о Больших
Уродах.
* * *
Сэм Игер посмотрел на ракетный двигатель, с огромным трудом собранный
из частей, которые были изготовлены на заводах в маленьких городках по всему
Арканзасу и южной части штата Миссури. Двигатель выглядел "грубо" -- это
самое вежливое выражение, которое могло прийти в голову. Сэм вздохнул.
-- Однажды увидев, что способны сделать ящеры, вы понимаете: все, что
делают люди, -- просто мелочь в сравнении с этим. Не обижайтесь, сэр, --
поспешно добавил он.
-- Вовсе нет, -- ответил Роберт Годдард. -- Признавая факт, я
соглашаюсь с вами. Мы делаем все, что можем.
Его серое усталое лицо говорило, что он делает даже больше -- он
работал, не щадя себя. Игер беспокоился о нем.
Он обошел вокруг двигателя. Рядом с деталями двигателя челнока ящеров,
на котором Страха спустился, чтобы сдаться в плен, он покажется детской
игрушкой. Сэм снял форменную фуражку, провел рукой по светлым волосам.
-- Вы думаете, это полетит, сэр?
-- Единственный способ проверить -- запустить и посмотреть, что
получится, -- сказал Годдард. -- Если нам повезет, мы сможем провести
испытания на земле до того, как обернем его листовым металлом и прикрепим
сверху взрывчатку. Проблема в том, что испытания ракетного двигателя --
совсем не то, что вы могли бы назвать не бросающимся в глаза, и вскоре ящеры
не заставят себя ждать.
-- Это уменьшенная копия двигателя челнока ящеров, -- сказал Игер. --
Весстил думает, что эго дает неплохую гарантию успеха.
-- Весстил знает о летающих ракетах больше, чем кто-либо из людей, --
сказал Годдард с усталой улыбкой. -- Достаточно было видеть, как он летел со
Страхой с его звездного корабля, когда тот дезертировал. Но Весстил не
особенно разбирается в инженерном деле, по крайней мере типа "отрежь и
попробуй". Все меняется, когда вы изменяете масштаб в большую или меньшую
сторону, и вам приходится испытывать новую модель, чтобы увидеть, какая
чертовщина у вас получилась. -- Он лукаво хмыкнул. -- А у нас ведь ни в коем
случае не простое уменьшение масштаба, сержант: мы должны были приспособить
конструкцию к тому, что нам нужно и что мы умеем.
-- Совершенно верно, сэр. -- Сэм почувствовал, его уши покраснели от
возбуждения. У него была очень тонкая кожа, и он боялся, что Годдард заметит
румянец. -- Черт меня побери, если я хотя бы подумаю, чтобы спорить с вами.
Годдард имел больше опыта в обращении с ракетами, чем кто-либо, кто не
был ящером или немцем, причем к немцам он уже приближался. Игер продолжил:
-- Если бы я не читал до войны дешевые журнальчики, я бы теперь не
работал с вами.
-- Вы извлекли пользу из того, что читали, -- отвечал Годдард. -- Если
бы вы этого не сделали, вы для меня были бы бесполезны.
-- Если бы вы провели столько времени, гоняя мяч, как я, сэр, вы бы
знали: когда ты видишь хоть малейший шанс, ты хватаешь его обеими руками,
потому что его можно и упустить.
Игер снова поскреб шевелюру. Он провел всю свою взрослую жизнь -- до
прихода ящеров, -- гоняя мяч в какой-то низшей лиге. Сломанная десять лет
назад лодыжка подкосила его шансы перейти в высшую лигу, хотя он и продолжал
играть. Бесконечные переезды в автобусах и поездах от одного небольшого или
среднего города до другого... Он коротал время с "Эстаундинг" и другими
журналами научной фантастики, которые покупал в киосках. Товарищи по команде
смеялись над ним из-за того, что он читал об инопланетных чудовищах с
глазами насекомых. А теперь...
Теперь Роберт Годдард сказал:
-- Я рад, что он выпал вам, сержант. Думаю, с другим переводчиком я не
получил бы от Весстила столько информации. Дело не только в том, что вы
знаете его язык, вы еще по-настоящему чувствуете, что он старается изложить.
-- Благодарю, -- сказал Сэм, вырастая в собственных глазах. -- Как
только я получил шанс работать с ящерами, помимо стрельбы по ним, я понял,
что это именно то, чего я и хотел. Они -- очаровательны, вы ведь понимаете,
что я имею в виду.
Годдард покачал головой.
-- То, что они знают, опыт, которым они обладают, -- вот это
очаровательно. Но они сами... -- Он смущенно рассмеялся. -- Хорошо, что
Весстила нет здесь. Он был бы оскорблен, если бы узнал, что у меня от его
вида просто мороз по коже.
-- Наверное, нет, сэр, -- ответил Игер. -- У ящеров-то по большей части
таких проблем нет. -- Он сделал паузу. -- Гм-м, если подумать, его может
оскорбить другое -- как если бы куклуксклановец обнаружил, что некоторые
негры свысока смотрят на белых.
-- То есть мы не имеем права думать, что ящеры -- пресмыкающиеся, вы
это имеете в виду?
-- Верно. -- Сэм кивнул. -- Но змеи и тому подобное никогда не
беспокоили меня, даже когда я был ребенком. Что до ящеров, то каждый раз,
когда я встречаюсь с кем-то из них, я получаю возможность узнать что-то
новое: новое не просто для меня, я имею в виду, но нечто такое, чего ни один
человек не знал раньше. Это нечто особенное. В определенном смысле это
удивительнее, чем Джонатан. -- Теперь он рассмеялся таким же нервным смехом,
как только что Годдард. -- Только не говорите Барбаре, что я такое сказал.
-- Даю слово, -- торжественно сказал ученый. -- Но я понимаю, что вы
имеете в виду. Ваш сын -- открытие для вас, но он не первый ребенок, который
когда-либо существовал. Открыть что-нибудь по-настоящему впервые -- это
такое же притягивающее волнующее ощущение, как... как имбирь, скажем!
-- Поскольку ящеры нас сейчас не слышат -- я соглашусь с вами, сэр, --
ответил Игер. -- Они и впрямь без ума от этой ерунды, так ведь? --
Поколебавшись, он заговорил снова. -- Сэр, я чрезвычайно рад, что вы решили
перенести работы обратно в Хот-Спрингс. Это позволило мне находиться с
семьей, помогать Барбаре в том и этом Я имею в виду, что мы женаты еще
меньше года, и тем не менее...
-- Я рад, что все так хорошо сложилось для вас, сержант, -- сказал
Годдард, -- но не по этой причине я перебрался сюда из Коуча...
-- О, я знаю, что это не так, сэр, -- поспешно сказал Сэм.
Как будто не слыша, Годдард продолжил:
-- Хот-Спрингс -- это довольно большой город, но со слабо развитым
машиностроением. Мы находимся недалеко от Литтл-Рока, где оно развито лучше.
Все ящеры содержатся в главном госпитале армии и флота, откуда мы можем
забирать их для консультаций. Это оказалось гораздо удобнее, чем перевозить
ящеров поодиночке в южную часть Миссури.
-- Как я сказал, это очень полезно мне, -- сказал Игер. -- И мы
привезли огромную, кучу деталей от челнока ящеров, так что мы сможем изучить
их лучше.
-- Меня это беспокоило, -- сказал Годдард. -- Ящеры точно знали место,
где приземлились Весстил со Страхой. Нам повезло, что мы спрятали и
разобрали челнок так быстро, потому что они изо всех сил старались
уничтожить его. Они вполне могли высадить десант, чтобы убедиться в своем
успехе. И только дьявол смог бы их остановить.
-- Они больше не суются куда попало, как они делали, когда только
приземлились, -- сказал Сэм. -- Я полагаю, это из-за того, что мы несколько
раз давали им отпор, когда они чересчур наглели.
-- И это верно -- или, боюсь, на данный момент мы проиграли войну. --
Годдард поднялся и потянулся. Судя по гримасе, он скорее испытывал при этом
страдание, чем удовольствие. -- А другой причиной переезда в Хот-Спрингс
являются источники. Я сейчас пойду к себе в комнату, чтобы погрузиться в
горячую ванну. Я так привык обходиться без комфорта, что почти забыл, как
это чудесно.
-- Да, сэр, -- с энтузиазмом согласился Игер.
Комната на четвертом этаже в главном госпитале армии и флота, которую
он делил с Барбарой -- а теперь и с Джонатаном, -- не имела ванны: помыться
можно было только внизу, в конце холла. Сэма это не беспокоило. Годдард был
весьма важной персоной, а сам он -- просто служащим по призыву, приносившим
пользу по мере сил. С другой стороны, водоснабжение и канализация на ферме в
Небраске, где он вырос, состояли из колодца и халабуды с двумя дырками
позади дома. И никакой проточной холодной, а тем более горячей воды.
В его комнате было гораздо приятнее зимой, чем в летнее время, когда не
требовалось погружаться в местные источники, чтобы стать горячим и мокрым.
Направляясь по коридору к комнате No 429, он услышал, как шумит Джонатан. Он
вздохнул и ускорил шаг. Барбара совсем не знает покоя. И
ящеры-военнопленные, которые живут на этом этаже, тоже.
Он открыл дверь. Во взгляде Барбары мелькнуло облегчение, когда она
узнала входящего. Она протянула ему ребенка.
-- Подержи его, пожалуйста, -- сказала она. -- Что бы я ни делала, он
никак не хочет успокоиться.
-- Хорошо, дорогая, -- сказал он. -- Посмотрим, не мучает ли его
отрыжка.
Он взвалил Джонатана животиком на плечо и стал поколачивать его по
спинке. Он стучал, словно по барабану. Барбара, которая делала это более
нежно, нахмурилась, но отец добился успеха. Раз -- и Джонатан басовито
срыгнул порядочное количество полупереваренного молока. Затем он заморгал и
стал выглядеть более счастливым.
-- Молодцы! -- воскликнула Барбара. Она вытерла мундир Сэма пеленкой.
-- Вот так. Я стерла почти все, но, боюсь, от тебя некоторое время будет
пахнуть кислым молоком.
-- Это еще не конец света, -- сказал Игер. -- Можешь плюнуть и
растереть.
Запах кислого молока больше не беспокоил его. В комнате почти всегда
воняло грязными пеленками, даже когда они были убраны. Запах напоминал ему
коровник на родительской ферме, но Барбаре он об этом никогда не говорил. Он
держал маленького сына на вытянутых руках.
-- Ну вот, мальчик. Спрятал все там, где мамочка не смогла найти, так
ведь?
Барбара потянулась к ребенку.
-- Теперь я могу его взять, если хочешь.
-- Ладно уж, -- сказал Сэм. -- Я не буду его держать все время, но,
похоже, тебе требуется передышка.
-- Хорошо, что ты так считаешь.
Барбара опустилась на единственный в комнате стул. Она уже не была той
дерзкой девчонкой, какой Сэм знал ее: сейчас она выглядела изнуренной, как и
вообще в последнее время. Если вы не выматываетесь, имея ребенка, то с вами
что-то неладно -- или же у вас есть слуги, которые выматываются вместо вас.
Под зелеными глазами Барбары залегли круги; ее светлые волосы -- чуть
темнее, чем у Сэма, -- свисали скучными прядями, как будто они тоже устали.
Она тяжело вздохнула.
-- Чего бы я ни отдала за сигарету... а уж за чашку кофе...
-- О, боже, кофе, -- с тоской сказал Игер. -- Даже чашка худшего кофе,
который я когда-либо пил, из самой сальной посудины в самом вшивом маленьком
городке, в котором я только был -- а я прошел через такое их множество...
господи, как бы это было сейчас хорошо.
-- Если бы у нас был кофе по распределению, мы обязаны были бы
поделиться им с солдатами на фронте и с родителями, у которых есть дети
младше одного года. Вряд ли кто-нибудь нуждается в нем сильнее, -- сказала
Барбара.
Как ни была она измотана, она по-прежнему говорила четко и ясно, чем
всегда восхищался Сэм: до войны она окончила университет Беркли по
специальности средневековая английская литература. Тот английский, который
Сэм слышал на танцплощадках, нельзя было даже сравнивать с ее речью.
Джонатан стал извиваться, крутиться и наконец заплакал. Он начал
издавать различные звуки, демонстрирующие усиленную работу мысли. Сэм
опознал некоторые из них.
-- Он голоден, дорогая.
-- По расписанию еще не время его кормить, -- ответила Барбара. -- Но,
знаешь? Если спросить меня, то расписание надо выкинуть к черту. Я не могу
выдержать, слушая, как он кричит до момента, пока часы не скажут, что пришло
время кормления. Если он достаточно счастлив, когда сосет, чтобы побыть
некоторое время спокойным, меня это вполне устраивает. -- Она высвободила
правую руку из рукава темно-синего шерстяного платья и стянула его вниз,
чтобы высвободить грудь. -- Вот, давай его мне.
Игер передал ребенка: маленький ротик впился в ее сосок. Джонатан сосал
жадно. Игер слышал, как он глотает молоко. В эти дни использовать бутылочки
нельзя -- нет специальных смесей, нет простых способов содержать вещи в
чистоте, как это требуется. Но даже кормление грудью -- не слишком сложная
вещь, если к нему привыкнуть.
-- Я думаю, он будет спать, -- сказала Барбара.
Даже голос диктора на радио, рассказывавшего о победном налете
бомбардировщиков Джимми Дулитла на Токио, не звучал так возбужденно. Она
продолжила:
-- Кажется, он захочет пососать и другую грудь. Помоги мне стянуть
рукав, Сэм. Я не могу сама, пока держу его.
-- Конечно.
Он поспешил к ней, спустил рукав и помог ей вытянуть руку. Дальше она
справилась сама. Платье спустилось до талии. Через пару минут она переложила
Джонатана к левой груди.
-- Хорошо бы, чтобы он заснул поскорее, -- сказала Барбара. -- Я
замерзла.
-- Судя по его виду, он уже собирается, -- ответил Сэм.
Он накинул сложенное пополам полотенце на левое плечо жены, не столько
для того, чтобы согреть ее, а чтобы она не запачкалась, когда ребенок
срыгнет.
Она подняла бровь.
-- "Судя по его виду, он уже собирается", -- словно эхо, повторила она.
Он понимал, на что она намекает. Он не мог бы построить такую фразу,
когда они встретились впервые; для этого пришлось бы сначала как следует
выучиться в школе, а уж потом перейти на игру в мяч.
-- Все дело в компании, которая меня окружает, -- ответил он с улыбкой,
затем заговорил более серьезно. -- Мне вообще нравится учиться у окружающих
-- и у ящеров тоже, если получается. Разве надо удивляться, что я научился
чему-то у тебя?
-- О, в своем роде это удивительно, -- сказала Барбара. -- Многим
людям, похоже, ненавистна сама мысль -- учиться чему-нибудь новому. Я рада,
что ты не такой, иначе жизнь была бы тоскливой. -- Она посмотрела на
Джонатана. -- Да, он уснул. Хорошо.
Вскоре ее сосок выскользнул из ротика ребенка. Она подержала его еще
немного, затем осторожно подняла на плечо и похлопала по спинке. Он
отрыгнул, не просыпаясь и не сплевывая. Она вновь опустила его на руку и
подождала несколько минут, затем поднялась и переложила его в деревянную
колыбельку, которая занимала большую часть их крохотной комнаты. Джонатан
вздохнул. Она постояла возле него, опасаясь, что малыш проснется. А затем
его дыхание стало ровным. Она выпрямилась и потянулась за платьем.
Прежде чем она успела его надеть, Сэм оказался у нее за спиной и сжал
груди руками. Она повернула голову и улыбнулась ему через плечо, но это не
была приглашающая улыбка, хотя пару недель назад они снова начали заниматься
любовью.
-- Ты не считаешь, что мне лучше просто немножко полежать? -- спросила
она. -- Сама я именно так и считаю. Это не означает, что я не люблю тебя,
Сэм, просто я так устала, что света белого не вижу.
-- Конечно, я понимаю, -- сказал он и отпустил ее.
Теплое мягкое ощущение ее тела осталось запечатленным на его ладонях.
Он лягнул пол, покрытый линолеумом.
Барбара быстро натянула платье, затем обернулась и положила руки ему на
плечи.
-- Спасибо, -- сказала она. -- Я знаю, что тебе это нелегко.
-- Надо просто привыкнуть, только и всего, -- сказал он. -- Женитьба в
разгар войны не очень располагает к комфорту, и потом ты сразу
забеременела... -- Лучшее, о чем они могли вспомнить, случилось в их брачную
ночь. Он хмыкнул. -- Конечно, если бы не война, мы никогда не встретились
бы. Что там они говорят об облаках и серебряной подкладке?
Барбара обняла его.
-- Я очень счастлива с тобой, с нашим ребенком и со всем остальным. --
Зевнув, она поправилась: -- Почти со всем остальным. Мне только хотелось бы
немножко больше спать.
-- Я тоже счастлив во всем, -- сказал он, сомкнув руки у нее на спине.
Как он сказал, если бы не война, они бы не встретились. А если бы и
встретились, она бы даже не взглянула на него: она была замужем за
физиком-атомщиком в Чикаго. Но Йене Ларссен находился далеко, выполняя
задание для Металлургической лаборатории, -- так далеко и так долго, что они
оба решили, что он мертв, и стали вначале друзьями, потом любовниками и
наконец -- мужем и женой. А когда Барбара уже была беременна, они узнали,
что Йене жив.
Сэм прижал к себе Барбару еще раз, затем отпустил ее и подошел к
колыбели, чтобы взглянуть на спящего сына. Он протянул руку и взъерошил
почти снежно-белые тонкие волосы Джонатана.
-- Как приятно, -- сказала Барбара.
-- Хорошенький парнишка, -- ответил Игер.
"А вот если бы ты не выносила его, то -- десять долларов против
деревянного пятицентовика -- ты бросила бы меня и вернулась к Ларссену". Он
улыбнулся ребенку. "Малыш, я тебе очень обязан. Когда-нибудь я постараюсь
тебе отплатить".
Барбара поцеловала его в губы -- коротко, дружески -- и отправилась в
постель.
-- Я хочу немного передохнуть, -- сказала она.
-- Хорошо. -- Сэм отправился к двери. -- Поищу какого-нибудь ящера, и
мы немного поболтаем. Надо делать добро сейчас, а может быть, даже после
войны, если когда-нибудь это "после войны" настанет. Что бы ни случилось,
люди и ящеры отныне должны сотрудничать друг с другом. Чем больше я узнаю,
тем лучше я становлюсь.
-- Я думаю, ты будешь великолепен в любой ситуации, -- ответила
Барбара, укладываясь в постель. -- Почему бы тебе не вернуться примерно
через час? Если Джонатан будет по-прежнему спать... кто знает, что из этого
может получиться?
-- Посмотрим. -- Игер отворил дверь, затем взглянул на сына. -- Спи
крепко, малыш.
* * *
Человек с наушниками на голове посмотрел на Вячеслава Молотова.
-- Товарищ народный комиссар, к нам поступают все новые сообщения о
том, что ящеры на базе к востоку от Томска собираются сдаться нам. --
Поскольку Молотов не ответил, радист набрался смелости и добавил: -- Вы
помните, товарищ, это те, что восстали против своего начальника.
-- Я уверяю вас, товарищ, что полностью владею ситуацией и не нуждаюсь
в напоминании, -- холодно сказал Молотов -- холоднее, чем московская зима и
даже чем сибирская.
Радист сглотнул и наклонил голову в знак извинения. После первой ошибки
в обращении к Молотову еще может повезти, а вот после второй уже точно не
поздоровится.
Комиссар иностранных дел продолжил:
-- На этот раз они выдвигают конкретные условия?
-- Да, товарищ народный комиссар. -- Радист посмотрел в свои записи.
Его карандаш был длиной в палец -- в нынешние времена не хватало всего. --
Они хотят гарантий не только безопасности, но и хорошего обращения после
того, как перейдут на нашу сторону.
-- Это мы можем им обещать, -- сразу же ответил Молотов. -- Я бы
подумал, что даже местный военачальник должен был увидеть разумность такого
требования.
У местного военачальника должно также хватить разума на то, чтобы
игнорировать любые гарантии в тот момент, когда они станут лишними.
С другой стороны, вполне вероятно, что местный военачальник старался не
проявлять чрезмерной инициативы, а просто передал все вопросы в Москву,
коммунистической партии большевиков. Командиры, которые игнорируют контроль
партии, ненадежны.
Радист передавал в эфир кажущиеся бессмысленными наборы букв Молотов
искренне надеялся, что для ящеров они и оставались бессмысленными.
-- Чего еще хотят эти мятежники? -- спросил он.
-- Обязательства, что ни при каких обстоятельствах мы не вернем их
остальным ящерам, даже если будет достигнуто соглашение об окончании
враждебных отношений между миролюбивыми рабочими и крестьянами Советского
Союза и чуждыми империалистическими агрессорами, из лагеря которых они
стараются сбежать.
-- Ладно, мы согласны и с этим, -- ответил Молотов. Это обещание тоже
при необходимости можно нарушить, хотя Молотов не считал, что возникнет
такая необходимость. К тому времени, когда может наступить мир между СССР и
ящерами, о мятежниках уже давно забудут. -- Что еще?
-- Они требуют нашего обещания снабжать их неограниченным количеством
имбиря, товарищ народный комиссар, -- ответил радист, снова сверившись со
своими записями.
Бледное, невыразительное лицо Молотова, как всегда, не отражало ничего
из того, что было у него на уме. Ящеры по-своему были такими же
дегенератами, как капиталисты и фашисты, которым славные крестьяне и рабочие
СССР показывали невиданные образцы человеческого достоинства. Несмотря на
большие технические достижения, в социальном смысле ящеры были куда более
примитивны, чем капиталистическое общество. Они были бастионом древней
экономической системы: они были хозяевами и старались использовать людей как
рабов -- так декларировали диалектики. Впрочем, высшие классы Древнего Рима
тоже были дегенератами.
Что ж, в результате их дегенерации можно эксплуатировать
эксплуататоров.
-- Мы, конечно, примем это условие, -- сказал Молотов, -- если им так
хочется травить себя, мы с радостью предоставим им средства для этого. -- Он
подождал, пока еще несколько кодовых групп уйдут в эфир, затем снова
спросил: -- Что еще?
-- Они настаивают на том, чтобы самим отвести танки от базы, на
сохранении у них личного оружия и на том, чтобы их держали вместе одной
группой, -- ответил радист.
-- Они преуспели в изобретении новых требований, -- сказал Молотов. --
Над этим надо мне подумать.
Через пару минут он принял решение:
-- Они могут отвести свои машины от базы, но не приближаться ни к одной
из наших. Местный военачальник должен указать им, что доверие между двумя
сторонами установилось еще не в полной мере. Он должен сказать им, что они
будут разделены на несколько небольших групп для большей эффективности
допросов. Он может добавить, что, если они согласятся на разделение, мы
позволим им сохранить оружие, в противном случае -- нет.
-- Позвольте мне убедиться, что я все правильно понял, товарищ, прежде
чем передавать, -- сказал радист и повторил сказанное Молотовым.
Когда комиссар иностранных дел кивнул, радист отстучал соответствующие
кодовые группы.
-- Что-нибудь еще? -- спросил Молотов.
Радист покачал головой. Молотов поднялся и покинул комнату,
расположенную где-то глубоко под Кремлем. Часовой снаружи отсалютовал.
Молотов игнорировал его приветствие так же, как не побеспокоился попрощаться
с радистом. Излишества были чужды его натуре.
Именно поэтому он не ликовал, поднимаясь наверх. По выражению его лица
никто не мог бы определить, согласились ли мятежные ящеры сдаться, или,
наоборот, он сейчас выступит за немедленную их ликвидацию. Но внутри...
"Дураки, -- думал он, -- какие дураки!"
Не важно, что они стали умнее, чем прежде: эти ящеры все еще слишком
наивны по сравнению даже с американцами. Он убедился в этом раньше, даже
имея дело с их высокопоставленными начальниками. Они не имели представления
о политических играх, которые среди дипломатов-людей воспринимались как
нечто обыкновенное. Их представления о способе управления ясно показывали,
что они не нуждаются в подобных талантах. Они рассчитывали, что завоевание
Земли пройдет быстро и легко. Теперь, когда такого не произошло, они
оказались в ситуации, с которой не смогли справиться.
Молотов шел по залам Кремля. Солдаты вытягивались по стойке смирно,
штатские чиновники замолкали и уважительно кивали. Он не отвечал им. Он их
едва замечал. Но если бы его проигнорировали, он сделал бы резкий выговор.
Подручный дьявола или какой-то другой зловредный негодяй навалил на его
стол груду бумаги за то время, пока он занимался переговорами с мятежными
ящерами. У него были большие надежды на эти переговоры. У Советского Союза
уже было довольно много военнопленных ящеров, и некоторым полезным вещам он
от них уже научился. Когда ящеры сдавались, они, казалось, начинали
относиться к людям с доверием и пиететом -- словно к прежним начальникам.
А заполучить в свое распоряжение целую базу, полную оборудования,
которое произвели агрессоры со звезд! Если только советская разведка не
ошиблась, это был бы успех, до которого далеко и немцам, и американцам. У
англичан было много оборудования от ящеров, но империалистические твари
очень постарались разрушить все возможные трофеи после того, как провалилось
их наступление на Англию.
Первое письмо в куче было от комитета социальной активности колхоза No
118 -- так, по крайней мере, гласил обратный адрес. Именно там, неподалеку
от Москвы Игорь Курчатов и его группа ядерных физиков работали над
изготовлением бомбы из взрывчатого металла. Они сделали одну из металла,
украденного у ящеров. Химическое выделение металла своими силами оказалось
весьма трудоемким, как они и предупреждали Молотова, -- гораздо более
трудоемким, чем ему хотелось верить.
И вот теперь Курчатов писал: "Последний эксперимент, товарищ народный
комиссар, был менее успешным, чем мы могли надеяться".
Молотову не требовались годы постоянного чтения между строк, чтобы
понять, что эксперимент провалился.
"Некоторые технические аспекты ситуации по-прежнему создают нам
трудности. Помощь извне могла бы быть полезной", -- продолжал Курчатов.
Молотов тихо хмыкнул. Когда Курчатов просит совета извне, он не имеет в
виду помощь от других советских физиков. Все известные ядерные физики СССР
уже работали имеете с ним. Молотов положил голову на плаху, напомнив об этом
Сталину: он содрогнулся, вспомнив, на какой риск он пошел ради блага родины.
Что требовалось Курчатову, так это иностранный опыт.
"Унизительно", -- подумал Молотов. Советский Союз не должен быть таким
отсталым. Он никогда не попросит помощи у немцев. Если бы даже они
предоставили ее, он не мог бы полагаться на их информацию. Сталину было
очень приятно, когда ящеры в Польше отделили СССР от гитлеровских безумцев,
и в этом Молотов был полностью согласен со своим вождем. От американцев?
Молотов пожевал ус. Что ж, возможно. Они делали собственные бомбы из
взрывающегося металла, точно так же, как нацисты. И если бы он мог привлечь
их чем-то из трофеев, которые находятся на базе ящеров вблизи Томска...
Он вытащил карандаш и обрывок бумаги и принялся писать письмо.
* * *
-- Господь Иисус, ты такое видел? -- воскликнул Остолоп Дэниелс; он вел
свое подразделение через руины того, что было когда-то северной окраиной
Чикаго. -- И это все -- от одной только бомбы!
-- Верится с трудом, лейтенант, -- сказал сержант Герман Малдун.
Ребята из подразделения не произнесли ни звука. Они только, разинув
рты, широко открытыми глазами смотрели на доставшуюся им полосу развалин в
несколько миль длиной.
-- Я хожу по зеленой земле Бога уже шестьдесят лет, -- заговорил
Остолоп; его протяжный миссисипский говор медленно и тягуче, как патока,
стекал в эту жалкую северную зиму. -- Я много чего повидал. Я воевал в двух
войнах и объехал все Соединенные Штаты. Но я никогда не видел ничего
подобного.
-- Вы совершенно правы, -- сказал Малдун.
Он был примерно того же возраста, что и Дэниелс, и тоже побывал
повсюду. Их подчиненные не имели особого житейского опыта и уж точно не
видели ничего подобного. До прихода ящеров никто ничего подобного не видел.
До появления ящеров Дэниелс был менеджером команды "Декатур Коммодорз".
Один из игроков любил читать научно-фантастические рассказы о ракетных
кораблях и существах с других планет. Интересно, жив ли еще Сэм Игер?
Остолопу вдруг представилась картинка из такого рассказа: северная окраина
Чикаго напоминала сейчас лунные горы.
Когда он громко сказал об этом, Герман Малдун кивнул. Он был высоким и
широкоплечим, с вытянутой грубой ирландской физиономией и с седеющей щетиной
на подбородке.
-- Так говорили о Франции, еще в девятнадцатом и восемнадцатом годах,
и, я думаю, это довольно достоверно. Подходит?
-- Да, -- сказал Дэниелс. Он тоже был во Франции. -- Во Франции было
больше воронок от снарядов, так что некуда было приткнуться, черт бы побрал.
Между нами, лягушатниками, англичашками и ботами по десять раз на дню
взрывались все артиллерийские снаряды мира. А здесь был всего один.
Легко было определить, куда попала бомба: все разрушенные строения
отклонились в сторону от нее. Если пронести линию, руководствуясь
повалившимися стенами домов и вырванными с корнем деревьями, затем пройти на
восток примерно милю и проделать то же самое еще раз, место, где проведенные
линии встретятся, и будет эпицентром.
Хотя были и другие способы определить, куда она упала. Распознаваемые
обломки встречались на земле все реже. Все больше и больше попадалось комьев
слегка поблескивающей грязи, которая спеклась от жара бомбы в подобие
стекла.
Эти комья и скользкими были, как стекло, в особенности под снегом. Один
из людей Остолопа поскользнулся и грохнулся на задницу.
-- Ой-й! -- воскликнул он. -- Вот дерьмо!
Когда товарищи засмеялись над ним, он попытался встать и тут же снова
упал.
-- Если хотите играть в эти детские игры, Куровски, то наденьте
клоунский костюм вместо формы, -- сказал Остолоп.
-- Извините, лейтенант, -- сказал Куровски; голос его звучал обиженно,
и дело было явно не в ушибе. -- Уверяю нас, это не нарочно.
-- Да, знаю, но вы решили повторить.
Остолоп внезапно потерял интерес к Куровски. Он узнал огромную кучу
кирпичей и железа с левой стороны. Она стала неплохой преградой для взрывной
волны и защитила собой некоторые жилые дома, так что они остались почти
неповрежденными. Но не зрелище уцелевших посреди руин зданий заставило
волосы на его затылке подняться дыбом.
-- Неужели это Ригли-Филд? -- прошептал он. -- Что тут было -- и на что
оно теперь похоже!
Он никогда не играл на Ригли-Филд -- его команде "Кубз" нечего было
делать на площадках прежнего Вест-Сайда в те времена, когда он поступил
кетчером в команду "Кардиналов", еще перед Первой мировой войной. Но руины
спортивного парка -- словно внезапный удар в зубы -- сделали очевидной
реальность обрушившейся на него войны. Иногда такое происходит со
свидетелями грандиозных событий, иногда -- из-за какой-нибудь ерунды: он
вспомнил пехотинца, который сломался и зарыдал, как дитя, при виде куклы с
оторванной головой, принадлежавшей неизвестному французскому ребенку.
Глаза Малдуна скользнули по развалинам Ригли.
-- Должно пройти немало времени, прежде чем "Кубз" завоюет очередное
знамя, -- произнес он в качестве эпитафии и парку, и городу.
К югу от Ригли-Филд Дэниелсу встретился крупный мужчина с сержантскими
нашивками. Он небрежно отсалютовал, лицо почему-то выглядело смущенным.
-- Идемте, лейтенант, -- сказал он. -- Я провожу ваше подразделение на
передовую.
-- Хорошо, вперед, -- ответил Остолоп.
Большинство его подчиненных были желторотыми сосунками. Многие из-за
этого гибли. Но подчас не помогал никакой опыт. У Остолопа и самого был
внушительный шрам -- к счастью, сквозная рана не задела кости. А пролети
пуля ящеров на два или три фута выше -- могла попасть и в ухо.
Сержант повел их от эпицентра взрыва через северную окраину к реке
Чикаго. Большие здания стояли пустые и разбитые, такие же безразличные к
происходящему, как некогда -- куча костей динозавров. При условии, конечно,
что в них не прятались снайперы ящеров.
-- Нам бы надо отогнать их подальше, -- сказал сержант, с отвращением
сплюнув. -- А какого черта собираетесь делать вы?
-- Ящеров и в самом деле трудно отогнать, -- мрачно согласился Дэниелс.
Он осмотрелся. Большая бомба не затронула эту часть Чикаго, но здесь
оставили свои следы несчетное количество мелких бомб и артиллерийских
снарядов, а также огонь и пули. Руины служили идеальной защитой для любого,
кто выбрал бы их в качестве укрепления или засады.
-- Это самая вшивая часть города, чтобы сражаться с этими гадами.
-- Здесь действительно вшивая часть города, сэр, -- сказал сержант. --
Здесь жили даго [Презрительная кличка. Так американцы называют итальянцев,
испанцев и португальцев. -- Прим. ред.], пока ящеры их не выгнали. Хоть
что-то полезное они сделали.
-- Придержи язык насчет даго, -- сказал ему Дэниелс.
В его подразделении таких было двое. Если бы сержант завелся с
Джиордано и Пинелли, то вполне мог бы расстаться с жизнью.
Чужак бросил на Остолопа недоверчивый взгляд, явно удивившись отповеди.
Такой мордастый краснорожий мужик с говором Джонни Реба никак не может быть
даго, так чего ради он их защищает?
Но Остолоп был лейтенантом, и потому сержант молчат всю дорогу, пока не
привел подразделение на место назначения.
-- Вот это Оук, а это Кливленд, сэр. Это называется "Мертвый Угол" в
память их отцов -- итальянские парнишки имели привычку убивать здесь друг
друга, еще во время сухого закона. Каким-то образом получалось, что никогда
не было свидетелей. Забавно, не правда ли?
Он откозырял и удалился.
Подразделением, которое должны были сменить люди Дэниелса, командовал
щуплый светловолосый парень по имени Расмуссен. Он показал на юг.
-- Ящеры располагаются примерно в четырех сотнях ярдов отсюда, вон там.
Последние дня два довольно тихо.
-- Хорошо.
Дэниелс поднес к глазам бинокль и стал всматриваться в указанном
направлении. Он заметил пару ящеров. Значит, и вправду затишье -- иначе они
не вышли бы наружу. Ящеры были ростом с десятилетнего мальчика, их
коричнево-зеленую кожу украшали узоры, означавшие то же самое, что знаки
различия и нашивки с указанием рода войск. Глаза на выступающих бугорках и
способны поворачиваться. Туловище наклонено вперед; походка карикатурная --
такой нет ни у одного существа на Земле.
-- Уродливые маленькие гады, -- сказал Расмуссен. -- Мелочь поганая.
Как существа такого размера создают столько неприятностей?
-- Им удается, это факт, -- ответил Остолоп. -- Вот чего я не понимаю,
так это почему они здесь -- и как мы от них избавимся. Они пришли, чтобы
остаться, вне сомнения.
-- Полагаю, что надо перебить их всех, -- сказал Расмуссен.
-- Удачи вам! -- сказал Остолоп. -- Они, наоборот, склоняются к тому,
чтобы проделать то же самое с нами. Это вполне реально. Если бы вы спросили
меня -- не то, что вы спросили, а другое, -- я сказал бы, что надо Найти
какой-то совсем другой путь. -- Он почесал щетинистый подбородок. --
Единственная неприятность в том, что у меня нет ясности, какой путь.
Надеюсь, что у кого-то она есть. Если ее нет ни у кого, то надо искать и
найти побыстрее, иначе нас ждут разнообразнейшие неприятности.
-- Как вы и сказали, я вас об этом не спрашивал, -- ответил Расмуссен.
Высоко над Дувром прошумел реактивный самолет. Не видя его, Дэвид не
мог определить, был ли это самолет ящеров или британский "Метеор". Толстый
слой серых клубящихся облаков закрывал все небо.
-- Это один из наших, -- объявил капитан Бэзил Раундбуш.
-- Пусть, раз уж ты так говоришь, -- ответил Гольдфарб, задержав слово
"сэр" чуть дольше, чем полагалось.
-- Именно это я и сказал, -- закончил Раундбуш.
Бэзил был высокий, красивый, светловолосый и румяный, со щегольскими
усиками и множеством наград, из которых первые он получил в битве за
Британию, а последние -- за недавние бои с ящерами. Что до Гольдфарба, то он
мог похвастаться лишь медалью за ранение -- собственно, только за то, что
выжил при нападении ящеров на остров. Даже "Метеоры" были легкой добычей для
машин, на которых летали ящеры. Кроме того, Раундбуш отнюдь не был боевой
машиной, у которой больше амбиций, чем мозгов. Он помогал Фреду Хипплу в
усовершенствовании двигателей, которые устанавливались на "Метеоры", он был
остроумен, женщины перед ним так и падали. А в результате у Гольдфарба
развился жестокий комплекс неполноценности.
Он делал все, чтобы скрыть его, поскольку Раундбуш -- с поправкой на
манеры -- был весьма приятным парнем.
-- Я всего лишь скромный оператор радарных установок, сэр, -- сказал
Гольдфарб, убирая со лба несуществующую челку. -- Я не могу знать таких
вещей, не могу.
-- Ты всего лишь скромная свалка комплексов, вот ты кто, -- фыркнув,
сказал Раундбуш.
Гольдфарб вздохнул. Раундбуш к тому же великолепно говорил
по-английски, в то время как его акцент, несмотря на все усилия и долгую
учебу, выдавал происхождение из лондонского Ист-Энда, как только он открывал
рот.
Пилот протянул руку:
-- Оазис перед нами. Вперед!
Они ускорили шаг. Гостиница "Белая лошадь" располагалась неподалеку от
Дуврского замка, в северной части города. Это была неплохая прогулка от
Дуврского колледжа, где они оба трудились над превращением трофеев в
устройства, которые могли использовать королевские ВВС и другие британские
войска. Гостиница располагала еще и лучшей в Дувре пивной, и не только
благодаря горькому пиву, но и благодаря своим официанткам.
Неудивительно, что она была набита битком. Мундиры всех видов --
авиация, армия, морская пехота, королевский военный флот -- перемешались с
гражданским твидом и фланелью. Обогревал всех огромный камин в дальнем конце
помещения, как делал это всегда, еще с четырнадцатого столетия. Гольдфарб
благодарно вздохнул. Лаборатории Дуврского колледжа, где он проводил дни,
были чистыми, современными -- и чертовски холодными.
Словно регбисты, они проложили себе локтями путь к стойке. Раундбуш
поднял руку, когда они приблизились к желанному берегу.
-- Две пинты лучшего горького, дорогая, -- крикнул он рыжеволосой
девушке за длинным дубовым прилавком.
-- Для тебя, дорогой, все что угодно, -- сказала Сильвия.
Все мужчины, услышавшие ее слова, по-волчьи взвыли. Гольдфарб
присоединился к этому вою, но только для того, чтобы не выделяться.
Некоторое время назад они с Сильвией были любовниками. Это не означало, что
он сходил по ней с ума, и даже не означало, что в это время он у нее был
единственным, хотя она по-своему была честна и не старалась накручивать его
историями про соперников. Но, увидев ее теперь, после того как они
расстались, он почувствовал себя уязвленным -- не в последнюю очередь из-за
того, что он по-прежнему страстно жаждал сладкого тепла ее тела.
Она подтолкнула пинтовые кружки новоприбывшим. Раундбуш швырнул на
стойку серебряную монету. Сильвия взяла ее и начала отсчитывать сдачу, но он
покачал головой. Она улыбнулась широкой обещающей улыбкой.
Гольдфарб поднял свою кружку.
-- За группу полковника Хиппла! -- провозгласил он.
Они с Раундбушем выпили. Если бы не Фред Хиппл, то королевские ВВС
продолжали бы сражаться с ящерами на "харрикейнах" и "спитфайрах", а не на
реактивных машинах. Но Хиппл пропал, когда ящеры -- во время атаки на
Британию -- захватили исследовательскую станцию в Брантингторпе. Возможно,
этот тост был единственной данью памяти, доставшейся на его долю.
Раундбуш с уважением посмотрел на напиток цвета темного золота, который
он пил большими глотками.
-- Чертовски хорошо, -- сказал он. -- Это самодельное горькое часто
превосходит то, что продают пивоварни по всей стране.
-- В этом ты прав, -- причмокнув, подтвердил Гольдфарб. Он считал себя
знатоком горького. -- Хороший хмель, пикантный вкус... -- Он сделал еще
глоток, чтобы освежить в памяти нюансы.
Кружки быстро опустели. Гольдфарб поднял руку, чтобы заказать второй
круг. Он поискал глазами Сильвию, какое-то время не мог найти ее, потом
увидел: она несла поднос с пивом к столу возле камина.
Как по волшебству, за стойкой материализовалась другая женщина.
-- Хотите еще пинту? -- спросила она.
-- Две -- одну для моего приятеля, -- автоматически ответил он, затем
посмотрел на нее. -- Эй! Вы здесь новенькая. Она кивнула, наливая пиво из
кувшина.
-- Да. Меня зовут Наоми.
Ее темные волосы были зачесаны назад, придавая лицу задумчивое
выражение. Тонкие черты лица, бледная кожа -- без намека на розовый цвет,
узкий подбородок и широкие скулы, большие серые глаза, элегантно изогнутый
нос.
Гольдфарб заплатил за горькое, продолжая изучать новенькую. Наконец он
рискнул спросить ее не по-английски:
-- Yehudeh?
Она пристально посмотрела на него. Он понял, что она изучает его
внешность. Его вьющиеся каштановые волосы и громадный нос выдавали
происхождение явно не от англичан. Через мгновение она с облегчением
ответила:
-- Да, я еврейка. Да и вы тоже еврей, если не ошибаюсь. Теперь он
уловил ее акцент -- такой же, какой был у его родителей, хотя далеко не
такой сильный. Он кивнул.
-- Не отпираюсь, -- сказал он, вызвав настороженную улыбку на ее лице.
Он дат ей такие же чаевые, как Бэзил Раундбуш Сильвии, хотя мог дать и
меньше. Он поднял кружку в приветствии, а затем спросил:
-- А что вы делаете здесь?
-- Вы имеете в виду -- в Англии? -- спросила она, вытирая стойку
тряпкой. -- Моим родителям повезло -- или, если вам больше нравится, у них
хватило ума -- сбежать из Германии в тридцать седьмом году. Я была вместе с
ними, мне было тогда четырнадцать.
Значит, теперь ей 20 или 21: прекрасный возраст, с уважением подумал
Гольдфарб. Он пояснил в свою очередь:
-- Мои родители приехали из Польши перед Первой мировой войной, так что
я родился здесь.
Он подумал, стоило ли говорить ей об этом: немецкие евреи временами
задирали носы перед своими польскими кузенами.
Но она сказала:
-- Значит, вам повезло больше. Уж через что мы прошли... а ведь мы
сбежали еще до того, как началось самое худшее. А в Польше, говорят, было
даже хуже.
-- Все, что говорят, -- правда, -- ответил Дэвид, -- Вы когда-нибудь
слышали передачи Мойше Русецкого? Мы с ним кузены, я разговаривал с ним
после того, как он сбежал из Польши. Если бы не ящеры, то в Польше сейчас не
осталось бы ни одного еврея. Мне противно чувствовать себя благодарным им за
это, но так уж вышло.
-- Да, я слышала, -- ответила Наоми. -- Ужасные вещи. Но там по крайней
мере они кончились, а в Германии продолжаются.
-- Я знаю, -- сказал Гольдфарб и медленно отпил свое горькое. -- И
нацисты нанесли ящерам столько же ударов, как и любой другой, а может быть,
и больше. Мир сошел с ума, он становится колодцем, полным крови.
Бэзил Раундбуш разговаривал с блондином, офицером Королевского
военно-морского флота. Теперь он обернулся и обнаружил свежую пинту возле
локтя -- и Наоми за стойкой. Он выпрямился. Он умел включать свои двести
ватт шарма так, как большинство мужчин включают свет.
-- Прекрасно, прекрасно, -- сказал он, улыбаясь во весь рот. -- Вкус
нашего трактирщика, несомненно, повысился. Где он нашел вас?
"Это уже не смешно", -- подумал Гольдфарб. Он ожидал, что Наоми
вздохнет, или захихикает, или сделает еще что-то, чтобы показать, как она
поражена. Он еще ни разу не видел, чтобы Раундбуш терпел поражение.
Но девушка ответила довольно холодным тоном:
-- Я искала работу, и он был достаточно добр, чтобы счесть, что я
подойду. Теперь, если вы меня извините... И она поспешила к очередному
жаждущему посетителю. Раундбуш вдавил локоть в ребра Гольдфарба.
-- Это не спортивно, старик. По-моему, ты нечестным путем получил
преимущество.
Черт побери, наверное, его резкость вызвана тем, что он заметил ее
акцент или быстро оценил внешность.
-- Я? -- сказал Гольдфарб. -- Тебе ли говорить о преимуществах, когда
ты поимел всех, кто носит юбку, отсюда до острова Уайт.
-- О чем это ты, мой дорогой приятель? -- сказал Раундбуш и подпер щеку
языком, показывая, что его не следует воспринимать всерьез. Он допил свою
пинту, затем толкнул пустую кружку Сильвии, которая наконец вернулась на
место. -- Еще один круг для Дэвида и меня, пожалуйста, дорогая.
-- Сейчас, -- ответила она.
Раундбуш снова повернулся к морскому офицеру. Гольдфарб спросил
Сильвию, показав глазами в сторону Наоми:
-- Когда она начала здесь работать?
-- Несколько дней назад, -- ответила Сильвия. -- И если ты меня
спросишь, она слишком чистая, чтобы заниматься этим. Приходится ведь терпеть
пьяных, всякий сброд, и всем от тебя -- или в тебе -- все время чего-то
надо.
-- Спасибо, -- сказал Гольдфарб. -- Ты подняла мое настроение на два
дюйма.
-- Подумать только, ты ведь порядочный человек, не то что эти негодяи,
-- сказала Сильвия. Это была похвала, не лишенная оттенка осуждения. --
Наоми делает вид, что не замечает тех, кто пристает к ней, и как бы не
понимает, чего от нее хотят. Но это ненадолго. Раньше или позже -- скорее
раньше -- кто-нибудь попытается сунуться ей под блузу или под платье. Вот
тогда мы и...
Она не успела сказать "увидим", как звук пощечины, словно винтовочный
выстрел, перекрыл шум болтовни в "Белой лошади". Капитан морских пехотинцев
сидел, прижав руку к щеке. Наоми невозмутимо поставила перед ним пинту пива
и пошла дальше.
-- Хорошо совпало, хотя я просто говорила, что думаю, -- заметила
Сильвия с очевидной гордостью.
-- Да, именно так, -- согласился Гольдфарб.
Он посмотрел на Наоми. Их взгляды на мгновение встретились. Он
улыбнулся. Она пожала плечами, как бы говоря: на работе всякое бывает. Он
повернулся к Сильвии.
-- Хорошо у нее получилось, -- сказал он.
* * *
Лю Хань нервничала. Она замотала головой. Нет, она больше чем
нервничала. Она была перепугана одной только мыслью о встрече с маленькими
чешуйчатыми дьяволами. Она слишком долго находилась под их контролем:
вначале в самолете, который никогда не садится на землю, где ее случали с
другими людьми, чтобы узнать, как люди ведут себя в интимной жизни, и потом,
когда она забеременела, в тюремном лагере неподалеку от Шанхая. После того
как она родила ребенка, они украли его. Она хотела вернуть ребенка, хотя это
была всего-навсего девочка.
С учетом прошлого опыта она беспокоилась, уверенная, что чешуйчатые
дьяволы с ней возиться не станут -- она не стоит их внимания. И она,
женщина, ничего не могла сделать, чтобы облегчить свое положение. Доктрина
Народно-освободительной армии гласила, что женщины были и должны быть равны
мужчинам. Где-то в глубине сознания она начинала верить в это, но в
повседневной жизни ее мысли -- и страхи -- по-прежнему формировал опыт,
полностью противоречивший новой доктрине.
Вероятно, чувствуя это, Нье Хо-Т'инг попробовал ее успокоить:
-- Все будет хорошо. Они ничего не сделают вам, тем более на этих
переговорах. Они знают, что у нас есть их пленные, которые ответят, если с
нами что-нибудь произойдет.
-- Да, я понимаю, -- автоматически сказала она, но все же посмотрела на
него с благодарностью.
Он служил политическим комиссаром в Первом полку революционной армии
Мао, командовал дивизией во время Великого похода, был начальником штаба
армии. После нашествия ящеров он возглавил борьбу против них -- и против
японцев, и контрреволюционной гоминдановской клики -- сначала в Шанхае, а
затем в Пекине. И он был ее любовником. Хотя по происхождению она была
крестьянкой, ее сообразительность и горячее желание отомстить маленьким
дьяволам за все, что они ей причинили, сделали ее революционеркой, причем
делавшей быструю карьеру.
Чешуйчатый дьявол явился из палатки, которую это отродье возвело
посредине Пан-Дзо-Сиан-Тай -- Благоуханной Террасы Мудрости. Палатка была
подобием пузыря из неведомого оранжевого блестящего материала, а не обычным
сооружением из парусины или шелка. Она дисгармонировала не только с видом
террасы, стен и утонченных лестниц по обе стороны, но и со всем Чун-Хуа-Тао,
Островом Белой Пагоды.
Лю Хань подавила нервный смех. В те времена, когда маленькие чешуйчатые
дьяволы еще не успели захватить и испортить ее жизнь, она была простой
крестьянкой и даже представить себе не могла, что окажется не только в
Императорском Городе, сердце Пекина, но на том самом острове, где отдыхали
старые китайские императоры.
Маленький дьявол повернул один глаз в сторону Лю Хань, другой -- в
сторону Нье Хо-Т'инга.
-- Вы люди из Народно-освободительной армии? -- спросил он на неплохом
китайском, добавив хрюкающее покашливание в конце предложения, обозначавшее
вопросительный знак: особенность, перешедшая из его родного языка. Поскольку
никто из людей не возразил, чешуйчатый дьявол сказал: -- Вы пойдете со мной.
Я -- Эссафф.
Внутри палатки лампы сияли почти как солнце, хотя и с оттенком
желто-оранжевого. Этот оттенок не имел ничего общего с материалом, из
которого была сделана палатка: Лю Хань заметила, что он присутствовал в
любом свете, которым пользовались чешуйчатые дьяволы. Палатка была
достаточно большой, чтобы в ней поместилась еще и отдельная прихожая. Когда
женщина направилась к входу, Эссафф схватил ее когтистой лапой.
-- Обожди! -- сказал он и снова кашлянул, но иначе, в знак особой
важности сказанного. -- Мы обследуем вас нашими приборами, чтобы убедиться,
что вы не носите с собой взрывчатку. Такую процедуру проходим и мы сами.
Лю Хань и Нье Хо-Т'инг обменялись взглядами. Никто из них не произнес
ни слова. Лю Хань предлагала подослать циркачей с дрессированными животными,
выступлениями которых восхищались чешуйчатые дьяволы, -- а в ящиках для
содержания животных спрятать бомбы. Они постоянно устраивали взрывы, но
одурачить маленьких дьяволов дважды одним и тем же фокусом было практически
невозможно.
Эссафф велел людям встать в определенное место. Он рассматривал
изображение их тел на устройстве, напоминавшем маленький киноэкран. Лю Хань
и прежде видела такое: казалось, прибор так же распространен среди маленьких
дьяволов, как книги среди людей.
Эссафф минуту или две шипел, как кипящий котел, а затем сказал:
-- В данном случае вы почетные посетители. Можете войти.
В главной комнате палатки находился стол, на одном конце которого
громоздилось множество приборов чешуйчатых дьяволов. За столом сидели двое
самцов. Поочередно показав на них, Эссафф представил:
-- Это -- Ппевел, помощник администратора восточного района в главной
континентальной массе -- в Китае, как сказали бы вы. А это -- Томалсс,
исследователь тосевитского -- человеческого, сказали бы вы, -- поведения.
-- Я знаю Томалсса, -- сказала Лю Хань, скрыв свои чувства усилием
воли, она едва не потеряла сознание.
Томалсс и его помощники фотографировали, как она рожала дочь, а затем
забрали ребенка. Прежде чем она успела спросить, что с ее девочкой, Эссафф
сказал:
-- Вы, тосевиты, садитесь с нами.
Стулья, которые чешуйчатые дьяволы предложили им, были изготовлены
людьми: уступка со стороны ящеров, которой она никогда не наблюдала прежде.
Когда они с Нье Хо-Т'ингом сели, Эссафф спросил:
-- Вы будете пить чай?
-- Нет, -- резко ответил Нье. -- Вы обследовали наши тела, прежде чем
мы вошли сюда. Мы не можем обследовать чай. Мы знаем, что вы иногда
стараетесь подсунуть людям наркотики. Мы не будем пить или есть с вами.
Томалсс понимал по-китайски. Ппевел, очевидно, нет. Эссафф переводил
ему. Лю Хань понимала кое-что из его перевода. Она немного научилась речи
чешуйчатых дьяволов. Именно поэтому она заменила сегодня прежнего помощника
Нье, Хсиа Шу-Тао.
Ппевел объявил через Эссаффа:
-- Это переговоры. Вам не надо бояться.
-- Это вы боитесь нас, -- ответил Нье. -- Если вы не доверяете нам, как
мы можем доверять вам?
Наркотики чешуйчатых дьяволов обычно действовали на людей плохо. Нье
Хо-Т'инг и Лю Хань оба знали это. Нье Хо-Т'инг добавил:
-- Даже имея дело с нашим собственным народом -- я имею в виду
человеческие существа, -- мы, китайцы, страдали от неравных договоров.
Теперь мы больше ничего не хотим, кроме полного соответствия во всех наших
действиях. Мы не собираемся давать больше того, что получим.
Ппевел сказал:
-- Мы разговариваем с вами. Разве это не достаточная уступка?
-- Это уступка, -- сказал Нье Хо-Т'инг, -- но недостаточная.
Лю Хань добавила покашливание, усилившее его слова И Ппевел, и Эссафф
вздрогнули от удивления. Томалсс стал что-то говорить тихим голосом своему
начальнику. Лю Хань расслышала достаточно, чтобы понять: тот объяснял, как
случилось, что она немного овладела языком ящеров.
-- Давайте все же поговорим, -- сказал Ппевел. -- И посмотрим, кто есть
равный, а кто -- нет, когда война кончится.
-- Да, это верно, -- согласился Нье Хо-Т'инг, -- очень хорошо. Мы
согласны на переговоры. Хотите начать дискуссию с большого и перейти к малым
делам или предпочтете начать с малого и двигаться вверх по мере прогресса в
переговорах?
-- Лучше начать с малого, -- сказал Ппевел. -- Когда проблемы
небольшие, вы и мы сможем легче найти почву под ногами. Если мы будем
стараться достичь слишком многого вначале, мы сможем только рассердиться
друг на друга и сорвем переговоры.
-- Вы проницательны, -- сказал Нье, склонив голову перед маленьким
чешуйчатым дьяволом.
Лю Хань расслышала, как Эссафф объясняет Ппевелу, что это жест
уважения.
-- Итак, -- продолжил Нье сухим уверенным тоном, за которым угадывались
бомбы Народно-освободительной армии, -- мы требуем, чтобы вы вернули
девочку, которую бессердечно украли у Лю Хань.
Томалсс подпрыгнул, словно его ткнули булавкой.
-- Это не маленький вопрос! -- воскликнул он по-китайски, добавив
усиливающее покашливание, чтобы показать свое отношение.
Эссафф, приняв странную позу, быстро переводил маленькому дьяволу.
Нье Хо-Т'инг поднял бровь. Лю Хань заподозрила, что это движение ничего
не значит для чешуйчатых дьяволов, у которых не было бровей.
Нье сказал:
-- Что же вы тогда подразумеваете под небольшими вопросами? Я мог бы
сказать, что считаю материал, из которого вы сделали эту палатку, уродливым,
но эта тема вряд ли заслуживает обсуждения По сравнению с тем, что вы,
империалистические агрессоры, сделали с Китаем, судьба одного ребенка --
мелочь, или, по крайней мере, эта проблема значительно меньше.
Выслушав перевод, Плевел сказал:
-- Да, это небольшой вопрос по сравнению с другими. В любом случае эта
страна теперь наша, что не подлежит никакому обсуждению, как вы понимаете.
Нье улыбнулся, не отвечая. Европейские державы и Япония говорили Китаю
то же самое, но всегда терпели поражение, когда их брали на штык.
Марксистско-ленинская доктрина вооружила Нье глубоким пониманием истории,
которому он обучал Лю Хань.
Но она знала из своего собственного опыта, что маленькие чешуйчатые
дьяволы имели свой взгляд на историю, и он не имеет ничего общего с учением
Маркса или Ленина. Они были нечеловечески терпеливы: то, что срабатывало
против Англии или Японии, могло оказаться негодным против них. Если они не
лгали о себе, то даже китайцы, самая древняя и цивилизованная нация в мире,
по сравнению с ними были лишь детьми.
-- Моя дочь здорова? -- наконец спросила Лю Хань Томалсса. Она не смела
сломаться и заплакать, но когда она спросила о своей девочке, то из носа
потекли слезы, не вылившиеся из глаз. Она высморкалась между пальцев, прежде
чем продолжить. -- Вы хорошо заботитесь о ней?
-- Вылупившийся детеныш здоров и доволен.
Томалсс придвинул к себе машину, Лю Хань когда-то уже видела такую. Он
прикоснулся к рычагу. Над машиной волшебством чешуйчатых дьяволов возникло
изображение ребенка. Девочка стояла на четвереньках, обернутая поперек
туловища тканью, и широко улыбалась -- в ротике виднелись два маленьких
белых зубика.
Лю Хань заплакала. Томалсс достаточно хорошо знал, что это означает
печаль. Он снова прикоснулся к рычагу. Изображение исчезло. Лю Хань не
знала, лучше это или хуже. Ей так хотелось подержать ребенка на руках.
Собравшись с силами, она сказала:
-- Если вы говорите с людьми как с равными -- или с чем-то близким к
равенству, -- то вы не будете красть их детей. Вы можете делать либо одно,
либо другое, но не то и другое одновременно. Если вы крадете детей, то
должны ожидать, что люди будут делать все, чтобы навредить вам за это.
-- Но мы берем детенышей, чтобы изучить, как они и Раса могут наладить
отношения друг с другом, начав все заново, -- сказал Томалсс так, будто это
настолько очевидно, что не требует объяснений.
Ппевел заговорил с ним на языке чешуйчатых дьяволов. Эссафф наклонился,
собираясь переводить. Нье вопросительно посмотрел на Лю Хань. Она
прошептала:
-- Он говорит, они узнали важную вещь: люди будут бороться за своих
детенышей, тьфу ты, детей. Это может быть не то, что они собирались узнать,
но это частичный ответ.
Нье ничего не ответил и даже не посмотрел на Ппевела. Лю Хань
достаточно хорошо читала по его лицу, чтобы понять: он не считает Ппевела
дураком. У нее создалось такое же ощущение.
Глаза Ппевела снова повернулись в сторону людей.
-- Предположим, мы вернем вам этого детеныша, -- сказал он через
Эссаффа, игнорируя разнервничавшегося Томалсса. -- Предположим, мы сделаем
это. Что вы дадите нам взамен? Вы согласитесь не устраивать больше взрывы
наподобие того, который испортил день рождения Императора?
Лю Хань глубоко вздохнула. Она отдала бы что угодно, лишь бы вернуть
ребенка. Но решение принимала не она. Здесь власть принадлежала Нье
Хо-Т'ингу, а Нье любил дело больше, чем какого-либо человека или его частные
заботы.
Абстрактно Лю Хань понимала, что это и есть путь, которой следует
избрать. Но можете ли вы думать абстрактно, если вы только что видели своего
ребенка в первый раз после того, как его у вас украли?
-- Нет, мы не согласны на это, -- сказал Нье. -- Это слишком много в
обмен на одного ребенка, который не может причинить вам никакого вреда.
-- Если вернуть детеныша, это повредит нашим исследованиям, -- сказал
Томалсс.
И Нье, и Плевел игнорировали его. Нье продолжил, как ни в чем не
бывало:
-- Хотя, если вы вернете ребенка, мы отпустим одного из ваших самцов,
который у нас в плену. Для вас он должен быть дороже ребенка.
-- Любой самец для нас дороже, чем тосевит, -- сказал Ппевел. -- Это
аксиома. Но в словах исследователя Томалсса содержится доля истины. Прервать
долговременную исследовательскую программу -- это не то, что мы, самцы Расы,
можем сделать просто так. Нам нужно иметь более веские доводы, чем просто
ваше требование.
-- Кража детей для вас не означает преступление? -- спросила Лю Хань.
-- Не очень большое, -- безразличным тоном ответил Ппевел. -- Раса не
страдает концентрацией внимания на отдельных особях, что присуще вам,
тосевитам.
Самое худшее состояло в том, что Лю Хань поняла, что он имеет в виду.
Чешуйчатые дьяволы не были злыми. Просто они настолько отличались от людей,
что, когда они поступали в соответствии со своими понятиями о правильном и
достойном поведении, люди могли только ужасаться.
-- Скажите мне, Ппевел, -- спросила она с угрожающим блеском в глазах,
-- как давно вы на посту помощника администратора этого региона?
Нье Хо-Т'инг бросил на нее быстрый взгляд, но не одернул. Коммунисты
проповедовали равенство между полами, и Нье следовал этим проповедям -- в
большей степени, чем другие, кого она встречала. Например, Хсиа Шу-Тао,
говоря об участии женщины в революции, имел в виду ее лежащей на спине с
широко раздвинутыми ногами.
-- Я несу эту ответственность недолго, -- ответил Ппевел, -- прежде я
был помощником помощника администратора. Почему вы задаете такой неуместный
вопрос?
У Лю Хань не было во рту множества мелких острых зубов, как у маленьких
чешуйчатых дьяволов, но хищная улыбка, которую она адресовала Плевелу,
показала, что она в них и не нуждается.
-- Значит, ваш прежний начальник мертв, да? -- спросила она. -- И он
умер в день рождения вашего Императора?
Все трое чешуйчатых дьяволов на мгновение опустили глаза, когда Эссафф
перевел слово "Император" на их язык.
Ппевел ответил:
-- Да, но...
-- Как вы думаете, кто заменит вас после следующего взрыва? -- спросила
Лю Хань. Сорвать переговоры, вероятно, плохое дело, но ее это не беспокоило.
-- Вы можете не считать похищение детей большим преступлением, но мы так
считаем и будем наказывать вас всех, поскольку не можем добраться до
виновника. -- Она косо посмотрела на Томалсса.
-- Этот вопрос требует дополнительного анализа в высших кругах Расы, --
сказал Ппевел; он сохранил самообладание. -- В данное время мы не говорим
"да", но не говорим и "нет". Давайте перейдем к следующему пункту
обсуждения.
-- Очень хорошо, -- сказал Нье Хо-Т'инг.
Сердце Лю Хань упало. У маленьких чешуйчатых дьяволов не в обычае
откладывать такие дела, и она знала это. Дискуссия о возврате ее дочери
может продолжиться. Но каждый день, который ее дочь проводит вдали от нее,
делает ее все более чужой, и наверстать упущенное становится все труднее.
Она не видела ее с трехдневного возраста. Какой она будет, даже если Лю Хань
наконец вернут малышку?
* * *
Снаружи железнодорожный вагон выглядел, как багажный. Давид Нуссбойм
успел увидеть это, прежде чем усталые охранники НКВД с автоматами,
использовать которые им не было нужды, загнали его и его товарища по
несчастью внутрь. Внутри вагон был разделен на девять отделений, как обычный
пассажирский. Правда, в обычном пассажирском вагоне четыре пассажира в купе
-- это уже под завязку. Люди с ненавистью смотрели друг на друга, как будто
каждый сосед был виноват в том, что занимает так много места. В каждом из
пяти купе для заключенных этого вагона... Нуссбойм покачал головой. Он был
щепетильным и дотошным человеком. Он не знал, сколько людей помещалось в
каждом купе. Но он знал, что в его купе загнали 25 человек.
Он и еще трое сидели, как на насесте, на багажных полках у самого
потолка. Самые сильные и крепкие заключенные лежали в относительном комфорте
-- весьма относительном -- на жесткой средней полке. Остальные сидели,
теснясь, на нижних полках и на полу, на своих скудных пожитках.
Соседом Нуссбойма оказался долговязый парень по имени Иван Федоров. Он
немного понимал по-польски и совсем чуть-чуть -- на идиш, когда польского
было не понять. Нуссбойм, в свою очередь, худо-бедно разбирал русский, да
еще Федоров время от времени использовал немецкие слова.
Его трудно было назвать мыслителем.
-- Расскажите мне снова, как вы попали сюда, Давид Аронович, -- сказал
он. -- Я такой истории, как ваша, еще не слышал.
Нуссбойм вздохнул. Он рассказывал свою историю уже три раза в течение
двух дней -- во всяком случае, он думал, что прошло уже два дня с тех пор,
как он сел на эту полку.
-- Это было так, Иван Васильевич, -- сказал он. -- Я был в Лодзи, в
Польше, в той части, которую захватили ящеры. Мое преступление состояло в
том, что я ненавидел немцев больше, чем ящеров.
-- Почему? -- спросил Федоров.
Этот вопрос он задавал уже в четвертый раз.
До сих пор Нуссбойм избегал ответа: обычный русский любит евреев не
больше, чем обычный поляк.
-- Вы можете догадаться сами? -- спросил он. Федоров наморщил лоб, и он
взорвался:
-- Черт побери, вы разве не видите, что я еврей?
-- Ах, вот что. Да, конечно, я понял, -- сказал его сосед с веселым
спокойствием. -- Такого большого носа нет ни у одного русского.
Нуссбойм прикрыл рукой упомянутую часть лица, но Иван, казалось, не
имел в виду ничего особенного, а просто отметил факт. Он продолжил:
-- Значит, вы были в Лодзи. Как же вы попали сюда? Вот это я и хочу
знать.
-- Мои соседи захотели избавиться от меня, -- с горечью сказал
Нуссбойм. -- Они не стали отдавать меня нацистам -- они не были настолько
погаными. Но они не хотели и оставлять меня в Польше. Они знали, что я не
позволю им сотрудничать с оккупантами. Тогда они ударили меня так, что я
потерял сознание, переправили через захваченную ящерами страну, пока не
добрались до местности, которую вы, русские, продолжали контролировать, и
передали меня вашему пограничному патрулю.
Федоров мог не быть большим мыслителем, но он был советским
гражданином. Он знал, что происходит в таких случаях. Улыбаясь, он сказал:
-- И пограничный патруль решил, что вы преступник -- а кроме того, вы
еще и иностранец, и _жид_, и поэтому они отправили вас в _гулаг_ [Так у
автора. -- Прим. ред.]. Теперь я все понял.
-- Рад за вас, -- кисло ответил Нуссбойм.
Из купе через скользящую решетку, заменяющую дверь, был виден коридор
тюремного вагона. В решетке было проделано зарешеченное же окошечко. Окон во
внешний мир не было, только пара маленьких отдушин, которые в счет не шли.
Два охранника направились к их купе.
Нуссбойм не беспокоился. Он знал, что когда энкавэдэшники ходят
неспешным шагом, они собираются раздавать еду. В животе у него урчало, слюна
наполняла рот. В этом тюремном вагоне -- "столыпинском", как его называли
русские, -- он питался лучше, чем в лодзинском гетто до прихода ящеров.
Правда, не намного лучше.
Один из охранников отодвинул решетку, затем отступил, нацелив на
заключенных автомат. Второй поставил на пол два ведра.
-- Порядок, зэки! -- закричал он. -- В зоопарке время кормления зверей!
Он громко расхохотался над своей остротой, хотя и пускал эту шутку в
ход всякий раз, когда был его черед кормить включенных.
Они тоже громко расхохотались. Если бы они не стали смеяться, никто не
получил бы еды. Это они узнали очень быстро. Избиения служили очень
доходчивым объяснением.
Удовлетворенный охранник начал раздавать куски грубого черного хлеба и
половинки соленой селедки. Один раз заключенные получили и сахар, но потом
охранники сказали, что он закончился. Нуссбойм не знал, насколько это верно,
но проверить все равно не мог.
Зэки, которые, развалившись, лежали на средних полках, получали самые
большие куски. Они подкрепляли свое право кулаками. Рука Нуссбойма коснулась
синяка под левым глазом. Он пытался воспротивиться и заплатил за это.
Он, как волк, проглотил хлеб, но костистую селедку спрятал в карман. Он
научился дожидаться воды, прежде чем есть рыбу.
Селедка была настолько соленой, что от жажды можно было сойти с ума.
Иногда охранники оставляли в купе ведро воды после того, как приносили еду.
Иногда они этого не делали. Сегодня воды не было.
Поезд грохотал. Летом в купе, рассчитанном на четверых, но в которое
набивалось две дюжины мужчин, должно было быть невыносимо -- что, конечно,
не останавливало служащих НКВД. Во время русской зимы живым теплом лучше не
пренебрегать. Несмотря на холод, Нуссбойм не мерз.
В животе его снова заурчало. Животу было безразлично, что его хозяин
будет страдать от жажды, если съест селедку и не напьется. Живот понимал
одно: он по-прежнему почти пуст, а рыба частично заполнит его.
Заскрипев тормозами, поезд резко остановился. Нуссбойм едва не сполз на
людей внизу. С Иваном такое однажды случилось. Люди на полу набросились на
него, как стая волков, били и колотили, пока он весь не покрылся синяками.
После этого случая сидящие на багажной полке научились крепко держаться.
-- Где это мы, как ты думаешь? -- спросил кто-то внизу.
-- В аду, -- ответил другой голос, вызвав смех более горький и
искренний, чем тот, которого добивался охранник.
-- Зуб даю, что это Псков, -- объявил зэк на средней полке. -- Я слышал
разговор, что мы отогнали ящеров от железнодорожной линии, которая идет с
запада. После этого, -- продолжил он менее самоуверенно и вызывающе, --
после этого север и восток, на Белое море, а то и в сибирский гулаг.
Пару минут все молчали. Упоминания о работе зимой под Архангельском или
в Сибири было достаточно, чтобы смутить даже самых бодрых духом.
Стук и толчки показали, что к поезду прицепили или отцепили вагоны.
Один из зэков, сидевших на нижней полке, сказал:
-- Разве гитлеровцы не захватили Псков? Дерьмо, они не причинят нам
вреда больше, чем наш собственный народ.
-- Нет, сделают, -- сказал Нуссбойм и рассказал о Треблинке.
-- Это пропаганда ящеров, вот что это такое, -- сказал большеротый зэк
на средней полке.
-- Нет, -- сказал Нуссбойм.
Даже с оглядкой на зэков со средней полки примерно половина людей в
купе в конце концов поверили ему. Он решил, что одержал моральную победу.
Вернулся охранник с ведром воды, ковшом и парой кружек. Он выглядел
расстроенным из-за того, что обязан дать людям воды, которой они не
заслуживали.
-- Эй, вы, грязные подонки, -- сказал он. -- По очереди и побыстрей. Я
не буду стоять здесь весь день.
Первыми пили здоровые, потом те, у кого был туберкулезный кашель, и
последними из всех -- трое или четверо неудачников, больных сифилисом.
Нуссбойм подумал, есть ли смысл поддерживать установившийся порядок: он
сомневался, что охранники вообще моют кружки после употребления. Вода была
желтоватой, мутной и маслянистой на вкус. Охранник набирал ее в тендере
паровоза, вместо того чтобы пойти к колонке с питьевой водой.
Так или иначе, она была мокрой. Он выпил полагающуюся ему кружку, съел
селедку и ненадолго почувствовал себя не зэком, а почти человеком.
* * *
Георг Шульц крутанул двухлопастный деревянный винт самолета "У-2".
Пятицилиндровый радиальный мотор Швецова сразу же заработал: зимой мотор с
воздушным охлаждением давал большое преимущество. Людмила Горбунова слышала
рассказы о пилотах Люфтваффе, которым приходилось разжигать на земле костры
под мотором своих самолетов, чтобы не допустить замерзания антифриза.
Людмила окинула взглядом минимальный набор приборов на передней панели
"кукурузника". Ничего нового сверх того, что она уже знала, они не
показывали: "кукурузник" заправлен топливом, компас работает
удовлетворительно, а альтиметр говорил, что она все еще на земле.
Она отпустила тормоз. Маленький биплан поскакал по снежному полю,
служившему взлетной полосой. За нею, она знала, мужчины и женщины с метлами
разровняют снег, уничтожив следы колес самолета. Советские ВВС серьезно
относились к маскировке.
Последний толчок -- и "У-2" оторвался от земли. Людмила похлопала по
фюзеляжу одетой в перчатку рукой.
Сконструированный для первоначального обучения этот самолет не давал
покоя сначала немцам, а теперь ящерам. "Кукурузники" летали на малой высоте
с небольшой скоростью и, за исключением мотора, почти не содержали металла:
они ускользали от систем обнаружения ящеров, позволявших инопланетным
империалистическим агрессорам с легкостью сбивать гораздо более совершенные
военные самолеты. Пулеметы и небольшие бомбы -- не слишком хорошее оружие,
но это все же лучше, чем ничего.
Людмила положила самолет в длинный плавный поворот к полю, откуда она
взлетела. Георг Шульц все еще стоял там. Он помахал ей и послал воздушный
поцелуй, прежде чем стал пробираться к елям неподалеку.
-- Если бы Татьяна увидела тебя сейчас, она отстрелила бы твою голову с
высоты восемьсот метров, -- сказала Людмила.
Поток воздуха, врывающийся поверх ветрового стекла в открытую кабину,
унес ее слова прочь. Ей самой хотелось сделать с Георгом Шульцем что-нибудь
похожее. Немецкий пулеметчик-танкист был первоклассным механиком, он
чувствовал моторы так же, как некоторые люди чувствуют лошадей. В этом
состояла его ценность, хотя он был буяном и искренним нацистом.
Со времени, когда Советский Союз и гитлеровцы стали, по крайней мере
формально, сотрудничать в борьбе с ящерами, на его фашизм можно было не
обращать внимания, точно так же, как поступали с фашистами до предательского
нарушения Германией пакта о ненападении с СССР 22 июня 1941 года. Чего
Людмила никак не могла стерпеть, так его попыток затащить ее к себе в
постель: желания переспать с ним у нее было не больше, чем, скажем, с
Генрихом Гиммлером.
-- Думаешь, он оставил меня в покое после того, как они с Татьяной
стали прыгать друг на друга? -- сказала Людмила облачному небу.
Татьяна Пирогова была опытным снайпером, она отстреливала нацистов, а
потом -- ящеров. Она была такой же беспощадной, как Шульц, а может быть, и
более жестокой. По мнению Людмилы, именно это их и сближало.
-- Мужики... -- И она добавила еще одно слово, чтобы закончить
предложение. Добившись расположения Татьяны, он продолжал домогаться и ее.
Она проворчала шепотом: -- Ух, как надоело!
Она летела над Псковом на запад. Солдаты на улицах, некоторые в русской
форме цвета хаки, другие в немецкой серо-зеленой полевой, а кое-кто -- еще в
белой зимней, которая не позволяла определить национальную принадлежность,
приветственно махали, когда она пролетала над ними. Случалось, впрочем, по
ней могли и пальнуть -- полагая, что все летающее принадлежит только ящерам.
От железнодорожной стации на северо-запад полз поезд. Дым от паровоза
тянулся за ним широким черным хвостом, и если бы не низкая облачность,
которая маскировала его от самолетов, он на фоне снега был бы виден за
многие километры. А ящеры с удовольствием расстреливали поезда, едва
предоставлялся шанс.
Она помахала поезду, когда сблизилась с ним. Она не думала, что
кто-нибудь из пассажиров видел ее, но это не важно. Поезда из Пскова были
добрым знаком. В течение зимы Красная Армия -- и немцы, с неудовольствием
подумала Людмила, -- оттеснила ящеров от города и от железной дороги. В
последние дни при определенном везении можно было добраться поездом даже до
Риги.
Но для этого требовались и удача, и время. Вот почему генерал-лейтенант
Шилл отправил свое послание с нею, и не только потому, что так оно попадет к
его нацистскому напарнику в латвийской столице гораздо быстрее, чем по
железной дороге.
Людмила сардонически улыбнулась.
-- Могучему нацистскому генералу очень хотелось послать с этим письмом
могучего нацистского летчика, -- проговорила она, -- но у него нет ни одного
могучего нацистского летчика, а потому пришлось выбрать меня.
У Шилла лицо при этом было такое, словно он ел кислое яблоко.
Она похлопала себя по карману кожаного, на меху летного костюма,
содержавшему бесценный пакет. Она не знала, что написано в письме. Шилл,
вручая ей письмо, всем своим видом показывал, что она не заслуживает этой
привилегии. Она тихо рассмеялась. Словно он мог удержать ее от того, чтобы
она вскрыла конверт! Может быть, он решил, что ей это не придет в голову?
Если так, он глуп даже для немца.
Ее, однако, удержала извращенная гордость. Генерал Шилл -- формально --
был союзником СССР и доверил ей послание, пусть даже и с неохотой. В свою
очередь она тоже будет соблюдать приличия.
"Кукурузник" с гудением летел к Риге. Местность была совершенно не
похожа на степи вокруг Киева, родного города Людмилы. Она летела вовсе не
над бесконечной ровной поверхностью: внизу простирались покрытые снегом
сосновые леса -- часть огромного лесного массива, тянувшегося на восток к
Пскову и еще дальше и дальше. То там, то сям в гуще леса виднелись фермы и
деревни. Вначале признаки человеческого присутствия удивили Людмилу, но по
мере продвижения в глубь прибалтийской территории они стали встречаться все
чаще.
Примерно на середине пути до Риги, когда она перелетела из России в
Латвию, их вид изменился, причем изменились не только дома. Штукатурка и
черепица разительно не похожи на дерево и солому, но главное -- все было
устроено более основательно и целесообразно: вся земля использована для
какой-то ясно определенной цели -- полей, огородов, рощиц, дорог. Все было
при деле, ничто не лежало брошенным или неосвоенным.
-- Это вполне могла быть и Германия, -- громко проговорила Людмила.
Воспоминания заставили ее замолчать. Когда гитлеровцы предательски
напали на ее родину, Латвия находилась в составе Советского Союза чуть
больше года. Реакционные элементы приветствовали нацистов как освободителей
и сотрудничали с ними в борьбе против советских войск. Реакционные элементы
на Украине делали то же самое, но Людмила гнала эту мысль прочь.
Она задумалась над тем, как ее примут в Риге. Вокруг Пскова в лесах
скрывались партизаны, город стал фактически общим владением немецких и
советских войск. Она не думала, что у границ Латвии могли бы находиться
значительные советские силы -- возможно, где-то южнее, но не в Прибалтике.
-- Пожалуй, -- продолжила она, -- в Латвии вскоре появятся значительные
советские силы: это буду я.
Воздушный поток унес ее шутку и веселое настроение.
Она добралась до берега Балтики и полетела вдоль него на юг к Риге.
Море оказалось на несколько километров замерзшим. Увидев это ледяное поле,
Людмила содрогнулась. Даже для русского человека льда было слишком много.
Над рижской гаванью поднимался дым -- после недавней бомбежки ящеров.
Приблизившись к докам, она нарвалась на ружейный огонь. Сжав кулаки -- какие
идиоты, приняли ее биплан за самолет ящеров! -- она ушла в сторону и стала
озираться в поисках места для посадки "кукурузника".
Неподалеку от улицы, похожей на главный бульвар, она увидела парк с
голыми деревьями. В нем было достаточно свободного места для посадки,
покрытого заснеженной мертвой желто-коричневой травой, и для того, чтобы
спрятать биплан. Как только тряский пробег закончился, к ней бросились
немецкие солдаты в серой полевой и белой маскировочной форме.
Они увидели красные звезды на крыльях и фюзеляже "кукурузника".
-- Кто вы, проклятый русский, и что вы здесь делаете? -- закричал один
из них.
Типичный наглый немец, он был уверен, что она знает его язык! Впрочем,
на этот раз он оказался прав.
-- Старший лейтенант Людмила Горбунова, советские ВВС, -- ответила
Людмила по-немецки. -- У меня с собой депеша генералу Брокдорф-Алефельдту от
генерала Шилла из Пскова. Не будете ли вы так добры доставить меня к нему? И
не замаскируете ли вы этот самолет, чтобы его не обнаружили ящеры?
Гитлеровские солдаты попятились в изумлении, услышав ее голос. Она
продолжала сидеть в кабине, ее кожаный летный шлем и зимнее обмундирование
скрывали ее пол. Немец, который окликнул ее, злобно сказал:
-- Мы слышали о летчиках, которые называют себя сталинскими соколами.
Может быть, ты один из сталинских воробьев?
Теперь он использовал "du" -- "ты" вместо "sie" -- "вы". Интересно, он
хотел этим выразить дружелюбие или оскорбить ее? Так или иначе, ей все
равно.
-- Возможно, -- ответила она тоном более холодным, чем здешняя погода,
-- но только в том случае, если вы -- один из гитлеровских ослов.
Она сделала паузу. Развлечет ее выходка немца или рассердит? Ей
повезло: он не только расхохотался, но даже, откинув голову, заревел
по-ослиному.
-- Надо быть ослом, чтобы закончить дни в богом забытом месте наподобие
этого, -- сказал он. -- Все в порядке, Kamerad -- нет, Kameradin старший
лейтенант, я проведу вас в штаб. Почему бы вам не пойти вместе со мной?
Несколько немцев присоединились к ним, то ли в качестве охранников, то
ли потому, что не хотели оставлять ее наедине с первым, а может быть, из-за
того, что им было в новинку, находясь на службе, идти с женщиной. Она изо
всех сил старалась не обращать на них внимания -- Рига интересовала ее
больше.
Даже пострадавший за годы войны город не показался ей "забытым богом".
На главной улице -- Бривибас-стрит, так она называлась (глаза и мозг не
сразу приспособились к латинскому алфавиту) -- было больше магазинов, причем
более богатых, чем во всем Киеве. Одежда горожан на улицах была поношенной и
не особенно чистой, но из лучших тканей и лучшего пошива, чем обычно
встречалась в России или в Украинской Советской Социалистической Республике.
Некоторые люди узнавали ее обмундирование. Несмотря на немецкий эскорт, они
кричали ей на искаженном русском и по-латышски. Она поняла, что по-русски ее
оскорбляли, слова по-латышски, должно быть, звучали не лучше. Вдобавок один
из немцев сказал:
-- Вас здесь любят, в Риге.
-- Есть много мест, где немцев любят еще больше, -- сказала она, и
возмущенный нацист заткнулся. Если бы они играли в шахматы, то она выиграла
бы размен.
Ратуша, где помещался штаб немецкого командования, находилась
неподалеку от перекрестка Бривибас и Калейю. Людмиле здание в готическом
стиле показалось старым, как само время. Часовых у входа не было (Кром в
Пскове тоже снаружи не охранялся), чтобы не выдать место штаба ящерам. Но,
открыв резную дверь, Людмила обнаружила, что на нее смотрят двое враждебного
вида немцев в более чистых и свежих мундирах, чем она привыкла видеть.
-- Что вам нужно? -- спросил один из них.
-- Русская летчица. Она говорит, что имеет депешу из Пскова для
командующего, -- ответил говорливый сопровождающий. -- Я решил, что мы
доставим ее сюда, а вы уж с ней здесь разберетесь.
-- Женщина? -- Часовой посмотрел на Людмилу по-другому. -- Боже мой,
это и в самом деле женщина? Из-за хлама, который на ней надет, я и не понял
сначала.
Он полагал, что она говорит только по-русски. Она изо всех сил
старалась смотреть на него свысока, что было не так-то просто, поскольку он
был сантиметров на 30 выше.
Мобилизовав весь свой немецкий, она сказала:
-- Уверяю вас, это в любом случае не имеет для вас никакого значения.
Часовой вытаращил глаза. Ее сопровождающие, успевшие увидеть в ней до
некоторой степени человеческое существо -- и как настоящие солдаты
недолюбливавшие штабных, -- без особого успеха попытались скрыть усмешки. От
этого часовой рассердился еще больше. Ледяным голосом он произнес:
-- Идемте со мной. Я отведу вас к адъютанту коменданта.
Адъютант был краснолицым, похожим на быка мужчиной с двумя капитанскими
звездочками на погонах. Он сказал:
-- Давайте сюда депешу, девушка. Генерал-лейтенант граф Вальтер фон
Брокдорф-Алефельдт -- занятой человек. И передам ему ваше послание, как
только представится возможность.
Возможно, он подумал, что титулы и сложная фамилия произведут на нее
впечатление. Если так, он забыл, что имеет дело с социалисткой. Людмила
упрямо выдвинула вперед подбородок.
-- Нет, -- сказала она. -- Мне приказано генералом Шиллом передать
послание вашему коменданту -- и никому больше. Я солдат и подчиняюсь
приказу.
Краснолицый стал еще краснее.
-- Один момент, -- сказал он и поднялся из-за стола.
Он вышел в дверь, расположенную у него за спиной. Когда он вернулся,
можно было подумать, что он только что съел лимон.
-- Комендант примет вас.
-- Хорошо.
Людмила направилась к этой же двери. Если бы адъютант не отступил
поспешно в сторону, она налетела бы прямо на него.
Она ожидала увидеть породистого аристократа с тонкими чертами лица,
надменным выражением и моноклем. У Вальтера фон Брокдорф-Алефельдта
действительно были тонкие черты лица, но, очевидно, только потому, что он
был больным человеком. Его кожа выглядела как желтый пергамент, натянутый на
кости. Когда он был моложе и здоровее, он, возможно, был красив. Теперь же
он просто старался держаться, несмотря на болезнь.
Он удивил ее тем, что встал и поклонился. Его мертвая улыбка показала,
что он заметил ее удивление. Тогда он удивил ее еще раз, заговорив
по-русски:
-- Добро пожаловать в Ригу, старший лейтенант. Так какие же новости вы
доставили мне от генерал-лейтенанта Шилла?
-- Я не знаю. -- Людмила протянула ему конверт. -- Вот послание.
Брокдорф-Алефельдт начал вскрывать его, но прервался, снова вскочил и
спешно вышел из кабинета в боковую дверь. Вернулся он бледнее, чем прежде.
-- Прошу извинить, -- сказал он, вскрыв конверт. -- Кажется, меня
мучает приступ дизентерии.
Похоже, это гораздо хуже, чем приступ: если судить по его виду, он
умрет самое большее через день. Людмила знала, что нацисты держатся за свои
посты с таким мужеством и преданностью -- или фанатизмом, -- как никто
другой. Временами, когда она видела это собственными глазами, она
удивлялась: как такие приличные люди могут подчиняться такой системе?
Это заставило ее вспомнить о Генрихе Ягере, и через мгновение щеки ее
залил румянец. Генерал Брокдорф-Алефельдт изучал послание генерала Шилла. К
ее облегчению, он не заметил, как она покраснела. Пару раз он хмыкнул, тихо
и сердито. Наконец он поднял взор от письма и сказал:
-- Мне очень жаль, старший лейтенант, но я не могу сделать того, что
просит немецкий комендант Пскова.
Она и представить не могла, чтобы немец говорил с такой деликатностью.
Он, конечно, был гитлеровцем, но _культурным_ гитлеровцем.
-- А о чем просит генерал Шилл? -- спросила она, затем поспешила
добавить: -- Если, конечно, это не слишком секретно для моего уровня?
-- Ни в коей мере. -- Он говорил по-русски, как аристократ. -- Он
хотел, чтобы я помог ему боеприпасами... Он сделал паузу и кашлянул.
-- То есть он не хотел бы зависеть от советских поставок, вы это имеете
в виду? -- спросила Людмила.
-- Именно так, -- подтвердил Брокдорф-Алефельдт. -- Вы ведь видели дым
над гаванью? -- Он вежливо дождался ее кивка, прежде чем продолжить. -- Это
все еще горят грузовые суда, которые разбомбили ящеры, суда, которые были
доверху нагружены всевозможным оружием и боеприпасами. Теперь у нас самих
жестокая нехватка всего, и поделиться с соседом мне нечем.
-- Мне жаль слышать это, -- сказала Людмила.
К своему удивлению, она поняла, что говорит не только из вежливости. Ей
не хотелось, чтобы немцы в Пскове стали сильнее, чем советские войска, но и
ослабление немцев по сравнению с силами ящеров было тоже нежелательным.
Найти баланс сил, который устраивал бы ее, было непросто. Она продолжила:
-- У вас будет ответ генералу Шиллу, который вы отправите со мной?
-- Я подготовлю ответ, -- ответил Брокдорф-Алефельдт, -- но вначале...
Бек! -- повысил он голос. В кабинет быстро вошел адъютант.
-- Принесите что-нибудь старшему лейтенанту из столовой, -- приказал
Брокдорф-Алефельдт, -- она проделала долгий путь с бессмысленным поручением
и, несомненно, не откажется от чего-нибудь горячего.
-- Слушаюсь, герр генерал-лейтенант! -- сказал Бек и повернулся к
Людмиле. -- Если вы будете добры подождать, старший лейтенант Горбунова.
Он пригнул голову, словно метрдотель странного декадентского
капиталистического ресторана, и спешно удалился. Если его начальник отнесся
к Людмиле с уважением, значит, точно так же к ней отнесется и он.
Когда капитан Бек вернулся, в руках он держал поднос с большой
дымящейся тарелкой.
-- Майзес зупе ар путукрейму, латышское блюдо, -- объяснил он, -- суп
из крупы со взбитыми сливками.
-- Благодарю вас, -- сказала Людмила и принялась за еду.
Суп был горячим, густым, питательным и по вкусу не казался непривычным.
В русской кухне тоже обычно много сливок, правда чаще кислых, то есть
сметаны, а не свежих.
Пока Людмила насыщалась, Бек вышел в свой кабинет и вскоре вернулся с
листом бумаги, который положил перед генералом Брокдорф-Алефельдтом.
Немецкий комендант Риги изучил письмо, затем посмотрел на Людмилу, но
продолжал молчать и заговорил, только когда она отставила тарелку.
-- Я хочу попросить вас об одолжении, если вы не возражаете.
-- Это зависит от того, какого рода одолжение, -- настороженно ответила
она.
Улыбка графа Брокдорф-Алефельдта делала его похожим на скелет, который
только что услышал хорошую шутку.
-- Уверяю вас, старший лейтенант, я не имел никаких непристойных
намерений в отношении вашего, несомненно прекрасного, тела. Это чисто
военный вопрос, в котором вы могли бы помочь нам.
-- Я и не думала о непристойных намерениях в отношении меня, --
ответила Людмила.
-- Нет? -- Немецкий генерал снова улыбнулся. -- Как это разочаровывает.
Пока Людмила обдумывала, как следует воспринять это высказывание,
Брокдорф-Алефельдт вернулся к деловому разговору.
-- Мы поддерживаем контакт с несколькими партизанскими группами в
Польше. -- Он сделал паузу, дав ей усвоить сказанное. -- Полагаю, я должен
заметить, что это партизанская война против ящеров, а не против рейха. В
группах есть немцы, поляки, евреи -- я слышал, что есть даже несколько
русских. Одна из таких групп, а именно под Хрубешовом, передала нам, что
готова, в частности, пустить в ход противотанковые мины. Вы могли бы
доставить им эти мины быстрее, чем кто бы то ни было из наших людей. Что вы
на это скажете?
-- Я не знаю, -- ответила Людмила. -- Я ведь вам не подчинена. А своих
самолетов у вас нет?
-- Самолеты -- да, несколько штук, но ничего похожего на "летающую
швейную машинку", на которой вы прибыли, -- сказал Брокдорф-Алефельдт.
Людмила и прежде слышала эту немецкую кличку самолета "У-2", и всегда в
таких случаях лукавая гордость наполняла ее. Генерал продолжил:
-- Эту задачу мог бы выполнить мой последний связной самолет,
"Физелер-Шторх", но он был сбит две недели назад. Вы ведь знаете, как ящеры
разделываются с более крупными и заметными машинами. Хрубешов находится
отсюда примерно в пятистах километрах к югу и немного западнее. Вы можете
выполнить это задание? Могу добавить, что уничтожение танков благодаря вашей
помощи, вероятно, будет полезно как для советских вооруженных сил, так и для
вермахта.
С тех пор как немцы оттеснили организованные -- в отличие от партизан
-- советские вооруженные силы в глубь России, Людмила сомневалась в этом. С
другой стороны, ситуация после вторжения ящеров стала довольно зыбкой, и,
кроме того, старшего лейтенанта ВВС не информируют о развертывании войск.
Людмила спросила:
-- А вы сможете передать ваш ответ генералу Шиллу, если я не полечу с
письмом обратно?
-- Думаю, мы сможем организовать это, -- ответил Брокдорф-Алефельдт. --
Если это -- единственное, что препятствует вам в выполнении задания, я
уверен, что мы решим этот вопрос.
Людмила задумалась.
-- Вам придется дать мне бензин для полета туда, -- наконец проговорила
она, -- и, конечно, партизаны должны будут достать бензин для возвращения. У
них он есть?
-- Они должны были раздобыть некоторое количество бензина, -- ответил
немецкий генерал. -- Кроме того, после прихода ящеров в Польше его почти не
расходуют. И конечно, после вашего возвращения мы снабдим вас топливом до
Пскова.
Об этом она еще не успела спросить. Несмотря на устрашающую фамилию и
громкие титулы, генерал-лейтенант граф Вальтер фон Брокдорф-Алефельдт был
все же джентльменом старой школы. Это помогло Людмиле совладать с собой и
кивнуть в знак согласия. В дальнейшем у нее еще будет возможность подумать,
было ли это достаточно веской причиной.
* * *
Ричард Петерсон был неплохим специалистом, но, насколько было известно
бригадному генералу Лесли Гровсу, безнадежным тупицей. Он сидел на жестком
стуле в кабинете Гровса в Научном центре Денверского университета и
объяснял:
-- Методики хранения, о которой вы говорите, сэр, трудно
придерживаться, если одновременно произойдет увеличение производства
плутония.
Гровс ударил громадным кулаком по столу. Это был крупный коренастый
человек с коротко подстриженными рыжеватыми волосами, тонкими усиками и
грубыми чертами лица, напоминавшего морду мастиффа. От мастиффа, похоже, он
взял и неумолимую агрессивность.
-- Что вы говорите, Петерсон? -- угрожающе прорычал он. -- Вы хотите
сказать, что мы должны выливать радиоактивные отходы в реку, чтобы ящеры
могли узнать, откуда они взялись? Лучше вам не продолжать эту фразу, потому
что вы знаете, что будет потом.
-- Конечно, знаю! -- Голос Петерсона прозвучал пронзительно и резко. --
Ящеры нас немедленно взорвут, и мы перейдем в мир иной.
-- Совершенно верно, -- сказал Гровс. -- Мне чертовски повезло, что я
не был в Вашингтоне, когда они сбросили там свои бомбы. -- Он фыркнул -- Они
успешно избавились в Вашингтоне от нескольких политиканов -- странно, но,
выходит, они даже помогли нашим военным. Но если они сбросят бомбу на
Денвер, то мы не сможем сделать больше ни одной ядерной бомбы. А в таком
случае мы проиграем войну.
-- Я это тоже знаю, -- ответил Петерсон. -- Но перерабатывающий завод
может делать ровно столько, сколько может. Если выжимать больше плутония,
увеличится нагрузка на фильтры -- а если отходы проникнут сквозь фильтры, то
попадут в Южный Платт.
-- Нам нужно получить больше плутония, -- резко сказал Гровс. -- Если
для этого надо включить дополнительные фильтры или чистить те, которые у нас
есть, озаботьтесь. Для этого вы тут и находитесь. Если вы скажете, что не
можете справиться, я найду того, кто сможет, обещаю вам. У вас есть
преимущество в получении материалов не только из Денвера, но и со всей
страны. Используйте это или найдите другую работу.
В своих роговых очках Петерсон выглядел как щенок, которого ни за что
пнули под ребра.
-- Дело не в материалах, генерал. Мы отчаянно нуждаемся в
подготовленных людях. Мы...
Гровс смотрел сердито.
-- Я вам сказал, мне не нужны извинения. Мне нужны результаты. Если у
вас недостаточно подготовленных людей, подготовьте еще. Или же используйте
неподготовленных, но разбейте все ваши процедуры на детские шажки, которые
сможет понять любой идиот. Освоил первый шажок -- переходит к следующему.
Вышло не так -- повторил процедуру снова. Получилось вот такое или такое --
зовет руководителя, который быстро разберется, что происходит. На такое
обучение уйдет много времени, но вы быстрее добьетесь результатов.
-- Но... -- начал было Петерсон.
Гровс игнорировал его -- демонстративно взял бумагу, самую верхнюю, из
переполненной корзины входящих. Техник рассерженно вскочил на ноги и выбежал
из кабинета. Гровс едва удержался от смеха. Ему приходилось наблюдать и
более яростную реакцию. Он мысленно сделал пометку: повнимательнее наблюдать
за заводом по обработке плутония в течение нескольких следующих недель. Или
Петерсон увеличит продукцию без выпуска радиоактивных отходов в реку, или
этим займется кто-нибудь другой.
Бумага, которую взял Гровс, была особенно важной, даже по сравнению с
остальными важными бумагами, которые -- как и все, так или иначе связанное с
атомным оружием, -- имели высший приоритет. Он потер подбородок. Такое не
каждый день попадалось ему на глаза.
-- Значит, это проклятые русские хотят нашей помощи, так? -- проговорил
он.
Он не особенно задумывался о русских -- ни об их политике, ни об их
инженерных способностях. Правда, они сделали первую атомную бомбу
человеческими руками, хотя и использовали расщепляющиеся материалы,
украденные у ящеров. Значит, они заслуживают большего уважения, чем всегда
казалось.
Правда, теперь они переживают трудности в производстве собственных
радиоактивных веществ и хотят, чтобы кто-то прибыл к ним и помог. Если бы не
ящеры, Гровс реагировал бы как человек, обнаруживший в своем белье гремучую
змею. Но когда на сцене появляются ящеры, то беспокойство в первую очередь
вызывают они и только потом -- надежды дядюшки Джо обзавестись атомной
бомбой или, скорее, целой кучей бомб.
Гровс откинулся в своем вращающемся кресле. Оно скрипнуло. Ему
захотелось закурить. С тем же успехом он мог пожелать достать луну с неба.
Он невольно произнес вслух:
-- Как бы я хотел, чтобы с нами был Ларссен. Он прекрасно бы подошел
для поездки в Москву.
Ларссен, увы, был мертв. Впрочем, он уже никогда не стал бы прежним
после того, как его жена ушла к этому парню из армии -- к Игеру, так его
звали. Когда возникла перспектива переезда Металлургической лаборатории в
Хан-форд, штат Вашингтон, никто не захотел прерывать работу для
инспекционной поездки. А Ларссен проявил себя тогда наилучшим образом.
Но со своими внутренними демонами справиться не смог. В конце концов
они взяли верх, и он застрелил двух людей и бежал на юг, в сторону
территории, захваченной ящерами. Если бы он "запел" -- а Гровс был уверен,
что для этого он и сбежал, -- то над Денвером расцвел бы цветок ядерного
пламени. Но кавалеристы успели перехватить его прежде, чем он смог добраться
до врага.
-- Так кого же все-таки послать? -- обратился Гровс к стенам кабинета.
Проблема состояла в том, что записка, которую он получил, мало что
говорила ему. Он не знал, какого рода неприятности у красных. Есть ли у них
вообще действующий реактор? Или они пытаются разделить уран-235 и уран-238?
В записке ничего об этом не говорилось. Разбираться, что им требуется, было
не легче, чем собрать картинку-головоломку из маленьких кусочков, когда
некоторых фрагментов нет, причем неизвестно, каких именно.
Поскольку это были русские, следовало исходить из того, что у них
какие-то проблемы элементарного порядка. У него тоже есть такая проблема:
посылать ли кого-то через полмира в разгар войны без гарантии, что он
прибудет на место целым? И если послать, то кого он не любит настолько,
чтобы именно его отправить в Москву или где там русские работают над своей
программой?
Он вздохнул.
-- Да, Ларссен очень подошел бы, -- сказал он.
Увы, с этим он ничего сделать не мог. И никто другой, до самого
Страшного Суда, тоже. Гровсу было не свойственно напрасно тратить время -- в
частности, на размышления о чем-то таком, чего он заведомо не мог сделать.
Он понял, что самому ему решить этот вопрос не по силам и что надо
поговорить с учеными.
Гровс снова посмотрел на письмо. В обмен на помощь США могли бы
получить какие-нибудь устройства с базы ящеров, которая взбунтовалась и
сдалась советской армии.
-- Надо убедиться, что русские не сжульничают и не расплатятся
барахлом, которое не действует или у нас уже есть, -- сказал он стенам.
Единственно, в чем можно быть уверенным, имея дело с русскими, так это
в том, что верить им нельзя.
Он снова перечитал письмо. Кажется, он кое-что пропустил...
-- Взбунтовалась база ящеров? -- проговорил он.
Такого еще не было. Ящеры просто рождены, чтобы служить в армии, они
исполнительны и дисциплинированны, пусть даже выглядят как хамелеоны,
больные манией величия. Он задумался: что же довело их до такой крайности,
что они выступили против собственных офицеров?
-- Проклятье! Если бы Игер и пленные ящеры были здесь, -- проговорил
он, -- уж я бы выкачал их до дна.
Подстрекательство ящеров к мятежу вовсе не входило в его нынешние
обязанности, но его разбирало любопытство.
С другой стороны, хорошо, что Игера здесь не было, когда Йене Ларссен
вернулся из Ханфорда. Ларссен, вероятно, прикончил бы его и Барбару из
винтовки, которую ему выдали для поездки. Все это недоразумение с его женой
не было следствием чьей-то вины, но Ларссен не мог справиться с ситуацией.
Так или иначе, Гровс был уверен, что именно это переполнило чашу его
терпения.
-- Ладно, не стоит больше беспокоиться, -- сказал он.
Ларссен умер, Игер с женой уехали в Хот-Спрингс, штат Арканзас, и
пленные ящеры вместе с ними. Гровс подозревал, что Игер продолжает работать
с ящерами. У него здорово получалось разбирать, что они имеют в виду и как
они вообще думают. Гровс знал, как отзывались об умственных способностях
самого Игера: ничего особенного, парень со странностями -- но весьма
способный.
Он выкинул Игера из головы так же, как только что выкинул Ларссена.
Если русские хотят заплатить за информацию, которая им нужна для создания
атомной бомбы, значит, они в ней действительно очень нуждаются. С другой
стороны, Ленин что-то говорил о капиталистах, которые продают Советскому
Союзу веревку, на которой красные их же и повесят. Если они узнают ядерные
секреты, разве в один прекрасный день они не решат использовать их против
Соединенных Штатов?
-- Конечно, захотят -- ведь это русские, -- сказал Гровс.
В конце концов, если припрет, США, не колеблясь, используют в своих
интересах любые знания, откуда бы они ни взялись. Таковы правила игры.
Другой вопрос: насколько обоснованны его опасения? Краткосрочное
преимущество -- против риска в отдаленном будущем. Если без ядерного оружия
русских разобьют, то беспокоиться о них глупо. Следует беспокоиться о том,
что сделают с Соединенными Штатами русские, вооруженные ядерными бомбами,
_после_ того, как Россия разделается с ящерами.
Насколько ему известно -- спасибо Игеру и пленным ящерам, -- ящеры
преуспели в долгосрочном планировании. Они свысока смотрели на людей, потому
что люди, по их меркам, лишены предвидения. Зато, с точки зрения людей,
ящеры настолько заняты изучением лесных дебрей, что временами не замечают,
что возле двери соседа валится дерево и падает им на головы.
-- Раньше или позже мы узнаем, правы они или правы мы -- или же мы и
они ошибались, -- сказал он.
Вопрос был не из тех, с которыми он легко справлялся. Допустим, надо
что-то построить за определенный срок, вот деньги. Он либо возьмется
выполнить работу, либо скажет, что сделать ее невозможно, -- и объяснит
почему. На то он и инженер.
"А если вам нужна философия, -- думал он, -- то следует пойти за нею к
философу".
И тем не менее, занимаясь нынешним проектом, он постоянно выслушивал
многочисленные пояснения ученых. Разобравшись, как работает бомба, он по
мере сил помогал им с технологией и методикой. Но когда Ферми, Сциллард и
все остальные пускались в дискуссии, он всегда пасовал, хотя и считал себя
способным к математике. Квантовая механика была ему не по зубам.
Так, ладно, сейчас он должен беспокоиться только о том, чтобы выбрать
какого-нибудь физика-неудачника и отправить его в Россию. Из всего того, что
он делал на службе нации, предстоящая операция вызывала у него наименьший
энтузиазм.
Хотя по сравнению с беднягой, которому придется отправиться туда, ему
не так уж и плохо.
Панайотис Маврокордато, стоявший у борта "Наксоса", показал точку на
берегу.
-- Вот она, -- сказал он по-немецки с греческим акцентом. -- Святая
земля. Через пару часов мы причалим в порту Хайфы.
Мойше Русецкий поклонился.
-- Не обижайтесь, -- добавил он на немецком языке с гортанным иудейским
выговором, -- но я не буду сожалеть, когда сойду здесь с вашего судна.
Маврокордато рассмеялся и сдвинул плоскую черную шерстяную матросскую
шапочку на лоб. На Мойше была такая же шапка, подаренная одним из матросов
"Наксоса". Раньше он думал, что на Средиземном море всегда солнечно и тепло,
даже и зимой. Солнце здесь действительно светило, но бриз, который овевал
их, никак нельзя было назвать теплым.
-- Во время войны безопасных мест не существует, -- сказал
Маврокордато. -- Раз уж мы прошли через это, то, черт побери, сможем пройти
почти через что угодно, Theou thelontos [Господи помилуй (греч.). -- Прим.
пер.].
Он вынул янтарные четки и принялся перебирать их.
-- Не могу с вами спорить, -- сказал Русецкий.
Старое ржавое судно направлялось в Рим, когда этот вечный город --
старое прозвище все-таки оказалось ошибочным -- и одновременно опорный пункт
ящеров в Италии исчез в атомном пожаре. Немцы до сих пор хвастались этим в
коротковолновых передачах, несмотря на то, что вскоре после этого ящеры в
отместку превратили в пар Гамбург.
-- Подготовьтесь сойти на берег с семьей сразу же, как только мы
причалим, -- предупредил Маврокордато. -- Вы ведь единственный груз, который
мы доставили в этом рейсе, и как только англичане расплатятся с нами за то,
что доставили вас в целости и сохранности, мы тут же повернем обратно в
Тарсус на всех парах.
Он топнул ногой по палубе. "Наксос" знавал и лучшие времена.
-- У нас не так уж много вещей, чтобы беспокоиться о сборах, -- ответил
Мойше. -- Если только Рейвен не будет торчать в машинном отделении, мы будем
готовы по первому слову.
-- Какой хороший у вас мальчик, -- ответил греческий капитан.
Похоже, по понятиям Маврокордато, хороший -- это мальчик, способный на
всевозможные проказы. Мойше в этом отношении был более умеренным. Впрочем,
Рейвен -- как и вся семья -- прошел через такое, что грех жаловаться на
мальчика.
Он отправился в каюту, которую делил с Рейвеном и женой Ривкой, чтобы
убедиться, не подведет ли он Маврокордато. Скудные пожитки уже почти все
увязаны. Ривка удерживала Рейвена на месте тем, что читала польские сказки
из книги, которая каким-то чудом уцелела на пути из Варшавы в Лондон, а из
Лондона -- почти до самой Святой Земли. Если Рейвену читали или же он
углублялся в книгу сам, он успокаивался. Все остальное время в маленьком
мальчике, казалось, работал вечный двигатель. Мойше казалось, что более
подходящего места для вечного двигателя и не найти.
Ривка положила книгу и вопросительно посмотрела на мужа.
-- Мы причалим через пару часов, -- сказал он.
На Ривке держалась вся семья, и Мойше был достаточно умен, чтобы
понимать это.
-- Я не хочу сходить с "Наксоса", -- сказал Рейвен, -- мне нравится
здесь. Я хочу стать матросом, когда вырасту.
-- Не глупи, -- сказала ему Ривка, -- мы направляемся в Палестину, в
Святую Землю. Ты понимаешь? В течение сотен и сотен лет здесь было очень
мало евреев, и вот теперь мы возвращаемся. Мы даже можем попасть в
Иерусалим. "На следующий год -- в Иерусалиме" -- желают друг другу люди в
святые дни. А мы попадем туда на самом деле, ты это понимаешь?
Рейвен кивнул, широко раскрыв глаза. Несмотря на тяготы переездов, они
сумели объяснить ему, что значит быть евреем и какое чудо стоит за словом
"Иерусалим". Для Мойше это слово было волшебным. Он и не представлял себе,
что его долгое путешествие закончится в Палестине, пусть даже его привезли
сюда, чтобы помочь англичанам, которым нет дела до его религии.
Ривка продолжила чтение. Мойше прошел на нос судна и стал рассматривать
приближающуюся Хайфу. Город начинался от самого моря, поднимаясь по склонам
горы Кармель. Даже зимой, в холода средиземноморское солнце светило гораздо
ярче, чем он привык видеть в Варшаве и в Лондоне. Большинство домов, которые
он видел, были ярко-белыми, в этом пронзительном солнечном свете они
сверкали, словно облитые серебром.
Между домами виднелись группы невысоких густых деревьев с серо-зеленой
листвой. Таких он раньше никогда не видел. Когда подошел капитан
Маврокордато, он спросил его, что это за деревья.
-- Разве вы не знаете олив? -- воскликнул он.
-- В Польше не растут оливы, -- извиняющимся тоном ответил Мойше, -- и
в Англии тоже.
Гавань тем временем приближалась. На пирсе было много людей в длинных
одеждах -- в белых или в ярких полосатых -- и с платками на головах. Арабы,
спустя мгновение понял Мойше. Неизмеримо далекая от всего, с чем он вырос,
реальность обрушилась на него, словно удар дубины.
На других людях была более привычная одежда: мешковатые штаны, рубахи с
длинными рукавами, иногда пальто; вместо арабских платков -- кепки или
поношенные шляпы. Особняком держалась группа людей в хаки, знакомом Мойше по
Англии: британские военные.
Маврокордато, должно быть, их тоже увидел, потому что направил "Наксос"
именно к тому пирсу, на котором они стояли. Черные клубы угольного дыма,
поднимавшиеся из труб старого судна, постепенно сошли на нет, судно плавно
подошло к причалу. Матросы с помощью докеров на берегу быстро пришвартовали
"Наксос", бросили сходни с причала на судно. Услышав стук, Мойше осознал,
что может сойти на берег Израиля, земли, с которой его праотцы были изгнаны
две тысячи лет назад. От благоговения волосы на затылке встали дыбом.
Ривка и Рейвен вышли на палубу. Жена Мойше тащила мешок, еще один мешок
нес на плече матрос.
Мойше взял у него вещи со словами:
-- Evkharisto poly -- благодарю вас.
Почти единственная фраза на греческом, выученная им за время долгого
нервного путешествия по Средиземному морю, оказалась полезной.
-- Parakalo, -- ответил, улыбаясь, матрос, -- добро пожаловать.
Англичане в военной форме двинулись к "Наксосу".
-- Мне можно... нам можно... подойти к ним? -- спросил Мойше
Маврокордато.
-- Идите вперед, -- ответил капитан, -- я тоже пойду. Для верности. Они
должны мне заплатить.
Ноги Мойше застучали по доскам причала. Ривка и Рей-вен держались
вплотную к нему. Последним шел Маврокордато. Мойше сделал последний шаг.
Теперь он покинул судно и находился на Земле -- пусть это всего-навсего порт
-- Обетованной. Ему хотелось встать на колени и поцеловать грязное, с
пятнами креозота дерево досок.
Но он не успел. Один из англичан заговорил:
-- Вы, должно быть, мистер Русецкий? Я -- полковник Истер, ваш
посредник здесь. Мы свяжемся с вашими соотечественниками при первой
возможности. Ситуация здесь несколько осложнилась, поэтому ваша помощь будет
очень полезной. Совместные действия в одном и том же направлении увеличат
наши шансы на успех, вы согласны?
-- Я сделаю все, что смогу, -- медленно, с акцентом ответил Мойше
по-английски.
Он без всякой радости изучал Истера: тот явно воспринимал еврея как
некий инструмент, только и всего. Как и ящеры. Лучше иметь дело с
англичанами, чем с чужаками, но все равно ему претило быть инструментом в
чьих-то руках.
В сторонке другой британский офицер передал Панайотису Маврокордато
несколько аккуратно обвязанных столбиков золотых соверенов. Грек расцвел в
улыбке. Вот он точно не считал Мойше инструментом, для него пассажир
представлял собой продовольственную карточку, и капитан этого не скрывал. На
фоне лицемерия Истера его честность была, пожалуй, привлекательней.
Англичанин сказал:
-- Пройдемте со мной, мистер Русецкий, вы и ваша семья, у входа в доки
нас ожидает повозка. Сожалею, что мы не можем предложить вам автомобиль --
сейчас у нас очень плохо с бензином.
Бензина недоставало во всем мире. Странно, что полковник Истер
озаботился вежливым объяснением отсутствия топлива. Даже элементарную
вежливость он игнорировал: ни он, ни один из его подчиненных не сделал ни
малейшего движения, чтобы взять мешки у Мойше и Ривки. Беспокоиться об
удобствах для гостей? Но ведь это просто инструмент -- что о нем
беспокоиться?
Повозка оказалась окрашенным в черный цвет старинным английским
экипажем, который, наверно, хранили в вате и фольге в течение двух
поколений.
-- Мы отвезем вас в казарму, -- сказал Истер, забираясь в экипаж вместе
с семьей Русецких и рядовым солдатом, который взял в руки вожжи. Остальные
офицеры уселись в другую, очень похожую повозку. -- Там вас накормят, а
затем посмотрим, как вас разместить, -- продолжил Истер.
Если бы они думали не только о том, как его использовать, то квартиру
подготовили бы заранее. Хорошо хоть вспомнили, что инструменту требуется
пища и вода. А вот помнят ли они, что ему нельзя предлагать ветчину?
Солдат-кучер щелкнул вожжами и прикрикнул на лошадей. Экипаж с грохотом
покатил из портового района.
Широко раскрытыми глазами Мойше рассматривал пальмы, похожие на
гигантские метелки из перьев; беленые здания, построенные из земляных
кирпичей; мечеть, мимо которой они проезжали. Арабы-мужчины в длинных
одеждах, которые он уже видел в порту, и арабские женщины, закутанные так,
что видны были только их глаза, руки и ступни ног, глазели на экипажи,
ехавшие по узким извилистым улочкам. Мойше чувствовал себя как чужак, хотя
его собственный народ произошел из этих мест. А вот полковник Истер,
казалось, ничуть не сомневался в том, что управление этой страной ему
доверил сам Господь Бог.
Неожиданно здания расступились, образуя рыночную площадь. И Мойше
моментально избавился от ощущения своей чужеродности и почувствовал себя
дома. Ни одна деталь на этом рынке не была похожа на то, что он знал по
Варшаве: ни одежды продавцов и покупателей, ни язык, которым они
пользовались, ни фрукты, овощи и безделушки, которые они продавали и
покупали. Но общий тон, атмосфера, то, как они торговались, словно
возвращали его назад, в Польшу.
Ривка тоже улыбалась: очевидно, сходство рынков поразило и ее. И при
более внимательном рассмотрении Мойше обнаружил, что не все мужчины и
женщины на рынке были арабами. Были и евреи, большей частью в рабочей или
просто длинной одежде, которая, однако, была более открытой, чем одеяния, в
которые кутались арабские женщины.
Пара евреев с медными подсвечниками в руках прошли совсем рядом с
экипажем. Они говорили громко и оживленно. Улыбка Ривки исчезла.
-- Я не понимаю их, -- сказала она.
-- Они говорят на иврите, а не на идиш, -- объяснил Мойше и слегка
вздрогнул.
Сам он смог разобрать только несколько слов. Учить иврит в молитвах и
по-настоящему говорить на нем -- это совершенно разные вещи. Ему понадобится
многому научиться здесь. Как скоро он сможет управиться?
Они миновали рынок. Дома и лавки снова придвинулись вплотную. На
перекрестках больших улиц движением управляли британские солдаты -- точнее,
пытались делать это: арабы и евреи в Хайфе не склонны были подчиняться
командам, как послушное население Лондона.
Через пару кварталов дорога начала петлять. Невысокий молодой парень в
рубашке с короткими рукавами и в брюках хаки выскочил вперед перед экипажем,
в котором ехала семья Русецких. Он направил пистолет в лидо кучера.
-- Теперь вы сойдете, -- сказал он по-английски с сильным акцентом.
Полковник Истер потянулся к оружию. Молодой человек обвел взглядом
крыши по обе стороны дороги. С десяток мужчин, вооруженных винтовками и
автоматами, -- у большинства лица были скрыты под платками -- взяли на
прицел оба экипажа, направлявшихся к британским казармам.
Очень медленно и осторожно Истер убрал руку.
Самоуверенный молодой человек, появившийся первым, улыбнулся, словно
это был рядовой случай, а не что-то из ряда вон выходящее.
-- Ах, как это хорошо, это очень хорошо, -- сказал он. -- Вы очень
понятливый человек, полковник.
-- В чем же смысл этой... этой дурацкой дерзости? -- потребовал ответа
Истер. Судя по его тону, имей он хоть малейший шанс на успех, он принял бы
бой.
-- Мы освобождаем вас от ваших гостей, -- ответил нападавший.
Он отвел взгляд от англичанина, посмотрел на Мойше и заговорил на идиш:
-- Вы и ваша семья, выходите из экипажа и пойдемте со мной.
-- Почему? -- спросил Мойше на том же языке. -- Если вы именно тот, за
кого я вас принимаю, то я в любом случае стал бы говорить с вами.
-- Да, и сказали бы нам то, что хотят британцы, -- ответил парень с
пистолетом. -- Теперь выходите -- я не собираюсь спорить с вами целый день.
Мойше вылез из повозки, помог спуститься жене и сыну. Размахивая
пистолетом, налетчик повел их через ближайшие ворота во двор, где было еще
двое вооруженных людей. Один из них отложил винтовку и завязал глаза всем
Русецким.
Когда он завязывал глаза Мойше, он заговорил на иврите -- совсем
короткое предложение, смысл которого дошел до Мойше спустя мгновение.
Примерно то же самое сказал бы в такой ситуации он сам:
-- Отличная работа, Менахем.
-- Спасибо, но не надо болтовни, -- ответил налетчик. Значит, он и был
Менахемом. Он легонько толкнул Мойше в спину, а кто-то другой подхватил его
под локоть.
-- Двигайтесь.
Не имея выбора, Русецкий повиновался.
* * *
Большие Уроды толкали тележки с боеприпасами к истребителю Теэрца.
Большинство из них относились к темно-коричневой разновидности тосевитов --
в отличие от розово-смуглого типа. Темно-коричневые тосевиты в этой части
малой континентальной массы были более склонны к сотрудничеству с Расой, чем
те, что посветлее. Насколько знал бывший командир полета, светлокожие
обращались с темнокожими настолько плохо, что правление Расы по сравнению с
этим должно было показаться благом.
Его пасть открылась от удивления. Раньше он думал: Большой Урод -- это
Большой Урод, и этим все сказано. А сами тосевиты, видимо, смотрели на
проблему иначе.
Эти тосевиты сняли с себя туники, закрывавшие верхнюю часть тел.
Используемая в обмене веществ вода, охлаждающая их тела, блестела на их
шкурах. Судя по всему, им было жарко.
Для Теэрца температура была вполне подходящей, а вот влажность воздуха
-- излишне велика. Но это единственное, что смущало его в здешнем климате,
во Флориде. Ему довелось провести зимы в Маньчжурии и Японии, по сравнению с
которыми Флорида казалась чудесной.
Двое самцов, обслуживавших истребитель Теэрца, начали загружать его.
-- Как, только две ракеты "воздух -- воздух"? -- сердито спросил он.
-- Будьте благодарны за то, что вы получили две, господин, -- ответил
старший -- плотный самец по имени Уммфак.
Хотя формально обслуга истребителей подчинялась пилотам, те, кто был
поумнее, обращались с Уммфаком и его коллегами как с равными -- за что и
получали лучшие боеприпасы.
-- Очень скоро, -- продолжил Уммфак, -- не останется ничего, кроме
пушечных снарядов, так что мы и Большие Уроды будем сражаться в ближнем бою.
-- Неприятная мысль, -- сказал Теэрц и вздохнул. -- Но вы, вероятно,
правы. Похоже, теперь боевые действия пойдут именно так. -- Он постучал по
обшивке фюзеляжа истребителя. -- Слава Императору, что мы все еще летаем на
более совершенных машинах.
-- Вы совершенно правы, -- сказал Уммфак. -- Но даже они нуждаются в
запасных частях...
Теэрц забрался в кабину и уютно свернулся на бронированном мягком
сиденье, как будто был детенышем, свернувшимся внутри яйца. Он не хотел
думать о проблеме запасных частей. Большие Уроды уже начали летать на
машинах, гораздо более опасных для его истребителя, чем те, которыми они
располагали, когда Раса впервые высадилась на Тосев-3.
Он снова с горечью рассмеялся. Считалось, что у Больших Уродов вообще
нет никаких самолетов. Считалось, что они -- варвары дотехнологической эры.
Насколько он знал, они действительно были варварами: вряд ли хоть один
самец, побывавший в японском плену, стал бы с этим спорить. А вот
дотехнологическая эра на поверку оказалась совсем другой.
Он пробежал глазами полетный лист. Все было, как положено. Он сунул
коготь в пространство между незакрепленным куском обивки и внутренней
стенкой кабины. Сосуд с имбирем никто не обнаружил. Это хорошо. Японцы
приучили его к этому снадобью, когда он был в плену.
Сбежав, он обнаружил, что многие его сотоварищи попробовали имбирь по
собственному желанию.
Он вызвал местного командира полетов и получил разрешение на взлет.
Турбины истребителя проснулись и взревели. Вибрация и шум вызвали приятное и
знакомое ощущение.
Он вырулил на взлетную полосу, затем круто взлетел -- ускорение сильно
вдавило его в сиденье. Горизонт перед ним чудесно раздвинулся, как всегда
бывает при взлете. Это расширение радовало его здесь меньше, чем при полетах
на других базах, потому что в глаза сразу же бросились руины Майами.
Теэрц летел над Флоридой, когда под ним расцвело жуткое облако взрыва.
Будь он чуточку поближе, огненный шар задел бы и его. Взрыв мог повредить
истребитель или же бросить в штопор, из которого он бы не вышел.
Командир полета издал тревожное шипение. Рука сама начала искать
маленький пластиковый сосуд с порошком имбиря. Когда Теэрца перебросили на
малую континентальную массу, он забеспокоился, сможет ли он добыть здесь
снадобье, которого так страстно желал. Но на базе во Флориде многие самцы
использовали имбирь, а темнокожие Большие Уроды, которые работали на Расу,
казалось, обладали неистощимым запасом порошка. Они даже просили за него
немного -- обычные безделушки, мелкие электронные штучки, которые он легко
доставал, чтобы обменивать на наслаждение, приносимое имбирем.
Но...
-- Сейчас не буду, -- сказал он и убрал руку.
Конечно, после имбиря он почувствует себя великолепно, но снадобье все
же затуманивает сознание. Стычки с Большими Уродами перестали быть легкими и
безопасными, как когда-то. Излишняя самоуверенность теперь все чаще
кончается занесением имени на мемориальную пластину, которая хранит память о
самцах, погибших во имя присоединения Тосев-3 к Империи.
В столицах Работев-2 и Халесс-1 тоже были такие пластины, он сам видел
их голограммы перед отлетом. На той, что хранилась на Халесс-1, было всего
несколько имен, на Работев-2 -- несколько сотен. Теэрц был уверен, что Раса
воздвигнет мемориальную пластину и на Тосев-3 -- раз уж так сделано в других
завоеванных мирах. Если не поддерживать традиции, то какой смысл в
цивилизации?
Но мемориальные пластины на Тосев-3 будут слишком большими.
-- Мы сможем возвести пластины, а затем построить столицу внутри них,
-- сказал Теэрц.
Его рот сам собой открылся: видение было ужасным, но в то же время и
забавным. Мемориальные пластины, увековечившие память героев, павших при
завоевании Тосев-3, будут содержать множество имен.
Теэрц пролетел над предписанным участком малой континентальной массы на
север и на запад. Значительная часть этой территории все еще оставалась в
руках Больших Уродов. Частенько зенитный огонь оставлял в воздухе грязные
пятна черного дыма ниже и позади него. Об этом он не беспокоился -- он летел
на слишком большой высоте, где зенитки тосевитов не могли достать его.
Одним глазом он настороженно следил за радиолокационным изображением на
экране. Разведка сообщала, что американцы отставали от британцев и немцев в
области реактивной авиации, кроме того, они обычно использовали свои
поршневые машины для атак по наземным частям, но никогда нельзя быть
уверенным... и разведка вовсе не такая всеведущая, как принято считать. Еще
один болезненный урок, который Раса получила на Тосев-3.
На вершинах здесь и там пятнами лежал снег. Насколько знал Теэрц,
именно поэтому Большие Уроды до сих пор удерживали эту часть своего мира. Но
если оставить им все местности, где падает снег, в конечном счете у вас
останется слишком мало земли, которую можно назвать своей.
Он подлетел поближе к большой реке, которая текла с севера на юг через
середину северной половины малой континентальной массы. Большую часть
территории вдоль реки контролировала Раса. Если с его машиной что-то
произойдет, он сможет найти убежище.
Большая река отмечала западную границу области патрулирования. Он уже
собирался развернуться назад к Флориде, которая, какой бы влажной ни была,
по крайней мере позволяла наслаждаться умеренным климатом. Внезапно радар
переднего обзора обнаружил новую угрозу.
Неизвестный объект отделился от земли и быстро развил скорость большую,
чем скорость истребителя Теэрца. Теэрц даже подумал: не испортилось ли
что-нибудь в радаре? И есть ли на базе запчасти, чтобы починить его?
Затем мысли приняли другое направление. Это не был самолет типа
ракетного истребителя, который начали использовать немцы. Это была очень
плохая ракета, управляемый снаряд. У немцев такие были, но Теэрц не знал,
что они есть и у американцев. По его данным, вряд ли знала об этом и
разведка.
Он включил радиопередатчик:
-- Командир полета Теэрц вызывает разведку базы во Флориде.
Спутниковая связь соединила его с вызываемым так быстро, словно он
находился в соседней комнате.
-- Разведка, база Флориды, говорит Ааатос. Ваше сообщение, командир
полета Теэрц?
Теэрц подробно доложил о том, что засек радар, затем сказал:
-- Если хотите, у меня достаточно топлива, чтобы добраться до стартовой
площадки, нанести удар по пусковой установке или по другим тосевитским
сооружениям, которые я увижу, и затем вернуться на базу.
-- Вы инициативный самец, -- сказал Ааатос.
Для Расы эта фраза не обязательно означала комплимент, хотя Теэрцу
хотелось воспринимать это именно так. Ааатос продолжил:
-- Пожалуйста, подождите, пока я посоветуюсь со своими руководителями.
Теэрц ждал, хотя каждое следующее мгновение повышало вероятность того,
что ему придется заправляться в воздухе. Но Ааатос исчез ненадолго:
-- Командир полета Теэрц, вам разрешен удар по тосевитским сооружениям.
Накажите Больших Уродов за их наглость.
-- Будет исполнено, -- сказал Теэрц.
Компьютер на борту истребителя зафиксировал место, где радар впервые
засек управляемый снаряд. Он связался с картографическими спутниками,
которые Раса запустила на орбиту Тосев-3, и проложил Теэрцу курс к стартовой
площадке.
Он знал, что у Расы отчаянно не хватает антиракетных снарядов. Они
истратили множество их против ракет, которые запускали немцы в Польше и во
Франции. Теэрц не представлял себе, сколько их осталось -- если они вообще
остались, -- но ему не требовалась раскраска тела командующего флотом, чтобы
сообразить: если Раса должна будет использовать их здесь, в Соединенных
Штатах, оставшиеся резервы исчезнут еще быстрее.
Он полетел низко над лесом, западнее большой реки -- и дальше над
поляной, откуда, если не врут его приборы, американский управляемый снаряд
начал свой полет. Вскоре он обнаружил на поляне выжженный участок мертвой
травы. И это все, что он нашел. Пусковая установка -- или что там
использовали Большие Уроды, возможно, направляющие рельсы -- уже была
спрятана под кронами деревьев.
Имей он неограниченное количество боеприпасов, он обстрелял бы все
пространство вокруг поляны. Но сейчас... Он доложился на базу во Флориде.
Ответил Ааатос:
-- Возвращайтесь сюда для полного доклада, командир полета Теэрц. Мы
найдем другие возможности заставить Больших Уродов заплатить.
-- Возвращаюсь на базу, -- подтвердил Теэрц.
Если американские тосевиты начнут использовать управляемые снаряды, у
Расы в будущем появится множество шансов нанести удар по их установкам. Имел
ли в виду Ааатос именно это, Теэрц не знал.
* * *
Высоко подняв белый флаг перемирия, Джордж Бэгнолл вышел на поляну в
сосновом лесу, к югу от Пскова. Снег похрустывал под его валенками. Огромные
шлепающие боты напомнили ему веллингтоновские сапоги, но только сделанные из
фетра; при всем своем уродстве они чудесно защищали ноги от холода. Что
касается тела, то на нем был кожаный, на меху комбинезон королевских ВВС.
На дальней стороне поляны появился ящер. Инопланетянин также нес белую
тряпку, привязанную к палке. На нем тоже были валенки, несомненно, снятые с
мертвого русского солдата. Несмотря на валенки, несмотря на множество слоев
одежды под шинелью вермахта, сидевшей на ящере, как палатка, существо
выглядело страшно замерзшим.
-- Говорите ли вы по-русски? -- произнесло оно с шипящим акцентом. --
Или же по-немецки?
-- По-немецки я говорю лучше, -- ответил Бэгнолл. Затем решил проверить
наудачу: -- Вы говорите по-английски?
-- Не понимаю, -- сказал ящер и перешел на немецкий. -- Мое имя --
Никеаа. Мне предоставлено право вести переговоры от имени Расы.
Бэгнолл назвал себя.
-- Я -- инженер британских королевских воздушных сил. Мне поручено
вести переговоры ради немецких и советских солдат, защищающих Псков и его
окрестности.
-- Я думал, что британцы далеко отсюда, -- сказал Никеаа, -- но, может
быть, я не так хорошо знаю тосевитскую географию, как мне казалось.
Что имелось в виду под словом "тосевитская", стало ясно из дальнейшего.
-- Британия не так близко от Пскова, -- согласился Бэгнолл. -- Но
большинство человеческих стран объединилось против вашего рода, и поэтому я
здесь.
"И как бы я хотел оказаться в любом другом месте!"
Его бомбардировщик доставил сюда радиолокационную станцию и
специалиста, который должен был объяснить русским, как с ней работать, но
почти сразу после посадки самолет разбомбили, и пилот не смог вернуться в
Англию. Он и его товарищи находились здесь уже год. И хотя они нашли себе
дело -- стали посредниками между красными и нацистами, которые по-прежнему
ненавидели друг друга не меньше, чем ящеров, -- это было занятие, с которым
хотелось покончить как можно скорее.
Никеаа сказал:
-- Очень хорошо. Вы имеете полномочия. Вы можете говорить. Ваши
командиры попросили об этом перемирии. Мы согласились в данный момент, чтобы
узнать причины этой просьбы. Вы мне скажете это немедленно.
Немецкое слово "зофорт" ("немедленно") прозвучало как длинное
угрожающее шипение.
-- За долгое время боев здесь мы захватили пленных, -- ответил Бэгнолл.
-- Некоторые из них ранены. Мы делали для них все, что могли, но ваши
доктора лучше знают, что делать и как обращаться с ними.
-- Истинно так, -- сказал Никеаа.
Он двинул головой вверх и вниз, изображая кивок. В первое мгновение
Бэгнолл воспринял жест как естественный. Затем он сообразил, что ящер
научился этому движению вместе с немецким и русским языками. Его уважение к
образованию Никеаа приподнялось на ступеньку.
То, что он сказал ящеру, было, несомненно, правдой. Насколько он знал,
военные в Пскове относились к пленным ящерам гораздо лучше, чем немцы к
пленным русским, и наоборот. Ящеров было трудно захватить в плен, и они
представляли собой большую ценность. Нацисты и красные соперничали из-за
них.
-- Что вы хотите в обмен на возврат этих раненых самцов Расе? --
спросил Никеаа и издал странный кашляющий звук, видимо, пришедший из его
собственного языка. -- У нас тоже есть пленные немцы и русские. У нас нет
здесь британцев. Мы не причиняем вреда этим пленным после того, как
захватываем их. Мы отдадим их вам. Мы отдадим их десять к одному, если вы
согласны.
-- Этого недостаточно, -- сказал Бэгнолл.
-- Тогда мы отдадим двадцать за одного, -- сказал Никеаа.
Бэгнолл слышал от тех, кто имел дело с ящерами, что чужаки не умеют
торговаться. Теперь он сам убедился в этом. Люди на переговорах так легко не
соглашаются.
-- Этого все еще недостаточно, -- сказал он. -- Кроме солдат, мы хотим
получить сотню ваших книг или фильмов и две машины для просмотра фильмов
вместе с работающими батареями для них.
Никеаа в тревоге отшатнулся.
-- Вы хотите, чтобы мы раскрыли вам свои секреты? -- Он снова издал тот
же кашляющий звук. -- Этого не будет.
-- Нет-нет, вы неправильно поняли, -- поспешно сказал Бэгнолл. -- Мы
знаем, что вы не передадите нам никаких военных руководств или чего-то
подобного. Мы хотим получить ваши романы, ваши рассказы, научные труды,
которые не научат нас создавать оружие. Дайте нам это, и мы будем довольны.
-- Если вы не сможете использовать их немедленно, зачем они вам?
Человеку трудно истолковать интонации ящера, но Бэгнолл подумал, что в
голосе Никеаа чувствовалась подозрительность. Чужак продолжил:
-- Обычно тосевиты ведут себя не так.
Да, он был подозрительным.
-- Мы хотим больше узнать о вашем роде, -- ответил Бэгнолл. -- Эта
война непременно кончится, и тогда ваш и мой народы будут жить бок о бок.
-- Да. Вы будете подвластными нам, -- сухо ответил Никеаа.
Бэгнолл покачал головой.
-- Не обязательно. Если бы ваше завоевание было таким легким, как вы
думали, сейчас оно уже закончилось бы. Вам придется обращаться с нами почти
как с равными, по крайней мере -- до окончания войны, а может быть, и после
нее. Так же, как нам с вами. Я знаю, что вы изучали нас долгое время. А мы
только начинаем изучать вас.
-- У меня нет полномочий решить такой вопрос самостоятельно, -- ответил
Никеаа. -- К этому требованию мы не готовы, и поэтому я должен
проконсультироваться со своими начальниками, прежде чем ответить.
-- Раз вы должны, значит, так надо, -- сказал Бэгнолл.
Он уже замечал -- и не только он один, -- что ящеры не способны
принимать быстрые решения.
Он попытался голосом выразить разочарование, хотя и сомневался, что
Никеаа поймет его интонации. Требование было непростым. Если ящеры передадут
книги, фильмы и читающие устройства, половина добычи отправится в Москву, а
вторая -- в... нет, не в Берлин, он разрушен, в какой-то другой немецкий
город. Половина достанется НКВД, половина -- гестапо. Бэгнолл жаждал победы
человечества над ящерами, но временами его пугал энтузиазм, проявленный
нацистами и большевиками, пожелавшими помочь англичанам и американцам в
изучении завоевателей. Он видел, как действуют люди Гитлера и Сталина, и это
чаще ужасало его, чем удивляло.
Никеаа сказал:
-- Я доложу ваши условия и сообщу ответ, когда мои начальники решат,
каким он должен быть. Может быть, нам следует встретиться через пятнадцать
дней? Я надеюсь, что к этому времени будет выработано решение.
-- Я не ожидал такого длительного срока, -- сказал Бэгнолл.
-- Не следует принимать поспешных решений, особенно таких важных, --
сказал Никеаа.
Было ли это упреком? Бэгнолл терялся в догадках. Ящер добавил:
-- Мы ведь не тосевиты, чтобы мчаться сломя голову. Да, это упрек. Или
просто пренебрежение.
-- Пусть через пятнадцать дней, -- сказал Бэгнолл и направился в лес,
где его ожидал эскорт -- смешанный, состоящий из двух групп, русской и
немецкой.
Бэгнолл обернулся -- Никеаа спешил к своим. От выдоха Бэгнолла
образовалось облачко тумана. Для пилота Кена Эмбри и специалиста по радарным
установкам Джерома Джоунза "свои" остались слишком далеко от Пскова.
Капитан Мартин Борк держал лошадь Бэгнолла. Этот служащий вермахта
бегло говорил по-английски; Бэгнолл думал, что он связан с разведкой, но не
был уверен в этом. Борк спросил по-английски:
-- Удалось договориться об обмене?
Очевидно, он ожидал ответа на этом же языке, которого русские не знали.
Удерживать союзников от того, чтобы они не вцепились друг другу в горло,
было непростым делом. И Бэгнолл ответил на немецком, который многие в
Красной Армии понимали:
-- Нет, мы не договорились. Ящерам надо поговорить со своим
начальством, прежде чем они решат, давать нам книги или нет.
Русские восприняли это как должное. В их понимании выйти хотя бы на
дюйм за пределы приказа было опасно. Если все кончится провалом, вся вина
ляжет на тебя. Борк презрительно фыркнул -- в вермахте приветствовалась
большая инициатива.
-- Что же, ничего не поделаешь, -- сказал он, повторив затем по-русски:
-- _Ничево_.
-- _Ничево, да_, -- сказал Бэгнолл и вскочил на лошадь.
Ехать верхом было не так приятно, как в теплом автомобиле, но хотя бы
ноги и бедра не мерзли. До Пскова он ездил на лошади всего раз пять. Теперь
он чувствовал себя готовым участвовать в скачках. Разумом он понимал, что до
дерби ему еще далеко, но успехи в освоении верховой езды поощряли его
воображение.
Переночевав в холодном лагере, к полудню он вернулся в Псков и сразу
направился в Кром, средневековый каменный замок, чтобы доложить о задержке
генерал-лейтенанту Курту Шиллу и командирам партизан Николаю Васильеву и
Александру Герману, совместно управлявшим в городе. Среди офицеров, как он и
ожидал, находился и Кен Эмбри. Служащий королевских ВВС, относительно
беспристрастный, он играл роль смазки между офицерами вермахта и Красной
Армии.
После доклада Бэгнолл и Эмбри направились в деревянный домик, в котором
они жили вместе с Джеромом Джоунзом. Когда они подошли поближе, то услышали
грохот бьющейся посуды и громкие сердитые голоса двух мужчин и женщины.
-- О, черт, это же Татьяна! -- воскликнул Кен Эмбри.
-- Точно, -- сказал Бэгнолл.
Они перешли на бег. Тяжело дыша, Бэгнолл добавил:
-- Какого черта она не оставляет в покое Джоунза после того, как
переключилась на этого немца?
-- Потому что так было бы удобнее для всех, -- ответил Эмбри.
Со времени, когда Эмбри был пилотом, а Бэгнолл бортинженером
"ланкастера", они постоянно состязались в цинизме и остроумии. На этот раз
верх одержал Эмбри.
Бэгнолл, однако, был лучшим бегуном и на пару шагов опередил товарища.
Он охотно отказался бы от этой победы. Но, раз уж так случилось, он
распахнул дверь и ринулся внутрь -- и Эмбри вместе с ним.
Георг Шульц и Джером Джоунз стояли лицом к лицу и кричали друг на
друга. Татьяна Пирогова собиралась швырнуть тарелку. Судя по осколкам,
предыдущая попала в Джоунза, и это не означало, что следующая не полетит в
голову Шульца. Бэгнолла порадовало, что Татьяна бросается посудой, вместо
того чтобы снять с плеча снайперскую винтовку Мосина-Нагана с оптическим
прицелом [Никогда так не называлась. Просто Наган, уступив в конкурсе на
новое оружие для российской армии русскому оружейнику Мосину, поднял
скандал, утверждая, что тот украл у него схему винтовки. Несколько судов,
разбиравших это дело, признали неправоту бельгийца -- что не мешает западным
авторам называть знаменитую трехлинейку "винтовкой Мосина-Нагана". Они
действительно похожи внешне, "мосинка" и "наган", но имеют существенные
конструктивные отличия -- большие, чем, скажем, "наган" и "маузер".
Косвенным, но убедительным доказательством заслуг Мосина является то, что
винтовка Нагана так и не была принята на вооружение ни в одной стране,
включая его родную Бельгию, а винтовка Мосина заслуженно считается одной из
лучших в мире по боевым качествам и абсолютно уникальной -- по
эксплуатационным. -- Прим. ред.].
Она была поразительной женщиной: светловолосая, голубоглазая, прекрасно
сложенная -- в общем, если лицо и тело для вас главное, лучшего и не найти.
Не так давно она начала обхаживать Бэгнолла, и ее любовная связь с Джоунзом
была не единственной причиной, по которой он отклонил ее притязания. Лечь с
ней в постель -- все равно что с самкой леопарда: процесс забавный, но
позволить себе повернуться к ней спиной никак нельзя.
-- А ну заткнитесь, -- закричал он вначале по-английски, затем
по-немецки и наконец по-русски.
Трое спорщиков и не подумали утихомириться, вместо этого они начали
орать на вошедшего. Он подумал, что прекрасная Татьяна швырнет тарелку в
него, но она этого не сделала.
Хороший знак, подумал он. И хорошо, что теперь они кричат на него.
Поскольку он, слава богу, не спал ни с кем из троих, возможно, ссора станет
менее острой.
За его спиной подал голос Кен Эмбри:
-- Что за чертовщина здесь творится?
Он сказал это на той же смеси русского и немецкого, которой пользовался
при переговорах генерал-лейтенанта Шилла с командирами русских партизанских
отрядов. Их споры тоже частенько доходили чуть ли не до драки.
-- Этот ублюдок продолжает спать с моей женщиной! -- кричал Георг
Шульц, тыкая пальцем в Джерома Джоунза.
-- Я -- не твоя женщина! Я отдаю свое тело, кому захочу! -- так же
горячо кричала Татьяна.
-- Да не нужно мне твое тело! -- вопил Джером Джоунз на сносном русском
языке: он учил этот язык в студенческие годы в Кембридже.
В свои двадцать с лишним лет он был худощавым парнем с умным лицом,
ростом почти с Шульца, но далеко не такого плотного телосложения.
-- Христос и все святые! Сколько раз я тебе должен это повторять!
Его живописная клятва Татьяну ни в чем не убедила. Вышло только хуже.
Она плюнула на пол:
-- Вот тебе Христос и все святые! Я -- советская женщина, свободная от
суеверий и чепухи. И если я захочу тебя, человечек, то ты будешь мой.
-- А как же я? -- спросил Шульц -- как и остальные, во всю мощь своих
легких.
-- Здесь быть посредником приятнее, чем в генеральских ссорах, --
тихонько сказал Бэгнолл Кену Эмбри.
Эмбри кивнул, затем бесстыдно улыбнулся.
-- Интереснее слушать, не так ли?
-- ...спала с тобой, -- отвечала Татьяна, -- так что нечего жаловаться.
И сейчас это делаю, хотя последний раз, когда ты лег на меня, ты назвал меня
"Людмила"!
-- Я? -- сказал Шульц. -- Да в жизни...
-- Было, -- сказала Татьяна с такой уверенностью, что спорить было
бессмысленно, -- и с очевидной злобной радостью. -- Ты все мечтаешь об этой
мяконькой советской летчице, по которой сохнешь, как щенок с высунутым
языком. А если я подумаю о ком-то еще, у тебя трагедия! Если ты считаешь,
что я плохо обращаюсь с твоим петухом, он может убираться к черту.
Она повернулась к Джоунзу, слегка качнув бедрами, и облизала губы.
Бэгнолл не мог видеть, что она делает, но это не означало, что он был
невосприимчив к этому. Так же, как и Джером. Он сделал полшага к Татьяне,
затем с заметным усилием остановился.
-- Нет, черт возьми! -- закричал он. -- Вот так я и влип в первый раз.
Он замолчал, взгляд его был задумчивым. Затем он перевел разговор на
другую тему.
-- Я не видел Людмилу несколько дней. Она еще не вернулась из
последнего полета, да?
-- Да, -- ответил Шульц и покивал головой, -- она улетела в Ригу и
должна вскоре вернуться.
-- Не обязательно, -- сказал Бэгнолл, -- генерал Шилл получил ответ на
послание, которое доставляла она, и сказал, что комендант Риги
воспользовался преимуществами ее легкого самолета для какого-то своего дела.
Ему было трудно сохранить невозмутимое выражение лица: Людмила
Горбунова серьезно интересовала его, хотя и без взаимности.
-- А, это хорошо, это очень хорошо, -- сказал Шульц, -- я не слышал об
этом.
Татьяна попыталась разбить тарелку об его голову, но он был проворен и
успел отбить удар. Тарелка пролетела через комнату, грохнулась о деревянную
стену и разбилась. Татьяна обругала его по-русски и на ломаном немецком.
Высказав все и кое-что повторив, она прокричала:
-- Раз никому до меня дела нет, идите вы все к чертовой матери!
Выскочив из дома, она хлопнула дверью. Соседи могли бы подумать, что в
дом попал артиллерийский снаряд.
И тут Георг Шульц удивил Бэгнолла -- он рассмеялся. А затем эта
деревенщина -- подумать только! -- процитировала Гете:
-- Die ewige Weibliche -- вечная женственность... -- Он покачал
головой. -- Не понимаю, как я попался...
-- Должно быть, любовь, -- невинно предположил Кен Эмбри.
-- Боже упаси! -- Шульц обвел взглядом осколки разбитой посуды. Его
взгляд остановился на Джероме Джоунзе. -- Черт бы побрал вас, англичан.
-- В ваших устах это просто комплимент, -- ответил Джоунз.
Бэгнолл подошел поближе к оператору радара. Если Шульц что-то затеет,
пусть знает, что Джерома одного не оставят.
Но немец только покачал головой, словно медведь, отгоняющий пчел, и
вышел из дома. Он хлопнул дверью не так сильно, как Татьяна, но все же
осколки посуды подпрыгнули на полу. Бэгнолл глубоко вздохнул. Происшедшее
было все же лучше, чем драка, но и забавного в нем не было. Он хлопнул
Джерома Джоунза по спине.
-- Какого дьявола вы спутались с этим ураганом, который ходит в облике
человека?
-- Прекрасная Татьяна? -- теперь Джоунз покачал головой, причем
печально. -- У нее не просто облик человека. У нее облик женщины -- и в этом
вся проблема.
-- И она не хочет бросить вас, несмотря на то, что у нее есть этот
лихой нацист? -- спросил Бэгнолл.
"Лихой" -- в отношении Георга Шульца не совсем подходящее определение.
Больше сгодилось бы "способный", хотя и "опасный" тоже было бы правильно.
-- Это именно так, -- проговорил Джоунз.
-- Почаще посылайте ее подальше, старик, и до нее в конце концов
дойдет, -- посоветовал Бэгнолл. -- Вы ведь хотите избавиться от нее, не так
ли?
-- Большую часть времени -- да, конечно, -- ответил Джоунз. -- Но
временами, когда я... вы понимаете... -- Он обвел взглядом усыпанный
осколками пол и замолчал.
Бэгнолл закончил вместо него:
-- Вы имеете в виду, когда вы возбуждены.
Джоунз печально кивнул. Бэгнолл посмотрел на Кена Эмбри, тот посмотрел
на него. Они дружно застонали.
* * *
Нашествие ящеров превратило в руины сотни городов, но некоторым пошло
на пользу. Например, Ламару, штат Колорадо. Городок в прерии, центр
незначительного графства -- таким он был до нашествия чужаков, теперь он
превратился в центр обороны. Люди и грузы поступали в него, а не из него,
как обычно.
Капитан Ранс Ауэрбах размышлял над этим, наблюдая за кусками баранины,
шипящими на гриле в местном кафе. Топливом служил сухой конский навоз:
вокруг Ламара было немного лесов, мало угля, а природный газ отсутствовал
вовсе. Однако лошадей было множество -- а сам Ауэрбах носил нашивки капитана
кавалерии.
Официантка с мясистыми, как у борца-рекордсмена, руками поставила три
кружки домашнего пива и большое блюдо вареной свеклы. Она мельком взглянула
на баранину.
-- Ух-ух, -- сказала она не только себе, но и Ауэрбаху. -- Рассчитали
почти точно -- будет готово через пару минут.
Ауэрбах подвинул одну кружку вдоль по стойке к Рэйчел Хайнс, которая
сидела слева от него, другую -- Пенни Саммерс, сидевшей справа, и поднял
свою.
-- За гибель ящеров! -- сказал он.
-- К черту их! -- согласилась Пенни и выпила.
Она говорила с сильным среднезападным акцентом и вполне могла сойти за
уроженку Ламара; техасский же протяжный выговор Ауэрбаха незамедлительно
выдавал в нем пришельца. Но и Пенни, и Рэйчел родились не в Ламаре. Ауэрбах
и его люди спасли их обеих из Лакина, штат Канзас, когда его отряд атаковал
базу ящеров.
После секундного колебания Пенни Саммерс повторила, как эхо:
-- За гибель ящеров! -- и тоже отпила пива.
Теперь она все делала тихо и медленно. При побеге из Лакина ее отца
изрубили в куски у нее на глазах. С тех пор она никак не могла опомниться.
Официантка обошла стойку и стала длинной вилкой накладывать куски
баранины на тарелки.
-- Ешьте, люди, -- сказала она. -- Ешьте как следует -- неизвестно,
когда вам снова выпадет такой шанс.
-- Что правда, то правда, -- сказала Рэйчел Хайнс и набросилась на
баранину с ножом и вилкой.
Ее голубые глаза загорелись, когда она проглотила большой кусок. Она
тоже изменилась после побега, но не ушла в себя, как Пенни. Теперь она
носила ту же форму цвета хаки, что и Ауэрбах, только вместо капитанского
значка на ней был один шеврон. Она стала неплохим солдатом, научилась ездить
верхом, стрелять, не слишком много болтала, и остальные кавалеристы отдавали
ей должное тем -- и это было истинным комплиментом, -- что по большей части
относились к ней, как к мальчику.
Она вонзила зубы в мясо, нахмурилась и переложила вилку в левую руку,
чтобы воспользоваться ножом.
-- Как поживает палец? -- спросил Ауэрбах.
Рэйчел посмотрела на свою руку.
-- По-прежнему отсутствует, -- доложила она и протянула руку так, что
он мог рассмотреть промежуток между средним пальцем и мизинцем. -- Этот
сукин сын сделал мне так больно, что я обезумела. Но думаю, что могло быть и
похуже, по-настоящему я не пострадала.
Немногие люди, которых знал Ауэрбах, могли бы говорить о ранении так
безразлично. Если бы Рэйчел родилась парнем, то была бы лучше большинства из
них.
Ауэрбах сказал:
-- Предположительно этот Ларссен перебегал к ящерам с материалом, о
котором они вроде бы не знают. К тому же он убил двух человек. Когда мы его
схватили, то, что он нес, оказалось при нем. Жаль только, что и мы понесли
потери, когда охотились за ним.
-- Интересно, что такое он знал? -- задумалась Рэйчел Хайнс.
Ауэрбах пожал плечами. Его солдаты неоднократно задавали тот же вопрос,
когда получили приказ из Денвера поймать Ларссена. Он не знал ответа и мог
делать только очень приблизительные предположения, которыми не делился с
подчиненными. Некоторое время назад он возглавлял кавалерийский эскорт,
который доставил в Денвер Лесли Гровса, и Гровс перевозил груз -- он не
говорил, что именно, -- с которым обращался бережней, чем со святым Граалем.
Если это не имело отношения к атомным бомбам, которые пару раз сбросили на
ящеров, Ауэрбах был бы очень удивлен.
Пенни Саммерс сказала:
-- Я потратила много времени в молитвах, чтобы все вернулись с задания
целыми. Я делаю это каждый раз.
-- Это не самое худшее из дел, -- сказал Ауэрбах, -- но выходить
наружу, чтобы готовить еду, ухаживать за ранеными или делать еще что-то по
вашему желанию, тоже не вредно.
С тех пор, как Пенни попала в Ламар, она проводила большую часть
времени в маленькой меблированной комнатке перенаселенного жилого дома,
размышляя и перечитывая Библию. Вытащить ее на ужин с бараниной было своего
рода достижением.
По крайней мере, так он думал, пока она не отодвинула тарелку и не
сказала:
-- Я не люблю баранину. У нее странный вкус, и она очень жирная. В
Лакине мы ее почти не ели.
-- Вам надо поесть, -- сказал ей Ауэрбах, зная, что это прозвучало
по-матерински. -- Просто необходимо.
И правда: Пенни была тонкой, как прутик.
-- Эй, это все-таки еда, -- сказала Рэйчел Хайнс. -- Я теперь не
возражаю даже против свеклы. Я просто ем все подряд, я перестала
беспокоиться о диете после того, как надела форму.
Форма сидела на ней так, что армейские бюрократы, которые ее
разработали, могли бы только удивляться. И она вовсе не была полной. Если бы
она не относилась ко всем окружающим совершенно одинаково, то половина людей
в отряде передралась бы за нее. Были моменты, когда сам Ауэрбах боролся с
соблазном. Но даже если бы она и проявила к нему интерес, это создало бы
массу проблем.
Он снова взглянул на Пенни. За нее он тоже считал себя ответственным. А
переживал за нее даже больше. С Рэйчел -- что вы видите, то и есть, он не
мог себе представить, чтобы она что-то скрывала. Что касается Пенни, у него
возникло ощущение, что под ее теперешним несчастьем скрыто нечто иное. Он
пожал плечами. Возможно, опять разыгралось воображение. И не в первый раз.
К его удивлению, она снова взяла тарелку и начала есть, без особой
охоты, но с такой настойчивостью, будто заправляла автомобиль. Он промолчал,
чтобы ничего не испортить.
Рэйчел Хайнс встряхнула головой. Она уложила волосы в короткий пучок,
чтобы он лучше помещался под каской.
-- Сбежать, чтобы передать наши секреты ящерам! Я не могу представить
этого, но это факт. И множество людей в Лакине неплохо относились к ящерам,
как будто они были новыми членами совета графства или что-то в этом роде.
-- Это правда!
Лицо Пенни Саммерс перекосило выражение свирепости и жестокости,
Ауэрбах не видел такого со времени прибытия в Ламар.
-- Джо Бентли из универсального магазина, так вот он подлизывался к ним
из-за своих товаров, и когда Эдна Уилер как-то обозвала их тварями с
вытаращенными глазами, которых только на ярмарке уродов показывать, разве он
не побежал к ним -- так быстро, как только несли ноги? А на следующий день
их с мужем и двумя детьми вышвырнули из дома.
-- Это так, -- кивнула Рэйчел. -- В самом деле так. А Мел Сикскиллер, я
полагаю, не выдержал, что люди все время обзывают его полукровкой, и стал
рассказывать ящерам всякие сказки, и они поверили ему. А у многих потом были
неприятности. Да, некоторые обращались с ним плохо, но вы бы не стали
подлизываться к ящерам из-за личной обиды.
-- А мисс Проктор, учительница домашней экономики в школе? -- сказала
Пенни. -- Как она называла ящеров? "Волна будущего", вот так, словно мы
ничего не должны делать против них -- не важно, каким образом. И потом она
ходила и проверяла, чтобы мы чего-нибудь не натворили.
-- Да, она проверяла, -- сказала Рэйчел. -- И...
Они разговаривали еще пять или десять минут, вспоминая
коллаборационистов маленького родного городка.
Ауэрбах сидел молча, допивая пиво и доедая свою порцию (он не возражал
против баранины, но мог долгое время обходиться без свеклы), и слушал,
слушал. Он никогда не видел Пенни Саммерс такой оживленной, ее тарелка давно
опустела -- похоже, она не замечала, что делает. Жалобы на старых соседей
взбодрили ее кровь, как ничто другое.
Мускулистая официантка подошла к ним.
-- Хотите еще пива или просто хотите посидеть, занимая место?
-- Благодарю, мне еще одну, -- сказал Ауэрбах.
К его удивлению, Пенни кивнула даже раньше, чем Рэйчел. Официантка
удалилась, затем вернулась с новыми кружками.
-- Благодарю, Ирма, -- сказал Ауэрбах.
Она посмотрела на него так, будто впервые услышала слова благодарности
за хорошую работу.
-- У вас были рейды на Лакин с того времени, как вы нас вывезли оттуда,
капитан? -- спросила Рэйчел.
-- Да, конечно, -- ответил Ауэрбах. -- Разве вы не участвовали? Нет, не
участвовали, я вспомнил. Мы всыпали им тогда -- очистили город. Я думал, что
мы сможем удержать его, но потом они бросили против нас много
бронетехники... -- Он развел руками. -- Что тут можно было сделать?
-- Она не это имела в виду, -- сказала Пенни. -- Я знаю, что именно она
имела в виду.
Ауэрбах уставился на нее. Она действительно ожила.
-- И что же она имела в виду? -- спросил он в надежде поддержать
разговор и, более того, увлечь ее в мир за пределами четырех стен, в которых
она закрылась.
Это сработало: глаза Пенни вспыхнули.
-- Она хочет спросить: вы свели счеты с Квислингами? -- спросила она.
Рэйчел Хайнс кивнула, показывая, что ее подруга права.
-- Нет, мы этого не сделали, -- сказал Ауэрбах. -- Мы не знали, с кем
надо расправиться, и были слишком заняты ящерами, чтобы рисковать
недовольством местных жителей, если по ошибке накажем не тех, кого надо.
-- Мы в ближайшее время не вернемся в Лакин? -- спросила Рэйчел.
-- Насколько я знаю, нет, -- сказал Ауэрбах. -- У полковника
Норденскольда могут быть и другие идеи, но он мне об этом не говорил. И если
он получит приказ откуда-то сверху...
Он снова развел руками. Командные связи на уровне выше полка были
нарушены. Местные командиры имели куда больше самостоятельности, чем
кто-либо мог представить себе до того, как ящеры разнесли большинство путей
сообщения.
-- Полковнику надо поговорить с партизанами, -- сказала Рэйчел. --
Раньше или позже, но эти ублюдки должны получить то, что им причитается.
Она говорила ровным тоном, как любой кавалерист: Ауэрбах и не подумал,
что для женщины это брань, пока не повторил предложение мысленно. Что ж,
Рэйчел все-таки кавалерист, так что все в порядке.
-- Это надо сделать обязательно, -- сказала Пенни Саммерс, энергично
кивая. -- Обязательно.
-- Звучит довольно забавно -- про американских партизан, -- сказала
Рэйчел. -- Я имею в виду, мы ведь видели в кинохронике, как русские
прятались в лесах до прихода ящеров, но чтобы что-то подобное возникло у
нас...
-- Для вас это, может быть, и странно, но вы ведь из Канзаса, --
ответил Ауэрбах. -- А я пробирался сюда из Техаса, а лейтенант Магрудер --
из Виргинии. Для вас американские партизаны -- это что-то древнее, времен
Гражданской войны. -- Он коснулся своего рукава. -- Хорошо, что эта форма не
такая голубая, как должна быть.
Рэйчел пожала плечами.
-- Для меня то, что относится к Гражданской войне, просто история из
книг, только и всего.
-- Но не для южан, -- сказал Ауэрбах. -- Мосби и Форрест для нас --
живые люди даже теперь.
-- Я не знаю, кто они, но верю вашим словам, -- сказала Пенни. -- Дело
в том, что если мы можем что-то сделать, мы обязаны. Может полковник
Норденскольд связаться с партизанами?
-- О да, -- сказал Ауэрбах, -- и вы знаете, как?
Он подождал, пока она покачает головой, затем прижал палец к носу и
улыбнулся.
-- Почтовые голуби, вот как. Вовсе не радио, которое могли бы
перехватить ящеры, о голубях они и понятия не имеют.
Он знал, что говорит лишнее, но надежда увидеть Пенни Саммерс
оживленной и деятельной заставила его сказать чуть больше, чем следовало.
Она спрыгнула со стула.
-- Пойдемте и поговорим с полковником прямо сейчас.
Все было так, словно где-то внутри у нее щелкнул выключатель и все, что
было обесточено в течение последних месяцев, сразу вернулось к жизни. На это
стоило посмотреть. "Женщина-дьявол! -- подумал Ауэрбах, а еще через
мгновение: -- И к тому же штатская".
Штаб-квартира полковника Мортона Норденскольда размещалась в здании,
которое все до сих пор называли "Первый Национальный Банк Ламара". Еще в
20-х годах здесь произошло внушительное ограбление: жители Ламара еще
вспоминали о нем. Правда, коренных жителей Ламара осталось немного -- город
наполняли солдаты и беженцы.
Перед банком не было часовых. Довольно далеко от этого места стояла
пара манекенов из портновской мастерской Фельдмана, одетых в армейскую
форму, от касок до ботинок, -- они охраняли дом-приманку. Командование
надеялось, что бомбардировщики ящеров нанесут удар по этому дому вместо
настоящего штаба. Пока что налетов не было.
Внутри здания, где разведка не могла их обнаружить, двое настоящих
часовых вытянулись по стойке смирно, когда Ауэрбах вошел в дверь вместе с
Рэйчел и Пенни.
-- Да, сэр, вы можете видеть полковника немедленно, -- ответил один из
них на его вопрос.
-- Благодарю, -- сказал Ауэрбах и направился в кабинет Норденскольда.
Позади него один из часовых повернулся к другому и сказал, не слишком
понижая голос:
-- Посмотри-ка на этого удачливого сукина сына, разгуливает с парочкой
лучших баб в городе.
Ауэрбах хотел было вернуться и отчитать его, затем решил: звучит не так
уж плохо -- и направился в кабинет полковника.
* * *
Тосевитский детеныш издавал визжащие звуки, которые раздражающе
действовали на слуховые диафрагмы Томалсса. Детеныш тянулся к ручке
невысокого ящика, с третьей попытки ухватился за нее и попытался встать
прямо. Сил у него оказалось недостаточно, и он снова шлепнулся на спину.
Томалсс с любопытством смотрел, ожидая, что будет дальше. Иногда после
такой неудачи детеныш вопил, что раздражало даже больше, чем визг. Иногда он
находил падение забавным и издавал надоедливые звуки смеха.
На этот раз, к удивлению Томалсса, он не издавал ни того ни другого. Он
просто тянулся и старался сделать это снова, целеустремленно и упорно, как
никогда раньше. Затем детеныш снова упал, ударившись подбородком о пол. На
этот раз он начал выть, оповещая криком мир, что ему больно.
Его крики раздражали всех самцов, работавших неподалеку в звездном
корабле, кружившемся на орбите Тосев-3. Это было плохо. Ученый боролся за
то, чтобы оставить детеныша и по-прежнему изучать его, вместо того чтобы
возвращать самке, из тела которой он появился. Ему нужны были союзники в
этой борьбе.
-- Замолчи, плохое существо! -- зашипел он на маленького тосевита.
Детеныш, конечно, не обратил на это никакого внимания и продолжат
сотрясать воздух жутким воем. Томалсс знал, что надо делать: он наклонился и
осторожно, чтобы не проткнуть тонкую кожу без чешуи своими когтями, поднял
его за туловище.
Через некоторое время тревожный шум затих. Детенышу нравился физический
контакт. Молодняк Расы, вылупившись из яйца, убегал от всего, что крупнее,
инстинктивно понимая, что их могут поймать и съесть. В самом начале своей
жизни Большие Уроды были такими же не способными к движению, как некоторые
из существ, живущих в известковых раковинах в небольших морях на Родине.
Когда детеныши попадали в неприятности, самки, извергнувшие их из себя
(удивительный и ужасный процесс), должны были спасать и защищать их.
Поскольку такой самки не имелось, ее работа досталась Томалссу.
Щека детеныша потерлась о его грудь. Это всегда вызывало у него
сосательный рефлекс. Детеныш повернул голову и прижал мягкий сырой рот к
коже ящера. В отличие от тосевитской самки Томалсс не выделял питательной
жидкости. Понемногу детеныш стал понимать это.
-- Неплохое существо, -- проговорил Томалсс и издал одобрительное
покашливание.
Слюна маленького тосевита разрушительно действовала на краску,
покрывающую его тело. Он повернул вниз один глаз, чтобы осмотреть себя.
Конечно, чтобы прилично выглядеть, ему следует удалить это пятно. Он не
собирался демонстрировать экспериментально, что краска для тела не токсична
для Больших Уродов, но так получилось.
Он повернул вниз второй глаз и стал рассматривать детеныша обоими
глазами. Детеныш в свою очередь смотрел на него. Его глаза были маленькими,
плоскими и темными. Самец задумался, что же происходит в мозгу маленького
тосевита. Детеныш никогда не видел ни себя, ни кого-либо из своего рода.
Может быть, он думает, что они выглядят так же, как ящеры? Это узнать
невозможно, пока не разовьются его способности к речи. Но и его ощущения к
этому времени тоже изменятся.
Он стал рассматривать абсурдно подвижный рот, углы которого поднялись
кверху. Среди тосевитов это было выражение дружеских чувств, значит, он
добился успеха в том, чтобы заставить детеныша забыть о его боли. Затем он
заметил, что ткань, которую он обернул вокруг его середины, стала мокрой. У
тосевитов не было контроля над функциями тела. Из расспросов следовало, что
Большие Уроды учатся такому контролю целых два или три местных года --
четыре или шесть по счету Томалсса. Когда он принес детеныша на стол, чтобы
очистить и наложить новую защитную ткань, ничего хорошего он не увидел.
-- Какое безобразие, -- сказал он, добавив сочувственное покашливание.
Детеныш завизжал, затем издал звук, который был похож на сочувственное
покашливание. Он имитировал звуки, которые издавал Томалсс, все чаще и чаще,
не только сочувственные и вопросительные покашливания, но временами целые
слова. Иногда ученый думал, что детеныш издает эти звуки преднамеренно.
Тосевиты делают это, часто подолгу -- в этом никакого сомнения.
Когда детеныш стал чист, сух и доволен, он посадил его обратно на пол.
Он бросил испачканную ткань в воздухонепроницаемое пластиковое ведро, чтобы
предотвратить распространение аммиачной вони, затем полил очистительной
пеной свои руки. Он находил, что жидкие выделения тосевитов особенно
отвратительны -- представители Расы извергали аккуратные чистые сухие
комочки.
Детеныш встал на четыре конечности и снова пополз к ящикам. Его
передвижение на четырех было гораздо более уверенным, чем раньше: еще пару
дней назад он был способен только пятиться. Детеныш попытался выпрямиться --
и тут же снова упал.
Раздался звон коммуникатора, призывая к вниманию. Томалсс поспешил на
зов. Экран засветился, появилось изображение Плевела, помощника
администратора восточного региона главной континентальной массы.
-- Я приветствую вас, господин, -- сказал Томалсс, стараясь скрыть
нервозность.
-- Я приветствую вас, исследователь-аналитик, -- ответил Ппевел. -- Я
полагаю, что тосевитский детеныш, судьба которого теперь обсуждается с
китайской стороной, известной под названием "Народно-освободительная армия",
по-прежнему здоров?
-- Да, господин, -- сказал Томалсс.
Он повернул один глаз от экрана, стараясь увидеть детеныша, но не смог.
Это обеспокоило его. Маленькое существо стало гораздо более подвижным, чем
прежде, и это означало, что у него гораздо больше шансов попасть в
неприятность... Из-за этого он пропустил часть слов Ппевела.
-- Извините, господин.
Ппевел слегка повернул глаза кверху, что означало раздражение.
-- Я сказал, вы готовы отдать детеныша по первому требованию?
-- Высокорожденный господин, конечно, я готов, но я протестую, потому
что эта уступка не только не нужна, но и разрушит исследовательскую
программу, необходимую для успешного управления этим миром после его
завоевания и усмирения.
Томалсс снова посмотрел по сторонам в поисках детеныша и по-прежнему не
обнаружил его. И испытал чуть ли не облегчение. Как он может вернуть
детеныша китайцам, если даже не знает, куда он делся?
-- Определенного решения по этому вопросу пока не принято, если это вас
беспокоит, -- сказал администратор. -- Когда оно будет принято, то быстрое
исполнение будет обязательным.
-- При необходимости все может быть сделано быстро, -- ответил Томалсс,
надеясь, что облегчение в его голосе не будет заметно. -- Я понимаю
маниакальную настойчивость, которую проявляют Большие Уроды, настаивая на
быстроте исполнения.
-- Если вы понимаете это, то имеете преимущество над большинством
самцов Расы, -- сказал Ппевел. -- Тосевиты прошли тысячелетия технического
развития за относительно небольшое количество лет. Я слышал бесконечные
рассуждения о причинах: необычная география, извращенные и отталкивающие
сексуальные привычки, распространенные у Больших Уродов...
-- Последний тезис является центральным в моих исследованиях,
высокочтимый господин, -- отвечал Томалсс. -- Тосевиты определенно
отличаются в своих привычках от нас, а также от жителей Работева и Халесса.
Моя гипотеза состоит в том, что постоянное сексуальное напряжение, если
использовать неточное определение, подобно огню, постоянно подогревающему их
и стимулирующему к изобретательности в других областях.
-- Я видел и слышал столько гипотез, что не стоит их запоминать, --
сказал Ппевел. -- Когда я найду такую, которая будет подкреплена
доказательствами, я буду рад. Наши специалисты в последнее время слишком
часто соревнуются с тосевитами не только в быстроте, но и в неточности.
-- Высокочтимый господин, я хочу обращаться с тосевитским детенышем
педантично, чтобы собрать такие доказательства, -- сказал Томалсс. -- Не
изучив Больших Уродов на всех стадиях их развития, можем ли мы надеяться,
что поймем их?
-- Над этим стоит поразмыслить, -- ответил Ппевел, отчего Томалсс
преисполнился надежд: никто из администраторов долгое время не давал ему
столько оснований для оптимизма. Ппевел продолжил: -- Мы...
Томалсс хотел услышать продолжение, но его отвлек вой -- тревожный вой
детеныша Больших Уродов. Странно, что он звучал издалека.
-- Извините меня, господин, но, похоже, у меня появились трудности, --
сказал исследователь и отключил связь.
Он поспешил по коридорам лабораторного отдела, отыскивая место, куда
детеныш попал на этот раз. Он нигде не мог найти его и встревожился -- может
быть, детеныш заполз в ящик? Может быть, поэтому его визг казался далеким?
Вой раздался снова. Томалсс стремительно выскочил в коридор -- детеныш
вполне мог отправиться в дальнее путешествие.
Томалсс едва не столкнулся с Тессреком, исследователем привычек и
особенностей мышления Больших Уродов. В руках, не особенно аккуратно,
Тессрек нес капризного тосевитского детеныша. Он швырнул его Томалссу.
-- Вот. Это ваш. На будущее, следите за ним лучше. Он забрел в мою
лабораторию, и, уверяю вас, мы этому не обрадовались.
Как только Томалсс взял детеныша, тот перестал вопить: он попал к тому,
кого знал и кто заботился о нем. Томалсс мог быть тем, что тосевиты называли
словом "мать". Тосевитское слово значило гораздо больше, чем его эквивалент
на языке Расы.
Тессрек продолжил:
-- Чем скорее вы отдадите это существо Большим Уродам, тем скорее
станут счастливыми все в этом коридоре. Не будет больше ужасных звуков,
жутких запахов, все вернется к миру, тишине и порядку.
-- Окончательное решение о детеныше еще не принято, -- сказал Томалсс.
Тессрек всегда хотел избавиться от маленького тосевита. Сегодняшняя
прогулка детеныша только добавила масла в огонь.
-- Избавление от него улучшит мое положение, -- сказал он, оставив
открытым рот в знак одобрения собственной шутки. Затем он снова стал
серьезным и продолжил: -- Если он вам нужен, держите его у себя. Я не могу
отвечать за его безопасность, если он заберется в мою лабораторию еще раз.
-- Как любой детеныш, он невежествен в отношении правильного поведения,
-- холодно сказал Томалсс. -- Если вы будете игнорировать этот очевидный
факт и умышленно злоупотреблять этим, то я не могу отвечать за вашу
безопасность.
Чтобы подчеркнуть решимость, он повернулся и унес детеныша обратно в
комнату. Одним глазом он наблюдал, как Тессрек смотрит ему вслед.
Маленькая уродливая гусеничная машина для перевозки боеприпасов со
звуком "пут-пут-пут" остановилась возле немецких "пантер" в лесу, севернее
Лодзи. Передний люк французской машины -- трофея триумфальной кампании 1940
года -- открылся, и наружу выбрались двое мужчин. Они закричали:
-- Эй, парни! Мы привезли вам подарки.
-- Самое время, -- сказал Генрих Ягер. -- У нас осталось всего по
несколько снарядов в каждом танке.
-- А имеем дело с ящерами, -- добавил Гюнтер Грилльпарцер. -- У них
броня настолько прочная, что нужно долго долбить в одно и то же место,
прежде чем удастся ее пробить.
Подвозчики снарядов заулыбались. На них были такие же комбинезоны, как
и у танкистов, но не черные, а полевые, серого цвета, полагавшиеся солдатам
на самоходных орудиях. Один сказал:
-- Здесь для вас новые игрушки -- идею переняли у ящеров и стали
выпускать для себя.
Этого было достаточно, чтобы вокруг них собралась толпа танкистов. Ягер
бесстыдно воспользовался преимуществами высокого звания, чтобы протолкаться
вперед.
-- Что там у вас? -- потребовал он.
-- Мы сейчас покажем, -- ответил парень и повернулся к товарищу. --
Давай, Фриц.
Фриц снял белоснежный брезент, закрывавший кузов. Он нагнулся, поворчал
немного -- видно, возился с чем-то тяжелым -- и вытащил снаряд самого
странного вида, какой только видывал Ягер.
-- Что за чертовщина? -- спросили одновременно не меньше полудюжины
танкистов.
-- Расскажи им, Иоахим, -- сказал Фриц. -- Я не смогу правильно
объяснить.
-- Подкалиберный бронебойный снаряд, -- с важностью сказал Иоахим. --
Алюминиевая рубашка сбрасывается сразу после выхода снаряда из ствола, и
дальше летит один только сердечник. Он из вольфрама...
-- В самом деле? -- Ягер насторожил уши. -- У меня брат -- танковый
инженер, он рассказывал, что вольфрама не хватает даже для резцов. А теперь
его применили для противотанковых снарядов?
-- Я ничего не понимаю в резцах, герр оберст, -- сказал Иоахим, и Фриц
торжественно покачал головой -- мол, он тоже. -- Но я знаю, что эти снаряды
должны дать вам вдвое большую пробивную способность, чем обычные бронебойные
снаряды.
-- Должны дать вам! -- передразнил Карл Мехлер, заряжающий Ягера.
Заряжающие от природы наделены пессимистическим взглядом на мир; когда
танк движется, они почти ничего не видят и не понимают. Их место -- на дне
башни, они выполняют то, что прикажет наводчик и командир. Если вы
заряжающий, вы никогда не знаете, что происходит вокруг, пока снаряд не
попадет в вашу машину. Секунду назад вы еще живы и здоровы, а в следующую
разорваны на дымящиеся куски.
Мехлер продолжил:
-- А каковы они в деле?
Фриц и Иоахим посмотрели друг на друга. Фриц сказал:
-- Их не отправили бы в фронтовые части, если бы считали, что они не
будут действовать так, как обещано, согласны?
-- Никто никогда ничего не знает, -- сумрачно сказал Мехлер. --
Какой-нибудь бедный сопляк все равно должен стать подопытным кроликом. На
этот раз мы вытянули короткую соломинку.
-- Хватит, Карл, -- сказал Ягер.
Упрек был мягким, но заряжающий умолк. Ягер повернулся к подвозчикам
снарядов.
-- А обычных бронебойных вы не привезли, на случай, если эти окажутся
не такими прекрасными, какими их считают ребята на полигонах?
-- Ох, нет, герр полковник, -- ответил Иоахим. -- Что подвезли на
поезде, то мы и доставили.
Ропот в толпе танкистов не был похож на мятежный, но и радости в нем
тоже не прозвучало.
-- Ладно, у нас осталось по несколько снарядов прежнего образца. Мы
хоть знаем, на что они годятся и с чем не справляются. Скажите мне только
одну вещь, прямо сейчас, вы, двое! Может новый снаряд пробить лобовую броню
танка ящеров?
Оба подвозчика печально покачали головами.
-- Этого я и боялся, -- ответил Ягер. -- Дело обстоит так: каждая
машина ящеров, которую нам удается подбить, обходится нам примерно в шесть
-- десять танков. Было бы еще хуже, если бы наши экипажи не превосходили
ящеров в умении. Но мы потеряли так много ветеранов, что это наше
преимущество постепенно уходит. Это положение могло бы изменить орудие,
которое позволило бы нам встречаться с ними лицом к лицу.
-- Круче всего изменили бы положение бомбы, которые они сбросили на
Бреслау и Рим, -- вклинился в разговор Гюнтер Грилльпарцер. -- И я знаю, где
ее надо взорвать.
-- Где же? -- спросил Ягер с любопытством. До сих пор его наводчик не
проявлял интереса к стратегии.
-- Лодзь! -- быстро ответил Грилльпарцер. -- Прямо в центр города.
Взорвет всех ящеров и всех собравшихся там жидов, вот так вот!
На руках у него были перчатки, поэтому, вместо того чтобы щелкнуть
пальцами, он просто плюнул в снег.
-- Не возражал бы избавиться от ящеров, -- согласился Ягер. -- А
евреи... -- Он пожал плечами. -- Анелевич сказал, что он не позволит ящерам
провести контрнаступление из города, и он добился этого. За это он
заслуживает доверия, если уж интересно мое мнение.
-- Да, герр полковник.
Круглое мясистое лицо наводчика стало печальным. Впрочем, на лице
Грилльпарцера большую часть времени сохранялось печальное выражение. Он
знал, что с командиром полка лучше не спорить, но думать о евреях с теплотой
и добротой был не способен.
Ягер посмотрел на остальных танкистов. Никто не возразил ему, не
высказался против, но никто и не сказал доброго слова о евреях в лодзинском
гетто. Это обеспокоило Ягера. Он не испытывал симпатии к евреям, но его
охватил ужас, когда он узнал, что немецкие войска делали с ними в
захваченных рейхом областях. Он не хотел знать об этом, но, столкнувшись с
подобными фактами, не стал делать вид, что слеп. Большинство германских
офицеров, к его стыду, никаких угрызений совести не испытывали.
Правда, именно сейчас ему не было нужды думать об этом.
-- Разделим, что нам привезли, -- сказал он своим людям. -- Если
получим дохлую свинью, будете есть свиные котлеты.
-- Это барахло способно всех нас превратить в дохлых свиней, --
проворчал Карл Мехлер, тяжело дыша.
Тем не менее он получил свою долю новых снарядов и уложил их в зарядные
ящики "пантеры".
-- Они ненормальные какие-то, -- проговорил он, вылезая из танка. --
Выглядят странно. Раньше ничего такого у нас не было.
-- Разведка сообщает, что одна из причин, которая приводит ящеров в
бешенство, состоит в том, что мы продолжаем получать новые изобретения, --
сказал Ягер. -- Сами ящеры не изменяются -- или изменяются незначительно. Вы
хотите быть такими, как они?
-- Конечно, нет, сэр, но я не хочу изменений к худшему, -- сказал
Мехлер. -- Эти штуки выглядят, как сосиски, торчащие из булки, будто
какой-то инженер решил пошутить над нами.
-- Внешний вид ни при чем, -- ответил Ягер. -- Если эти новые снаряды
не будут действовать так, как ожидается, то чьи-то головы полетят с плеч.
Правда, испытывать их придется нам.
-- Если эти новые снаряды не будут действовать, как ожидается, то
покатятся наши головы, -- сказал Карл Мехлер. -- Может быть, потом покатятся
и еще чьи-то, но мы этого уже не увидим.
Мехлер был прав, и Ягер мог только бросить ему укоризненный взгляд.
Пожав плечами, заряжающий забрался в башню. Через мгновение за ним
последовал Грилльпарцер. Ягер тоже забрался в танк и откинул люк башни,
чтобы стоя наблюдать за окрестностями. Водитель Иоганнес Дрюккер и второй
наводчик Бернхард Штейнфелъдт заняли свои места в передней части боевого
отделения "пантеры".
Заработал мощный бензиновый двигатель Майбаха. Из выхлопной трубы
повалил вонючий дым. Все собравшиеся на поляне "пантеры", "тигры" и Pz-IV
ожили. Ягер подумал: словно множество динозавров вздохнули в холодное зимнее
утро.
Дрюккер поерзал "пантерой" вперед и назад, включая по очереди первую
передачу и задний ход, чтобы разломать лед, который намерз за ночь между
катками в параллельных рядах. Проблема со льдом была единственным
недостатком подвески, которая обеспечивала плавный ход даже на неровной
местности. Временами даже этот прием с ерзаньем не мог освободить катки.
Тогда приходилось разводить костер и расплавлять лед, только после этого
можно было сдвинуться с места. Вражеская атака в такие моменты была
смертельно опасной [Про ходовую часть "пантеры" мы уже писали. Созданная на
грани технических возможностей того времени, она обеспечивала этому
переутяжеленному танку превосходную подвижность, но ценой очень низкой
надежности. Достаточно сказать, что "пантера" проходила без ремонта в
среднем 80 км. Ломалось все. -- Прим. ред.].
Но сегодня немцы были охотниками, а не дичью -- по крайней мере, в
данное время. Танки выползли с поляны. Их сопровождали несколько самоходных
установок и пара колесно-гусеничных транспортеров с пехотинцами. Некоторые
пехотинцы были вооружены ручными противотанковыми ракетами -- еще одна идея,
позаимствованная у ящеров. Ягер подумал, не следует ли обратить на них
внимание своего экипажа, но потом решил не беспокоить ребят. Они и так
прекрасно делали свое дело.
Против поляков, против французов, против русских танки вермахта всегда
шли впереди пехоты, пробивая огромные дыры в обороне противника. Поступи так
в поединке с ящером -- и твоя голова наверняка покатится под гусеницы.
Единственная тактика, которая время от времени позволяла оттеснить их, --
комбинированные операции с применением разных родов оружия. Но даже в этом
случае земляне нуждались в большом численном преимуществе.
Следов противника пока не наблюдалось. Ягер вспоминал, сколько раз ему
повезло. Слава богу, он сумел подбить танк ящеров из
пятидесятимиллиметрового орудия Pz-III еще тогда, когда ящеры только
спустились на Землю, и если это не удача, значит, удачи на свете не
существует. С тех пор прошло почти два года, он все еще жив и все еще не
изувечен. Немногим так повезло в жизни.
По мере продвижения вперед лес редел. Ягер обратился по радио ко всем
машинам:
-- Остановимся на опушке леса, чтобы осмотреться.
Вырвись сразу на открытый простор -- и получишь бойню.
Пехотинцы в зимних белых маскхалатах соскочили со своих транспортеров и
как призраки двинулись по покрытому снегом полю. У двоих за спинами были
пусковые ракетные установки, также окрашенные в белый цвет, остальные были
вооружены автоматами МП-40. Ягер слышал, что Гуго Шмайссер не участвовал в
разработке этого оружия, но тем не менее автомат этот назывался "шмайссер".
Из-за амбара застрочил пулемет, взбивая фонтанчики снега. Солдаты
вермахта на открытой местности залегли. Танки выпустили по амбару два
разрывных снаряда, чтобы выгнать ящеров. Не прошло и десяти секунд, как один
из этих танков загорелся, пламя и дым вырывались из люков, плясали над
башней.
У Ягера пересохло во рту.
-- Танк ящеров! -- закричал он в микрофон рации.
Все и так уже все поняли, но он должен был сказать это.
-- Бронебойный, -- приказал Гюнтер Грилльпарцер Карлу Мехлеру. -- Дай
мне новый снаряд -- посмотрим, на что они способны.
-- Если они вообще на что-нибудь способны, -- мрачно сказал Мехлер, но
вложил снаряд с алюминиевой рубашкой в ствол длинной семидесятимиллиметровой
пушки "пантеры".
Грилльпарцер со звоном закрыл затвор.
-- Дальность? -- спросил Ягер.
-- Далеко, -- ответил наводчик. -- Больше пятнадцати сотен метров.
Ягер хмыкнул. Впереди он не видел подходящих мест для укрытия танков,
но это не означало, что их нет вообще. Даже если танк противника один, то
ударить по нему с флангов скорее всего означало, что машины Ягера будут
подбиты одна за другой. Башни у танков ящеров имели силовой привод, предмет
зависти Ягера.
С другой стороны, прятаться бессмысленно. Даже если он натолкнулся на
последнюю машину из арьергарда ящеров, она может вызвать на его голову огонь
артиллерии или даже атаку вертолета, а то и двух. Вертолеты ящеров с их
ракетами были сильнейшим противотанковым орудием, а с пехотой разделывались,
как с семечками.
Амбар загорелся -- единственный результат попадания разрывных снарядов,
выпущенных немцами. Это дало им передышку: дым скроет танки от глаз ящеров,
по крайней мере пока они меняют позицию. Нет, из всех возможных вариантов
зайти во фланг танку ящеров -- в конце концов лучше, чем оставаться на
месте.
Он взял правее амбара и приказал "тигру" повернуть налево, а Pz-IV,
идущему справа, велел двигаться прямо. И обратился к водителю своей машины:
-- Давай, Ганс! Пора отрабатывать наше жалование. Вперед!
-- Яволь!
Иоганнес Дрюккер вывел машину на открытое пространство. Pz-IV выстрелил
в танк ящеров. Его орудие было немногим хуже, чем пушка "пантеры", но на
дальних дистанциях все же серьезно уступало ей.
Снаряд свалил дерево позади Pz-IV. Когда ящеры промахивались, причиной
обычно было их плохое зрение. Вражеский танк выехал на открытую местность.
"Тигр" выстрелил в него. Попадание было точным, но танк ящеров продолжал
двигаться. Просто нечестно, до чего же крепкими они были!
Заговорила их пушка. С "тигра" слетела башня, и снаряды внутри нее
взорвались, когда она ударилась о землю в пяти или шести метрах от подбитого
танка. Шасси запылало. Экипаж из пяти человек, видимо, погиб на месте.
Пехотинец выпустил противотанковую ракету в машину ящеров. Он попал точно в
переднюю часть машины, но броня у ящеров -- Ягер слышал, это была не просто
сталь -- выдержала удар кумулятивной боеголовки. Пулемет стал нащупывать
дерзкого пехотинца.
-- Дальность? -- снова спросил Ягер.
-- Меньше пяти сотен метров, -- ответил Гюнтер Грилльпарцер.
-- Водитель, стоп, -- сказал Ягер. -- Огонь!
Из-за того, что он стоял, высовываясь из башни, вместо того чтобы
закрыться внутри, звук выстрела обрушился на него, словно конец света. Из
жерла орудия вырвался язык пламени.
Пламя и дым вырвались и из танка ящеров.
-- Есть! -- закричал экипаж Ягера.
Ягер услышал, как затвор защелкнулся за новым снарядом. Длинное
семидесятимиллиметровое орудие ударило снова -- еще одно попадание! На
машине ящеров открылись люки. Пулемет с "пантеры" бил короткими точными
очередями. Через несколько мгновений три ящера, выбравшиеся из машины,
лежали на земле, их, так похожая на человеческую, красная кровь заливала
снег. Вражеский танк продолжал гореть.
Гюнтер Грилльпарцер сказал очень серьезно:
-- Герр полковник, это хорошие боеприпасы. Они принесут нам много
пользы.
-- Даже если они выглядят так странно? -- поддразнил его Ягер.
-- А и пусть.
* * *
Западный ветер нес желтую пыль из Гоби. Тонкий слой пыли лежал на всем,
вы чувствовали ее вкус, облизнув пару раз свои губы. Нье Хо-Т'инг привык к
этому. Привычка, рожденная жизнью в Пекине и вблизи него.
Майор Мори тер глаза. Пыль беспокоила его. На приличном китайском он
спросил Нье:
-- Итак, чего же вы теперь от меня хотите? Еще таймеров? Я слышал, что
вы хорошо использовали последнюю партию.
-- Нет. На этот раз -- нет, -- ответил Нье.
Его первой мыслью было, что японский майор -- дурак, если думает, что
против ящеров можно применить один и тот же трюк дважды. Но восточный дьявол
не мог быть дураком хотя бы потому, что сохранял свои войска длительное
время, против него сражались и ящеры, и Народно-освободительная армия, и
войска, лояльные гоминдановской реакционной клике, и китайские крестьяне.
Так что же? Губы Нье раздвинулись в улыбке, которая изобразила скупое
удивление. Наиболее вероятным объяснением был расчет майора Мори на то, что
китайские партизаны повторят трюк еще раз -- и в результате будут
раздавлены. Мори это выгодно.
-- Хорошо, а что же в таком случае? -- спросил Мори.
Хотя под его командованием вряд ли было больше людей, чем в
партизанском отряде, он проявлял обычное японское высокомерие. Глядя на
него, можно было подумать, что под властью японцев находятся вся
северо-восточная часть Китая и береговые анклавы -- и при желании они
продолжат наступление, даже если не смогут удержать завоеванное.
-- Сейчас были бы полезны артиллерийские снаряды, -- сказал Нье
задумчиво.
-- Может быть, но от нас вы их не получите, -- сказал Мори. -- У нас
еще осталось несколько семидесятимиллиметровых орудий, хотя я не скажу вам,
где они.
Нье Хо-Т'инг знал, где японцы прячут эти орудия. Он даже собирался их
захватить, но потом решил, что от этого хлопот будет больше, чем пользы,
поскольку японцы, скорее всего, направят их против ящеров, а не против его
людей.
Он сказал:
-- Солдаты могут заменить кули и перетаскивать семидесятимиллиметровые
орудия из одного места в другое. Как вы сказали, их легко прятать. Но у
японской армии была и более крупная артиллерия. Чешуйчатые дьяволы
уничтожили эти большие орудия, а иначе вам все равно пришлось бы бросить их.
Но у вас должны были остаться какие-то боеприпасы к ним. Так ведь?
Прежде чем ответить, Мори изучал его некоторое время. Восточному
дьяволу еще не исполнилось и сорока, может быть, он был на пару лет старше
Нье. Кожа чуть темнее, черты лица несколько резче, чем у китайца. Это
беспокоило Нье не больше, чем врожденная уверенность Мори в своем
превосходстве. "Варвар", -- с презрением подумал Нье, уверенный, что Китай
-- единственный оплот культуры и цивилизации. Но даже и варвар может быть
полезен.
-- А если и так? -- спросил Мори. -- Вы хотите получить эти снаряды.
Что вы нам дадите за них?
"Капиталист, -- подумал Нье. -- Империалист. Если ты думаешь только о
прибыли, то не заслуживаешь даже этого". Вслух он, однако, сказал:
-- Я могу сообщить вам имена двух людей, которых вы считаете надежными,
но на самом деле это гоминдановские шпионы.
Мори улыбнулся: улыбка была не из приятных.
-- На днях гоминьдан предложил мне продать имена трех коммунистов.
-- Это меня не удивляет, -- сказал Нье. -- Мы знали, что имена японских
сторонников стали известны гоминьдану.
-- Мерзкая война, -- сказал Мори.
В данный момент эти двое слишком хорошо понимали друг друга. Затем Мори
спросил:
-- И когда вы заключите сделку с маленькими дьяволами, кого вы
продадите им?
-- Гоминьдан, конечно, -- ответил Нье Хо-Т'инг. -- Когда война с вами и
чешуйчатыми дьяволами кончится, реакционеры и контрреволюционеры останутся.
Нам придется бороться с ними и дальше. Они думают, что это они будут
бороться с нами, но историческая диалектика показывает, что они ошибаются.
-- Это вы ошибаетесь, если думаете, что японцы не смогут навязать Китаю
правительство по своему желанию -- если, конечно, исключить из общей картины
маленьких чешуйчатых дьяволов, -- сказал майор Мори. -- Сколько бы наши и
наши войска ни встречались в бою, вы всегда будете занимать второе место.
-- А что станет с ценой на рис? -- спросил Нье с неподдельным
замешательством. -- Постепенно вы устанете от побед дорогой ценой и от
потерь в областях, которые вы считаете подчиненными, и тогда вы уберетесь
прочь из Китая. Единственная причина, по которой вы сейчас побеждаете, в
том, что вы стали использовать машины иностранных дьяволов (под ними Нье
разумел европейцев) -- раньше нас. Когда у нас будут свои собственные
фабрики...
Мори откинул голову и расхохотался -- умышленная попытка оскорбить.
"Давай-давай, -- подумал Нье. -- Смейся. В один прекрасный день
революция пересечет море и высадится на ваши острова". В Японии много
сельского пролетариата, эксплуатируемых рабочих, которые не могут предложить
на рынке ничего, кроме своего труда, они так же безлики и взаимозаменяемы
для крупных капиталистов, как винтики и шестеренки. Они -- сухой фитиль,
горючее для пламени классовой войны. Но -- не сейчас. В первую очередь надо
разбить ящеров.
-- Мы договорились о цене за один такой снаряд? -- спросил Нье.
-- Пока нет, -- ответил японец. -- Информация полезна, да, но нам также
требуется продовольствие. Посылайте нам рис, лапшу, сою, свинину или кур. За
это мы вам дадим столько стопятидесятимиллиметровых снарядов, сколько вы
можете взять, для чего бы вы их ни предназначали.
Они начали торговаться о том, какое количество продовольствия должен
отдать Нье за снаряды, и о том, где и как организовать доставку. Как и
прежде, Нье чувствовал презрение. Во время Большого Похода он постоянно
заключал мелкие сделки с кадровыми офицерами и главарями бандитов, примерно
такие же, что и в этот раз. Уцелевшие остатки некогда мощной императорской
японской армии в Китае опустились до статуса бандитов; японцы не могли
теперь позволить себе больше, чем грабеж в сельских местностях. И все равно
они не могли обойтись без того, чтобы им не пришлось менять боеприпасы на
продовольствие.
Нье решил, что не будет рассказывать Лю Хань подробности переговоров с
японцем. Ее ненависть к ним была личной, как и к маленьким дьяволам. Нье
тоже ненавидел японцев и чешуйчатых дьяволов, но с такой идеологической
чистотой, какой его женщина не могла и надеяться когда-либо достичь. Но она
обладала воображением и придумывала такие способы нанесения урона врагам
Народно-освободительной армии и коммунистической партии, о которых он
никогда и не думал. Успех, в особенности у тех, кто не формирует серьезную
политику, может быть достижим и в отсутствии идеологической чистоты --
конечно, временно.
Майора Мори нельзя было отнести к искусным торговцам, с какими
встречался Нье. Из каждых трех китайцев двое могли бы выторговать больше
продовольствия, чем этот Мори. Нье мысленно пожал плечами. Что ж, недаром
Мори варвар и восточный дьявол. Из японцев получаются хорошие солдаты, а все
прочее -- не ахти.
Насколько он знал, то же относилось и к маленьким чешуйчатым дьяволам.
Они могли завоевывать, но, похоже, не представляли, как держать под
контролем мятежную страну. Они даже не использовали убийства и террор, что
для японцев было само собой разумеющимся. Максимум -- они вербовали
коллаборационистов, но этого было недостаточно.
-- Превосходно! -- воскликнул майор Мори, когда торги закончились. Он
шлепнул себя по животу. -- Какое-то время хорошо поедим.
Мундир болтался на нем, как мешок. Когда-то японец, возможно, был
довольно упитанным человеком. Теперь нет.
-- А вскоре приготовим для маленьких дьяволов подарочек, -- ответил
Нье.
А если его идея со снарядами принесет успех, он постарается свалить
ответственность на гоминьдан. Лю Хань не одобрит этого: захочет, чтобы гнев
чешуйчатых дьяволов испытали японцы. Но, как и сказал Нье, в долгосрочной
перспективе гоминьдан более опасен.
И пока маленькие чешуйчатые дьяволы не заподозрят в нападении
Народно-освободительную армию, переговоры с ними будут идти
беспрепятственно. В последнее время эти переговоры приобрели особое
значение, их требуется продолжать. Результат может быть куда более
существенным, чем возвращение ребенка Лю Хань. Нье надеялся на это.
Он вздохнул. Если бы у него был выбор, то Народно-освободительная армия
выгнала бы из Китая и японцев, и чешуйчатых дьяволов. Но выбора не было. Ты
должен делать то, что обязан. И только потом, если тебе повезет, ты получишь
шанс сделать то, чего хочешь.
Он поклонился майору Мори. Майор ответил ему тем же.
-- Мерзкая война, -- снова сказал Нье.
Мори кивнул.
"Но рабочие и крестьяне победят в ней, и в Китае, и во всем мире", --
подумал Нье.
Он посмотрел на японского офицера. Может быть, и Мори владели мысли о
победах. Что же, в таком случае он ошибается. Диалектика Нье доказывает это
совершенно однозначно.
* * *
Мордехай Анелевич ступил на тротуар перед зданием на Лутомирской улице.
-- Я могу иметь дело с врагами, -- сказал он. -- Я справлюсь и с
нацистами, и с ящерами, но эти... Мои друзья! -- Он закатил глаза в
театральном отчаянии. -- Vay iz mir!
Берта Флейшман рассмеялась. Она была на год или два старше Мордехая и
внешне настолько бесцветна, что еврейское Сопротивление Лодзи часто
использовало женщину для сбора информации: ее никто не замечал. Но вот
смехом своим, искренним и сердечным, она выделялась.
-- Сейчас дела у нас идут неплохо. Ящеры не смогли пройти через Лодзь,
чтобы напасть на нацистов. -- Она сделала паузу. -- Конечно, не каждый
согласится, что это хорошо.
-- Знаю. -- Анелевич поморщился. -- Я и сам не считаю, что это хорошо.
Это даже хуже, чем встрять между нацистами и русскими. Кто бы ни победил, мы
все равно проиграем.
-- Немцы выполнили свое обещание не захватывать Лодзь, пока мы будем
удерживать ящеров от активных действий, -- сказала Берта. -- Последнее время
они нас не бомбили.
-- За это нужно благодарить Бога, -- сказал Анелевич.
До войны он не был религиозным человеком. Для нацистов это значения не
имело, они бросили его в варшавское гетто вместе со всеми. То, что он видел
там, убедило его, что без Бога он жить не может. Слова, вызывавшие иронию в
тридцать восьмом году, теперь звучали искренне.
-- В данное время мы полезны им. -- Углы рта Берты Флейшман опустились.
-- Главное не меняется. Раньше мы работали на их заводах, выпуская для них
все что угодно, а они убивали нас.
-- Знаю. -- Мордехай топнул о мостовую. -- Думаю, они испытали свой
ядовитый газ на евреях, прежде чем применили его против ящеров.
Ему не хотелось думать об этом. Если бы он позволил себе лишние
размышления, то задумался бы, почему помогает в борьбе против ящеров
Гитлеру, Гиммлеру и собственным палачам. Но, встречаясь с Бунимом и другими
ящерами, занимавшими в Лодзи ответственные посты, он не мог помогать им бить
немцев -- ибо тем самым наносил вред всему человечеству.
-- Это нечестно, -- сказала Берта. -- С тех пор, как существует мир,
кто-нибудь предсказывал это?
-- Мы -- избранный народ, -- ответил Анелевич, пожав плечами. -- Но мы
избраны не для этого.
-- Кстати сказать, разве не ожидается проезд грузовой колонны ящеров
через город примерно через полчаса? -- спросила Берта. Поскольку именно она
добыла эту информацию, вопрос был риторическим. Она улыбнулась. -- Может
быть, пойдем и посмотрим кое-что забавное?
Предполагалось, что колонна направится на север по Францисканской
улице: ящеры, пытавшиеся отрезать базу от передовых германских частей,
наступающих со всех сторон, нуждались в подкреплении. Ящерам не везло.
Любопытно, что они будут делать, когда поймут, почему им так не везет?
Впрочем, лучше бы любопытство осталось праздным.
Евреи и поляки стекались к перекрестку Инфланцкой и Францисканской
улиц, они стояли на тротуаре, болтали, торговались и занимались какими-то
делами, как и в любой другой день. Эта сцена, словно пришедшая из довоенного
времени, имела лишь одно отличие от прошлого: многие мужчины -- и некоторые
женщины -- за спиной или в руках носили винтовки. Обман в эти дни вел к
быстрому и строгому наказанию.
Минут за пятнадцать до проезда колонны полицейские -- евреи и поляки --
попытались очистить улицу. Анелевич смотрел на них, в особенности на евреев,
с нескрываемым отвращением. Евреи-полицейские -- их правильнее было бы
назвать бандитами -- были преданы Мордехаю Хаиму Румковскому, который стал
старостой евреев еще во времена, когда лодзинское гетто было в руках
нацистов, и продолжал управлять ими при ящерах. Евреи-предатели, как и
прежде, носили длинные пальто, кепи с блестящими козырьками и красно-белые с
черным повязки на рукавах, выданные еще немцами. Они раздувались от сознания
собственной значимости, но все остальные презирали их.
Полицейские не очень-то преуспели в очистке улиц. Из оружия у них были
только дубинки, оставшиеся с тех времен, когда в Лодзи хозяйничали нацисты.
Разгонять ими людей с винтовками было непросто. Анелевич знал, что еврейская
полиция просила у ящеров оружие. Но все, что существовало до прихода ящеров,
было для них неприкосновенно, словно Тора: ничего не менять, ни во что не
вмешиваться. Полиции пришлось обходиться без огнестрельного оружия.
Старый еврей, управлявший телегой, груженной столами, поставленными
друг на друга по четыре и пять штук, попытался пересечь Францисканскую улицу
по Инфланцкой, в то время как поляк, водитель грузовика, ехал по
Францисканской с грузом пустых молочных бидонов. Поляк попытался снизить
скорость, но, похоже, у него были не в порядке тормоза. Грузовик врезался в
телегу старого еврея.
Грохот, который поднялся после столкновения, был громче, чем шум самого
столкновения. Задний борт грузовика был не очень хорошо закрыт, и молочные
бидоны посыпались на мостовую и раскатились в стороны. Как мог видеть
Мордехай, столы на телеге тоже не были закреплены и повалились на землю.
Некоторые поломались.
Могло показаться чудом, но возница телеги не пострадал. Удивительно
проворно для старика он соскочил со своего сиденья и побежал к грузовику,
выкрикивая ругательства на идиш.
-- Заткнись, проклятый жид! -- отвечал поляк на родном языке. --
Вонючий старый христоубийца, напрасно тратишь нервы на крик.
-- Я ору из-за твоего отца, пусть даже твоя мать и не знает, кто он, --
парировал еврей.
Поляк выскочил из кабины и набросился на еврея. Через мгновение они уже
катались по земле. Народ сбегался к месту ссоры. Здесь и там люди нападали
друг на друга и начинали новые стычки.
Полицейские -- и евреи, и поляки -- яростно свистели, стараясь
разогнать толпу. Некоторые были втянуты в кулачную драку. Мордехай Анелевич
и Берта Флейшман с интересом наблюдали за расширяющимся хаосом.
В этот хаос и въехала колонна ящеров. Некоторые грузовики были
инопланетного производства, другие -- человеческие, конфискованные. Грузовик
ящеров начал сигналить -- звук был такой, как если бы ведро воды вылили на
раскаленную докрасна железную плиту. Загудели и другие машины, шум получался
поистине устрашающий.
Никто на улице не обратил на него ни малейшего внимания.
-- Какая жалость, -- сказал Мордехай. -- Похоже, что у ящеров опять
задержка.
-- Это ужасно, -- сказала Берта таким же торжественным тоном. Они оба
засмеялись. Берта продолжила тихим голосом. -- Сработало даже лучше, чем мы
ожидали.
-- Пожалуй, -- согласился Анелевич. -- Ицхак и Болеслав оба заслуживают
тех статуэток, которые американцы каждый год дают своим лучшим киноактерам.
Карие глаза Берты Флейшман заморгали.
-- Они не смогли бы сыграть лучше, если бы репетировали несколько лет,
не так ли? Остальные наши люди -- да и люди из Армии Крайовой, -- отметила
она, -- тоже действуют прекрасно.
-- Да, в этой толпе большинство людей или наши, или из польской армии,
-- сказал Мордехай. -- А в противном случае мы получили бы настоящий бунт
вместо спектакля.
-- Я рада, что никто не снял со спины винтовку и не пустил ее в ход, --
сказала Берта. -- Ведь не все знали, что это игра.
-- Твоя правда, -- сказал Анелевич. -- И полиция, и водители грузовиков
ящеров тоже этого не сделали. -- Он показал в конец длинной колонны
застрявших автомобилей. -- О, смотри. Некоторые как будто стараются
повернуть и использовать другую дорогу, чтобы выехать из города.
Берта заслонила глаза рукой, чтобы лучше видеть.
-- Да, это так. Но, похоже, у них еще будут неприятности. Я вот думаю о
тех, кто все это затеял. Кто бы он ни был, он сумел спешно вывести на улицу
большое количество людей.
-- Это определенно так. -- И Мордехай улыбнулся ей. Она ответила ему
улыбкой. Пусть она и не красавица, но ему нравилось, как она выглядит, когда
радуется, как в этот раз. -- Я думаю, эти несчастные грузовики еще долго не
смогут никуда уехать.
-- Боюсь, что ты прав. -- Берта театрально вздохнула. -- Какая жалость!
Они с Мордехаем снова рассмеялись.
* * *
Конечно, ящеры были, мягко говоря, не великанами. Но даже среди ящеров
Страха был коротышкой: рослый девятилетний мальчик мог смотреть на него
свысока. Впрочем, среди ящеров, как и среди людей, рост не влиял на силу
личности. Каждый раз, когда Сэм Игер начинал разговор с бывшим командиром
корабля "106-й Император Йоуэр", через пару минут он забывал, что Страха
ростом ему по пояс.
-- Не сдавшись сразу, вы, Большие Уроды, создали Атвару, адмиралу с
тухлыми мозгами, проблему, которую он не в состоянии решить, -- заявил
Страха. -- В свое время я убеждал его нанести серию ударов против вас,
ударов настолько сильных, чтобы у вас не было иного выбора, кроме как
подчиниться Расе. Прислушался он ко мне? Нет!
Усиливающее покашливание Страхи было шедевром грубости.
-- Почему же он не сделал этого? -- спросил Игер. -- Я всегда удивлялся
этому. Похоже, что Раса ни разу не решилась усилить давление больше, чем на
один шаг за раз. Это позволило нам -- как бы это сказать? -- пожалуй,
подойдет слово "адаптироваться".
-- Истинно так, -- подтвердил Страха, снова добавив усиливающее
покашливание. -- Главная вещь, которой мы не понимали в течение более
долгого, чем следовало, времени, это то, как быстро вы, тосевиты, умеете
приспосабливаться. Этот дурак Атвар продолжал рассматривать кампанию,
которую мы вели против вас, как войну с варварами доиндустриальной эры.
Именно к этому мы и готовились. Но даже его глаза не могли игнорировать
действительность. Он считал, что следует приложить большие усилия, чем было
запланировано, но всегда старался свести увеличения к минимуму, то есть как
можно меньше менять план, которого мы придерживались, высаживаясь на
Тосев-3.
-- Большинство ящеров такие же, так ведь? -- Сэм произнес
пренебрежительное название Расы таким же будничным тоном, какой использовал
Страха, произнося кличку, присвоенную Расой человечеству. -- Вы не очень-то
стремитесь к изменениям, правда?
-- Конечно, нет, -- сказал Страха -- для ящера он был поистине
радикалом. -- Когда вы находитесь в хорошей ситуации, то зачем -- если
только у вас есть разум -- вы будете изменять ее? Наверняка она станет
только хуже. Изменениями нужно управлять очень осторожно, или вы можете
разрушить целое общество.
Сэм улыбнулся ему.
-- И как же тогда вы относитесь к нам?
-- Наши ученые потратят тысячи лет, стараясь понять нас, -- отвечал
Страха. -- Если бы мы не прибыли сюда, вы могли бы уничтожить самих себя в
относительно короткий период. Помимо прочего, вы уже работаете над созданием
своего собственного атомного оружия, и с ним вы беспрепятственно сделаете
эту планету необитаемой. Почти жаль, если это у вас не получится.
-- Большое спасибо, -- сказал Игер. -- Мы вас тоже очень любим.
Он добавил усиливающий кашель, хотя и не был уверен, можно ли
использовать его для придания словам сардонического оттенка.
Рот Страхи открылся от удивления: возможно, он понял иронию -- а может
быть, бывший командир корабля смеялся над тем, как Сэм исказил его язык.
Затем Страха сказал:
-- Как большинство самцов Расы, Атвар -- минималист. А вот вы, Большие
Уроды, -- максималисты. В долгосрочном плане, как я указывал, это может,
вероятно, оказаться катастрофическим для вашего вида. Я не могу себе
представить, чтобы вы, тосевиты, построили Империю, стабильную в течение
сотни тысяч лет. Сможете?
-- Нет, -- заметил Сэм.
Годы, которые имел в виду Страха, составляли лишь половину земного
эквивалента, но тем не менее пятьдесят тысяч лет назад люди жили в пещерах и
имели дело с мамонтами и саблезубыми тиграми. Игер не мог представить себе,
что произойдет хотя бы через пятьдесят лет, не говоря уже о пятидесяти
тысячах.
-- А вот в краткосрочном планировании ваша склонность к непредсказуемым
изменениям создает трудности, с которыми наш род никогда прежде не
встречался, -- сказал Страха. -- По стандартам Расы я -- максималист и,
таким образом, должен быть более приспособлен к руководству нами против
вашего рода.
По человеческим стандартам Страха был более консерватором, чем
демократ-южанин с сорокапятилетним стажем сенаторства, но Игер не нашел
подходящего повода, чтобы сказать это. Ящер продолжил:
-- Я верю в действия, а не дожидаюсь бесконечного ухудшения, как это
делают Атвар и его клика. Когда советская ядерная бомба показала нам,
насколько катастрофически мы недооценивали ваш род, я пытался изгнать дурака
Атвара и передать общее командование более подходящему самцу, такому как я
сам. И когда мое предприятие сорвалось, я предпринял конкретные действия --
перебежал к вам, тосевитам, вместо того чтобы ждать, когда Атвар отомстит
мне.
-- Истинно так, -- сказал Игер. Это была правда. Пожалуй, по стандартам
ящеров Страха и в самом деле был быстр, как метеор. -- И в последние дни с
вашей стороны таких конкретных действий добавилось, не так ли? Между прочим,
что поделывают мятежники в Сибири?
-- Ваши радиоперехваты показывают, что они сдались русским, -- ответил
Страха. -- Если с ними будут хорошо обходиться, это покажет другим
недовольным подразделениям -- а их должно быть немало, -- что они тоже могут
пойти на мир с тосевитами.
-- Это было бы прекрасно, -- сказал Сэм. -- Когда ваш главнокомандующий
поймет, что ему нужно заключить с нами мир, что он не может завоевать всю
планету, как планировала Раса, когда направляла вас с Родины?
Если бы Страха был котом, от этого вопроса у него бы шерсть встала
дыбом. Да, он презирал Атвара. Да, он перебежал к американцам. Но в глубине
сердца он по-прежнему оставался лояльным Императору, и мысль о том, что
одобренный Императором план может сорваться, вызывала у него резкое урчание
в животе.
Но командир корабля пренебрег этим, спросив в свою очередь:
-- А когда вы, Большие Уроды, поймете, что не сможете нас уничтожить
или изгнать со своей жалкой холодной планеты?
Теперь заворчал Игер. Когда США воевали с нацистами и японцами, все
считали, что война должна продолжаться до тех пор, пока плохих парней не
сровняют с землей. Разве не так должны действовать воины? Кто-то побеждает и
отбирает барахло у тех, кто проиграл. Если на Землю спустились ящеры и
отобрали часть планеты у человечества, означает ли это, что они победили?
Когда Сэм произнес это вслух, Страха задвигал глазами в разные стороны,
что означало удивление.
-- Вы, Большие Уроды, существа с самоуверенной гордостью, -- воскликнул
командир корабля. -- Ни один план Расы никогда не срывался. Если мы не
сможем получить вашу планету целиком, если мы оставим империи и не-империи
Больших Уродов целыми и независимыми, мы будем страдать от унижения,
которого никогда прежде не испытывали.
-- В самом деле? -- спросил Игер. -- Но как же тогда ящеры и люди
собираются жить вместе и решать общие вопросы? Мне кажется, что мы в тупике.
-- С нами этого не случилось бы, не будь упрямства Атвара, -- сказал
Страха. -- Как я говорил раньше, единственный путь, на который он согласен,
а именно полная победа любой ценой, становится явно невозможным.
-- Если он этого еще не понял...
Но тут Сэм остановился и покачал головой. Надо вспомнить точку зрения
ящеров. То, что на близком расстоянии выглядит как катастрофическое
поражение, может показаться лишь кочкой на дороге в контексте тысячелетий.
Люди подготовились к следующей битве, а ящеры -- к следующему тысячелетию.
Страха сказал:
-- Если он поймет -- если такое вообще возможно, -- то, я думаю, он
сделает одно из двух. Он может попытаться заключить мир на принципах,
которые мы с вами обсуждали. Или он может пустить в ход кое-какой ядерный
арсенал Расы, чтобы принудить вас, тосевитов, к покорности. Это то, что
сделал бы я. Но то, что я предлагал, вряд ли может быть сделано теперь.
-- И хорошо! -- искренне сказал Игер. Он уже не участвовал в
американской программе по созданию ядерной бомбы, но знал, что эти адские
машины не сходят с конвейера, как автомобили "Де Сото". -- Другой фактор,
который его удерживает, -- это ваш флот колонизации, не так ли?
-- Истинно так, -- сразу же ответил Страха. -- Это соображение
останавливало наши действия в прошлом и продолжает влиять на них до сих пор.
Однако Атвар может решить, что заключение мира с вами оставит Расе меньше
обитаемой поверхности Тосев-3, чем та, которую он надеется получить,
уничтожив значительные территории планеты по нашему выбору.
-- Это не остановит нас от продолжения борьбы, вы понимаете, -- сказал
Сэм, надеясь, что его слова не пропадут даром.
Очевидно, что Страха так не считал.
-- Мы болезненно беспокоимся об этом. Это один из факторов, который до
некоторой степени отклонил нас от курса. Однако более важным является наше
желание не повредить планету ради наших колонистов, как вы сами заметили.
-- Ммм-хмм, -- произнес Сэм, ощущая иронию ситуации: безопасность Земли
держится на заботе ящеров об их собственном будущем, а не на беспокойстве о
человеческих существах. -- Что будет с нами в течение восемнадцати лет --
пока остальные ваши сородичи не явятся сюда?
-- Нет, срок вдвое дольше, -- ответил Страха. Затем он издал шум
наподобие кипящего чайника. -- Мои извинения, если вы используете
тосевитские годы, то вы правы.
-- Да, я имел в виду их -- я ведь все-таки тосевит, -- сказал Игер с
улыбкой. -- Что подумают ваши колонисты, когда окажутся в мире, который не
полностью в ваших руках, как должно было быть?
-- Команды звездных кораблей будут знать об изменении условий, когда
перехватят наши сигналы, направленные на Родину, -- сказал Страха. --
Несомненно, это наполнит их ужасом и приведет в замешательство. Если
помните, нашему флоту вторжения понадобилось некоторое время, чтобы начать
приспосабливаться к непредвиденным условиям на Тосев-3. Для них эта
непредвиденность тоже будет новостью. В любом случае они мало что смогут
сделать. Флот колонизации не имеет вооружения: мы исходили из того, что флот
вторжения полностью умиротворит этот мир до прибытия колонистов. И конечно,
сами колонисты находятся в холодном сне и останутся в неведении об истинной
ситуации, пока не оживут после прибытия флота.
-- Это будет для них сюрпризом, не так ли? -- сказал Сэм, хмыкнув. --
Между прочим, сколько их будет?
-- Я точно не знаю, -- ответил Страха. -- На моей ответственности
прежде всего был флот вторжения. Но если основой для экспедиции послужила
наша практика по колонизации миров Работев и Халесс -- почти наверняка так и
будет, учитывая нашу любовь к прецедентам, -- то мы пошлем сюда от
восьмидесяти до ста миллионов самцов и самок... Ваш кашель на моем языке
ничего не означает, Сэмигер. -- Он произносил имя и фамилию Игера, как будто
они были одним словом. -- Имеет ли он какое-нибудь значение в вашем языке?
-- Извините, командир корабля, -- сказал Сэм после того, как снова
обрел способность связно говорить. -- Должно быть, поперхнулся или что-то в
этом роде. -- "Восемьдесят или сто миллионов колонистов?" -- Раса ничего не
делает, не правда ли?
-- Истинно так, -- ответил Страха.
* * *
-- Одно унижение за другим, -- в глубоком расстройстве произнес Атвар.
С того места, где он стоял, ситуация на поверхности Тосев-3 выглядела
унылой. -- Наверное, все-таки стоило нам потратить ядерный заряд на этих
мятежников, чем позволить им сдаться СССР.
-- Истинно, -- сказал Кирел. -- Потери вооружений большие. Через
короткое время Большие Уроды скопируют какие-то особенности, когда поймут,
как их украсть. Это случалось раньше и происходит снова: у нас есть
последнее сообщение, что немцы, например, начинают применять подкалиберные
бронебойные снаряды против наших танков.
-- Я видел эти сообщения, -- подтвердил командующий флотом, -- Они не
наполняют меня радостью.
-- Меня тоже, -- ответил Кирел. -- Более того, потеря территории,
которую прежде контролировала база, где взбунтовался гарнизон, создала нам
новые проблемы. Хотя погодные условия в этой местности остаются
исключительно плохими, у нас есть свидетельства, что СССР пытается
восстановить железнодорожное сообщение с востока на запад.
-- Как они могут это сделать? -- сказал Атвар. -- Наверняка даже
Большие Уроды замерзнут, если их заставят работать в таких условиях.
-- Судя по тому, что мы видели в СССР, благородный адмирал, похоже, там
вряд ли больше беспокоятся о здоровье своих рабочих, чем в Германии, --
сказал Кирел печально. -- Выполненная работа имеет большую ценность, нежели
человеческие жизни, истраченные в процессе ее выполнения.
-- Истинно, -- сказал Атвар, затем добавил: -- Безумие, -- сопроводив
слово усиливающим кашлем. -- Немцы временами, кажется, ставят расходование
жизней выше, чем получение труда. Как называлось место, в котором они
проявили столько выдумки в уничтожении? Треблинка -- так оно называлось.
Раса даже представить себе не могла существование центра, полностью
отведенного для уничтожения разумных существ.
Атвар ждал, что Кирел назовет сейчас еще одно, возможно, самое главное
отрицательное последствие падения сибирской базы. Кирел не назвал его.
Скорее всего, Кирел не думал об этом. Он был хорошим командиром корабля,
лучше и не придумаешь, -- если кто-нибудь говорил ему, что надо делать. Даже
для самца Расы у него было мало воображения.
Поэтому заговорил Атвар:
-- Мы теперь должны решить проблему пропагандистских радиопередач от
мятежников. Они говорят, что они в хорошем настроении, хорошо питаются, с
ними хорошо обращаются, у них в достатке эта вредоносная трава имбирь, для
развлечения. Такие передачи могут не только вызвать новые мятежи, но и
дезертирство отдельных самцов, которые не найдут партнеров для тайного
сговора.
-- То, что вы сказали, скорее всего правильно, -- согласился Кирел. --
Надо надеяться, что усиленный надзор за офицерами поможет решить проблему.
-- Да, надо надеяться, -- сказал Атвар с глубоким сарказмом. -- Следует
также надеяться, что к концу зимы мы не потеряем слишком много пространства
в северном полушарии и что партизанские налеты на наши позиции будут
ослабевать. В некоторых местах -- например, в Италии -- мы не способны
управлять или контролировать территорию, которая объявлена находящейся под
нашей юрисдикцией.
-- Нам требуется лучшее сотрудничество с тосевитскими авторитетными
лицами, которые сдались нам, -- сказал Кирел. -- Это относится ко всей
планете, особенно к Италии, где наши силы снова могут оказаться в состоянии
войны.
-- Большинство итальянских авторитетных лиц погибли, когда атомная
бомба разрушила Рим, -- ответил Атвар. -- А те, кто остался, в основном
симпатизируют своему свергнутому не-императору, этому Муссолини. Как бы я
хотел, чтобы немецкому налетчику Скорцени не удалось украсть его и тайно
переправить в Германию. Его радиопередачи вместе с передачами нашего бывшего
союзника Русецкого и изменника Страхи показали себя наиболее разрушительными
из всех контрпропагандистских усилий, направленных против нас.
-- Этот Скорцени -- словно булавка, воткнутая нам под чешую, он мешал
нам в течение всей завоевательной кампании, -- сказал Кирел. -- Он
непредсказуем даже для тосевита и смертельно опасен.
-- Хотелось бы спорить, но все верно, -- с досадой согласился адмирал.
-- В дополнение ко всему злу, которое он причинил нам, он стоил мне
Дрефсаба, офицера разведки, который был одновременно уклончивым и энергичным
в такой степени, что мог соревноваться с Большими Уродами.
-- Что делать теперь, благородный адмирал? -- спросил Кирел.
-- Будем продолжать, и как можно лучше, -- ответил Атвар.
Ответ не удовлетворил его и наверняка не удовлетворил Кирела. Стараясь
улучшить положение, Атвар добавил:
-- Мы должны усилить меры безопасности по охране наших звездных
кораблей. Если Большие Уроды смогут украсть ядерное оружие, даже с небольшим
радиусом действия, потенциально они получат возможность нанести нам еще
больший урон, чем тот, который уже нанесли.
-- Я издам приказ, предупреждающий такие случайности, -- сказал Кирел.
-- Я согласен, это серьезная опасность. Я также подготовлю меры, тщательное
исполнение которых сделает этот приказ эффективным.
-- Хорошо, -- сказал Атвар. -- И поподробнее. Не допустите никаких
возможных ловушек, из-за которых беззаботный самец может послужить причиной
несчастья. -- Все это были стандартные советы одного самца Расы другому.
Через мгновение, однако, командующий флотом задумчиво добавил: -- Прежде чем
объявлять приказ и дополнительные инструкции, проконсультируйтесь с самцами,
у которых есть опыт действий на поверхности Тосев-3. Возможно, они помогут
усовершенствовать предлагаемые вами меры.
-- Будет исполнено, господин адмирал, -- обещал Кирел. -- Могу я с
уважением предположить, что никто из нас здесь, на орбите, не имеет
достаточно непосредственного опыта в отношении условий на поверхности
Тосев-3?
-- В том, что вы сказали, есть доля правды, -- ответил Атвар. --
Возможно, мы должны проводить больше времени на самой планете -- в
достаточно безопасной области, предпочтительно с полезным для здоровья
климатом.
Он вызвал на экран компьютера карту поверхности Тосев-3. Одни цвета,
наложенные друг на друга, показывали уровень безопасности в категориях,
начиная от незавоеванной до мирной (хотя угнетающе малая часть планеты была
окрашена этим мирным розовым цветом). Другой цвет отображал климатические
данные. Атвар дал команду компьютеру показать место, где оба фактора
оптимальны.
-- Северный береговой регион субконтинентальной массы, который тосевиты
называют Африкой, кажется, ближе всего к идеалу, чем любое другое место, --
прокомментировал Кирел.
-- Так и есть, -- сказал Атвар. -- Я там уже был. Приятная местность,
некоторые территории -- почти как у нас на Родине. Очень хорошо, командир
корабля, сделайте необходимые приготовления. Мы временно переместим
штаб-квартиру в этот регион, чтобы наблюдать за ведением завоевания вблизи.
-- Будет исполнено, благородный адмирал, -- сказал Кирел.
* * *
Людмиле Горбуновой очень хотелось пнуть генерал-лейтенанта графа
Вальтера фон Брокдорф-Алефельдта в то самое место, о котором все знают. Но
поскольку проклятый нацистский генерал остался в Риге, а она застряла
неподалеку от Хрубешова, это было невозможно. Поэтому она просто топнула по
грязи. Грязь пристала к ее сапогу, от чего настроение не улучшилось.
Она не думала о Брокдорф-Алефельдте как о проклятом нацисте, когда была
в Риге. Он показался ей культурным обаятельным генералом, не то что
невоспитанные советские офицеры или наглые немцы, с которыми ей большей
частью приходилось иметь дело.
-- Слетайте ради меня на одно небольшое задание, старший лейтенант
Горбунова, -- бормотала она шепотом. -- Захватите пару противотанковых мин в
Хрубешове, затем вернетесь сюда, и мы отправим вас в Псков, похлопав по
плечу в знак благодарности.
Конечно, это не совсем то, что говорил ей культурный генерал, и он не
пытался похлопать ее по плечу, что, в частности, и было признаком культуры.
Но если бы он не послал ее в Хрубешов, то ее "кукурузник" не попытался бы
протаранить подвернувшееся дерево, а значит, она и в дальнейшем могла бы на
нем летать.
-- А значит, не застряла бы здесь, под Хрубешовом, -- прорычала она и
снова топнула по грязи.
Грязные брызги долетели до ее щеки. Она выругалась и плюнула.
Она всегда считала "У-2" почти вечным, в частности потому, что эти
самолеты были слишком простыми, чтобы их было можно сломать. Когда-то на
Украине она приземлилась, уткнувшись носом в грязь, и самолет легко
починили. А вот влепить "кукурузник" в дерево -- это рекордная глупость.
-- И какой черт оставил дерево посредине посадочной полосы? -- спросила
она Бога, в которого не верила.
Это был не черт. Это были идиоты-партизаны.
Конечно, она летела ночью. Конечно, одним глазом она смотрела на
компас, другим -- на наручные часы, еще одним -- на землю и небо, а еще
одним -- на указатель топлива: она почти желала быть ящером, которые умеют
вертеть глазами независимо друг от друга. Отыскать слабо освещенную
партизанскую посадочную полосу уже было -- нет, не чудом, потому что она не
верила в чудеса, -- большим достижением, без малейшего преувеличения.
Она сделала круг. Направила "кукурузник" вниз. Двигалась плавно. Но не
видела молодую елку -- чертову палку, -- пока не врезалась прямо в нее.
-- Сломаны лонжероны крыла, -- сказала она, подсчитывая неисправности
на пальцах. -- Сломан пропеллер. -- И то и другое из дерева, значит, можно
починить. -- Сломан коленчатый вал. -- А вот вал из металла, и она не
представляла, что с ним можно сделать в этих условиях.
Позади нее кто-то кашлянул. Она крутнулась на месте, как испуганная
кошка. Рука инстинктивно схватилась за рукоятку автоматического пистолета
Токарева. Партизан, подошедший к ней, испуганно отшатнулся. Это был
болезненного вида бородатый нервный маленький еврей, который отзывался на
имя Шолом. Она кое-как разбирала смесь его польского и идиш, а он немного
знал по-русски, так что им удавалось понять друг друга.
-- Идемте, -- сказал он. -- Мы позовем кузнеца из Хрубешова. Он
посмотрит, что с вашей машиной.
-- Хорошо, иду, -- печально ответила она.
Да, "У-2" нетрудно починить, но, подумала она, вряд ли кузнец сможет
починить обработанную деталь так хорошо, чтобы самолет мог снова взлететь.
Это был один из самых крупных мужчин, которых она когда-либо видела,
почти два метра ростом и чуть ли не с такими же широкими плечами. По виду он
мог бы разогнуть коленчатый вал в нужную форму голыми руками, если бы он был
целым. Но вал был не просто погнут, он был сломан пополам.
Кузнец говорил по-польски и слишком быстро, чтобы Людмила могла его
понять. Шолом пересказал его слова:
-- Витольд говорит, что если это сделано из металла, он починит. Он
сказал, что он чинил множество телег.
-- Он когда-нибудь ремонтировал автомобиль? -- спросила Людмила.
Если ответ будет положительным, возможно, у нее появится надежда в
конце концов оторваться от земли.
Услышав ее голос, Витольд удивленно замигал. Затем принял
величественную позу; его и без того огромная грудь надулась, как воздушный
шар. На руках вздулись мускулы. И он снова быстро заговорил. И снова Шолом
превратил его скороговорку в понятное.
-- Он говорит, конечно. Он говорит, что для вас он починит все что
угодно.
Людмила принялась изучать кузнеца прищуренными глазами. Она подумала,
что он имел в виду нечто большее: некоторые из его польских слов звучали
очень похоже на русские непристойности. Что ж, поскольку она их не поняла,
ей не нужно и реагировать. В данный момент это самое разумное.
Шолома она попросила:
-- Скажите ему, чтобы он осмотрел повреждения и решил, что он может
сделать.
Витольд важно встал возле нее, выпятив грудь, подняв кверху подбородок
и выпрямив спину. Людмила была невысокого роста и чувствовала себя рядом с
ним еще меньше. И от этого кузнец ей совсем разонравился.
Пару минут он рассматривал биплан, затем спросил:
-- Что тут сломалось, чтобы это починил кузнец?
-- Коленчатый вал, -- ответила Людмила.
Красивое лицо Витольда оставалось спокойным даже после того, как Шолом
перевел ее ответ на польский. Людмила с ядовитой любезностью спросила:
-- Вы ведь знаете, что такое коленчатый вал, не так ли? Если вы
работали с автомобилями, вы это хорошо знаете.
Перевод Шолома, порция быстрых польских слов Витольда. Людмила кое-что
поняла, и ей не понравилось то, что она услышала. Слова Шолома не улучшили
ее настроения:
-- Он говорит, что работал с автомобильными рессорами и выправлял
вмятины на -- как это сказать? -- на грязевых щитках, вы понимаете? Он не
работал с моторами автомобилей.
-- Боже мой! -- проговорила Людмила.
Она была атеисткой, но божба позволяла отвести душу, и поэтому она
обратилась к Богу. Рядом стоял Витольд, сильный, как бык, и такой же
полезный для нее, как если бы и вправду носил в носу бычье кольцо. Она
набросилась на Шолома, съежившегося от ее крика.
-- Почему вы не нашли мне настоящего механика вместо этого грубого
идиота?
Витольд испустил яростный рев, похожий на бычий. Шолом беспомощно пожал
плечами.
-- До войны в Хрубешове было всего два механика по моторам, пани пилот.
Один из них уже мертв -- забыл, кто его убил, нацисты или русские. Второй
лижет задницы ящерам. Если мы его сюда приведем, он все расскажет им.
Витольд так много не сможет сделать, зато он верный.
Витольд тоже понял. Он заорал и занес массивный кулак, собираясь
ударить Шолома в лицо.
Еврейский партизан не казался вооруженным. Но теперь, словно фокусник,
он достал "Люгер" чуть ли не из воздуха и навел его на Витольда.
-- У евреев теперь есть оружие, Витольд. Тебе лучше помнить об этом.
Скажи что-нибудь о моей матери, и я отстрелю твои шарики. Мы больше не
потерпим говна от вас, поляков.
На польском или на русском -- дерьмо означает дерьмо.
Бледно-голубые глаза Витольда широко раскрылись. Рот тоже открылся и
закрылся несколько раз, но ни единого слова не прозвучало. Ни слова не
говоря, он повернулся и пошел прочь. Весь его гонор вышел из него, как
воздух из проколотой велосипедной шины.
Людмила тихо сказала Шолому:
-- Вы только что дали ему повод продать нас ящерам.
Шолом пожал плечами. "Люгер" исчез.
-- Но дышать-то он хочет. Он будет молчать -- или умрет. Он знает это.
-- Тогда понятно, -- сказала Людмила.
Шолом рассмеялся.
-- Да, тогда понятно. И в России тоже так?
Людмила собралась сердито отчитать его, но остановилась, прежде чем
слова сорвались с губ. Ей вспомнились соседи, учителя и двое двоюродных
братьев, исчезнувших в 1937-м и 1938-м. Сегодня они были, а назавтра
исчезли. Не спрашивай о них, не говори о них. Если спросишь, исчезнешь
следующей. Такое тоже случалось. И все склоняли голову, делая вид, что
ничего не происходит, и надеялись, что террор минует их стороной.
Шолом наблюдал за ней темными, глубоко посаженными глазами, полными
иронии. Наконец, чувствуя, что ей необходимо что-то сказать, она ответила:
-- Я старший лейтенант авиации. Вам бы понравилось, если бы вы
услышали, как оскорбляют ваше правительство?
-- Мое правительство? -- Шолом плюнул на землю. -- Я -- еврей. Вы
думаете, польское правительство -- мое? -- Он снова расхохотался: на этот
раз в хохоте чувствовалась тяжесть столетий угнетения. -- А затем пришли
немцы и сделали поляков приятным и добрым народом. А это мало кому по плечу.
-- Именно поэтому вы здесь, а не с ящерами в Хрубешове? -- спросила
Людмила.
В следующее мгновение она почувствовала, что вопрос не слишком
тактичен, но она уже задала его.
-- Некоторые вещи плохи, некоторые еще хуже, а некоторые -- хуже всего,
-- ответил Шолом. Он сделал паузу, убеждаясь, что Людмила поняла польские
сравнительные и превосходные степени. Когда он решил, что она разобралась,
добавил: -- Для евреев -- немцы хуже всего. Для людей -- ящеры хуже всего.
Кто я -- человек или еврей?
-- Прежде всего вы -- человек, -- тут же ответила Людмила.
-- Для вас это звучит так просто, -- со вздохом сказал Шолом. -- Вот
мой брат Мендель, так он в Хрубешове. -- Еврей снова пожал плечами. --
Случаются и такие вещи.
Не зная, что сказать, Людмила молчала. Она еще раз заботливо осмотрела
"У-2". Самолетик был прикрыт, так что его было трудно заметить с воздуха,
хотя маскировка получилась менее тщательной, чем дома. Она постаралась не
беспокоиться об этом. Партизан еще не выловили, значит, их способностей к
камуфляжу вполне достаточно.
В определенном смысле их маскировка была очень изобретательной,
некоторые уловки она уже знала по собственному опыту. Примерно в двух
километрах от лагеря они разводили большие костры, палатки изображали
присутствие значительных сил. Ящеры пару раз обстреливали фальшивый лагерь,
в то время как настоящий лагерь так и не пострадал.
Здесь костры были небольшими, все они горели внутри палаток или были
скрыты под кусками брезента, растянутого на палках. Люди ходили туда-сюда,
сидели вокруг костров, некоторые чистили оружие, другие просто болтали,
третьи играли в карты. В отряде были и женщины, примерно одна на шестерых
партизан. Некоторые, казалось, вряд ли были чем-то большим, нежели просто
поварихи или подружки, но попадались и настоящие солдаты. Мужчины обращались
с женщинами-бойцами, как с равными, но с остальными вели себя так же грубо и
насмешливо, как крестьяне со своими женами.
Молодой еврей в немецкой серой шинели отвлекся от игры в карты, чтобы
бросить в горшок какую-то траву и размешать железной ложкой с деревянной
ручкой. Поймав взгляд Людмилы, он самодовольно рассмеялся и сказал что-то на
идиш. Она поняла: в Хрубешове он был поваром, а теперь скатился до этого.
-- Лучше, когда настоящий повар готовит, чем неумеха, -- ответила она
по-немецки и показала на живот, чтобы стало ясно, что она имела в виду.
-- Это да, -- ответил еврей. Он снова помешал в горшке. -- Это соленая
свинина. Единственное мясо, которое мы можем добыть. Теперь мы едим его, и я
должен сделать его вкусным!
Он возвел глаза к небу, как бы говоря, что разумный Бог никогда бы не
довел его до такого унижения.
Что касается Людмилы, то диетические правила, из-за нарушения которых
мучился еврей, были для нее примитивными предрассудками, которые современные
прогрессивные люди должны игнорировать. Правда, сама она не была свободна от
них. Даже великий Сталин заключил мир с православным патриархом в Москве и
призвал Господа на сторону Красной Армии. Если предрассудки могут служить
делу, какой смысл критиковать их?
Она была достаточно молода, чтобы такой компромисс со средневековьем
воспринимался ею как измена. Затем она поняла, что для еврея готовить
солонину и -- более того -- употреблять ее в пищу было святотатством. Он,
конечно, заблуждался, мучаясь из-за этого, но не был неискренним.
После еды она чистила миску снегом, когда одна из женщин -- не из тех,
кто носил оружие, -- подошла поближе. Нерешительно и запинаясь женщина
(вообще-то почти девочка, вряд ли ей было больше семнадцати) спросила
по-русски:
-- Вы в самом деле воевали на этом самолете против ящеров?
-- Да, а раньше -- против нацистов, -- ответила Людмила.
Глаза девушки -- очень большие и очень голубые -- широко раскрылись.
Она была стройной и хорошенькой и была бы красавицей, если бы ее лица не
портило тупое коровье выражение.
-- О небеса! -- выдохнула она. -- Сколько же мужчин вам пришлось
окрутить, чтобы они допустили вас до этого?
Вопрос был наивным и чистосердечным, но менее гнусным для Людмилы он от
этого не стал. Людмиле захотелось встряхнуть ее.
-- Я никого не окручивала, -- возмущенно сказала она. -- Я...
-- Ничего, -- перебила девушка (ее имя было Стефания). -- Вы можете
сказать. Это ведь не так уж важно. Уж раз вы женщина, вы должны делать такие
вещи снова и снова. Это все знают.
-- Я -- никого не окручивала, -- повторила Людмила, раздельно произнося
слова, словно она говорила с умственно отсталой. -- Многие мужчины пытались
окрутить меня. Я стала пилотом, потому что я состояла в Осоавиахиме --
государственной программе подготовки летчиков -- перед войной. Я умею делать
то, что делаю. Если бы не умела, меня бы уже двадцать раз успели убить.
Пристальный взгляд в лицо польской девушки почти убедил Людмилу, что
она сумела что-то объяснить. Затем Стефания тряхнула головой, светлые косы
качнулись назад и вперед.
-- Мы знаем, что приходит от русских: ничего, кроме лжи.
И, как Витольд, она пошла прочь.
Людмиле хотелось пристрелить эту глупую сучку. Она закончила чистить
миску.
Это был ее второй полет за пределы Советского Союза. И оба раза она
видела, как мало ценят иностранцы ее страну. Непроизвольной реакцией на это
было презрение. Иностранцы -- всего лишь невежественные реакционеры, если не
способны оценить славные достижения советского государства и его намерение
принести преимущества научного социализма всему человечеству.
Затем она вспомнила партийные чистки. Разве ее двоюродный брат, ее
учитель геометрии и тот человек, который торговал в табачном киоске напротив
ее дома, и в самом деле были контрреволюционерами, вредителями, шпионами
троцкистов или загнивающих империалистов? Когда-то ее это мучило, но она
давно не позволяла себе опасных воспоминаний. Она инстинктивно чувствовала,
что такие мысли грозят опасностью ей самой. Насколько же славны достижения
советского государства, если вы не смеете о них подумать? Нахмурившись, она
положила свою миску вместе с остальными.
Уссмаку казалось, что такого жалкого самца ему не доводилось видеть с
тех самых пор, как он вылупился из яйца. Дело было не только в том, что на
бедняге не было раскраски, хотя голое тело явственно демонстрировало его
жалкое состояние. Хуже было то, как глаза самца неотрывно следовали за
Большим Уродом, которому он служил переводчиком, как будто тосевит был
солнцем, а он сам -- лишь незначительной планеткой.
-- Это -- полковник Борис Лидов, -- произнес самец на языке Расы, хотя
титул прозвучал по-русски. -- Он из народного комиссариата внутренних дел --
НКВД -- и будет вашим следователем.
Уссмак коротко взглянул вверх на тосевита. Тот выглядел как обычный
Большой Урод, причем не особенно внушительный: тощий, с узким морщинистым
лицом, с небольшим количеством меха на голове и с маленьким ртом, с еще
более плотно сжатыми губами, чем у обычных тосевитов.
-- Очень приятно, -- сказал Уссмак, сообразив, что Большие Уроды хотят
задать ему некоторые вопросы, -- а вот кто вы, друг? Как вы оказались на
этой должности?
-- Меня звали Газзим, я был стрелком второго ранга, пока мой
бронетранспортер не был уничтожен, а меня не взяли в плен, -- ответил самец.
-- Теперь у меня нет ранга. Я существую из милости Советского Союза. --
Газзим понизил голос. -- А теперь и вы тоже.
-- Наверняка это не так плохо, -- сказал Уссмак. -- Страха, командир
корабля, который дезертировал, объявил, что большинство тосевитских
не-империй хорошо обращается с пленными.
Газзим не ответил. Лидов заговорил на местном языке, звучавшем для
Уссмака, словно шум, который издает самец, проглотивший слишком большой
кусок пищи. Газзим отвечал похожими звуками, вероятно, объясняя тосевиту,
что сказал Уссмак.
Лидов сжал вместе кончики пальцев, причем каждый палец прикасался к
такому же пальцу другой руки. Этот странный жест напомнил Уссмаку, что он,
несомненно, имеет дело с чуждым видом. Затем тосевит снова заговорил на
своем языке. Газзим перевел:
-- Он хочет знать, для чего вы здесь.
-- Я даже не знаю, где нахожусь, не говоря уже о том -- для чего, --
ответил Уссмак с некоторой резкостью. -- После того как мы сдали базу
солдатам СССР, нас вначале посадили в ведомые животными перевозочные
средства, а затем в совершенно жуткие железнодорожные вагоны, затем наконец
в другие перевозочные средства, из которых было нельзя посмотреть наружу.
Эти русские не выполняют соглашения, которым они должны следовать, как
обещал Страха.
Выслушав перевод, Лидов откинул голову назад и издал своеобразный
лающий шум.
-- Это он смеется, -- объяснил Газзим. -- Он смеется, потому что самец
Страха не имеет опыта общения с тосевитами СССР и не знает, о чем говорит.
Уссмак не придал значения этим словам.
Он сказал:
-- Это поражает меня меньше, чем почетное место, которое было нам
обещано, когда мы согласились на условия сдачи. Если бы я не знал ничего
лучше, я мог бы сказать, что оно напоминает мне тюрьму.
Лидов снова расхохотался, причем еще до того, как слова Уссмака были
переведены.
"Он немного знает наш язык", -- подумал Уссмак и решил быть более
осторожным в отношении того, что говорит.
Газзим сказал:
-- Название этого места -- Лефортово. Это в Москве, столице СССР.
Совершенно естественно, казалось, даже не раздумывая, Лидов протянул
руку и ударил Газзима в морду. Лишенный раскраски самец съежился. Лидов
громко заговорил; будь Большой Урод самцом Расы, он, несомненно, отделял бы
каждое слово усиливающим покашливанием. Газзим отступил в позе послушания.
Когда Лидов закончил, переводчик сказал:
-- Я должен сказать вам, что мне не разрешено давать вам излишней
информации. Этот допрос -- для получения сведений от вас, а не для того,
чтобы давать их вам.
-- Тогда задавайте ваши вопросы, -- покорно сказал Ус-смак.
И вопросы начались -- они падали, как снег ненавистной Уссмаку
сибирской метели. Вначале это были вопросы, которые он задал бы тосевитскому
коллаборационисту, прошлого которого он не знал: вопросы о его военной
специальности и об опыте пребывания на Тосев-3 после того, как он ожил после
холодного сна.
Он смог рассказать полковнику Лидову о танках Расы. Самцы в танковых
экипажах по необходимости должны были знать больше, чем требовала их
специальность, чтобы они могли продолжать бой в случае потерь. Он
рассказывал об управлении машиной, о ее подвеске, об оружии, о двигателе.
После этого Лидов стал спрашивать о стратегии и тактике Расы и о других
Больших Уродах, с которыми тот воевал. Это озадачило его: наверняка Лидов
был лучше осведомлен о своем собственном роде, чем Уссмак. Газзим сказал:
-- Он хочет, чтобы вы перечислили все виды тосевитов в порядке их
способности воевать, по вашему мнению.
-- В самом деле?
Уссмак хотел задать Газзиму пару вопросов, прежде чем отвечать, но не
осмелился, и не потому, что следователь -- Большой Урод -- понимал язык
Расы. Он задумался, насколько искренним ему следует быть. Хочет Лидов
услышать похвалы тосевитским самцам или же ему нужна реальная информация?
Уссмаку пришлось гадать и выбрал следующее:
-- Скажите ему, что лучше всего воюют немцы, затем британцы, а затем
советские самцы.
Газзим поежился. Уссмак решил, что сделал ошибку, и задумался,
насколько она велика. Переводчик заговорил на квакающем русском языке,
передавая его слова полковнику Лидову. Маленький рот тосевита сжался еще
сильнее. Он произнес несколько слов.
-- Скажите ему, почему, -- сказал Газзим, ни намеком не выдавая реакцию
Лидова.
"Твоему яйцу следовало бы протухнуть, вместо того чтобы дать тебе
вылупиться, Газзим", -- подумал Уссмак. Но, начав, он должен был идти до
конца:
-- Немцы все время получают новые виды вооружения, каждое новое лучше
предыдущего, и они умеют тактически приспосабливаться. Тактически они лучше,
чем наши обучающие машины на Родине, и почти постоянно удивляют.
Лидов снова заговорил по-русски.
-- Он говорит, что СССР тоже, к своему сожалению, обнаружил это. СССР и
Германия жили в мире, были друзьями, и вот трусливые изменники немцы
предательски напали на эту миролюбивую не-империю.
Лидов сказал еще что-то. Газзим перевел.
-- А британцы?
Уссмак сделал паузу, прежде чем ответить. Он подумал, что мог бы
сказать немецкий самец о войне с СССР. Что-то другое, решил он. Он знал, что
тосевитская политика была гораздо более сложной, чем то, к чему он привык,
но этот Лидов вломился в его представления о мире, как стрелок на танке,
принуждающий огнем цель сдаться. Это доказывало, что он не прочь услышать и
что-то неприятное о соплеменниках из Больших Уродов.
Тем не менее вопрос о британцах дал Уссмаку время подготовиться к
рассказу о СССР. Бывший водитель танка Расы (страстно желавший теперь быть
только водителем) ответил:
-- Британские танки не могут по качеству сравниться с немецкими или
советскими. Правда, британская артиллерия очень хороша, и британцы первыми
применили против Расы ядовитые газы. Кроме того, остров Британия небольшой и
плотно заселен, и британцы очень хорошо проявили себя в застроенных
местностях. Это стоило нам больших потерь.
-- Так, -- сказал Лидов.
Уссмак повернул один глаз в сторону Газзима -- вопрос без
вопросительного покашливания.
Переводчик объяснил:
-- Это означает "так" или "хорошо". Это показывает, что ваши слова
приняты к сведению, но мнения о них не выражается. А теперь он хочет, чтобы
рассказали о самцах СССР.
-- Будет исполнено, -- вежливо сказал Уссмак, словно Лидов был старшим
над ним. -- Я хочу сказать, что русские самцы такие храбрые, как другие
тосевиты, которые мне встречались. Я хочу также сказать, что ваши танки
хорошо сделаны, имеют хорошую пушку, хороший мотор и особенно хороши у них
гусеницы для изрытой земли, столь обычной на Тосев-3.
Рот Лидова слегка приоткрылся. Уссмак принял это за хороший знак. Самец
из -- как это называется? -- из НКВД, сокращенное имя -- задал новый вопрос.
-- После всех этих комплиментов, почему вы ставите славных солдат
Красной Армии после немецких и британских?
Уссмак понял, что его попытка выехать на лести провалилась. Теперь ему
придется говорить правду, пусть частично, и вряд ли Лидов выслушает ее с
радостью. Самцы СССР искусно дробили восставших сибирских самцов на все
меньшие и меньшие группы, каждый раз приводя правдоподобные оправдания. И
теперь Уссмак остро почувствовал, насколько он одинок.
Выбирая слова с большой осторожностью, он сказал:
-- По моим наблюдениям в СССР, боевые самцы с трудом корректируют свои
планы, чтобы приспособиться к изменяющимся обстоятельствам. Они не так
быстро реагируют на них, как немцы или британцы. В этом отношении они
подобны Расе, что объясняет, вероятно, почему Раса добилась таких успехов в
войне с ними. Пути сообщения также оставляют желать лучшего, и ваши танки,
хотя и очень крепкие, не всегда размещаются наилучшим образом.
Полковник Лидов хмыкнул. Уссмак немного разбирался в звуках, которые
издают Большие Уроды, но этот звук вполне мог соответствовать задумчивому
шипению самца Расы.
Затем Лидов сказал:
-- Расскажите мне об идеологических мотивах вашего восстания против
угнетающей аристократии, которая властвовала над вами вплоть до начала
вашего сопротивления.
Когда Газзим перевел все это на язык Расы, Уссмак разинул рот в
язвительном смехе.
-- Идеология? Какая идеология? Моя башка была одурманена имбирем, члены
моего экипажа были только что убиты, Хисслеф, не переставая, орал на меня,
вот я его и пристрелил. Потом одно потянуло за собой другое. Если бы мне
пришлось делать это снова, я вряд ли бы пошел на убийство. Неприятностей это
принесло больше, чем выгоды.
Большой Урод хмыкнул снова. Он сказал:
-- Идеологический фундамент есть у всего, независимо от того, реализует
его кто-то сознательно или нет. Я поздравляю вас с ударом, который вы
нанесли тем, кто эксплуатировал вас ради своих эгоистических целей.
Уссмак убедился, что Лидов не имеет ни малейшего представления о
реальности. Все выжившие воины флота вторжения -- если предположить, что
такие будут, что не вполне очевидно, -- ко времени прибытия флота
колонизации стали бы в завоеванном мире выдающимися, значительными самцами.
В их распоряжении были бы годы для разработки ресурсов мира, и первый
звездный корабль, нагруженный ценностями, мог бы отправиться домой еще до
прибытия колонистов.
Уссмак задумался, сколько незаконного имбиря оказалось бы на борту
этого корабля. Даже если бы Большие Уроды и правда оказались дикарями,
разъезжающими на животных, все равно Тосев-3 создал бы Расе немало проблем.
При мысли об имбире Уссмаку остро захотелось его попробовать.
Полковник Лидов сказал:
-- Теперь разъясните мне по пунктам идеологию прогрессивных и
реакционных кругов в вашей правящей иерархии.
-- Я? -- с некоторым удивлением спросил Уссмак. Газ-зиму он попытался
объяснить: -- Напомни этому тосевиту, -- он помнил, что его не следует
называть Большим Уродом, -- что я всего лишь водитель танка и свои приказы
получал вовсе не от командующего флотом, знаешь ли.
Газзим заговорил по-русски. Лидов выслушал и спросил иначе:
-- Расскажите, что вы вообще знаете об этом. Важнее идеологии нет
ничего.
Уссмак мог бы привести целый список вещей, более важных, чем идеология.
В данный момент этот перечень начинался бы с имбиря, о котором он только что
вспомнил. Он подумал, почему Большого Урода так занимает абстракция, в то
время как существует множество по-настоящему важных вещей, о которых стоит
побеспокоиться.
-- Скажи ему, что я сожалею, но я не знаю, что отвечать, -- сказал
Уссмак Газзиму. -- Я ведь никогда не был никаким командиром. Я только делал
то, что мне говорили.
-- Это не очень хорошо, -- ответил Газзим после того, как высказался
Лидов. Самец казался обеспокоенным. -- Он считает, что вы лжете. Я должен
объяснить: политическая структура этой не-империи имеет идеологическое
основание, которое выполняет роль центра таким же точно образом, как у нас
Император.
Лидов не ударил Газзима, как прежде: очевидно, он хотел, чтобы Уссмак
услышал это объяснение.
Уссмак по привычке опустил глаза при упоминании Императора -- хотя и
изменил ему вначале мятежом, а затем -- сдачей базы. Но он ответил так, как
только и мог:
-- Я не могу придумывать поддельные идеологические расколы, если я их
не знаю.
Газзим испустил длинный шипящий выдох, затем перевел ответ самцу из
НКВД. Лидов щелкнул выключателем возле своего кресла. Позади него загорелась
яркая лампа накаливания с рефлектором, светившая прямо в лицо Уссмака. Самец
отвернул глаза от света. Лидов стал щелкать другими выключателями -- свет
полился сбоку с обеих сторон.
Допрос продолжился.
* * *
-- Проклятье доброму всемогущему Богу, -- сказал Остолоп Дэниелс с
почтительной непочтительностью. -- Это ведь деревня, нарежьте и поджарьте
меня, если это не так.
-- Подходящее время они выбрали, чтобы ненадолго отозвать нас с
передовой, не так ли, сэр? -- сказал сержант Герман Малдун. -- Они никогда
не держали нас в окопах так долго на протяжении всей Великой войны -- ничего
похожего на то, что было в Чикаго, даже приблизительно.
-- Нет, -- сказал Остолоп. -- Они могли позволить себе дурачиться во
Франции. Мы должны были стоять на месте, сдерживать напор ящеров и кидать в
бой все, что только могли наскрести.
-- Я бы не назвал Элджин деревней.
Иллюстрируя свои слова, капитан Стэн Шимански показал рукой на
фабричные здания, которые составляли сеть улиц города. Впрочем, фабрики
здесь были когда-то. Теперь остались руины, торчащие обломками и зазубринами
в серое небо. Все они были варварски разбомблены. Некоторые превратились в
холмы из битого кирпича и осколков камня. У других сохранились стены и
трубы. Что бы здесь прежде ни выпускалось, больше этого уже не будет.
Семиэтажная башня завода по производству часов "Элджин", которая служила
наблюдательным пунктом, теперь едва возвышалась над остальными развалинами.
Остолоп показал на запад -- за реку Фокс.
-- Вон там сельская местность просто чудесна, сэр, -- сказал он. -- Все
время перед глазами только дома и небоскребы, а такого я не видел долгое
время. Это по-настоящему приятно, если вы меня спросите.
-- Это не что иное, лейтенант, как поле для проклятых супертанков, --
сказал Шимански не терпящим возражений тоном. -- С тех пор как у ящеров
появились эти проклятые супертанки, которых у нас нет, я не разделяю вашего
энтузиазма относительно ровной местности.
-- Да, сэр, -- ответил Дэниелс.
Конечно, Шимански был прав. Просто молодые люди, родившиеся в этом
столетии, иначе смотрели на мир. Черт возьми, когда Шимански еще писал в
штанишки. Остолоп уже готовился подняться на корабль, перевозивший войска в
Европу.
Но как бы ни молод был капитан, он хладнокровно оценивал ситуацию. Поля
вдоль реки были прекрасной местностью для танков, а у ящеров были хорошие
танки, так что к черту весь этот ландшафт. Когда Остолоп смотрел на поля, он
думал о том, что когда-нибудь здесь не будет войны, и о том, урожай чего
можно получить с такой земли и в этом климате, и как велик он может быть.
Шимански это не волновало.
-- Куда они отправляют нас, сэр? -- спросил Малдун.
-- В место рядом с Фонтанным сквером, недалеко от часового завода, --
ответил Шимански. -- Мы направляемся в отель, который не был расколочен
вдребезги: трехэтажное здание красного кирпича -- вон там, -- показал он.
-- Фонтанный сквер? Да, я бывал там. -- Сержант Малдун хмыкнул. -- Он
треугольный, и фонтана там никакого нет. Просто приятное место.
-- Предложите мне выбрать между отелем и местами, где мы находились в
Чикаго, и я назову целую кучу прекрасных мест, -- сказал Остолоп. -- Приятно
улечься, не беспокоясь, что снайпер засечет тебя, пока ты спишь, и отстрелит
твою голову, а ты даже не будешь знать, что этот ублюдок был там.
-- Аминь, -- энергично произнес Малдун. -- Сторона, которая...
Он посмотрел на капитана Шимански и решил не продолжать. Остолоп
задумался, что бы это означало. Ему хотелось отправиться к Фонтанному скверу
самому и осмотреться.
Шимански не заметил неловкого молчания Малдуна, Он по-прежнему смотрел
на запад.
-- Неважно, что ящеры делают и какие виды оружия используют, все равно
им будет непросто форсировать реку, -- заметил он. -- Мы хорошо
замаскировались и окопались. И как бы они ни били нас с воздуха, мы все
равно будем бить их танки. Если они захотят захватить это место, то должны
попытаться ударить по нам с флангов.
-- Да, сэр, -- снова сказал Малдун.
Начальство не считало, что ящеры в ближайшее время попытаются захватить
Элджин, в противном случае оно бы не отправило отряд на отдых и
восстановление сил. Конечно, начальство не всегда бывает право, но в данный
момент не свистят пули и не стреляют пушки. Почти мирная обстановка, а
потому люди нервничали.
-- Идемте, лейтенант, -- сказал Малдун. -- Я покажу, где этот отель,
и...
Он снова замолчал, он решил не продолжать. Какого черта он надеется
найти на Фонтанной площади? Магазин, набитый сигаретами "Лаки Страйк"?
Тайник, полный выпивки, которая не была бы дрянным виски или самогоном?
Для среднезападного заводского города Элджин мог быть довольно приятным
местом. Взорванные заводы не составляли отдельного района, как во многих
других городах. Вместо этого они были рассеяны среди красивых домов --
красивых до того, как война пришла сюда с огнем и мечом. Некоторые не
пострадавшие от бомбежки или пожара дома по-прежнему выглядели
привлекательно.
Фонтанный сквер тоже не очень пострадал, может быть, потому, что в
городе не было ни одного достаточно высокого здания, чтобы привлечь
бомбардировщики ящеров. Один бог знал, почему он так назывался, поскольку --
как сказал Малдун -- он не был сквером, тем более с фонтанами. По-настоящему
живыми выглядели только действующий салун, который приветствовал солдат
открытыми дверями, и пара настоящих военных полицейских за этими дверями
(чтобы отдых и восстановление сил проходили в не слишком буйной форме).
Что же Малдун имел в виду? Явно не салун; капитан Шимански никогда не
возражал против выпивки.
Затем Остолоп заметил очередь из парней, одетых в грязную
серо-оливковую одежду, растянувшихся вдоль узкой аллеи. Он видел -- черт
возьми, он и стоял в таких очередях во Франции.
-- Очередь в публичный дом, -- сказал он.
-- Наверное, вы правы, -- согласился Малдун, широко улыбнувшись. -- Это
не значит, что мне хочется добыть еще и травки, которой, помнится, я
баловался во Франции, но, черт возьми, это не значит, что я мертвый. Я
рассчитываю, что после того, как мы устроим ребят в отеле, может быть, вы и
я... -- Он заколебался. -- Может быть, у них есть специальный дом для
офицеров. У французов такие были.
-- Да, я знаю. Я помню, -- сказал Остолоп. -- Но сомневаюсь. Черт
возьми, я и не думал, что они организуют такой дом. В девятьсот
восемнадцатом священники прокляли бы их.
-- Времена изменились, лейтенант, -- сказал Малдун.
-- Да, и в разные стороны, -- согласился Дэниелс. -- Я сам думал об
этом не так давно.
Отряд капитана Шимански был не единственным из размещавшихся в отеле
"Джиффорд". Между кроватями на полу были разложены матрасы и кучи одеял,
чтобы вместить как можно больше людей. Что ж, прекрасно, если только ящеры
не попадут сюда прямой наводкой. Если это произойдет, "Джиффорд" превратится
в огромную гробницу.
Когда все организационные вопросы были решены, Остолоп и Малдун
выскользнули наружу и снова направились к Фонтанному скверу. Малдун искоса
посмотрел на Дэниелса.
-- Вас не беспокоит, что эти взбудораженные ребятишки будут смотреть на
вас, пока вы будете стоять в очереди вместе с ними, лейтенант? -- лукаво
спросил он. -- В конце концов, вы ведь теперь офицер.
-- Нет, черт возьми, -- ответил Остолоп. -- Они никак не смогут
определить, есть у меня шары или нет.
Малдун посмотрел на него, затем отвернулся. Он хотел было ткнуть
Остолопа в ребра локтем, но передумал -- даже в очереди в публичный дом
офицер остается офицером.
Очередь непрерывно двигалась. Остолоп прикинул, что проститутки,
сколько бы их ни было, должны пропускать солдат как можно скорее, чтобы
побольше заработать и хоть немножко отдыхать в перерывах между клиентами.
Он прикинул, есть ли внутри военная полиция. Ее не оказалось. Значит,
заведение не вполне официальное и полиция смотрит на него сквозь пальцы. Это
его не беспокоило. Поднявшись на первую ступеньку лестницы, которая вела к
девочкам, он заметил, что вниз никто не сходит.
Значит, есть другой выход. Он покивал. Было это заведение официальным
или нет, действовало оно эффективно.
Наверху сидела крепкая женщина с кассой -- и кольтом сорок пятого
калибра, вероятно, для защиты от попыток перераспределения платы за грех.
-- Пятьдесят долларов, -- сказала она Остолопу.
Он слышал, как она говорила это уже с десяток раз, с абсолютно
одинаковой интонацией: наверное, она могла поставить рекорд.
Он порылся в заднем кармане и отсчитал из пачки нужное количество
зеленых. Как у большинства парней, у него было много денег. Когда сидишь в
окопах на фронте, тратить особенно не на что.
Крупный светловолосый солдат, которому на вид не исполнилось и
семнадцати, вышел из двери в коридоре и уверенно направился к задней
лестнице.
-- Идите, -- сказала мадам Остолопу. -- Номер четыре, ясно? Там сейчас
Сьюзи.
"Во всяком случае, я теперь знаю, в чьей луже мне предстоит плюхаться",
-- подумал Остолоп, направляясь к двери. Парнишка не выглядел венерическим
больным, но что это доказывает? Немногое, и кто может знать, кто был до
него, или еще раньше, или позавчера?
На двери была тусклая табличка с цифрой 4. Дэниелс постучал. Внутри
послышался женский смех.
-- Входите, -- сказала женщина. -- Дверь ведь не заперта.
-- Сьюзи? -- спросил Остолоп, входя в комнату.
Женщина, прикрытая потертым атласным платком, сидела на краю кровати.
Ей было около тридцати, у нее были короткие каштановые волосы и густо
подведенные глаза, но некрашеные губы. Она выглядела усталой и невеселой, но
не слишком смущенной. Остолоп почувствовал облегчение: некоторые
проститутки, с которыми он встречался, так ненавидели мужчин, что он не мог
понять, зачем они ложатся с ними.
Она оценивающе посмотрела на клиента, пока тот разглядывал ее. Через
пару секунд она кивнула и попробовала улыбнуться.
-- Привет, пупсик, -- сказала она вполне дружелюбно. -- Знаешь, только
один из четверых или пятерых дает себе труд назвать меня по имени. Ты готов?
-- Она показала на таз и кусок мыла. -- Не стоит вначале помыть?
Это был вежливый приказ, но все-таки приказ. Остолоп не возражал. Сьюзи
не делала различий -- что он, что Адам. Пока он приводил себя в порядок, она
скинула с плеч платок. Под ним у нее не было ничего. Она не была красавицей,
но выглядела неплохо. Пока Остолоп вытирался и снимал остальную одежду, она
легла спиной на узкий матрас.
Стоны, которые она издавала, когда он совокуплялся с ней, звучали
фальшиво, а это означало, что подобные тонкости хороши, только если
исполнены профессионально. Она чертовски хорошо работала бедрами, но лишь
затем, естественно, чтобы заставить его поторопиться. Он бы и так быстро
кончил, даже если бы она лежала, как дохлая рыба, -- по причине долгого
воздержания.
Закончив, он скатился с нее, встал и снова отправился к тазу и мылу,
чтобы помыться. Попутно он помочился в горшок возле кровати.
"Промыть трубу", -- подумал он.
-- Не упускаешь шанса, пупсик? -- сказала Сьюзи. Это могло прозвучать
враждебно, но нет -- скорее, она одобряла его.
-- Не везде, однако, -- ответил он, потянувшись к нижнему белью.
Если бы он не упускал выпадающие шансы, то прежде всего не пришел бы
сюда, к ней. И платить сверх оговоренного он не собирался.
Сьюзи села. Ее груди с большими бледными сосками затряслись, когда она
потянулась к платку.
-- Эта Рита, там, снаружи, дешевая сука, она себе забирает большую
часть того, что вы заплатили, -- сказала она расчетливо-привычную фразу. --
Еще двадцать меня бы вполне устроило.
-- Эту песенку я уже слышал, -- сказал Остолоп, и проститутка
рассмеялась, нимало не смутившись.
Он все-таки дал ей десять баксов, хотя и в самом деле хорошо знал эту
песенку: она была почти хорошенькой и гораздо более дружелюбной, чем стоило
ждать от конвейера. Она улыбнулась и спрятала банкноту под матрац.
Остолоп уже взялся за ручку, когда снаружи начался жуткий крик. Орали
мужчины. Разобрать можно было только слово: "Нет!"
-- Что за чертовщина там происходит? -- спросил Остолоп: вопрос не был
риторическим, шум не напоминал драку.
Сквозь крики пробивался звук плача женщины, у которой разбилось сердце.
-- Боже мой! -- тихо ахнула Сьюзи.
Остолоп повернулся к ней. Она перекрестилась. Словно объясняя, она
продолжила:
-- Это Рита. Не думала, что Рита может заплакать, даже если у нее на
глазах перебить всю ее семью.
Раздались удары кулаков, но не в дверь, а в стену. Остолоп вышел в
коридор. Солдаты плакали не стыдясь, их слезы оставляли бороздки на грязи,
покрывающей лица. Возле кассы сидела Рита, опустив голову на руки.
-- Что за черт? -- повторил Остолоп.
Мадам подняла на него глаза. Ее лицо было опустошенным и старым.
-- Он умер, -- сказала она. -- Кто-то только что принес весть, что он
умер.
Таким голосом она могла бы говорить о своем отце. Но в таком случае
никто из солдат не обратил бы внимания. Все они забежали сюда быстро
перепихнуться, как Остолоп.
-- Так кто же умер? -- спросил он.
-- Президент, -- ответила Рита. Какой-то капрал добавил:
-- ФДР.
Остолопа словно ударили в живот. Мгновение он стоял с разинутым ртом,
как вытащенный из воды карась. Затем, охваченный беспомощностью и ужасом, он
зарыдал, как все остальные.
* * *
-- Иосиф Виссарионович, нет причин думать, что изменение политического
руководства в Соединенных Штатах обязательно вызовет изменения в
американской политике или в продолжении войны против ящеров, -- сказал
Вячеслав Молотов.
-- Непременно. -- Иосиф Сталин произнес это слово неприятным
насмешливым монотонным голосом. -- Какой причудливый способ сказать, что вы
не имеете ни малейшего представления о том, что случится в будущем в
Соединенных Штатах.
Молотов сделал пометку в блокноте, который держал на коленях. Он всегда
создавал для Сталина видимость заметок. На самом деле он выигрывал время
подумать. Беда в том, что генеральный секретарь был прав. Человек, который
должен был заменить Франклина Д. Рузвельта, Генри Уоллес, погиб при ядерном
ударе ящеров по Сиэтлу. В Комиссариате иностранных дел, однако, достаточно
хорошо знали Корделла Халла, нового президента Соединенных Штатов.
Нарком иностранных дел изложил то, что было известно:
-- Как государственный секретарь Халл постоянно поддерживал усилия
Рузвельта по оживлению угнетающей структуры американского монополистического
капитализма, по усилению торговых связей с Латинской Америкой и по
финансовой реформе. Он также поддерживал президента в противодействии
фашизму и в ведении войны сначала против гитлеровцев, а затем против ящеров.
Как я уже сказал, думаю, можно предположить, что он будет продолжать
проводить политику, начатую предшественником.
-- Если вы хотите, чтобы кто-нибудь продолжал проводить политику, то вы
нанимаете клерка, -- сказал Сталин с некоторой долей пренебрежения. -- Я
хочу знать, какую политику выберет Халл?
-- Только события покажут нам это, -- ответил Молотов, неохотно
признавая перед Сталиным свою неосведомленность, но опасаясь высказать
неверное предположение, которое генеральный секретарь запомнит. По привычке
он скрыл негодование, вызванное напоминанием Сталина о том, что сам он всего
лишь высокопоставленный клерк.
Сталин сделал паузу, чтобы разжечь трубку. Пару минут он дымил в
молчании. Вонь от махорки, дешевого грубого русского табака, наполнила
небольшую комнату в подвале Кремля. Даже глава Советского Союза в эти дни не
мог позволить себе ничего лучшего. Как и все остальные, Сталин и Молотов
перешли на борщ и щи -- суп из свеклы и суп из капусты. Они наполняли
желудок и давали по крайней мере иллюзию сытости. Если вам везет и вы можете
добавлять в них мясо так же часто, как руководители Советского Союза,
иллюзия становится реальностью.
-- Вы думаете, смерть Рузвельта повлияет на согласие американцев помочь
нам с проектом бомбы из взрывчатого металла? -- спросил Сталин.
Молотов снова принялся записывать. Сегодня Сталина интересовали
исключительно опасные вопросы. Они имели большую важность, и Молотов не мог
ни увильнуть от ответа, ни избежать ошибки.
Наконец он сказал:
-- Товарищ генеральный секретарь, мне дали понять, что американцы
согласились выделить одного из своих физиков для нашего проекта. Однако
из-за участившихся нападений ящеров на корабли он прибудет по суше, через
Канаду, Аляску и Сибирь. Я не думаю, что он уже на советской территории,
иначе знал бы об этом.
Трубка Сталина подала еще несколько дымовых сигналов. Молотов желал бы
прочесть их. Берия утверждал, что может сказать, что думает Сталин, по его
смеху, но Берия много чего говорил -- и не все обязательно соответствовало
истине. Хотя это заявление шефа НКВД было весьма рискованным.
В надежде улучшить настроение Сталина Молотов добавил:
-- Захват базы ящеров вблизи Томска облегчит нашу задачу в переправке
физика,, как только он прибудет на нашу землю.
-- Если он только прибудет на нашу землю, -- сказал Сталин. -- Если он
еще в Северной Америке, то он может быть отозван назад новым режимом. -- Еще
один клуб дыма поднялся из трубки. -- Цари были дураками, идиотами,
глупцами, что отдали Аляску.
С этой проблемой Молотов ничего не мог поделать. И вообще он чувствовал
себя как человек, обезвреживающий бомбу.
Он осторожно сказал:
-- Помогать нам победить ящеров -- это входит в круг ближайших
интересов Америки, а когда, Иосиф Виссарионович, капиталисты думали о
интересах дальнего прицела? Он выбрал правильное направление. Сталин
улыбнулся. Он мог, когда хотел, выглядеть удивительно благожелательным.
Сейчас как раз был такой момент.
-- Сказано истинным марксистом-ленинцем, Вячеслав Михайлович. Мы
добьемся победы над ящерами, а затем и победы над американцами.
-- Этого требует диалектика, -- согласился Молотов.
Он постарался, чтобы в его ответе не прозвучало облегчения, -- как не
позволял себе показывать гнев или страх. Сталин наклонился вперед с
выражением внимания на лице.
-- Вячеслав Михайлович, вы читали протоколы допросов мятежных ящеров,
которые сдали нам базу? Вы верите им? Могут эти существа быть такими
политически наивными или это своего рода маскировка, чтобы обмануть нас?
-- Я, конечно, видел протоколы, товарищ генеральный секретарь. --
Молотов снова почувствовал облегчение: наконец-то он сможет высказать свое
мнение без немедленного риска получить выговор. -- Мое убеждение: их
наивность подлинная, а не изображаемая. Наши следователи и другие эксперты
узнали, что их история в течение тысячелетий была однообразной. У них не
было возможности овладеть дипломатическим искусством, которое даже самые
глупые и бесполезные человеческие правительства, например квазифашистская
клика, прежде управлявшая Польшей, считают само собой разумеющимся.
-- Маршал Жуков и генерал Конев тоже выражают эту точку зрения, --
сказал Сталин. -- А вот я ей не очень верю.
Сталин повсюду видел заговоры, независимо от того, были они или нет:
1937 год показал это. Единственный заговор, который он просмотрел, был
заговор Гитлера в июне 1941 года.
Молотов знал, что выступать против мнения своего шефа слишком
рискованно. Однажды он это сделал и в результате едва уцелел. На этот раз,
однако, ставки были поменьше, и он постарался смягчить свои слова:
-- Возможно, вы правы, Иосиф Виссарионович. Но если бы ящеры были
политически более подготовленными, чем это они показывали до настоящего
времени, разве они не продемонстрировали бы это лучшей дипломатической
деятельностью, чем та, которую они ведут со дня империалистического
нападения на наш мир?
Сталин погладил усы.
-- Это вполне возможно, -- задумчиво сказал он. -- С такой точки зрения
я еще не рассматривал вопрос. Если так, то для нас еще более важно
продолжать сопротивление и поддерживать нашу собственную правительственную
структуру.
-- Что вы имеете в виду, товарищ генеральный секретарь? -- Молотов не
уловил главной мысли.
Глаза Сталина блеснули.
-- Если мы до сих пор не проиграли войну, товарищ комиссар иностранных
дел, не думаете ли вы, что мы можем выиграть мир?
Молотов задумался. Не напрасно Сталин удерживал власть в Советском
Союзе в своих руках уже более двух десятилетий. Да, у него были недостатки.
Да, он делал ошибки. Да, только сумасшедший осмеливался указывать ему на
них. Но большую часть времени он владел таинственным даром отыскивать точку
равновесия сил, позволяющую определить, какая сторона сильнее -- или может
стать такой.
-- Вероятно, все так и будет, как вы сказали, -- ответил Молотов.
* * *
Атвар не испытывал такого возбуждения с тех пор, как в последний раз
вдыхал феромоны самки во время сезона спаривания. Возможно, те, кто пробует
имбирь, испытывают нечто подобное. Если так, то он почти готов простить их
за употребление разрушительного снадобья.
Он повернул один глаз к Кирелу, оторвавшись от сообщений и докладов,
постоянно всплывающих на экране компьютера.
-- Наконец! -- воскликнул он. -- Может быть, мне следовало спуститься
на поверхность этой планеты, чтобы изменить нашу судьбу. Смерть
американского не-императора Рузвельта определенно подвинет наши силы к
победе в северном регионе малой континентальной массы.
-- Благородный адмирал, все может быть, как вы сказани, -- ответил
Кирел.
-- Может быть? Только _может быть_? -- воскликнул Атвар негодующе.
Воздух этой местности, называемой Египет, оставлял неприятный привкус
во рту, но он был достаточно теплым и сухим для самца Расы в отличие от
воздуха большей части этого жалкого мира.
-- Конечно, так будет. Так должно быть. Большие Уроды настолько
политически наивны, что события не могут не складываться так, как мы хотим.
-- Мы здесь так часто разочаровывались в наших надеждах, благородный
адмирал, что я воздерживаюсь от радости до тех пор, пока желаемые события не
происходят в действительности, -- сказал Кирел.
-- Разумный консерватизм -- благо для Расы, -- сказал Атвар.
Консерватизм Кирела был полезен: если бы Кирел был диким радикалом
наподобие Страхи, Атвар сегодня уже не был бы командующим флотом вторжения.
Он продолжил:
-- Рассмотрим очевидное, командир корабля: Соединенные Штаты -- это
ведь не-империя, так ведь?
-- Безусловно нет, -- согласился Кирел: это было бесспорно.
-- He-империя по определению не может иметь стабильного политического
устройства, которое есть у нас, так ведь?
-- Похоже, что это следует из первого, -- ответил Кирел с
настороженностью в голосе.
-- Вот именно! -- удовлетворенно сказал Атвар. -- И эти Соединенные
Штаты подпали под власть не-императора, называемого Рузвельт. Частично
благодаря ему американские тосевиты оказывали постоянное сопротивление нашим
силам. Истинно?
-- Истинно, -- согласился Кирел.
-- И то, что следует из этой истины, действует так же неизбежно, как
геометрическое доказательство, -- сказал Атвар. -- Теперь Рузвельт мертв.
Может ли его преемник занять освободившееся место так же органично, как один
Император наследует другому? Может власть его преемника быть признана быстро
и плавно как законная? Как это возможно без предопределенного порядка
наследования? Мой ответ -- это невозможно, и американским тосевитам
предстоит пережить серьезные беспорядки прежде, чем этот Халл, Большой Урод,
который объявлен правителем, сможет пользоваться властью, если такое вообще
произойдет. То же самое утверждают наши политические аналитики, которые
изучают общество тосевитов с начала нашей кампании.
-- Вывод кажется обоснованным, -- сказал Кирел, -- но здравый смысл не
всегда является решающим фактором в тосевитских делах. Например, насколько я
помню, американские Большие Уроды принадлежат к тем сообществам, которые
пытаются решать свои дела путем подсчета особей, которые высказываются "за"
и "против" по различным проблемам, представляющим для них интерес?
Атвару пришлось снова заглянуть в сообщения, чтобы убедиться, насколько
прав командир корабля. Проверив, он сказан:
-- Да, все именно так. И что же?
-- В некоторых из этих не-империй используется подсчет особей для
утверждения законности руководителей точно так, как у нас используется
императорское наследование, -- ответил Кирел. -- Это может привести к
минимальному уровню беспорядков, которые возникнут в Соединенных Штатах в
результате смерти Рузвельта.
-- А, я вас понял, -- сказал Атвар. -- Однако здесь все иначе:
вице-регент Рузвельта, самец по имени Уоллес, также выбранный посредством
фарса с подсчетом особей, скончался раньше -- он умер, когда мы бомбили
Сиэтл. Для этого Халла подсчет особей в пределах не-империи не проводился.
Его вполне могут счесть незаконным узурпатором. Вероятно, в различных
регионах не-империи появятся и другие возможные правители Америки, оспаривая
его притязания.
-- Если дойдет до этого, будет, несомненно, превосходно, -- сказал
Кирел. -- Я отмечаю, что такая ситуация соответствует тому, что мы знаем о
тосевитской истории и об особенностях их поведения. Но поскольку мы слишком
часто разочаровывались в отношении поведения Больших Уродов, то об оптимизме
пока говорить рано.
-- Я понимаю и соглашаюсь, -- сказал Атвар. -- Впрочем, в данном
случае, как вы заметили, докучливая склонность Больших Уродов работает на
нас, а не против нас, как в большинстве случаев. Мое мнение: мы можем
ожидать установления контроля над значительной частью не-империи Соединенных
Штатов, которая отпадет от их особенеподсчитанного лидера, и мы даже сможем
использовать мятежи, которые возникнут там, в наших целях. Сотрудничество с
Большими Уродами раздражает меня, но потенциальный выигрыш в этом случае
перевешивает.
-- Принимая во внимание выгоду, которую Большие Уроды получили от
Страхи, использовать их лидеров против них самих было бы отличной местью, я
думаю, -- сказал Кирел.
Атвару хотелось, чтобы Кирел не упоминал о Страхе: каждый раз когда он
думал о командире корабля, ускользнувшем от справедливого наказания путем
побега к американским тосевитам, адмирал чувствовал, как у него начинала
чесаться кожа под чешуей, где он не мог почесать ее. Впрочем, он должен был
согласиться, что сравнение удачно.
-- Наконец, -- сказал он, -- мы определим пределы тосе-витской
гибкости. Наверняка никакое скопление Больших Уродов, не обладающее
стабильностью имперской формы правления, не может перейти от одного
правителя к другому в разгар военных действий. Да и мы были бы подавлены во
время кризиса, когда умирает Император и менее опытный самец занимает трон.
-- Он опустил глаза, затем спросил: -- Истинно?
-- Истинно так, -- сказал Кирел.
* * *
Лесли Гровс вскочил на ноги и заставил свое грузное тело вытянуться в
струнку.
-- Мистер президент! -- сказал он. -- Это великая честь -- встретиться
с вами, сэр.
-- Садитесь, генерал, -- сказал Корделл Халл.
Сам он сел напротив Гровса. Уже сам вид президента Соединенных Штатов,
входящего в его кабинет, потряс Гровса до глубины души. Потрясения добавил и
акцент Халла: слегка шепелявая теннессийская певучая речь вместо
патрицианских интонаций ФДР. Новый глава исполнительной власти был, впрочем,
сходен с предшественником в одном: он выглядел бесконечно усталым. После
того как Гровс сел, Халл продолжил:
-- Я не ожидал, что стану президентом, даже после того, как был убит
вице-президент Уоллес, хотя и знал, что следующий в президентской очереди --
я. Я всегда хотел одного: делать свою работу самым наилучшим образом, вот и
все.
-- Да, сэр, -- согласился Гровс.
Если бы он играл с Халлом в покер, он мог бы сказать, что новый
президент передергивает. Он был государственным секретарем, когда Рузвельт
стал президентом, и был сильной правой рукой Рузвельта с начала
сопротивления человеческим врагам Соединенных Штатов, а затем --
завоевателям-чужакам.
-- Тогда все в порядке, -- сказал Халл. -- Перейдем к военным
проблемам.
Для Гровса это прозвучало не слишком по-президентски. В его глазах Халл
смотрелся скорее пожилым адвокатом из маленького городишка, нежели
президентом: седой, с лысиной на макушке, с клочьями волос, зачесанными так,
чтобы прикрыть ее, широколицый, одетый в мешковатый темно-синий костюм,
который он явно носил немало лет. Но независимо от того, выглядел он как
президент или нет, он выполнял свою работу. Это означало, что для Гровса он
-- босс, а солдат всегда делает то, что велит командир.
-- Что вы хотите знать, сэр? -- спросил Гровс.
-- Вначале -- очевидное, -- ответил Халл. -- Как скоро мы сможем
получить еще одну бомбу, затем следующую и еще одну? Поймите, генерал, я не
имел ни малейшего представления об этом проекте, пока наша первая атомная
бомба не взорвалась в Чикаго.
-- К сожалению, система безопасности теперь не так устойчива, как
должна быть, -- отвечал Гровс. -- До нашествия ящеров мы не хотели, чтобы до
немцев или японцев дошли хотя бы намеки на то, что мы работаем над атомной
бомбой. Ящеры ими располагают.
-- Да уж, -- сухо согласился Халл. -- Если бы в один прекрасный день я
случайно не уехал из Вашингтона, вы бы вели сейчас эту беседу с кем-нибудь
другим.
-- Да, сэр, -- сказал Гровс. -- Мы не можем скрыть от ящеров, что
работаем над проектом, но должны скрывать место, где мы это делаем.
-- Я понял, -- сказал президент. -- Хотя президент Рузвельт не сообщал
мне об этом до нападения ящеров. -- Он вздохнул. -- Я не осуждаю его. У него
было достаточно проблем, о которых следовало беспокоиться, и он работал --
пока они не убили его. Он был великим человеком. Один Христос знает, -- он
произнес "Хвистос", -- когда ботинки ФДР придутся мне по ноге. В мирное
время он прожил бы дольше. Тяжесть страны -- клянусь Богом, генерал, тяжесть
всего мира лежала на его плечах. А еще эти постоянные переезды с места на
место, жизнь затравленного зверя -- все это сожрало его.
-- Такое впечатление сложилось у меня, когда он был здесь в прошлом
году, -- кивнув, сказал Гровс. -- Напряжение было больше, чем мог выдержать
его механизм, но сколько мог, он его выдерживал.
-- Вот уж точно -- не в бровь, а в глаз, -- сказал Халл. -- Но мы,
однако, забыли о военных материях. Итак, бомбы, генерал Гровс, -- когда?
-- Через пару месяцев у нас будет достаточно плутония для следующей
бомбы, сэр, -- ответил Гровс. -- Затем мы сможем делать по нескольку штук в
год. Мы почти подошли к пределу того, что можно делать здесь, в Денвере, без
риска, что это станет известно ящерам. Если нам требуется гораздо больше
продукции, мы должны организовать второе производство где-нибудь еще -- и у
нас есть причины, по которым нам не хотелось бы идти на это. Главная из них
та, что мы вряд ли сможем удержать его в секрете.
-- Это место по-прежнему секретно, -- отметил Халл.
-- Да, сэр, -- согласился Гровс, -- но здесь мы запустили производство
до того, как ящеры узнали, что мы серьезно занимаемся созданием ядерного
оружия. Теперь они будут настороже -- и если заподозрят что-то, они
разбомбят нас. Генерал Маршалл и президент Рузвельт не считали, что риск
стоит этого.
-- Я очень высоко ценю мнение генерала Маршалла, генерал Гровс, --
сказал Халл, -- настолько высоко, что я назначил его генеральным секретарем.
Полагаю, он справится с этой работой лучше, чем я. Но не он является сегодня
главнокомандующим и не президент Рузвельт. Это я.
-- Да, сэр, -- сказал Гровс.
Корделл Халл мог не ожидать, что станет президентом, он мог не хотеть
становиться президентом, но теперь, когда груз лег на его плечи, они стали
достаточно широкими.
-- В использовании атомных бомб я вижу два вопроса, -- сказал Халл. --
Первый: понадобится ли нам их больше, чем мы сможем произвести в Денвере? И
второй, связанный с первым: если мы используем все, что производим, а ящеры
ответят тем же, останется ли что-нибудь от Соединенных Штатов ко времени
окончания войны?
Это были хорошие вопросы. В самую точку. Вот только их не следовало
задавать инженеру. Спросите Гровса, можно ли что-то построить, сколько
понадобится времени и сколько это будет стоить, и он сможет ответить, или
немедленно, или после того, как поработает с логарифмической линейкой и
счетной машинкой. Но он не обладал ни подготовкой, ни наклонностями, чтобы
заниматься не поддающейся учету политикой. Он дал единственный ответ,
который мог дать:
-- Я не знаю, сэр.
-- Я тоже не знаю, -- сказал Халл. -- Я хочу, чтобы вы были готовы
разделить команду вашего завода, чтобы начать организацию нового. Я еще не
знаю, приму ли я такое решение, но если я это сделаю, я хочу иметь
возможность сделать как можно быстрее и эффективнее.
-- Да, сэр, -- повторил Гровс.
В этом был смысл: иметь как можно больше вариантов, пригодных на
возможно более долгий срок.
-- Хорошо, -- сказал Халл, принимая как должное, что Гровс все сделает,
как приказано. Президент вытянул толстый указательный палец. -- Генерал, я
здесь все еще словно в шорах. Что еще следует мне знать об этом месте, что
мне, возможно, неизвестно?
Гровс с минуту обдумывал вопрос, прежде чем попытался ответить. Это был
еще один хороший вопрос, но тоже с недостатком: Гровс не знал, что Халлу уже
известно, а что -- нет.
-- Мистер президент, может быть, никто не сказал вам, что мы выбрали
одного из наших физиков и послали его в Советский Союз, чтобы помочь русским
в их атомном проекте.
-- Нет, я этого не знал. -- Халл цыкнул зубом. -- Зачем русским
понадобилась помощь? Они взорвали свою атомную бомбу раньше нас, еще до
немцев, раньше, чем кто-либо.
-- Да, сэр, но им требуется помощь.
Гровс объяснил, как русские сделали бомбу из ядерного материала,
захваченного у ящеров, и как часть этого самого материала помогла немцам и
Соединенным Штатам. Он подвел итог:
-- Но мы -- а также нацисты, -- изучив трофей, смогли понять, как
сделать плутоний самим. Русские, похоже, с этим не справились.
-- Разве это не интересно? -- сказал Халл. -- При любых обстоятельствах
менее всего я хотел бы видеть с атомной бомбой Сталина -- если не брать в
расчет Гитлера. -- Он грустно рассмеялся. -- А теперь у Гитлера она есть, и
если мы не поможем Сталину, то ящеры наверняка разобьют его. Ну, хорошо,
поможем ему отправить ящеров на тот свет. Если мы их победим, тогда и будем
беспокоиться, не захочет ли он отправить и нас туда же. А пока что я не вижу
иного пути, кроме как помочь ему. Что здесь есть еще, что я должен знать?
-- Это самая важная вещь, по моему мнению, сэр, -- сказал Гровс и через
мгновение добавил: -- Могу я задать вам вопрос, мистер президент?
-- Валяйте, спрашивайте, -- сказал Халл. -- Я оставляю за собой право
не отвечать.
Гровс кивнул.
-- Конечно. Я тут подумал... Сейчас 1944 год, сэр. Как мы собираемся
провести выборы в ноябре, если ящеры оккупируют такую большую часть нашей
территории?
-- Мы, вероятно, проведем их точно так, как проводили ноябрьские выборы
в конгресс в последний раз, -- ответил Халл, -- иначе говоря, их просто не
будет. Чиновники, которые у нас есть, будут продолжать свою работу в течение
всего срока, и, похоже, это касается и меня. -- Он фыркнул. -- Я собираюсь
оставаться неизбранным еще довольно долгое время, генерал. Мне это не очень
нравится, но так все сложилось. Если мы выиграем эту войну, то Верховный суд
сможет затем провести "полевой день" -- и активно поработать. Но если мы
проиграем ее, мнение этих девяти пожилых людей в черных одеждах не будет
иметь никакого значения. Пока что я могу лишь содержать их, чтобы они смогли
выполнить свой долг в будущем. Что вы думаете об этом, генерал?
-- С инженерной точки зрения, это самое экономичное решение, сэр, --
ответил Гровс. -- Но с точки зрения реальности... не знаю, лучшее ли оно.
-- Я тоже не знаю, -- сказал Халл, -- но именно это мы собираемся
сделать. Древние римляне в крайней необходимости тоже использовали
диктаторов и считали, что лучшие из них те, кто менее всего желал занять
высокий пост. По этому признаку я подхожу, и выбора у нас нет.
Он поднялся на ноги. Он не был молодым и проворным, но он делал дело. И
еще, увидев президента не только стоящим, но и двигающимся, Гровс вспомнил,
что вещи никогда не повторяются.
-- Удачи вам, сэр, -- сказал он.
-- Благодарю вас, генерал; я возьму все, что смогу получить. -- Халл
направился к двери, затем остановился и посмотрел на Гровса. -- Вы помните,
что Черчилль сказал Рузвельту, когда только начался ленд-лиз? "Дайте нам
инструменты, и мы закончим работу". Это то самое, что Соединенным Штатам
требуется от Металлургической лаборатории. Дайте нам инструменты.
-- Вы получите их, -- обещал Гровс.
* * *
Белые утесы Дувра тянулись вдаль, причудливо изгибаясь. Шагая вдоль
них, можно было взглянуть вниз на море, обрушивающееся на основание этих
утесов. Дэвид Гольдфарб где-то прочел, что если действие волн будет
продолжаться без каких-либо других сдерживающих факторов сколько-то
миллионов лет -- он не мог вспомнить, сколько именно, -- го Британские
острова исчезнут, и воды Северного моря и Атлантического океана сольются
воедино.
Когда он сказал это вслух, Наоми Каплан подняла бровь.
-- На Британских островах достаточно дел, которыми следует заняться
прежде, чем пройдут миллионы лет, -- сказала она.
Ветер с Северного моря унес ее слова прочь. То же самое он попытался
сделать с ее шляпой. Наоми спасла шляпку и плотнее надела на голову.
Гольдфарб не знал, радоваться, что она поймала ее, или печалиться, что ему
не представился шанс проявить галантность и поймать ее. Конечно, ветер мог
перемениться и унести шляпку через утес, тогда с галантностью будет
плоховато.
Изображая удивление, он сказал:
-- Почему вы так решили? Только потому, что последние несколько лет нас
бомбили немцы и на нас напали ящеры? -- Он легкомысленно помахал рукой. --
Это мелочи. Теперь, если теперь одну из этих атомных бомб, или как там они
ее называют, сбросят на нас, как на Берлин...
-- Боже, не допусти! -- сказала Наоми. -- Вы правы: с нас уже хватит.
Ее акцент -- устойчивый верхнеанглийский, накладывающийся на немецкий,
-- очаровывал его. Многое в ней восхищало его, но в данный момент он
сосредоточился на произношении. Ее речь была улучшенным или более изысканным
вариантом его собственной: английский язык низшего или среднего класса,
наложенный на идиш, на котором он говорил до начала учебы в средней школе.
-- Я надеюсь, вы не очень замерзли?
Погода была свежей, в особенности вблизи моря, но далеко не такой
промозглой, как зимой. Только безудержный оптимист мог поверить, что весна
начнется в один из ближайших дней, пусть даже не сразу.
Наоми покачала головой.
-- Нет, все в порядке, -- сказала она. Словно желая опровергнуть ее
слова, ветер попытался задрать юбку из шотландки. Она лукаво улыбнулась,
поправляя одежду. -- Благодарю вас за приглашение погулять.
-- Благодарю вас за то, что вы согласились, -- ответил он.
Многие парни, которые заходили в "Белую лошадь", приглашали Наоми на
прогулку; некоторые делали ей и более откровенные предложения. Она всем
давала от ворот поворот, исключая Гольдфарба. Его зубы уже начинали стучать,
но он не признавался себе, что мерзнет.
-- Как приятно здесь, -- сказала Наоми, тщательно подобрав слова. -- До
того как я попала в Дувр, я никогда не видела и не могла себе представить
утесы, подобные этим. Горы я знаю по Германии, но утесов на краю земли,
обрывающихся вниз более чем на сотню метров, -- а там ничего, только море,
-- я не видела никогда.
-- Рад, что они вам понравились, -- сказал Гольдфарб с таким
удовольствием, будто он был персонально ответственным за самую знаменитую
природную достопримечательность Дувра. -- Трудно найти в эти дни приятное
место, куда можно пригласить девушку. Например, кино не работает из-за
отсутствия электричества.
-- И скольких девушек вы водили в кино и в другие приятные места, когда
было электричество? -- спросила Наоми.
Она могла вложить в этот вопрос некий дразнящий смысл. Тогда Дэвиду
было бы легче ответить. Но в вопросе прозвучали серьезность и любопытство.
Он не мог просто отшутиться. В его жизни была Сильвия. Ее он тоже не
водил в кино -- он укладывал ее в постель. Она относилась к нему достаточно
дружелюбно, когда он заглядывал в "Белую лошадь" за пинтой пива, но он не
знал, как она охарактеризует его, если Наоми спросит. Он слышал, что женщины
могут быть разрушительно искренними, когда говорят друг с другом о
недостатках мужчин.
Поскольку он сразу не ответил, Наоми наклонила голову набок и бросила
на него понимающий взгляд. Но вместо того, чтобы загнать спутника в угол,
она произнесла:
-- Сильвия сказала мне, что вы совершили что-то очень смелое, чтобы
выручить одного из ваших родственников -- кажется, кузена, она не была
уверена -- из Польши.
-- В самом деле? -- сказал он с радостным удивлением: возможно, Сильвия
не говорила о нем слишком уж плохо.
Но если Наоми уже знала о нем что-то, рассказать еще будет не вредно.
-- Да, это мой кузен, Мойше Русецкий. Помните? Я рассказывал вам
когда-то в пабе.
Она кивнула.
-- Да, вы рассказывали. Это тот, который вел передачи но радио для
ящеров, а затем против них, после того как увидел, каковы они на самом деле.
-- Правильно, -- сказал Гольдфарб. -- Они поймали его, посадили в
тюрьму в Лодзи и стали думать, что с ним делать дальше. Я пошел туда с
несколькими парнями, помог ему освободиться и переправил его сюда, в Англию.
-- У вас это прозвучало так просто, -- сказала Наоми. -- А вы не
боялись?
В том бою он впервые испытал себя в наземной битве, пусть даже ящеры и
польские тюремные охранники были застигнуты врасплох и не могли оказать
серьезное сопротивление. Но когда ящеры напали на Англию, он был призван в
пехоту. Тут все было гораздо хуже. Он просто не мог себе представить, как
люди, находящиеся в здравом уме, могут выбрать карьеру в пехоте.
Он сообразил, что не ответил на вопрос Наоми.
-- Боялся? -- спросил он. -- На самом деле я просто окаменел.
К его облегчению, она снова кивнула: он боялся, что чистосердечие
отпугнет ее.
-- Когда вы рассказываете мне о подобных вещах, -- сказала она, -- вы
напоминаете мне этим, что вы вовсе не англичанин. Немногие английские
солдаты заметят в разговоре с кем-то, кто не принадлежит к их кругу -- как
вы это называете? "В кругу своих товарищей"? -- что они чувствуют страх или
что-то такое личное.
-- Да, я замечал, -- сказал Гольдфарб. -- И я тоже этого не понимаю. --
Он рассмеялся. -- Но что я вообще знаю? Я всего лишь еврей, родители
которого сбежали из Польши. Я не смогу хорошо понимать англичан, если даже
доживу до девяноста лет, а это не особенно-то вероятно -- вон как пошатнулся
мир в наши дни. Может быть, только мои внуки научатся держаться, как
англичане.
-- И мои родители вовремя вывезли меня из Германии, -- сказала Наоми.
Ее озноб не имел ничего общего с бризом, дующим с моря. -- Там было плохо, и
мы сбежали до Хрустальной ночи [В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей
Германии прокатилась волна еврейских погромов. Погибли 36 человек. Из-за
огромного количества разбитых магазинных витрин эта ночь и получила такое
название. -- Прим. ред.]. А что... -- Она заколебалась, вероятно, из-за
того, что стала нервничать. Через мгновение она закончила вопрос: -- А как
это было в Польше?
Гольдфарб задумался.
-- Следует помнить, что нацисты оставили Лодзь примерно за год до того,
как я попал туда. Я думаю сейчас о том, что видел, и стараюсь представить,
что там творилось при немцах.
-- Ну? -- поторопила его Наоми.
Он вздохнул. Выдох в холодном воздухе поднялся облачком пара.
-- Из всего, что я видел, из всего, что я слышал... Если бы не пришли
ящеры, могло не остаться в живых ни одного еврея. Я не видел всей Польши,
конечно, только Лодзь и путь к морю и обратно, но если бы не пришли ящеры,
во всей стране могло не остаться ни одного еврея. Когда немцы говорили
"свободно от евреев", они ведь не шутили.
Наоми закусила губу.
-- То же самое я слышала по радио. Теперь я слышу это от того, кто, как
я знаю, видел все своими глазами. Ваши слова делают картину более
реалистичной. -- Она насупилась еще больше. -- И немцы, как сообщает радио,
снова наступают в глубь Польши.
-- Я знаю. Я тоже слышал. Мои друзья -- мои друзья-гои -- радуются
таким сообщениям. Когда я слышу их, я не знаю, что думать. Ящеры не смогут
выиграть войну, но и проклятые нацисты -- тоже.
-- Не должны, -- сказала Наоми -- с точностью человека, изучавшего
английский язык специально, а не выросшего среди него. -- Они могут. Ящеры
могут. Немцы могут. Но не должны. -- Она с горечью рассмеялась, -- Когда я
была маленькой девочкой и ходила в школу, до прихода Гитлера к власти, меня
учили, что я немка. И я верила в это. Разве не странно -- если подумать об
этом теперь?
-- Это более чем странно. Это... -- Гольдфарб стал искать подходящее
слово. -- Как называются такие странные картины, где идет дождь из буханок
хлеба или на которых вы пилите часы, капающие вниз с чурбана, словно они
сделаны изо льда и тают?
-- Сюрреалистические, -- сразу же ответила Наоми. -- Да, это так и
есть. Совершенно точно. Я -- немка? -- Она снова засмеялась, затем встала по
стойке смирно, вытянув прямую правую руку. -- "Один народ, одно государство,
один фюрер!" -- громовым голосом имитировала она высказывание Гитлера, и это
была неплохая имитация.
Он подумал, что это шутка. Может быть, она и собиралась пошутить. Но
когда ее рука опустилась вниз, все ее тело задрожало. Лицо скривилось. Она
заплакала.
Гольдфарб обнял ее.
-- Все в порядке, -- сказал он.
Конечно же, нет. Они оба знали, что не все в порядке. Но если
вспоминать о прошлом слишком долго, как можно продолжать жить? Дэвиду стало
ясно, что он гораздо ближе к "истинному британцу", чем он себе представлял.
Наоми прильнула к нему, словно к спасательному кругу. Будто она была
матросом корабля, в который только что попала торпеда подводной лодки. Он
прижимал ее к себе с таким же отчаянием. Когда он наклонился, чтобы
поцеловать ее, ее губы раскрылись. Глубоко в горле девушки родился стон, и
она притянула его к себе.
Наверное, это был самый странный поцелуй в его жизни. Он не пробудил в
нем вожделения, как многие менее значимые поцелуи с девушками, о которых он
заботился меньше. Тем не менее он был рад поцелую и почувствовал сожаление,
когда тот закончился.
-- Я должен проводить вас обратно к вашему жилью, -- сказал он.
-- Да, наверное, стоит, -- ответила Наоми. -- Вы сможете познакомиться
с моими родителями, если пожелаете.
Он боролся с ящерами с оружием в руках. Неужели теперь он струсит?
Неужели он побоится принять такое предложение? Конечно, нет.
-- Превосходно, -- сказал он, изо всех сил стараясь говорить обычным
тоном.
Наоми взяла его под руку и улыбнулась ему так, словно он только что
сдал экзамен. Может быть, он и в самом деле сдал экзамен.
* * *
Большая группа темнокожих Больших Уродов стояла неровными рядами на
травянистой поляне рядом с флоридской авиабазой. Теэрц увидел еще одного
тосевита такого же цвета, который вышагивал перед ними. Пилот вздрогнул.
Своим бессмысленным расхаживанием и свирепым видом Большой Урод с тремя
полосками на каждом рукаве покрытия верхней части тела напоминал ему майора
Окамото, который был его переводчиком и тюремщиком в японском плену
Самец с полосками на рукаве прокричал два слога на своем языке.
Остальные тосевиты резко застыли в вертикальном положении, плотно
прижав руки к бокам. Теэрцу это казалось нелепым, но, похоже, вполне
устроило или по крайней мере успокоило Большого Урода с полосатым покрытием
верхней части тела.
Этот самец снова прокричал что-то, на этот раз целую фразу полнейшей
чепухи. Теэрц в японском плену научился понимать тосевитский язык, но во
Флориде это не помогло. В Империи на всех трех мирах использовался один и
тот же язык: встреча с планетой, на которой говорили на десятках различных
языков, требовала от самцов Расы значительного умственного напряжения.
Темнокожие Большие Уроды маршировали туда и сюда по травянистому полю,
повинуясь командам, которые подавал самец с полосками. Даже их ноги
двигались назад и вперед в одинаковом ритме. Когда они сбивались,
командовавший самец сердито кричал на тех, кто ошибался. Теэрцу не надо было
быть ученым по психологии других видов, чтобы понять, что командующий самец
был не очень доволен.
Теэрц повернулся к другому самцу Расы, который также наблюдал за
упражнениями тосевитов. У него была раскраска тела, положенная специалисту
по разведке. По своему рангу он примерно соответствовал Теэрцу. Пилот
спросил:
-- Можем ли мы на самом деле доверять этим Большим Уродам бороться по
нашему поручению?
-- Наш анализ показывает, что они будут воевать храбро, -- ответил
самец из разведки. -- Другие местные тосевиты настолько плохо относились к
ним, что теперь они видят в нас гораздо лучшую альтернативу продолжительной
власти Больших Уродов с более светлой кожей.
Теэрцу показался знакомым голос этого самца.
-- Вы ведь Ааатос, не так ли? -- спросил он неуверенно.
-- Истинно так, -- отвечал самец. -- А вы Теэрц.
В отличие от Теэрца он не испытывал сомнений. Если бы он не знал, кто
есть кто на базе, он не смог бы отработать свое содержание -- или сохранить
репутацию разведки о всеведении.
Эта репутация сильно пострадала после того, как Раса пришла на Тосев-3.
Теэрц сказал:
-- Я надеюсь, вы простите меня, но я всегда нервничаю в присутствии
вооруженных Больших Уродов. Мы давали оружие местным жителям других частей
этой планеты, но, как я слышал, часто результаты оставляли желать лучшего.
Он не мог придумать более вежливого способа сказать, что Большие Уроды
имеют привычку поворачивать оружие против Расы.
-- Истинно так, -- снова сказал Ааатос. -- Мы улучшаем процедуры
контроля и не позволим этим тосевитам независимо перемещаться в больших
количествах и с оружием: мы будем постоянно использовать значительное
количество самцов Расы вместе с ними. Они предназначены дополнить наши меры
безопасности, а не заменить их. Таким образом, у нас не будет беспокойства,
о котором вы напомнили; сразу приходит в голову польское дело.
-- Польша -- да, это название я слышал, -- сказал Теэрц.
Он с трудом нашел бы ее на карте. Его познания в тосе-витской географии
ограничивались Манчьжоу-Го и Японией, причем он знал их гораздо лучше, чем
ему бы хотелось.
-- Ничего такого здесь случиться не может, -- сказал Ааатос, добавив
сочувственное покашливание.
-- Может, вы и правы, -- закончил разговор Теэрц.
Его личный опыт на Тосев-3 убедил его в двух вещах: Большие Уроды
гораздо более нечестны, чем большинство самцов Расы в состоянии представить,
пока не ткнутся в этот факт мордой, но пытаться убеждать самцов, пока они
сами не ткнутся в этот факт мордой, -- все равно что терять время на старте.
А на поляне продолжали маршировать Большие Уроды, они меняли
направление движения, поворачивая под прямым углом.
Самец с полосками на рукавах шагал рядом с ними, руганью добиваясь
более слаженного движения. Действительно, их ноги двигались так, словно
находились под контролем единого организма.
-- Это любопытно наблюдать, -- сказал Теэрц Ааатосу, -- но в чем смысл?
Любой самец, который применит эту тактику в настоящем наземном бою, будет
быстро уничтожен. Даже я, пилот истребителя, знаю, что самцы должны
рассеиваться и искать укрытия. Так диктует простой здравый смысл. -- Он
застыл с открытым ртом, -- Но здравый смысл для тосевитов не существует.
-- Мне дали понять, что эта маршировка способствует групповой
солидарности, -- ответил самец из разведки. -- Я не совсем понимаю, почему
так получается, но, кажется, это неоспоримо: все местные военные используют
подобную дисциплинирующую практику. Одна из теорий, популярных ныне,
объясняет, почему Большие Уроды, будучи видом унаследование менее
дисциплинированным, чем Раса, используют эти процедуры для внедрения порядка
и подчинения приказам.
Теэрц задумался. В этом было больше смысла, чем в большинстве теорий,
которые он слышал от разведки.
Он снова вернулся к наблюдению за марширующими тосевитами. Через
некоторое время они прекратили движение и остановились, образовав ровный
строй, снова неподвижно вытянувшись, в то время как самец с полосками
обращался к ним с речью. И время от времени они выкрикивали какие-то ответы
хором.
-- Вы понимаете их язык, -- спросил Теэрц Ааатоса, -- что они говорят?
-- Их лидер описывает качества боевых самцов, которые он хотел бы,
чтобы они приобрели, -- сказал Ааатос. -- Он спрашивает их. есть ли у них
желание иметь эти качества. Они отвечают утвердительно.
-- Да, я вижу, что они могут, -- сказал Теэрц, -- у нас никогда не было
случая сомневаться в боевых качествах тосевитов. Но я по-прежнему упорствую
в своих мыслях: будут ли эти качества использованы ради нас или против нас,
в конце концов?
-- Я не думаю, что опасность настолько велика, как вы полагаете, --
сказал Ааатос. -- В любом случае мы должны использовать эту возможность --
или рискуем проиграть войну.
Теэрц никогда не слышал столь прямого заявления, и это его обеспокоило
всерьез.
Городок Ламар, штат Колорадо, был хорош тем, что достаточно было отойти
на милю за границу предместья, и уже казалось, что он как бы и не
существует. Вокруг ничего, только вы, прерия и миллион звезд, заливающих вас
светом с неба, -- и еще человек, который вместе с вами отошел на милю за
окраину города.
Пенни Саммерс прижалась к Рансу Ауэрбаху и сказала:
-- Я хотела бы поступить в кавалерию, как это сделала Рэйчел. Тогда бы
завтра утром я скакала вместе с тобой, вместо того чтобы сидеть здесь.
Он обхватил ее за талию.
-- Я рад, что ты не в кавалерии, -- ответил он. -- Если бы я отдавал
тебе приказания, сейчас я поступил бы нечестно...
Он нагнулся и поцеловал ее. Поцелуй затянулся.
-- Тебе не нужно отдавать приказ, чтобы заставить меня захотеть этого,
-- сказала она чуть дыша, когда их губы наконец разделились. -- Мне это
нравится.
Затем она поцеловала его.
-- У-ух! -- сказал он немного погодя -- шумный выдох поднялся паром.
Весна была близка, но ночью этого не ощущалось. Зато холод давал ему
дополнительное оправдание, чтобы так крепко прижимать ее к себе.
После очередного поцелуя Пенни откинула назад голову и стала смотреть в
ночное небо чуть прикрытыми глазами.
Она не могла бы сделать ему более явное предложение, даже если бы
выгравировала его на тарелке. Ее шея была белой, как молоко, в свете звезд.
Он начал нагибаться, чтобы поцеловать ее, затем остановился.
Она заметила это. Ее глаза широко раскрылись.
-- В чем дело? -- спросила она уже не хрипловатым, а несколько
сварливым голосом.
-- Здесь холодно, -- сказал он, что было правдой, но не всей правдой.
Теперь она негодующе выдохнула.
-- Нам не холодно, -- сказала она, -- особенно когда мы делаем... вы
знаете.
Он хотел ее. Они оба были в длинных теплых пальто. Но он помнил, через
что она прошла. Она, конечно, не героиня сказки о принцессе на горошине, но
у него и в мыслях не было стянуть с нее грубое одеяние и уложить девушку в
грязь, независимо от того, сколько он об этом думал, когда приглашал ее
прогуляться с ним.
Он пытался изложить это словами, понятными и ему, и ей.
-- Кажется, как-то не очень честно, не потому, что ты очень долго была
в таком бедственном положении. Я хочу быть уверен, что с тобой все в
порядке, прежде чем я...
"Прежде чем я -- что?"
Если бы он хотел уложить ее в постель, все было бы просто. Но его
безумно интересовала она сама.
-- Я прекрасно себя чувствую, -- негодующе сказала она. -- Да, я тяжело
перенесла смерть отца, но теперь я с этим справилась. Мне хорошо, как
никогда.
-- Я понимаю, -- сказал он.
Он не хотел спорить с ней. Но когда люди поднимаются из трясины к
облакам слишком быстро, они плохо отдают себе отчет в происходящем. Похоже,
ее поездка еще продолжалась.
-- Тогда решено, -- сказала она, как будто все и вправду было решено.
-- Постой, давай сделаем так, -- сказал он. -- Подожди, когда я вернусь
со следующего задания. Будет достаточно времени, чтобы сделать все, что мы
захотим.
"И у тебя будет больше возможностей разобраться с собой и убедиться,
что ты не просто бросилась на первого попавшегося парня".
Она надула губы.
-- Но ведь ты будешь отсутствовать долгое время. Рэйчел сказала, что
это следующее задание -- не просто рейд. Она сказала, что вы собираетесь
попытаться повредить космический корабль ящеров.
-- Ей не следовало говорить этого, -- рассердился Ауэрбах.
Секретность для него была естественной -- всю свою взрослую жизнь он
был солдатом. Он знал, что Пенни не побежит болтать к ящерам, но кому еще
Рэйчел рассказала о запланированном ударе? А куда пошел слух дальше? В
Соединенных Штатах люди не часто шли на сотрудничество с ящерами, по крайней
мере в тех местностях, которые оставались свободными, но и такое случалось.
И Рэйчел, и Пенни сталкивались с предателями. Тем не менее Рэйчел
проболталась. Это было не очень хорошо.
-- Может быть, ей и не следовало этого говорить, но она сказала, и
поэтому я знаю, -- сказала Пенни, качнув головой. Показалось, она добавила:
"Так что давай сейчас". -- А если я найду кого-нибудь еще, пока ты
отсутствуешь, мистер Ране Ауэрбах? Что тогда?
Ему хотелось рассмеяться. Он старался быть заботливым и разумным -- и
куда он попал? На сковородку.
-- Если ты это сделаешь, -- сказал он, -- ты не станешь рассказывать
ему о нас, не так ли?
Она посмотрела на него.
-- Думаешь, у тебя есть все ответы, не так ли?
-- Помолчи-ка минутку, -- сказал он.
Он не собирался обрывать разговор: причина была в другом.
Пенни собралась ответить резкостью, но затем она тоже услышала далекий
гул в небе. Он становился все громче.
-- Это самолеты ящеров, так ведь? -- спросила она, словно надеясь, что
он будет ей возражать. Ему бы хотелось, чтобы она ошиблась.
-- Наверняка они, -- сказал он. -- Очень много. Обычно они летят выше в
начале пути, затем снижаются, чтобы нанести удар. Не знаю, почему они на
этот раз действуют иначе, разве что...
Прежде чем он смог закончить предложение, начала бить зенитная
артиллерия, сначала к востоку от Ламара, а затем в самом городе. Трассы
снарядов и их разрывы осветили ночное небо, перекрыв сияние звезд. Даже
вдали от Ламара грохот стоял ошеломляющий. Шрапнель сыпалась вниз, словно
горячие зазубренные градины. Если такая попадет в голову, дело кончится
расколотым черепом. Ауэрбах пожалел, что на нем нет каски. Когда приглашаешь
красивую девушку на прогулку, обычно о таких вещах не беспокоишься.
Он увидел боевые самолетов ящеров только тогда, когда они закончили
бомбежку и обстрел ракетами Ламара. Он разглядел пламя, вырывавшееся из
труб. После нападения они встали на хвосты и взлетели ввысь, как ракеты. Он
насчитал девять машин, три звена по три.
-- Мне надо вернуться, -- сказал он и поспешил в сторону Ламара.
Пенни побежала рядом с ним, ее туфли вскоре стали чавкать по грязи так
же, как его сапоги.
Самолеты ящеров вернулись к Ламару раньше, чем гулявшие добрались до
цели. Самолеты нанесли по городу еще один удар, а затем улетели на восток.
Зенитная артиллерия продолжала палить и после того, как они улетели. Так
было всегда после воздушных налетов. А когда орудия били по настоящим целям,
попадали крайне редко.
Пенни тяжело дышала и едва переводила дух, когда они с Ауэрбахом
добрались до предместья Ламара, но держалась стойко.
-- Иди в госпиталь, чего ты ждешь? Там наверняка требуются лишние руки.
-- Хорошо, -- ответила она и поспешила прочь.
Он кивнул ей вслед. Если даже позднее она и не вспомнит о том, что
сходила по нему с ума, все равно лучше видеть ее занимающейся делом, чем
прячущейся в жалкой маленькой комнатке наедине с Библией.
Едва она исчезла за углом, как он сразу забыл о ней. Он рванулся к
баракам через хаос, воцарившийся на улицах: Цепочки людей передавали ведра с
водой и заливали огонь. Не каждый пожар можно было потушить: в эти дни Ламар
зависел от воды из колодцев, и ее было недостаточно, чтобы погасить пламя.
Раненые мужчины и женщины кричали и плакали. И раненые лошади тоже -- по
крайней мере одна бомба попала в конюшню. Несколько лошадей вырвалось
наружу. Они носились по улицам, шарахались от пожаров, лягались в панике,
мешая людям, которые старались помочь им.
-- Капитан Ауэрбах, сэр! -- прокричал кто-то прямо в ухо Раису.
Он подпрыгнул и повернулся на месте. Его помощник, лейтенант Билл
Магрудер, стоял рядом с ним. Свет пожара осветил лицо Магрудера, покрытое
таким слоем сажи, что его можно было принять за актера в гриме негра.
-- Рад видеть вас целым, сэр.
-- Я в полном порядке, -- сказал Ауэрбах. Как ни абсурдно, он
чувствовал себя виноватым за то, что не оказался под бомбежкой ящеров. --
Что происходит?
-- Сэр, все не очень хорошо, и мы понесли порядочные потери -- в людях,
лошадях...
Мимо пробежала лошадь с тлеющей гривой. Билл махнул рукой в ее сторону.
-- Боеприпасы, которые мы накопили, тоже пропали. Эти ублюдки так по
Ламару еще не били.
Он хлопнул руками по бедрам. Ауэрбах понял. Из-за того, что чужаки не
очень часто поступали по-новому, можно было подумать, что они вообще не
делают ничего нового. Такой вывод может стать последней ошибкой в жизни.
Потеря боеприпасов была невосполнима.
-- Похоже, мы можем забыть о завтрашнем задании, -- сказал Ауэрбах.
-- Боюсь, что так, капитан. -- Магрудер скривился. -- Пройдет немало
времени, прежде чем мы снова сможем об этом подумать. -- Его мягкий акцент
уроженца Виргинии делал его слова еще печальнее. -- Не знаю, как там с
производством, но доставка из одного места в другое теперь не слишком
сложна.
-- Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю, -- сказал Ауэрбах. Он
ударил кулаком по бедру. -- Черт побери, если бы мы взорвали один из их
космических кораблей, мы по-настоящему заставили бы их задуматься.
-- Я тоже так думаю, -- сказал Магрудер. -- Кто-то это сделает -- тут я
с вами согласен. Только, похоже, это будем не мы. -- Он процитировал военную
поговорку. -- "Никакой план не выживает после контакта с противником".
-- Досадная и печальная истина, -- сказал Ауэрбах. -- Враг, эта грязная
собака, идет и действует по собственным планам. -- Он рассмеялся, хотя
испытывал боль. -- Сегодня этому сукину сыну повезло.
-- Наверняка. -- Магрудер оглядел развалины, которые были Ламаром. --
Их нынешний ночной план сработал прекрасно.
Ламар превратился в развалины.
* * *
Зэки, пробывшие в гулаге рядом с Петрозаводском в течение какого-то
времени, описывали погоду, как девять месяцев лютой зимы и три -- плохого
катания на лыжах. А это ведь были русские, привыкшие к зиме в отличие от
Давида Нуссбойма. Он не мог понять, взойдет ли когда-нибудь солнце,
перестанет ли когда-нибудь падать снег.
Ночью было плохо. Даже когда в печи, стоявшей посередине барака, горел
огонь, его все равно донимал жестокий холод. Нуссбойм был новичком,
политическим заключенным, а не обычным вором, и вдобавок к тому еще и
евреем. За это ему достались нары на самом верху, вдали от печи и вплотную к
щелястой стене, так что ледяной сквозняк постоянно играл на его спине или
груди. Ему также досталась обязанность приносить среди ночи и высыпать в
печь угольную пыль -- а еще побои, если он не просыпался вовремя и остальные
тоже замерзали.
-- Заткни пасть, проклятый жид, или потеряешь право на переписку, --
предупредил его один из блатных, когда он застонал после пинка под ребра.
-- Как будто у меня есть кому писать, -- сказал он Ивану Федорову,
который попал в этот же самый лагерь и, не имея связей среди блатных,
получил такие же незавидные нары.
Хотя и наивный, как всякий русский, Федоров понимал лагерный язык
гораздо лучше Нуссбойма.
-- Ты -- глупый жид, -- сказал он без ненависти, которую вкладывал в
это слово блатной. -- Если тебя лишают права переписки, этот значит, что ты
слишком мертв, чтобы кому-то писать.
-- О! -- сказал Нуссбойм упавшим голосом.
Он крепко обхватил себя за бока и задумался, не сказаться ли больным.
Короткого размышления было достаточно, чтобы отбросить эту мысль. Если ему
не поверят, его опять побьют. А если поверят, так борщ и щи в больнице будут
еще более жидкими и водянистыми, чем та ужасная еда, которой они кормят
обычных зэков. Может быть, существует теория, согласно которой больной
человек не сможет переварить то, что дается при обычном питании. Так что
если зэк поступал в больницу слишком больным, живым он оттуда вообще не
выходил.
Он свернулся калачиком под потертым одеялом, не снимая одежды, и
постарался не обращать внимания на боль в ребрах и на вшей, которые ползали
по нему. Вши были у всех. Нет смысла переживать по этому поводу -- хотя это
и противно. Он никогда не думал о себе, что слишком привередлив, но
жизненные принципы, к которым он был приучен, слишком отличались от
гулаговских.
Постепенно он погрузился в тяжелую дремоту. Труба, возвестившая
утренний сбор, заставила его дернуться, словно он схватился за электрическую
изгородь. Лагерь возле Петрозаводска такой роскошью не обладал: колючей
проволоки было достаточно, чтобы удерживать подобных ему зэков.
Кашляя, ворча и ругаясь, зэки построились, чтобы охранники могли
пересчитать их и убедиться, что никто не исчез в разреженном воздухе.
Снаружи все было черно, как смола, стоял чертовский холод: Петрозаводск,
столица Карельской Советской Социалистической Республики, находился гораздо
севернее Ленинграда. Некоторые из охранников плохо считали и заставили
повторить перекличку. В результате процедура затянулась и стала еще
отвратнее. Охранников это не волновало. У них были теплая одежда, теплые
бараки и вдоволь еды. Что им было беспокоиться?
Щи из лагерной кухни, которые предстояло проглотить Нуссбойму, могли
быть горячими, но к моменту, когда их налили в его жестяную миску, они были
чуть теплыми: еще через пятнадцать минут они превратились бы в мороженое со
вкусом капусты. К щам он получил ломоть черствого черного хлеба -- обычный
паек, недостаточный, чтобы наесться. Часть хлеба он съел, остаток убрал в
карман своих ватных штанов на будущее.
-- Теперь я готов пойти рубить деревья, -- произнес он звенящим
голосом, который прозвучал бы фальшиво, даже если бы он позавтракал
бифштексами с яйцом, столько, сколько могло в него влезть.
Некоторые из зэков, понимавшие по-польски, рассмеялись. Это _было_
забавно. Было бы еще забавнее, если бы он не сидел на голодном пайке,
недостаточном даже для человека, которому не надо заниматься тяжелым
физическим трудом.
-- Работайте лучше! -- орали охранники.
Наверное, они ненавидели заключенных, за которыми должны были
наблюдать. Хотя им не приходилось работать самим, все равно они должны были
идти в холодный лес, вместо того чтобы вернуться в бараки.
Вместе с остальными людьми из своей группы Нуссбойм поплелся получать
топор: большой, неудобный, с тяжелым топорищем и тупым лезвием. Русские
могли бы более эффективно использовать труд зэков, если бы снабдили их
инструментом получше, но, похоже, о таких вещах они не беспокоились. Если
вам придется работать чуть дольше, значит, так и надо. А если вы повалитесь
в снег и умрете, другой заключенный встанет на ваше место на следующее утро.
Когда зэки двинулись в сторону леса, Нуссбойм вспомнил анекдот, который
он слышал, когда один немецкий охранник в Лодзи рассказывал его другому. Он
переделал его на советский лад.
-- Летят в самолете Сталин, Молотов и Берия. Самолет разбился. Никого в
живых. Кто спасся?
Иван Федоров наморщил лоб.
-- Раз никого в живых, как кто-то мог спастись?
-- Это шутка, дурак, -- присвистнул один из зэков и повернулся к
Нуссбойму. -- Ладно, еврей, сдаюсь. Так кто?
-- Русский народ, -- ответил Нуссбойм.
Федоров по-прежнему не мог понять. А второй зэк скривился, узкое лицо
его растянулось, чтобы вместить улыбку.
-- Неплохо, -- сказал он так, словно сделал большую уступку. --
Вообще-то надо поменьше болтать. Пошутишь там, где слишком много
политических, и кто-нибудь из них выдаст тебя охранникам.
Нуссбойм закатил глаза.
-- Я и так уже здесь. Что еще они могут сделать мне?
-- Ха! -- хохотнул второй зэк. -- Это мне нравится.
После некоторого размышления он протянул руку, одетую в рукавицу.
-- Антон Михайлов.
Как и большинство заключенных в лагере, он не употреблял отчество.
-- Давид Аронович Нуссбойм, -- ответил Нуссбойм, стараясь выглядеть
вежливым.
В лодзинском гетто он смог выделиться, может, удастся повторить это
чудо и здесь.
-- Пошевеливайтесь! -- закричал Степан Рудзутак, старший бригады. -- Не
сделаем нормы, будем голодать еще больше.
-- Да, Степан, -- хором ответили заключенные.
Прозвучало это покорно. Они покорились, те, кто был в гулаге с 1937
года и даже дольше, не то что новичок Нуссбойм. Даже обычного лагерного
пайка было недостаточно, чтобы поддерживать силы человека. Но его урезали,
если вы не выполняли норму, после чего очень скоро им приходилось бросать
вас в снег, чтобы сохранить тело, пока не оттает земля и можно будет
похоронить вас.
Антон Михайлов буркнул:
-- Даже если мы будем работать, как стахановцы, все равно сдохнем от
голода.
-- Meshuggeh, -- сказал Нуссбойм.
Тот, кто перевыполнял норму, получал прибавку хлеба. Но никакая
прибавка не соответствовала труду, который следовало затратить, чтобы
добиться перевыполнения при норме в шесть с половиной кубических ярдов на
человека в день.
-- Ты говоришь, как жид, -- сказал Михайлов.
Его серые глаза мигали над тряпкой, которой он закрывал от холода нос и
рот. Нуссбойм пожал плечами. Как и Федоров, Михайлов говорил без злости.
Возле деревьев снега намело по грудь. Нуссбойм и Михайлов стали
утаптывать его валенками. Без этих сапог из толстого войлока Нуссбойм давно
бы отморозил ноги. Без приличной обуви никто здесь не смог бы работать. Даже
охранники из НКВД понимали это. Они не хотели убивать вас сразу: они хотели,
чтобы вы вначале поработали.
Как только они утоптали снег ниже колен, то с топорами набросились на
сосну. Нуссбойм до Карелии не срубил в жизни ни одного дерева: его вполне бы
устроило, если бы ему и не пришлось их рубить. Но его желания, конечно,
никого не беспокоили. Если бы он не рубил деревья, его бы выкинули -- без
колебаний и жалости.
Он был по-прежнему неуклюж в работе. Рукавицы на вате мешали, хотя, как
и валенки, они защищали его во время работы от холода. Топор часто
поворачивался в его неопытных руках, и тогда он наносил удар по стволу не
лезвием топора, а плашмя. Когда так получалось, он чувствовал отдачу,
сотрясавшую его до самых плеч, а топорище жалило руки, словно рой пчел.
-- Неуклюжий дурак! -- кричал на него Михайлов с другой стороны сосны.
Затем то же самое случилось с ним, и он запрыгал по снегу, выкрикивая
ругательства. Нуссбойм оказался достаточно невоспитанным, чтобы громко
рассмеяться.
Дерево начало раскачиваться и стонать, затем внезапно повалилось.
-- Берегись! -- заорали они оба, чтобы предостеречь остальных членов
бригады и заставить их освободить путь.
Если бы сосна упала на охранников, это тоже было бы чертовски плохо, но
и они разбежались. Глубокий снег заглушил шум от падения сосны, хотя
несколько ветвей, покрытых толстым слоем льда, обломились со звуком
наподобие выстрелов.
Михайлов захлопал, Нуссбойм испустил ликующий вопль.
-- Нам меньше работы! -- одновременно воскликнули они.
Им еще предстояло отрубить ветви от ствола, и те, что обломились сами,
облегчили им жизнь. В гулаге это не часто случается. Работы и так оставалось
довольно много. Обломанные ветви следовало отыскать в снегу, отрубить
оставшиеся, а потом сложить все в общую кучу.
-- Удачно, -- сказал Нуссбойм.
Части тела, открытые морозу, замерзли. Но под ватником и ватными
штанами он был мокрым от пота. Он показал на снег, прилипший к зеленым,
наполненным соком сосновым сучьям.
-- Как вы можете их жечь по такой погоде?
-- Да их почти и не жгут, -- отвечал другой зэк. -- У ящеров есть
привычка бомбить все, что дымится, поэтому мы этого больше не делаем.
Нуссбойм был не против постоять и поговорить, но и замерзнуть он тоже
не хотел.
-- Пойдем возьмем пилу, -- сказал он. -- Чем скорее придем, тем больше
шансов выбрать хорошую.
У лучшей пилы ручки были окрашены в красный цвет. Она была не занята,
но Нуссбойм и Михайлов не взяли ее. Этой пилой могли пользоваться только
Степан Рудзутак и помощник бригадира, казах по фамилии Усманов. Нуссбойм
схватил другую пилу, которая, насколько он помнил, была вполне приличной.
Михайлов одобрительно кивнул, и они вернулись к поваленному дереву.
Туда и сюда, вперед и назад, все больше сгибаясь по мере того, как пила
врезалась глубже, вовремя убери ноги -- чтобы отпиленное дерево не
размозжило пальцы. Затем отодвинься вдоль по стволу на треть метра и повтори
все снова. Затем еще и еще. Через некоторое время превращаешься в поршень.
Во время работы вы слишком заняты и слишком утомлены, чтобы размышлять.
-- Перерыв на обед! -- заорал Рудзутак.
Нуссбойм поднял глаза в тупом недоумении. Что, прошло уже полдня?
Кухонные рабочие ворчали: им пришлось покинуть теплые кухни и выйти
наружу, чтобы накормить рабочие бригады так далеко в лесу. Теперь они орали
на зэков, веля поторапливаться, чтобы их драгоценные хрупкие организмы могли
вернуться обратно.
Некоторые лесорубы выкрикивали оскорбления кухонным работникам.
Нуссбойм видел, как Рудзутак закатил глаза. Он был новичком, но здесь учили
лучше, чем в лодзинском гетто. Повернувшись к Михайлову, он сказал:
-- Только дурак оскорбляет человека, который собирается кормить его.
-- Ты не так глуп, как кажешься, -- ответил русский.
Он ел суп -- на этот раз им дали не щи, а какую-то мещанину из крапивы
и других трав, -- торопясь, чтобы не упустить остатки тепла в жидкости,
затем пару раз откусил от своего ломтя хлеба и спрятал остаток в карман
штанов.
Нуссбойм съел весь свой хлеб. Поднявшись с места, он почувствовал, что
окоченел. Это случалось почти каждый день. Несколько минут работы с пилой
вылечили его. Туда и сюда, вперед и назад, нагибайся ниже, отдерни ноги,
сдвинься дальше по стволу... Разум спал. Когда Рудзутак закричал бригаде о
конце смены, ему пришлось посмотреть вокруг, чтобы понять, сколько поленьев
он нарезал. Достаточно, чтобы они с Михайловым выполнили норму, -- да и
остальные в бригаде тоже поработали неплохо. Они погрузили кругляки на сани
и поволокли их в лагерь. Поверх расположилась пара охранников. Зэки не
сказали ни слова. А если бы сказали, те могли бы сесть им на шею.
-- Может, сегодня вечером к каше дадут еще и селедки, -- сказал
Михайлов.
Нуссбойм кивнул, шагая впереди. Так или иначе, есть что предвкушать.
* * *
Кто-то постучал в дверь маленькой комнатки Лю Хань в пекинских
меблирашках. Ее сердце подпрыгнуло. Нье Хо-Т'инг отсутствовал в городе
долгое время -- то по одному делу, то по другому. Она знала, что он ведет с
японцем переговоры, которые возмущали ее, но она не смогла переспорить его
до отъезда. Военная необходимость была для него важнее всего остального,
даже ее самой.
В этом он был совершенно честным. Она понимала, что он не может
принадлежать ей, и тем не менее продолжала заботиться о нем. Большинство
мужчин, которых она видела, обещали -- и нарушали свои обещания, после чего
отрицали, что они что-то обещали или сделали то, что сделали, или же и то и
другое одновременно. "Обычно и то и другое", -- подумала она, поджав губы.
Стук раздался снова -- громче и настойчивее. Она поднялась на ноги.
Если стучал Нье, значит, он не улегся в постель с какой-нибудь первой же
легкомысленной девчонкой, с которой встретился, когда его рожок потяжелел.
Если так, это хорошо характеризует его -- и означает, что она обязана быть
теперь особенно благодарной.
Улыбаясь, она поспешила к двери, подняла запор и распахнула ее. Но в
коридоре оказался не Нье, а его помощник, Хсиа Шу-Тао. Улыбка исчезла с ее
лица, она поспешила вытянуться, как солдат, пряча аппетитное покачивание
бедрами, которое приготовила для Нье.
Но она опоздала. Широкое уродливое лицо Хсиа расплылось в распутной
улыбке.
-- Какая привлекательная женщина! -- сказал он и сплюнул на пол.
Он никогда и никому не давал позабыть, что происходит из крестьян, и
считал малейшее проявление вежливости буржуазным притворством и признаком
контрреволюционности.
-- Что вы хотите? -- холодно спросила Лю Хань.
Она знала наиболее вероятный ответ, хотя могла и ошибаться. Был по
крайней мере шанс, что Хсиа пришел сюда по партийным делам, а не в надежде
вдвинуть свой Гордый Пестик в ее Яшмовые Ворота.
Она не отодвинулась, чтобы пропустить его в комнату, но он все равно
вошел. Он был приземистый и широкоплечий -- сильный, как бык. Он мог бы
пройти прямо по ней, если бы она не уступила ему дорогу. Впрочем, он
по-прежнему старался говорить приветливо:
-- Вы прекрасно сработали, помогая взорвать маленьких чешуйчатых
дьяволов бомбами в оборудовании зверинцев. это было умно придумано, и я это
отмечаю.
-- Это ведь было очень давно, -- сказала Лю Хань. -- К чему выбирать
это время, чтобы прийти и говорить мне комплименты?
-- Любое время -- хорошее время. -- ответил Хсиа Шу-Тао.
Небрежным пинком он захлопнул дверь. Лю Хань точно знала, что это
означает. Она начала беспокоиться. В послеполуденное время в меблирашках
находилось мало народа. Она пожалела, что открыла дверь. Хсиа продолжил:
-- Я уже давно положил на вас глаз, вы знаете это?
Лю Хань знала это очень хорошо.
-- Я не ваша женщина. Мой друг -- Нье Хо-Т'инг.
Может быть, это заставит его вспомнить, что не дело -- приходить сюда и
обнюхивать ее. Он уважал Нье и делал все, что тот приказывал -- во всяком
случае, когда эти приказы не относились к женщинам.
Хсиа рассмеялся. Лю Хань ничего забавного не видела.
-- Он ведь хороший коммунист, наш Нье. Он не откажется поделиться тем,
чем обладает.
И он набросился на нее.
Она попыталась оттолкнуть его. Он снова засмеялся -- он был гораздо
сильнее. Когда он попытался поцеловать ее, она попробовала кусаться. Без
малейшего видимого гнева он ударил ее по лицу. Его член, большой и толстый,
упирался ей в бедро. Он швырнул ее на сваленные в углу комнаты постельные
принадлежности, опустился на пол рядом и начал стягивать с нее черные
хлопчатобумажные брюки.
Чувствуя боль и ошеломление, она некоторое время лежала, не
сопротивляясь. В мыслях она унеслась к тем печальным дням на самолете
маленьких чешуйчатых дьяволов, самолете, который никогда не садится на
землю. Маленькие дьяволы приводили мужчин в ее металлическую клетку, и те
делали свое дело независимо от того, хотела она их или нет. Она была
женщиной: чешуйчатые дьяволы умертвили бы ее, если бы она сопротивлялась.
Что ей оставалось делать? Она была невежественной крестьянкой, которая умела
только подчиняться, что бы ни требовали от нее.
Больше она такой не была. Вместо страха и покорности теперь ее охватила
ярость -- кровоточащая и огненная, как взрыв. Хсиа Шу-Тао стянул ее брюки и
швырнул в стену. Затем стянул до половины свои собственные штаны. Головка
его органа ткнулась в голое бедро Лю Хань.
Она согнула колено и изо всех сил ударила его в пах.
Его глаза широко раскрылись и стали круглыми, как у иностранного
дьявола -- с белой полосой вокруг радужки. Он издал наполовину стон,
наполовину крик и согнулся, как карманный нож, обхватив руками драгоценные
части, которые она повредила.
Если бы она дала ему возможность опомниться, он бы покалечил ее --
может быть, даже убил. Не беспокоясь о том, что она наполовину обнажена, она
отползла от него, схватила длинный острый нож с нижней полки шкафа у окна и
приставила лезвие ножа к его толстой, как у быка, шее.
-- Сука, проститутка, ты... -- Он отвел руку, чтобы попытаться ударить
ее сбоку.
Она взмахнула ножом. Из раны хлынула кровь.
-- Будьте очень спокойны, товарищ, -- прошипела она, вкладывая в это
слово все свое презрение. -- Если вы думаете, что мне не понравится увидеть
вас мертвым, то вы гораздо глупее, чем я думала.
Хсиа замер. Лю Хань чуть глубже вдавила нож.
-- Осторожнее, -- сказал он тонким сдавленным голосом: чем сильнее
двигался его кадык, тем глубже врезался нож.
-- Это еще почему? -- прорычала она.
Она подумала, что вообще-то вопрос неплохой. Чем дольше длится эта
сцена, тем больше вероятность того, что Хсиа Шу-Тао придумает, как
вывернуться. Если его сейчас убить, она окажется в безопасности. Если же она
оставит его в живых, то ей придется двигаться очень проворно, пока он не
оправился от шока и боли, чтобы ясно соображать.
-- Вы собираетесь повторить сегодняшнее? -- потребовала она ответа.
Он начал качать головой, но лезвие ножа еще больше врезалось в его
горло.
-- Нет, -- прошептал он.
Она хотела спросить его, будет ли он проделывать это с другими
женщинами в дальнейшем, но передумала еще до того, как вопрос сорвался с
губ. Конечно, он скажет "нет", по, несомненно, солжет. После первой лжи
легко придумать и вторую. Поэтому она приказала:
-- Встаньте на четвереньки -- и немедленно. Не делайте ничего, иначе я
зарежу вас, как свинью.
Он подчинился. Он двигался неуклюже не только из-за боли, но и из-за
того, что одежда его была в беспорядке. На это, в частности, и рассчитывала
Лю Хань: даже если он захочет схватить ее, штанины, спущенные до лодыжек,
помешают ему двигаться быстро.
Она убрала нож от шеи и слегка ткнула в его спину.
-- Теперь ползите к двери, -- сказала она, -- и если вы думаете, что
сможете сбить меня с ног, прежде чем я успею воткнуть его до упора, то
валяйте, попробуйте.
Хсиа Шу-Тао пополз. По приказу Лю Хань он открыл дверь и выполз в
коридор. Ей хотелось пнуть его напоследок, но она удержалась. После такого
унижения ей придется убить его. Он, не задумываясь, подверг ее унижению, но
она не могла позволить себе быть такой бесцеремонной.
Она захлопнула дверь и с грохотом наложила засов. И только после этого
ее затрясло. Она посмотрела на нож в руке. Больше никогда она не выйдет из
комнаты безоружной. И нож в шкафу во время сна тоже больше держать не будет.
Он будет в ее постели.
Она вернулась в комнату, взяла брюки и принялась было одеваться. Затем
на мгновение задумалась и снова бросила их. Взяла тряпку, смочила ее из
кувшина, стоявшего на шкафу, и стала тереть кожу, о которую терся пенис Хсиа
Шу-Тао. Только после этого она оделась.
Через пару часов кто-то постучал в дверь. Холодок пробежал по спине Лю
Хань. Она схватила нож.
-- Кто там? -- спросила она, держа оружие в руке.
Она подумала, что это для нее добром не кончится. Если у Хсиа пистолет,
он может выстрелить в нее сквозь дверь, убить или оставить умирающей без
какого-либо риска для себя.
Но прозвучал быстрый и четкий ответ:
-- Нье Хо-Т'инг.
Со вздохом облегчения она сняла брус с двери и впустила его.
-- О, как хорошо снова оказаться в Пекине, -- воскликнул он. Но когда
двинулся к ней, чтобы обнять, увидел в ее руке нож. -- Что это такое? --
спросил он, подняв бровь.
Лю Хань думала, что сможет промолчать о нападении Хсиа, но после
первого же вопроса рассказ безудержно полился из ее уст. Нье слушал
бесстрастно: он молчал, лишь задал пару наводящих вопросов.
-- Что мы сделаем с этим человеком? -- потребовала ответа Лю Хань. -- Я
знаю, что я не первая женщина, с которой он так обошелся. От мужчин у себя в
деревне я ничего другого и не могла бы ожидать. Неужели в
Народно-освободительной армии люди себя ведут так же, как в моей деревне?
-- Не думаю, что Хсиа побеспокоит тебя подобным образом еще раз, --
сказал Нье, -- а если он повторит это, то будет законченным дураком.
-- Этого недостаточно, -- сказала Лю Хань. Воспоминание о том, как Хсиа
Шу-Тао сдирал с нее одежду, вызвало у нее почти такую же ярость, как при
самом нападении. -- Это касается не только меня, он должен быть наказан так,
чтобы больше не мог повторить этого ни с кем.
-- Единственный верный способ сделать это -- выгнать его, но для дела
он нужен, хотя он и не из лучших, -- ответил Нье Хо-Т'инг. Он поднял руку,
предупреждая гневный вопрос Лю Хань. -- Посмотрим, что сможет сделать наша
революционная юстиция. Приходи вечером на собрание исполнительного комитета.
-- Он сделал паузу, задумавшись. -- Это будет также случай еще раз изложить
твои взгляды. Ты ведь очень умная женщина. Возможно, ты вскоре станешь
членом исполкома.
-- Я приду, -- сказала Лю Хань, скрывая удовлетворение.
Она уже выступала раньше перед исполнительным комитетом, когда
отстаивала и уточняла свой план уничтожения маленьких чешуйчатых дьяволов во
время празднеств. Больше ее не приглашали -- до настоящего момента. Может
быть, Нье и собирался использовать ее в качестве куклы, но у нее были
собственные амбиции.
Большинство дел в исполнительном комитете показались ей удивительно
скучными. Она не подпускала к себе тоску, глядя через стол на Хсиа Шу-Тао.
Он старался не встречаться с ней взглядом, от чего ее собственные глаза
сверкали все неистовей.
Нье Хо-Т'инг вел заседание в безжалостной эффектной манере. После того
как комитет согласился ликвидировать двух торговцев, о которых было
известно, что они передают информацию маленьким дьяволам (и гоминьдану), он
сказал:
-- Печально, но это правда: мы, бойцы Народно-освободительной армии,
всего лишь существа из плоти и крови, и все мы совершаем ошибки. Последний
пример такой слабохарактерности -- случай с товарищем Хсиа. Товарищ?
Он посмотрел в сторону Хсиа Шу-Тао -- Лю Хань на ум пришло сравнение --
"как помещик, который поймал крестьянина, обманувшего его при расчете".
Подобно провинившемуся крестьянину, Хсиа смотрел вниз, а не на своего
обвинителя.
-- Извините меня, товарищи, -- пробормотал он. -- Я признаю, что я
подвел Народно-освободительную армию, подвел партию и революционное
движение. Из-за вожделения я попытался приставать к верному и лояльному
последователю революционных шагов Мао Цзэдуна, к нашему бойцу Лю Хань.
Самокритика продолжалась некоторое время. Хсиа Шу-Тао рассказал с
унизительными подробностями, как он делал предложения Лю Хань, как она
отказала ему, как он попытался взять ее силой и как она защитила себя.
-- Я ошибался во всем, -- сказал он. -- Наш боец Лю Хань никогда не
показывала признаков того, что она приманивает меня каким-либо способом. Я
ошибался, стараясь использовать ее для своего собственного удовольствия, и
ошибся еще раз, игнорируя ее, когда она открыто показала, что не хочет меня.
Она была права, отказав мне, и еще раз права в том, что смело сопротивлялась
моему предательскому нападению. Я рад, что это ей удалось.
Самое странное, что Лю Хань поверила ему. Он бы мог радоваться
по-другому, если бы ему удалось изнасиловать ее, но теперь идеология привела
его к признанию, что сделанное им было ошибкой. Она не знала точно,
идеология ли заставляет больше уважать ее или сила.
Когда Хсиа Шу-Тао закончил каяться, он посмотрел на Нье Хо-Т'инга,
чтобы понять, достаточно ли этого.
"Нет", -- подумала Лю Хань, но была не ее очередь высказываться.
Через мгновение Нье сказал суровым тоном:
-- Товарищ Хсиа, это не первая ваша ошибка подобного рода -- худшая,
да, но далеко не первая. Что вы скажете на это?
Хсиа снова наклонил голову.
-- Я согласен с этим, -- покорно ответил он. -- С этого момента я буду
бдительно уничтожать этот недостаток в моем характере. Больше я никогда не
опозорю себя с женщинами. И если я должен, то готов понести наказание,
которое назначит революционная юстиция.
-- Посмотрим, как вы запомнили то, что сказали здесь сегодня, --
предупредил Нье Хо-Т'инг, голос которого звучал, словно гонг.
-- Женщины -- тоже часть революции, -- добавила Лю Хань, на что Нье,
другие члены исполкома и даже Хсиа Шу-Тао согласно кивнули.
Больше она ничего не сказала, но все кивнули еще раз: сказанное ею было
правдой, но не содержало упрека в их адрес. В один прекрасный день, до
которого, вероятно, не так далеко, исполнительному комитету понадобится
новый член. Они могут вспомнить ее здравый ум. Благодаря этому и с
поддержкой Нье она могла бы стать постоянным членом.
"Да, -- думала она. -- Мое время придет".
* * *
Джордж Бэгнолл с восхищением смотрел на устройство, которое ящеры
передали вместе с пленными немцами и русскими в обмен на своих пленников.
Небольшие диски были изготовлены из какой-то пластмассы с металлической
отделкой, в которой играла радуга. Когда такой диск вставляли в читающее
устройство, экран наполнялся цветными изображениями, более живыми, чем в
кино.
-- Ох, черт возьми, как же они это делают? -- спрашивал он чуть ли не в
десятый раз.
Шипящий разговор ящеров раздавался из громкоговорителей по обе стороны
экрана. Как ни малы они были, но воспроизводили звук с большей верностью,
чем любые громкоговорители, изготовленные людьми.
-- Ну что ты, инженер, тянешь из нас жилы? -- сказал Кен Эмбри. --
Считается, что это вы должны объяснить нам, бедным невеждам, как это
делается.
Бэгнолл закатил глаза. Сколько столетий научного прогресса человечества
отделяет авиационные двигатели, за которыми он присматривает, от этих
невинного вида магических дисков? Сотни? Может быть, многие тысячи.
-- Даже объяснения, которые мы получили от пленных ящеров, немногого
стоят -- не каждый здесь, в Пскове, прилично говорит на их языке, -- сказал
Бэгнолл. -- И что за чертовщина этот "скелкванк"? Что бы это ни было, но оно
вытаскивает картинки и звуки из этих маленьких кружков, но пусть меня
изнасилуют, если я знаю -- как.
-- Мы даже не знаем, как задавать правильные вопросы, -- грустно сказал
Эмбри.
-- Твоя правда, -- согласился Бэгнолл. -- И даже если мы видим эти
сюжеты и слышим звук, сопровождающий их, все это большей частью не имеет для
нас никакого смысла: ящеры просто очень странные. И знаешь что? Я не думаю,
что они хоть чуточку понятнее немцам или большевикам, чем нам.
-- Аналогично тому, что понял бы ящер из "Унесенных ветром", -- сказал
Эмбри. -- Ему понадобились бы подробные комментарии, примерно такие, какие
мы даем в виде сносок к каждому третьему слову у Чосера, даже хуже.
-- Этот кусок в одном из сюжетов, где ящер осматривает веши, -- и на
экране, на который он смотрит, появляются одно за другим изображения...
Какого черта может это означать?
Эмбри покачал головой.
-- Будь я проклят, если знаю. Может быть, это что-то глубокое и
символическое, а может быть, мы не понимаем, что видим, а может быть, ящер,
который делал этот фильм, сам не понимал, что снимает. Как мы можем узнать
это? Как мы можем даже предполагать?
-- Знаешь, чего мне хочется после этого? -- спросил Бэгнолл.
-- Если того же, что и мне, то тебе хочется вернуться в наш дом и
напиться до обалдения этого чистейшего картофельного спирта, который
изготовляют русские, -- сказал Эмбри.
-- Попал точно в цель, -- сказал Бэгнолл. Он взял еще один диск и стал
рассматривать движение мерцающих радуг. -- Меня больше всего беспокоит, что
все это попадет нацистам и русским. Не смогут ли они разобраться в этом
лучше, чем мы? Ведь тогда они узнают вещи, которых мы в Англии не будем
знать.
-- Мне тоже в голову приходила эта мысль, -- отметил Эмбри. -- Однако
ящеры должны будут бросить свое барахло здесь, если провалится их нашествие.
Я буду очень удивлен, если нам не достанется порядочное количество этих
"скелкванков" и дисков к ним.
-- Ты прав, -- сказал Бэгнолл. -- Проблема, конечно, в том, что это
очень похоже на библиотеку, раскиданную по местности случайным образом.
Никогда не скажешь заранее, в какой из книг окажется картинка, которую ты
ищешь.
-- Я скажу, чего бы хотелось мне. -- Эмбри понизил голос: некоторые
красные и многие немцы понимали английский. -- Я хотел бы увидеть, как немцы
и русские -- не говоря уж о проклятых ящерах -- рассеяны по местности
случайным образом. Ничто не доставит мне большего счастья.
-- И мне тоже.
Бэгнолл оглядел обвешанную картами комнату, где они регулярно
удерживали нацистов и большевиков, чтобы те не вцепились друг другу в
глотки. Читающее устройство и диски были сложены здесь еще и потому, что это
была относительно нейтральная территория, с которой ни одна из сторон не
попытается стянуть что-то для себя. Он вздохнул.
-- Интересно, увидим ли мы снова когда-нибудь Англию? Боюсь, вряд ли.
-- Вероятно, ты прав. -- Эмбри тоже вздохнул. -- Мы обречены
состариться и умереть здесь -- или, скорее всего, обречены не дожить до
старости и вскоре умереть. Только слепой случай пока хранит нас.
-- Слепой случаи да еще отсутствие увлечения снайперами женского пола,
как это случилось с бедным Джоунзом, -- сказал Бэгнолл.
Они оба рассмеялись, хотя ничего забавного в этом не было. Бэгнолл
добавил:
-- Вблизи от прекрасной Татьяны вероятность состариться и умереть в
Пскове катастрофически возрастает.
-- Точно! -- с чувством сказал Эмбри.
Он бы еще поговорил на эту тему, но Александр Герман выбрал этот
момент, чтобы войти в комнату. Эмбри перешел с английского на спотыкающийся
русский.
-- Добрый день, товарищ начальник.
-- Привет.
Герман не выглядел начальником. Со своими рыжими усами, длинными
нечесаными космами и сверкающими черными глазами он выглядел наполовину
бандитом, наполовину ветхозаветным пророком (что вдруг заставило Бэгнолла
задуматься, насколько велики отличия между ними). Он взглянул на
воспроизводящее устройство ящеров.
-- Чудесные штуки. -- Он сказал это вначале по-русски, затем на идиш,
который Бэгнолл понимал лучше.
-- Да, это так, -- ответил Бэгнолл по-немецки, который партизанский
начальник Герман также понимал.
Бригадир подергал себя за бороду. Он задумчиво продолжил на идиш:
-- Вы знаете, до войны я не был ни охотником, ни кем-то в этом роде. Я
был аптекарем здесь, в Пскове, и готовил лекарства, которые приносили не
слишком много пользы.
Бэгнолл не знал этого: Александр Герман мало рассказывал о себе. Не
отрывая глаз от воспроизводящего устройства, он продолжил:
-- Я был мальчишкой, когда в Пскове появился первый самолет. Я помню,
как появилось кино, радио, звуковое кино. Что может быть более современным,
чем звуковое кино? И вот пришли ящеры и показали нам, что мы просто дети,
забавляющиеся игрушками.
-- Эта мысль появилась у меня уже давно, -- сказал Бэгнолл. -- У меня
она возникла, когда первый истребитель ящеров пролетел мимо моего
"ланкастера". Тогда было хуже.
Александр Герман снова погладил бороду.
-- Правильно, вы ведь летчик. -- Его смех обнажил испорченные зубы и
пустоты на месте выпавших. -- Очень часто я забываю об этом. Вы и ваши
товарищи, -- он кивнул на Эмбри, имея в виду и Джоунза, -- делали такую
хорошую работу, поддерживая в нас и нацистах большую злость на ящеров, чем
друг на друга, что мне кажется, что именно затем вы и прибыли в Псков.
-- Временами и нам так кажется, -- сказал Бэгнолл. Эмбри сочувственно
кивнул.
-- Вы никогда не пытались поступить в советские ВВС? -- спросил Герман.
Прежде чем кто-то из англичан смог ответить, он ответил на свой вопрос сам:
-- Нет, конечно нет. Единственные наши самолеты -- это "кукурузники", а для
иностранных специалистов эти небольшие простые машины интереса не
представляют.
-- Думаю, нет, -- сказал Бэгнолл и вздохнул.
Эти бипланы выглядели так, будто летали сами по себе, будто их мог
чинить любой, кто имеет отвертку и разводной ключ.
Александр Герман рассматривал его в упор. Немало русских и немцев
изучающе рассматривали его с тех пор, как он попал в Псков. В большинстве
случаев он прекрасно понимал, что они при этом думают: "Как бы использовать
этого парня для моих целей?" У всех это было настолько очевидно, что он даже
не расстраивался. Но читать по лицу партизанского командира было не так
легко.
Наконец Александр Герман сказал:
-- Если вы не можете использовать вашу подготовку против ящеров здесь,
вы неплохо сделаете, если используете ее где-то в другом месте. Это
возможно.
И снова он не стал ожидать ответа. Почесывая голову и бормоча про себя,
он вышел из комнаты. Бэгнолл и Эмбри посмотрели ему вслед.
-- Ты не считаешь, что он имел в виду возможность вернуть нас обратно в
Англию, а? -- спросил Эмбри шепотом, словно боясь высказать такую мысль
вслух.
-- Сомневаюсь, -- ответил Бэгнолл, -- он, скорее, думает, не может ли
он сделать из нас пару сталинских соколов. Даже это не так уж плохо -- хоть
какая-то перемена. Что же до остального... -- Он покачал головой. -- Даже не
смею думать.
-- Интересно, что там сейчас осталось от родины, -- проговорил Эмбри.
Бэгнолл тоже задумался над этим. Теперь он знал, что не сможет
избавиться от этих мыслей -- не думать о том, есть ли в действительности
путь домой. Нет смысла думать над тем, что, как вы знаете, невозможно. Но
если мысль пришла, значит, надежда вышла из своего убежища. Она может
обмануть его ожидания, но она его никогда не покинет.
* * *
Тосевитский детеныш снова вылез из коробки, и только всевидящие духи
Императоров прошлого знали, когда он заберется в следующую. Даже со своими
поворачивающимися глазами Томалсс все чаще испытывал трудности в
отслеживании детеныша, когда тот принимался ползать по полу лаборатории.
Он удивлялся, как самки Больших Уродов, у которых поле зрения гораздо
более ограничено, чем у него, справлялись с тем, чтобы уберечь детенышей от
беды.
Многие не справлялись. Он знал это. Даже в их наиболее технологически
развитых не-империях Большие Уроды теряли огромное количество детенышей
из-за болезней и несчастных случаев. В менее развитых областях Тосев-3 от
одной трети до половины всех детенышей, которые вышли из тел самок, умирали
в течение одного медленного оборота планеты вокруг звезды.
Детеныш пополз к двери в коридор. У Томалсса от удивления открылся рот.
-- Нет, тебе нельзя выходить наружу, теперь нельзя, -- сказал он.
Словно поняв его, детеныш стал издавать неприятные звуки, которыми он
выражал усталость или раздражение. Томалсс велел технику подготовить
проволочную сетку, которую он мог помещать в дверном проеме, прикрепив к
обоим косякам. У детеныша не было достаточно сил, чтобы стянуть вниз
проволоку, или достаточно ума, чтобы отвинтить крепления. На время он
становился узником.
-- И у тебя не будет риска быть уничтоженным, если заползешь на
территорию Тессрека, -- сказал ему Томалсс.
Это могло показаться забавным, но на деле ничего забавного не было.
Томалсс, как большинство самцов Расы, не видел особой пользы в Больших
Уродах. Но Тессрек ощущал ядовитую ненависть к ним, особенно к детенышу --
из-за его воплей, из-за его запахов и просто из-за его существования. Если
детеныш снова окажется на его территории, то Томалсс может получить
замечание. Томалсс не хотел, чтобы это случилось -- и помешало его
исследованию.
Детеныш ничего этого не знал. Детеныш не знал ничего ни о чем: в этом
была его проблема. Схватившись за проволоку, он встал прямо и выглянул в
коридор. Он продолжал издавать слабые ноющие звуки. Томалсс знал, что они
означают: "Я хочу выйти".
-- Нет, -- сказал он.
Ноющие звуки стали громче: слово "нет" детеныш понимал, хотя обычно и
игнорировал его. Он ныл еще некоторое время, затем добавил нечто, похожее на
сочувственное покашливание: "Я в самом деле хочу выйти наружу".
-- Нет, -- снова сказал Томалсс.
Детеныш перешел от нытья к крикам. Он кричал, когда ему не давали то,
чего он хотел. Когда он кричал, исследователи со всего коридора объединялись
в ненависти к нему и к Томалссу.
Он подошел и взял его на руки.
-- Мне жаль, -- солгал он, утаскивая детеныша от двери. Он отвлек его
мячиком, который взял из комнаты для упражнений. -- Смотри, видишь? Эта
глупая штучка прыгает.
Детеныш смотрел с очевидным удивлением. Томалсс почувствовал
облегчение. Теперь его нелегко было отвлекать: он помнил, что он делал и что
хотел делать.
Но мячик показался интересным. Когда он перестал прыгать, детеныш
подполз к нему, схватил и поднес ко рту. Томалсс был уверен, что детеныш
сделает это, и заранее вымыл мяч. Он знал, что детеныш тянет в рот все
подряд, и научился не давать ему в руки предметы настолько малые, чтобы они
могли проникнуть внутрь него. Совать руку в маленький скользкий ротик, чтобы
вытащить посторонний предмет, было для него не самым приятным делом, а ему
пришлось проделать это не раз.
Коммуникатор пронзительно заверещал. Прежде чем подойти для ответа,
Томалсс быстро осмотрел место, где сидел тосевит, убеждаясь, что поблизости
нет ничего такого, что он мог бы проглотить. Удовлетворившись осмотром, он
нажал кнопку.
С экрана на него смотрело лицо Ппевела.
-- Благородный господин, -- сказал он, включая видео.
-- Я приветствую вас, психолог, -- сказал Ппевел. -- Я должен
предупредить вас, что существует повышенная вероятность, что от вас
потребуется вернуть тосевитского детеныша, на котором вы проводите
исследование, самке Больших Уродов, из тела которой он вышел. Будьте не
просто готовы к этой необходимости: рассматривайте ее как реальность
ближайшего времени.
-- Будет исполнено, -- сказал Томалсс: в конце концов, он был самцом
Расы. Хотя он и повиновался, но почувствовал упадок духа. Он поступил не
лучшим образом, когда спросил: -- Благородный господин, что привело к такому
поспешному решению?
Ппевел тихо зашипел: "поспешный" было запрещенным словом для Расы. Но
ответил он вполне спокойно:
-- Самка, из тела которой вышел этот детеныш, получила повышенный
статус в Народно-освободительной армии, в тосевитской группе Китая,
ответственной за большую часть партизанской активности против нас в этой
области. Таким образом, умилостивить ее -- задача повышенного приоритета по
сравнению с прошлым временем.
-- Я... понял, -- медленно ответил Томалсс.
Он задумался, но тосевитский детеныш начал хныкать. Он уже долгое время
находился вне поля зрения Томалсса. Изо всех сил стараясь не обращать
внимания на визжащее существо, он сосредоточился на разговоре.
-- Если статус этой самки в незаконной организации понизится, тогда,
благородный господин, давление на нас также, в свою очередь, уменьшится --
разве это не верно?
-- В теории -- да, -- ответил Ппевел. -- Как вы можете надеяться
совместить теорию с практикой в этом частном случае, для меня трудно
постижимо. Наше влияние на любую тосевитскую группу, даже на ту, которая
внешне благожелательно относится к нам, более ограничено, чем нам бы
хотелось; наше влияние на тех, кто находится в активной оппозиции к нам,
ради любых практических целей, равно нулю, исключая военные меры
Конечно, он был прав. Большие Уроды склонны верить, что когда они
чего-то хотят, это непременно осуществится, потому что им этого хочется Расы
подобные заблуждения касались в меньшей степени "И тем не менее, -- думал
Томалсс, -- должен быть выход" Все шло бы не так, если бы самка Лю Хань не
имела контакта с Расой, прежде чем родить этого детеныша. Маленькое существо
было задумано на звездном корабле, находившемся на орбите, а его мать была
частью основы начального изучения Расой странной природы тосевитской
сексуальности и поведения при спаривании. И тут рот Томалсса открылся.
-- Вы смеетесь надо мной, психолог? -- спросил Ппевел тихим и опасным
голосом.
-- Ни в коем случае, благородный господин, -- поспешно ответил Томалсс.
-- Однако мне кажется, что я придумал способ понизить статус самки Лю Хань.
В случае успеха, как вы сказали, это понизит ее ранг и престиж в
Народно-освободительной армии и позволит продолжить мою жизненно важную
исследовательскую программу.
-- Я убежден в том, что вы смещаете приоритеты, -- сказал Ппевел.
И поскольку это было правдой, Томалсс не ответил. Ппевел продолжил:
-- Я запретил обсуждать военные действия или убийство самки. Любой из
этих тактических приемов, даже в случае успеха, скорее повысит, чем понизит
ее статус. Некоторые самцы приобрели привычку небрежных тосевитов
подчиняться только тем приказам, которые им нравятся. Вы были бы чрезвычайно
неразумны, психолог, если бы оказались среди них в данном конкретном случае.
-- Все будет исполнено, как вы сказали, во всех подробностях,
благородный господин, -- пообещал Томалсс. -- Я не предлагаю насильственных
планов против Больших Уродов. Я планирую понизить ее статус путем насмешек и
унижений.
-- Если это может быть сделано, попытайтесь, -- сказал Ппевел. -- Но
заставить Больших Уродов даже заметить, что они унижены, трудное дело.
-- Не во всех случаях, благородный господин, -- сказал Томалсс. -- Не
во всех случаях.
Он попрощался, проверил детеныша -- который, на удивление, не попал ни
в какую неприятность -- и затем отправился работать на компьютере. Он знал,
где искать последовательность данных, которые он вспомнил.
* * *
Нье Хо-Т'инг повернул к югу от Чан Мьен Та на улицу, которая вела от
западных ворот в китайский деловой центр Пекина, и дальше -- на Ниу Шье.
Район, центром которого была Коровья улица, населяли мусульмане. Нье был не
очень высокого мнения о мусульманах: их устаревшая вера заслоняла от них
истину диалектики. Но в борьбе против маленьких чешуйчатых дьяволов
идеологией можно было на время поступиться.
Он отнюдь не выглядел истощенным, что заставляло владельцев антикварных
лавок, стоявших в дверях своих заведений, окликать его и активно размахивать
руками, когда он проходил мимо. Девять из каждого десятка людей,
занимающихся этим ремеслом, были мусульманами. Вид барахла, которым они
торговали, подкреплял мнение большинства китайцев о мусульманском
меньшинстве: их честность не всегда безупречна.
Дальше по Ниу Шье, на восточной стороне улицы, находилась самая большая
мечеть в Пекине. Сотни, может быть, тысячи верующих ежедневно молились
здесь. Кади, которые руководили молитвой, имели под рукой большую группу
рекрутов, которые могли бы сослужить добрую службу Народно-освободительной
армии -- если бы согласились.
Вокруг собралась большая толпа мужчин...
-- Нет, они не внутри мечети, они перед нею, -- громко проговорил Нье.
Он заинтересовался, что там происходит, и поспешил подойти, чтобы
разобраться.
Он увидел, что чешуйчатые дьяволы установили на улице одну из своих
машин, которая могла создавать трехмерное изображение в воздухе. Временами
они пытались вести с помощью таких машин свою пропаганду. Нье никогда не
беспокоился о том, чтобы помешать им: насколько он знал, пропаганда
чешуйчатых дьяволов была до того смехотворно слабой, что только усиливала
отчуждение их от народа.
Но теперь они предприняли что-то новенькое. Изображение, плавающее в
воздухе над машиной, вообще не было пропагандой в обычном понимании этого
слова. Это была просто порнография: китайская женщина прелюбодействовала с
мужчиной, который был слишком волосат и имел слишком большой нос, чтобы не
признать в нем иностранца.
Нье Хо-Т'инг перешел Коровью улицу, направляясь поближе. Сам Нье
отличался строгостью нравов и подумал, что маленькие дьяволы надеются
спровоцировать аудиторию на проявление низменных инстинктов. Шоу, которое
они устроили здесь, было отвратительным и явно бессмысленным.
Когда Нье приблизился к машине, иностранный дьявол, который до этого
наклонился, чтобы подергать сосок женщины своим языком, поднял голову. Нье
резко остановился, и рабочий с ведрами на коромысле через плечо едва не
наткнулся на него и сердито закричал. Нье игнорировал крики парня: он узнал
иностранного дьявола. Это был Бобби Фьоре -- отец ребенка Лю Хань.
Когда женщина, бедра которой сжали бока Бобби Фьоре, повернула лицо в
сторону Нье, он увидел, что это Лю Хань. Он закусил губу. Ее лицо было
расслаблено похотью. Изображение сопровождалось звуком. Он слышал легкие
вздохи удовольствия, словно сам держал ее в руках.
На картине Лю Хань стонала. Бобби Фьоре хрипел, как свинья под ножом.
Оба они блестели от пота. Китаец -- послушная собачка маленьких чешуйчатых
дьяволов -- комментировал звуки экстаза, объясняя толпе:
-- Здесь мы видим знаменитую народную революционерку Лю Хань, когда она
отдыхает между убийствами. Разве вы не гордитесь, что у вас есть такая
личность, объявляющая, что представляет вас? Разве вы не надеетесь, что она
получит все, чего хочет?
-- Э-э, -- сказал один из зрителей, -- я думаю, она получает все, что
хочет. Этот иностранный дьявол, он -- как осел.
Все, кто слышал его, рассмеялись -- включая и Нье Хо-Т'инга, хотя
усилия, понадобившиеся, чтобы растянуть губы и издать горлом соответствующие
звуки, заставили его страдать, словно с него ножами сдирали кожу.
Машина начала показывать новый фильм о Лю Хань -- на этот раз уже с
другим мужчиной.
-- Вот это и есть настоящий коммунизм, -- сказал комментатор. -- От
каждого по способности, каждому по его потребности.
Толпа бездельников и на это отреагировала гоготом. И снова Нье Хо-Т'инг
заставил себя присоединиться к окружающим. Первым правилом было не выглядеть
подозрительным. Смеясь, он пришел к выводу, что комментатор был, вероятно,
гоминдановцем: чтобы использовать марксистскую риторику в пародийной форме,
надо быть с ней знакомым. Он запомнил этого человека, чтобы впоследствии
убить, если удастся.
Постояв пару минут, Нье вошел в мечеть. Он искал человека по имени Су
Шун-Чин и обнаружил его подметающим пол. Это говорило об искренности и
посвящении себя долгу. Если бы Су Шун-Чин занимался своим делом
исключительно ради прибыли, то неприятную часть работы приказал бы делать
подчиненному.
Он посмотрел на Нье без особой радости.
-- Как вы можете ожидать, что мы будем работать с людьми, которые не
только безбожны, но еще и ставят грязных девок в положение властителей? --
строго спросил он. -- Чешуйчатые дьяволы готовы издеваться над вами.
Нье не упомянул, что они с Лю Хань были любовниками. Вместо этого он
сказал:
-- Бедная женщина была схвачена маленькими чешуйчатыми дьяволами,
которые под страхом смерти заставили ее отдавать свое тело этим мужчинам.
Что удивительного, если она теперь горит желанием мести? Они стараются
дискредитировать ее, чтобы понизить ее эффективность как революционного
лидера.
-- Я видел некоторые из картинок, которые показывают эти маленькие
дьяволы, -- ответил Су Шун-Чин. -- На одной или двух -- да, действительно
женщина Лю Хань выглядит так, будто ее насилуют. Но на других -- тех, где
она с иностранным дьяволом с пушистой спиной и грудью, -- она только
наслаждается. Это очень заметно.
Лю Хань была влюблена в Бобби Фьоре. Может быть, поначалу это была лишь
близость двух униженных людей, у которых не было другого утешения, кроме
друг друга, но потом между ними возникло настоящее чувство. Нье знал это. Он
также знал, что иностранный дьявол тоже любил ее, даже если и не старался
сохранять ей верность.
Неважно, насколько верным все это было, но для кади это не имело
никакого значения. Нье попробовал другой способ.
-- Чего бы она ни делала в прошлом -- и что маленькие дьяволы
показывают теперь, она делала только потому, что иначе ее бы уморили
голодом. Возможно, она не все ненавидела; возможно, этот иностранный дьявол
вел себя прилично по отношению к ней в таком месте, где трудно найти что-то
приличное. Но что бы она ни сделала, это грех чешуйчатых дьяволов, а не ее,
и она раскаивается в том, что сделала.
-- Возможно, -- сказал Су Шун-Чин.
По китайским понятиям его лицо было слишком длинным и костистым,
возможно, среди дальних предков он имел одного или двух иностранных
дьяволов. Черты его лица отражали лишь суровое неодобрение.
-- Вы знаете, что еще чешуйчатые дьяволы сделали с женщиной Лю Хань? --
сказал Нье. Когда кади покачал головой, он объяснил: -- Они фотографировали,
как она рожает ребенка, сфотографировали, как ребенок выходит наружу между
ее ног. Затем они украли его, чтобы использовать для своих целей, как будто
он вьючное животное. Такие картинки они вам не покажут, могу поклясться.
-- Это в самом деле так? -- спросил Су Шун-Чин. -- Вы, коммунисты,
мастера придумывать ложь, чтобы помочь своему делу.
Нье сам считал все религии ложью, но возражать не стал.
-- Это в самом деле так, -- тихо ответил он. Кади изучающе посмотрел на
него.
-- Теперь вы мне не лжете, -- сказал он наконец.
-- Теперь я вам не лгу. -- согласился Нье.
Он не хотел придираться к последним словам; затем он увидел, что Су
Шун-Чин печально кивает, словно одобряя его признание в прежней лжи. Нье
продолжил:
-- На самом деле женщина Лю Хань после картинок, которые показывают
чешуйчатые дьяволы, приобретает лицо, а не теряет его. Это доказывает, что
маленькие дьяволы так боятся ее, что хотят дискредитировать любыми
средствами, какие у них есть.
Су Шун-Чин пожевал губами, словно человек, обгладывающий мясо с куска
свинины с множеством хрящей.
-- Возможно, в этом есть доля правды, -- сказал он после длинной паузы.
Нье стоило больших трудов скрыть облегчение, которое он испытал, когда
кади добавил:
-- Я расскажу верующим, как вы объясняете эти картинки, чего бы это ни
стоило.
-- Это будет очень хорошо, -- сказал Нье. -- Если мы будем бороться
народным фронтом сообща, мы сможем побить маленьких чешуйчатых дьяволов.
-- Возможно, есть доля правды и в этом, -- повторил Су, -- но только
некоторая. Когда вы говорите -- "народный фронт", вы имеете в виду ваш
личный фронт. Вы не верите в равное партнерство.
Нье Хо-Т'инг постарался вложить в свой ответ как можно больше
возмущения:
-- Вы ошибаетесь. Это неправда.
К его удивлению, Су Шун-Чин рассмеялся. Он поводил пальцем перед лицом
Нье.
-- Ах, теперь вы снова мне лжете, -- сказал он.
Нье начал было отрицать это, но кади жестом предложил ему молчать.
-- Не обращайте внимания. Я понимаю, вы должны говорить то, что вы
должны. Даже если я знаю, что это неверно, вы все равно будете спорить.
Идите же, и может быть, Бог, сострадающий и всемилостивый, когда-нибудь
вложит мудрость в ваше сердце.
"Старый дурак и ханжа", -- подумал Нье. Но Су Шун-Чин показал, что он
вовсе не дурак, он собирался работать с коммунистами и бороться против
пропаганды маленьких дьяволов. В одном он был прав: если
Народно-освободительная армия станет частью народного фронта, то народный
фронт придет на позиции коммунистической партии.
После того как Нье вышел из мечети, он пошел бродить по улицам и узким
"хутунам" Пекина. Чешуйчатые дьяволы установили множество своих машин.
Изображения Лю Хань плавали над каждой, вместе с одним или другим мужчиной:
обычно с Бобби Фьоре, но не всегда. Маленькие чешуйчатые дьяволы увеличивали
громкость звука в моменты, когда она достигала Облаков и Дождя, и громко
транслировали комментарии их китайского лакея.
Кое-чего чешуйчатые дьяволы все-таки добились. Многие мужчины,
наблюдавшие, как проникают в Лю Хань, называли ее сукой и проституткой
(точно так, как Хсиа Шу-Тао) и насмехались над Народно-освободительной
армией за то, что ее подняли там до уровня лидера.
-- Я знаю, до какого положения я хотел бы ее поднять, -- отпустил шутку
один остряк, вызвав громкий смех.
Но не все мужчины реагировали подобным образом. Некоторые выражали
симпатию к ее бедственному положению и высказывались об этом громко. Нье
показалась особенно интересной реакция женщин, которые смотрели записи
падения Лю Хань. Почти все без исключения они говорили одно и то же:
-- Ох, бедняжка!
Они говорили эти слова не только друг другу, но также своим мужьям,
братьям и сыновьям. По китайскому обычаю женщины держались на заднем плане,
но это не означало, что у них не было способов заставить услышать их мнение.
Если они решили, что маленькие чешуйчатые дьяволы угнетали Лю Хань, то они
говорили это и своим мужчинам -- и, раньше или позже, мнение мужчин начнет
изменяться.
Партийная контрпропаганда от этого тоже не пострадает. Нье улыбнулся.
Маленькие чешуйчатые дьяволы нанесли себе такой удар, которого партия
нанести бы не смогла.
-- Ну так, черт побери, и где же этот ад?
И гудящий баритон, и эта наглость "посмотри-ка-мир-вот-он-я", могли
принадлежать только одному человеку из знакомых Генриха Ягера. И он никак не
ожидал, что услышит его голос во время кампании против ящеров в западной
Польше.
Он вскочил на ноги, стараясь не перевернуть небольшую алюминиевую
печку, на которой подогревался его ужин.
-- Скорцени! -- воскликнул он. -- Какого дьявола вы тут делаете?
-- Дьявольскую работу, мой мальчик, дьявольскую работу, -- ответил
штандартенфюрер СС Отто Скорцени, заключая Ягера в медвежьи объятия,
сокрушающие ребра.
Скорцени возвышался над Ягером сантиметров на пятнадцать, но
доминировал над большинством людей за счет не роста, а чисто физического
присутствия. Если вы подпадали под его чары, вы соглашались выполнить все,
чего он добивался, независимо от того, насколько невозможным казалось это
вашему разуму.
Ягер участвовал в нескольких операциях вместе со Скорцени: в России, в
Хорватии, во Франции. Он удивлялся, как ему удалось уцелеть. Еще больше он
удивлялся тому, что уцелел Скорцени. Он изо всех сил старался противиться
уговорам Скорцени в каждом таком случае. Когда смотришь на эсэсовца снизу
вверх, тебя уважают, если нет -- тебя просто переедут.
Скорцени хлопнул себя по животу. Шрам на левой щеке искривил угол его
рта, когда он спросил:
-- В этих местах имеется какая-нибудь еда, или вы собираетесь уморить
меня голодом?
-- Ты не очень-то бедствуешь, -- сказал Ягер, бросив на него
критический взгляд. -- У нас есть немного свинины, брюква и эрзац-кофе.
Устроит это ваше величество?
-- Как, фазана с трюфелями нет? Ладно, сойдет и свинина. Но к черту
эрзац-кофе и дохлую лошадь, которая им пописала. -- Скорцени вытащил из-за
пояса фляжку, отвинтил пробку и передал фляжку Ягеру. -- Глотни.
Ягер отпил с настороженностью. С учетом чувства юмора, которым обладал
Скорцени, предосторожность была не лишней.
-- Иисус, -- прошептал он. -- Откуда это у тебя?
-- Неплохой коньяк, а? -- самодовольно ответил Скорцени. --
"Courvoisier VSOP" ["Very Superior Old Pale" -- коньяк "Курвуазье" с
выдержкой от 18 до 25 лет. -- Прим. перев.], пять звездочек, нежнее, чем
девственница внутри.
Ягер сделал еще один глоток, на этот раз с уважением, затем отдал
обтянутую фетром алюминиевую фляжку Скорцени.
-- Я передумал. Я не хочу знать, где ты его добыл. Если ты признаешься,
я дезертирую и побегу туда. Где бы оно ни было, там все равно лучше, чем
здесь.
-- В аду тоже лучше -- пока ты туда не попал, -- сказал Скорцени. --
Ну, где же это мясо?
Наполнив металлическую крышку своего котелка, он быстро проглотил еду и
запил коньяком.
-- Стыдно перебирать, но этот напиток обидится, если я его не выпью, а?
-- И он ткнул локтем Ягера под ребра.
-- Как скажешь, -- ответил Ягер.
Позволь эсэсовцу подавить тебя -- и окажешься в трудном положении: он
об этом никогда не забудет. Конечно, раз уж Скорцени оказался здесь, вскоре
должны последовать неприятности: Скорцени принес их с собой вместе с
божественным коньяком. Какие именно неприятности будут -- неизвестно, в
разных операциях они не повторялись. Ягер поднялся на ноги и потянулся как
можно более лениво, затем предложил:
-- Не прогуляться ли нам?
-- О, ты просто хочешь побыть со мной наедине, -- пропищат Скорцени
пронзительным лукавым фальцетом.
Танкисты, которые еще ужинали, радостно заржали. Гюнтер Грилльпарцер
подавился едой и стал задыхаться -- кто-то колотил его по спине, пока он не
пришел в себя.
-- Если бы я опустился до такого большого уродливого болвана, как ты.
то, думаю, прежде застрелился бы, -- парировал Ягер.
Танкисты снова засмеялись. И Скорцени тоже. Он мог заварить кашу, но
мог и проглотить.
Они с Ягером отошли от лагеря -- не слишком далеко, чтобы не
заблудиться, но подальше от солдатских ушей. Их сапоги чавкали по грязи.
Весенняя распутица замедлила немецкое наступление в той же степени, что и
ответные меры ящеров.
В луже неподалеку громко и печально квакнула первая лягушка.
-- Она еще пожалеет, -- тревожно сказал Скорцени. -- Сова или цапля
схватят ее.
Ягеру не было никакого дела до лягушек.
-- Ты сказал -- дьявольская работа. Какую чертовщину ты имел в виду и
что я должен с этим делать?
-- Даже не знаю, понадобишься ты или нет, -- ответил Скорцени. -- Надо
посмотреть, как пойдут дела. Просто я был по соседству, подумал, брошу все,
приду и скажу -- привет. -- Он поклонился в пояс. -- Привет.
-- Ты невозможен, -- фыркнув, сказал Ягер. Скорцени засиял, он принял
это за комплимент. Призвав все свое терпение, Ягер начал снова:
-- Попробуем еще раз. Чего ради ты появился тут по соседству?
-- Я собираюсь доставить подарок, как только найду наилучший способ
сделать это, -- сказал эсэсовец.
-- Зная, какие именно подарки ты доставляешь, уверен, что ящеры
обрадуются, получив его, -- сказал ему Ягер. -- Если я могу завязать бант на
упаковке, только скажи.
Вот так. Он сам сказал это. Чему быть, того не миновать.
Он ожидал, что штандартенфюрер СС пустится описывать экстравагантные,
вероятно, даже непристойные подробности своего плана. Скорцени, как ребенок,
радовался своим кошмарным придумкам. Ягеру он вдруг представился ребенком
лет шести, в коротких штанишках, открывающим коробку с оловянными
солдатиками: почему-то Скорцени и в образе ребенка тоже имел шрам на лице.
Но тут, прежде чем ответить, он бросил на Ягера короткий взгляд.
-- Ящеры тут ни при чем.
-- Нет? -- Ягер поднял бровь. -- Хорошо, выходит дело во мне? Почему же
ты честно меня предупреждаешь?
Он вдруг протрезвел: было известно, что офицеры, которыми недовольно
высшее командование, исчезали с лица земли, словно и не существовали вовсе.
Чем же он не угодил кому-то, исключая противника?
-- Если у тебя пистолет с одной пулей, скажите хотя бы -- за что?
-- Ну ты додумался! Богом на небесах клянусь, ты ошибаешься! --
Скорцени поднял вверх правую руку. -- Ничего подобного, клянусь. Ни ты, и
никто из твоих подчиненных или командиров -- вообще никто из немцев.
-- Хорошо, -- сказал Ягер с огромным облегчением. -- Что же ты тогда
так скромничаешь? Враги рейха остаются врагами рейха. Мы сметем их и
двинемся дальше.
Лицо Скорцени снова стало непроницаемым.
-- Ты говоришь это теперь, но ты не всегда поешь эту песню. Евреи --
враги рейха, не правда ли?
-- Если они и не были ими раньше, мы определенно сделали все, чтобы они
ими стали, -- сказал Ягер. -- Но все равно мы хорошо сотрудничали с евреями
Лодзи, которые не позволили ящерам использовать город в качестве опорного
пункта против нас. Если разобраться, они вполне человеческие существа, так
ведь?
-- Мы сотрудничали с ними? -- сказал Скорцени, не отвечая на вопрос
Ягера. -- Я скажу тебе, с кем они сотрудничали: с ящерами, вот с кем. Если
бы евреи не наносили нам ударов в спину, мы захватили бы гораздо большую
часть Польши, чем имеем сейчас.
Ягер сделал усталый жест.
-- Зачем нам это? Ты знаешь, что мы делали с евреями в Польше и в
России. Разве удивительно, что они не любят нас за то, что мы такие хорошие
христиане?
-- Вероятно, неудивительно, -- сказал Скорцени, и -- как услышал Ягер
-- без всякой злобы. -- Но если они хотят играть с нами в эти игры, они
должны заплатить за это. А теперь -- хочешь, чтобы я продолжил то, что
должен сказать, или предпочтешь не слышать -- и не знать, о чем идет речь?
-- Продолжай, -- сказал Ягер. -- Я не страус, чтобы прятать голову в
песок.
Скорцени улыбнулся. Шрам на щеке стянул половину лица в гримасу,
которая могла бы принадлежать горгулье, сидящей высоко на средневековом
соборе, -- а может быть, сработало воображение Ягера, ощутившего ужас,
слушая слова эсэсовца.
-- Я собираюсь взорвать самую большую бомбу с нервно-паралитическим
газом, которую только видел мир, и сделать это в самом центре лодзинского
гетто. Что ты думаешь об этом? Ты -- полковник или лидер скаутов во взрослом
мундире?
-- ...твою мать, Скорцени, -- спокойно сказал Ягер.
Едва эти слова слетели с его губ, он вспомнил партизана еврея, который
использовал это выражение в каждом втором предложении. Эсэсовцы расстреляли
еврея -- Макса, так его звали -- в местности под названием Бабий Яр,
неподалеку от Киева. Они плохо сделали свою работу, иначе Макс не смог бы
рассказать свою историю. Один бог знает, со сколькими они эту работу сделали
хорошо.
-- Это не ответ, -- сказал Скорцени, такой же неуязвимый для
оскорблений, как танк ящеров для пулемета. -- Скажите мне, что ты думаешь.
-- Я думаю, это глупо, -- ответил Ягер. -- Евреи в Лодзи помогали нам.
Если вы начнете убивать людей, которые делают это, вы быстро останетесь без
друзей.
-- А-ай, эти ублюдки играют с обоих краев в середину, и ты это знаешь
так же хорошо, как и я, -- сказал Скорцени. -- Я получил приказ, и я намерен
выполнить его.
Ягер выпрямился по стойке смирно и выбросил вперед правую руку.
-- Хайль Гитлер! -- сказал он.
Он отдал должное Скорцени: забияка увидел в этом жесте сарказм, а не
молчаливое согласие. Более того, реакция Ягера даже показалась ему забавной.
-- Ладно, не надо портить мне настроение, -- сказал он, -- мы ведь не
раз были вместе. И на этот раз ты можешь оказать мне большую помощь.
-- Да, я смог бы сделать для тебя прекрасного еврея, -- невозмутимо
сказал Ягер. -- Как ты думаешь, сколько времени надо, чтобы оправиться после
обрезания?
-- Тебе не к лицу непристойности, -- сказал Скорцени, качаясь на
каблуках и сунув большие пальцы в карманы брюк -- это придавало ему вид
молодого бездельника на углу улицы. -- Должно быть, старость приходит, а?
-- Ты так думаешь? И чем, интересно, я могу помочь? Я никогда не был в
Лодзи. Наступление далеко обошло город, так что мы не увязли в уличных боях.
Мы не можем позволить себе терять танки от "коктейля Молотова" и тому
подобного: мы и так потеряли слишком много машин в боях с ящерами.
-- Да, именно такое сообщение ты послал в дивизию, дивизия -- в штаб
армии, и высшее командование купилось, -- кивнув, сказал Скорцени. -- Браво.
Может быть, ты получишь красные лампасы на брюки как офицер генерального
штаба.
-- И ведь это сработало, -- сказал Ягер. -- Я видел в России уличных
боев больше, чем мне хотелось бы. Ничто в мире не перемалывает людей и
машины так, как эти бои, а мы не должны были нести лишние потери.
-- Да, да, да, -- сказал Скорцени с преувеличенным терпением. Он
наклонился вперед и посмотрел на Ягера. -- А я вот узнал, что мы обошли
Лодзь двумя потоками потому, что ты заключил сделку с местными еврейскими
партизанами. Что вы скажете на это, господин офицер генерального штаба?
Несмотря на мороз, Ягер чувствовал, как горит его лицо. Если знает
Скорцени, значит, это есть где-то в эсэсовских досье... что не сулит ничего
хорошего в его дальнейшей жизни, не говоря уже о карьере. Тем не менее он
ответил таким холодным тоном, как только смог:
-- На это я скажу, что была военная необходимость. Таким образом мы
привлекли партизан на свою сторону и довели до бешенства ящеров вместо
очередной схватки. Сработало это чертовски хорошо, а потому твое "я вот
узнал" -- в ватерклозет.
-- Ты должен понять, вообще-то я тебя не осуждаю. Но это означает, что
у тебя есть связи с евреями. Ты обязан использовать их, чтобы помочь мне
доставить мою маленькую игрушку в центр города.
Ягер уставился на него.
-- И впоследствии ты заплатишь мне тридцать сребреников, не так ли? Я
не разрываю такие связи. И я не убиваю. Почему ты просишь меня о
предательстве?
-- Тридцать сребреников? Неплохо. Но помни, Христос был проклятым
жидом. И это не принесло ему ничего хорошего. Вот так. -- Скорцени изучающе
смотрел на Ягера. -- Чем больше помощи мы получим от этих ребятишек, тем
легче будет работа, а я предпочитаю более легкую работу, если это возможно.
Мне платят за то, что я рискую своей шеей, но мне не платят за то, чтобы я
высовывал ее лишний раз.
Это сказал человек, который взорвал танк ящеров, вспрыгнув на него и
забросив сумку со взрывчаткой между башней и корпусом. Может быть, Скорцени
считал это необходимым видом риска -- Ягер не знал.
-- Ты взорвешь там бомбу с нервно-паралитическим газом, ты собираешься
убить множество людей, которые не имеют отношения к войне.
-- Ты воевал в России, как и я. И что же? -- На этот раз Скорцени
отрывисто рассмеялся. Он ткнул Ягера в грудь указательным пальцем. --
Слушай, причем внимательно. Я сделаю это, с тобой или без тебя. Мне будет
легче, если и буду с тобой. Но моя жизнь была трудной и раньше. Если она
будет трудной и в дальнейшем, я все равно справлюсь, поверь мне. Так что
скажешь?
-- Прямо сейчас я не скажу ничего, -- ответил Ягер. -- Я подумаю.
-- Ладно, валяй. -- Большая голова Скорцени закачалась вверх и вниз,
пародируя вежливый жест. -- Думай, что хочешь, только недолго.
* * *
Охранник направил автомат в живот Мойше Русецкому.
-- Вперед, двигайся, -- сказал он грубым безжалостным голосом.
Русецкий поднялся с койки.
-- Нацисты загнали меня в гетто, ящеры посадили в тюрьму, -- сказал он.
-- Никогда не думал, что и евреи будут обращаться со мной таким же образом.
Если он надеялся задеть охранника, его постигло разочарование.
-- Жизнь везде тяжела, -- ответил тот безразлично и сделал жест
автоматом. -- А теперь вперед.
Он вполне мог быть эсэсовцем. Мойше подумал, не обучался ли он своим
повадкам по первоисточникам. Так получилось в Польше, после того как евреи и
поляки помогли ящерам выгнать немцев. Некоторые евреи, неожиданно став
солдатами, подделывались под самых внушительных, самых жестоких человеческих
воинов, каких могли себе представить. Сделай им замечание, и рискуешь быть
убитым. Мойше осмотрительно хранил молчание.
Он не знал точно, где находится. Конечно, где-то в Палестине, но его с
семьей доставили сюда в путах, с повязками на глазах и спрятали под
соломенным навесом. Внешние стены двора были слишком высокими, чтобы можно
было заглянуть через них. По звукам, которые доносились сквозь золотой
песчаник, он определил, что находится в городе: кузнецы ударяли по металлу,
стучали повозки, слышался отдаленный шум базара. Где бы он ни был, он
наверняка ходил по земле, о которой говорилось в Торе. Каждый раз, когда он
вспоминал это, его охватывало благоговение.
Большую часть времени голова его была занята другими заботами. Главным
образом -- как удержать ящеров от проникновения в эту святую землю. Он
цитировал Библию еврейским подпольным лидерам: "Ты полагаешься на посох из
этого сломанного тростника". Исайя говорил о египтянах, а теперь в Египте
были ящеры. Русецкий не хотел, чтобы они последовали путем Моисея -- через
Синай в Палестину.
Самое печальное, что очень немногие люди беспокоились о том же. Местные
евреи, настоящие глупцы, считали британцев такими же угнетателями, как
нацистов в Польше, -- или, по крайней мере, они так говорили. Те из них. кто
бежал из Польши после захвата ее нацистами, должны были бы соображать лучше.
-- Поворот, -- сказал охранник.
Необходимости в подсказках не было -- Мойше знал путь в комнату
допросов так же хорошо, как крыса в знакомом лабиринте. Однако за то, что он
бежал правильно, он никогда не получал кусочек сыра: возможно, его
похитители ничего не слышали о Павлове.
Когда он дошел до нужной двери, охранник встал позади и дал ему знак
открыть замок. Подумать только: похитители считали его опасным человеком,
который при малейшем шансе может выхватить оружие у сопровождающего и
учинить разгром. "Если бы только так было", -- ехидно подумал он. Дайте ему
полотенце, и он станет опасным для мух. А потом... на "потом" у подпольщиков
не хватало воображения.
Он открыл дверь, шагнул в комнату и застыл в ужасе. За столом вместе с
Бегином, Штерном и другими известными следователями сидел ящер. Чужак
повернул в его сторону один глаз.
-- Это он? Я не очень уверен, -- сказал он на отличном немецком.
Мойше вгляделся. Раскраска тела была более бледной, чем та, которую
помнил Мойше, но голос, несомненно, был знакомым.
-- Золрааг!
-- Он знает меня, -- сказал бывший губернатор Польши. -- Или вы его
хорошо натренировали, или же он в самом деле тот самец, из-за которого у
Расы были такие трудные времена в Польше.
-- Это -- Русецкий, на самом деле, -- сказав Штерн. Это был крупный
темноволосый мужчина, скорее боец, чем мыслитель, если внешний вид не
обманывал. -- Он говорит, что мы должны держаться подальше от вас, не важно
в чем.
Он тоже говорил по-немецки, но с польским акцентом.
-- А я говорю, что мы много дадим за то, чтобы он снова попал в наши
когти, -- ответил Золрааг. -- Он предал нас, предал меня, и он заплатит за
свое предательство.
У ящеров немногое отражается на лице, но Мойше не понравилось, как
выглядел и говорил Золрааг. Он и не думал, что Раса способна беспокоиться о
таких вещах, как месть. Если он ошибался, лучше ему об этом и не знать.
-- Никто не говорил о возвращении его вам, -- сказал Менахем Бегин на
идиш. -- И не для этого мы доставили вас сюда. -- Он был невысоким и щуплым,
ненамного выше ящера, просто не на что смотреть. Но когда он говорил, его
поневоле воспринимали серьезно. Он погрозил пальцем Золраагу. -- Мы
послушаем, что скажете вы, послушаем, что есть сказать у него, и только
потом решим, что делать.
-- Вам следовало бы посоветовать воспринимать Расу и ее желания более
серьезно, -- ответил Золрааг ледяным тоном.
В Польше он полагал, что его мнение важнее мнения людей просто потому,
что это было его собственное мнение. Будь он блондином с голубыми глазами, а
не зелено-бурым чешуйчатым существом, из него получился бы неплохой
эсэсовец: Раса определенно оценила бы теорию "нации господ".
Но произвести впечатление на Бегина он не сумел.
-- Я посоветовал бы вам помнить, где вы находитесь, -- невозмутимо
ответил лидер подпольщиков. -- Мы всегда можем продать вас англичанам и,
возможно, получим за вас больше, чем ваши заплатят за Русецкого.
-- Я шел на риск, когда согласился, чтобы вы доставили меня в эту часть
континентальной массы, -- сказал Золрааг: он был, несомненно, смелым
существом. -- Впрочем, я по-прежнему питаю надежду, что смогу убедить вас
найти общий язык с Расой, неминуемым победителем в этом конфликте, что в
дальнейшем сослужит вам большую пользу.
Мойше впервые подал голос:
-- На самом деле он надеется вернуть свой прежний ранг. Раскраска тела
у него ныне крайне скромная.
-- Да, и это по вашей вине, -- проговорил Золрааг с сердитым шипением,
словно ядовитый змей. -- Это ведь благодаря вам провинция Польша из мирной
превратилась в сопротивляющуюся, а вы повернулись против нас и стали
поносить нас за политику, которую прежде превозносили.
-- Разбомбить Вашингтон -- это не то же самое, что разбомбить Берлин,
-- ответил Мойше, использовав старый аргумент. -- И теперь вы уже не можете
под дулом винтовки заставить меня возносить вам хвалу, а в случае моего
отказа извратить мои слова. Я был готов умереть, чтобы сказать правду, и вы
не дали мне сказать ее. И конечно, как только у меня появилась возможность,
я рассказал всем, что случилось.
-- Готов умереть, чтобы сказать правду. -- эхом отозвался Золрааг. Он
повернул свои глаза в сторону евреев, которые могли привести Палестину к
мятежу против англичан во имя своего народа, -- Вы понятливы, рациональные
тосевиты. Вы должны видеть фанатизм и бессмысленность такого поведения.
Мойше засмеялся. Он не хотел, но не смог удержаться. Просто дух
захватывало от того, насколько Золрааг не понимал людей вообще и евреев в
особенности. Народ, который дал миру Масада [Легендарный гарнизон, воины
которого перебили друг друга, вместо того чтобы сдаться римлянам. -- Прим.
перев.], который упрямо хранил веру, когда его уничтожали из развлечения или
за отказ обратиться в христианство... и ящер ожидал, что этот народ выберет
путь целесообразности?
Нет, Русецкий не мог удержаться от смеха.
Затем засмеялся Менахем Бегин, к нему присоединились Штерн, а затем и
остальные лидеры подполья. Даже мрачный охранник с автоматом и тот
подхихикнул вместе со всеми. Мысль о еврее, предпочитающем разумность
жертвенности, была полна скрытого абсурда.
Теперь лидеры подполья посмотрели друг на друга. Как объяснить Золраагу
эту непреднамеренную иронию? Никто и не пытался. Вряд ли он смог бы понять.
Разве это не доказывает существенное различие ящеров и людей? Мойше так и
подумал.
Прежде чем вернуться к теме, Штерн сказал:
-- Мы не вернем вам Русецкого, Золрааг. Свыкнитесь с этой мыслью. Мы
позаботимся о себе сами.
-- Очень хорошо, -- ответил ящер. -- Мы тоже. Я считаю, что вы ведете
себя упрямее, чем следовало бы, но я понимаю это. Хотя ваша радость
находится за пределами моего понимания.
-- Вам следовало бы лучше ознакомиться с нашей историей, чтобы вы
смогли понять причину нашей радости.
Золрааг снова издал звук кипящего чайника. Русецкий скрыл улыбку. У
ящеров история уходила далеко в глубины времени, когда люди еще жили в
пещерах, а огонь был величайшим открытием. И с их точки зрения у
человечества не было истории, о которой стоило бы говорить. Мысль о том, что
им следует считаться и с человеческой мимолетностью, действовала им на
нервы.
Менахем Бегин обратился к Золраагу.
-- Предположим, мы поднимем восстание против англичан. Предположим, вы
поможете нам в борьбе. Предположим, это поможет вам впоследствии прийти в
Палестину. Что мы получим, кроме нового хозяина, который захватит ее и будет
властвовать над нами после хозяина, которого мы имеем сегодня?
-- Вы теперь так же свободны, как остальные тосевиты на этой планете?
-- спросил Золрааг, добавив вопросительное покашливание в конце предложения.
-- Если бы было так, англичане не были бы нашими хозяевами, -- ответил
Штерн.
-- Именно так, -- ответил ящер. -- Но когда завершится завоевание
Тосев-3, вы подниметесь до равного статуса с любой другой нацией под нашей
властью. Вы получите высшую степень -- как это называется? -- да, автономии.
-- Это не так много, -- вмешался Мойше.
-- Помолчите! -- сказал Золрааг с усиливающим покашливанием.
-- Почему? -- насмешливо спросил Мойше, поскольку никто из лидеров
подполья не выступил в поддержку сказанного ящером. -- Просто я правдив, что
разумно и рационально, не так ли? Между прочим, кто знает, когда завершится
завоевание Тосев-3? Пока что вы нас не победили, а мы нанесли вам порядочный
ущерб.
-- Истинно так, -- отметил Золрааг, и Мойше на мгновение смутился. Ящер
продолжал говорить. -- Среди тосевитских не-империй, которые нанесли нам
наибольший ущерб, есть Германия, которая наносит наибольший ущерб и вам,
евреям. Вы теперь приветствуете Германию, с которой боролись прежде?
Мойше постарался не поморщиться.
Золрааг мог не иметь представления об истории евреев, но он знал, что
упоминание о нацистах для евреев было подобно размахиванию красным флагом
перед быком. Он хотел, чтобы они утратили способность к рациональному
мышлению. Счесть дураком его никак нельзя.
-- Сейчас мы говорим не о немцах, -- сказал Мойше, -- с одной стороны,
мы говорим об англичанах, которые, в общем, обращались с евреями неплохо, а
с другой -- о ваших шансах завоевать мир, которые выглядят не так уж хорошо.
-- Конечно, Тосев-3 мы завоюем, -- сказал Золрааг. -- Так приказал
Император, -- он на мгновение склонил голову, -- и это будет исполнено.
Эти его слова не показались разумными или рациональными. Они звучали
так, словно их произнес сверхнабожный еврей, почерпнувший все свои знания из
Торы и Талмуда и отвергающий любую светскую науку: вера отрицала любые
препятствия. Временами это позволяло пережить плохие времена. Временами
ослепляло.
Мойше изучал тех, кто захватил его в плен. Видят они ошибку Золраага
или ослеплены? Он пустил в ход другой аргумент:
-- Если вы выберете сделку с ящерами, то всегда будете для них мелкой
рыбешкой. Вы можете думать, что сейчас мы им полезны, но что случится после
того, как они захватят Палестину и вы им больше не будете нужны?
Менахем Бегин оскалил зубы, хотя и не в веселой улыбке.
-- Тогда мы начнем устраивать им трудную жизнь, такую же, какую
устраиваем англичанам теперь.
-- В это я верю, -- сказал Золрааг, -- это будет примерно
соответствовать польскому образцу.
Говорил ли он с горечью? Об эмоциях ящеров трудно судить.
-- Но если Раса завоюет весь мир, кто будет поддерживать вас в борьбе с
нами? -- спросил он Бегина. -- Чего вы надеетесь достичь?
Теперь начал смеяться Бегин.
-- Мы -- евреи. Нас поддерживать не будет никто. И ничего мы не
достигнем. И тем не менее будем бороться. Вы сомневаетесь?
-- Ни в малейшей степени, -- ответил Мойше.
Захватчики и пленный отлично поняли друг друга. Мойше был пленником и у
Золраага, но тогда между ними лежала полоса непонимания, широкая, словно
черное пространство космоса, отделявшее мир ящеров от Земли.
Золрааг не вполне понял, что происходит. Он спросил:
-- Каков же ваш ответ, тосевиты? Если вам так надо, если в вас есть
сочувствие к нему из-за того, что он -- из той же кладки яиц, что и вы,
оставьте себе этого Русецкого. Но что вы скажете в отношении куда более
важного вопроса? Вы будете бороться бок о бок с нами, когда мы двинемся сюда
и накажем англичан?
-- Разве вы, ящеры, принимаете решения с ходу? -- спросил Штерн.
-- Нет, но ведь мы и не тосевиты, -- ответил Золрааг с явным
удовольствием. -- А вы все делаете быстро, не так ли?
-- Не всегда, -- ответил, хмыкнув, Штерн. -- Об этом мы еще должны
поговорить. Мы отправим вас обратно в целости и сохранности...
-- Я надеялся вернуться с ответом, -- сказал Золрааг. -- Это не только
помогло бы Расе, но и улучшило бы мой статус.
-- Нас не волнует ни то ни другое, если только это не поможет нам, --
сказал Штерн. Он подозвал охранника Русецкого. -- Отведи его обратно в его
комнату. -- Он не назвал ее "камерой": даже евреи использовали напыщенные
выражения, чтобы подсластить пилюлю. -- Можешь разрешить ему навестить жену
и сына или только жену, если он захочет. Никуда их не выпускать.
-- Ясно. Вперед, -- скомандовал охранник, как обычно подкрепляя приказ
движением ствола автомата.
Когда они шли по коридору к камере, охранник проговорился:
-- Нет, вам никуда выходить нельзя -- живому.
-- Большое вам спасибо. Вы меня убедили, -- ответил Мойше.
И впервые с тех пор, как еврейское подполье выкрало его у англичан, он
услышал, как громко рассмеялся его грубый охранник.
* * *
По Москве-реке все еще плыл лед. Большая льдина ткнулась в нос гребной
лодки, в которой сидел Вячеслав Молотов, и оттолкнула ее в сторону.
-- Извините, товарищ народный комиссар иностранных дел, -- сказал
гребец, выправляя лодку против течения.
-- Ничего, -- рассеянно ответил Молотов.
Конечно, гребец был из НКВД. Он говорил с заметным "оканьем" -- акцент
местности вокруг города Горького, превращавший "а" в "о". Казалось, он
только что вернулся с пастбища, его невозможно было воспринимать серьезно.
Неплохая маскировка, что и говорить.
Через пару минут еще одна льдина натолкнулась на лодку. Телохранитель
хмыкнул.
-- Бьюсь об заклад, вы захотите доехать до колхоза в "панской" повозке,
а, товарищ?
-- Нет, -- холодно ответил Молотов. Рукой в перчатке он показал в
сторону берега.
"Панская" повозка, запряженная тройкой лошадей, медленно пробиралась
вдоль берега. Даже русские телеги с их большими колесами и дном, как у
лодки, с трудом преодолевали грязь весенней распутицы. Осенью
продолжительность сезона грязи определялась силой дождей. Весной же, когда
таял снег и лед, грязь всегда была настолько глубокой, что казалась
бездонной.
Ничуть не смутившись резкостью ответа, гребец хмыкнул снова. Он
демонстрировал искусство управляться с лодкой, уклоняясь от плывущих льдин
почти с ловкостью балерины. (Тут Молотов вспомнил о Микояне, который, будучи
на вечеринке, собрался выйти под дождь. Когда хозяйка испугалась, что он
промокнет, он только улыбнулся и сказал: "О нет, я буду танцевать между
каплями дождя". Если кто и мог такое сделать, то именно Микоян.)
Как и большинство расположенных у реки коллективных хозяйств, "колхоз
No 118" имел свой шаткий причал -- мостки, выступающие от берега к середине
мутной коричневой реки. Охранник привязал лодку к мосткам, затем
вскарабкался на них, чтобы помочь Молотову выйти из лодки. Когда Молотов
направился к зданиям колхоза, гребец остался на месте. Народный комиссар
удивился бы, если тот бы последовал за ним. Он мог быть работником НКВД, но
наверняка не имел секретного допуска к атомному проекту.
Мычали коровы, заставляя Молотова вспомнить интонации гребца. Хрюкали
свиньи: их грязь не беспокоила -- наоборот, была приятна. Куры
передвигались, вытаскивая из навоза одну ногу, затем другую, смотрели вниз
бусинками черных глаз, словно удивляясь, чего это земля пытается хватать их.
Молотов наморщил нос. У колхоза был запах скотного двора, вне всякого
сомнения. Его строения были типичны для коллективных хозяйств -- деревянные,
некрашеные или плохо окрашенные, они выглядели на десятки лет старше, чем
были на самом деле. Здесь и там расхаживали люди в матерчатых шапках,
рубахах без воротников и мешковатых штанах. Одни с вилами, другие с
лопатами.
Все это была маскировка, выполненная со всей русской тщательностью.
Молотов постучал в дверь коровника, и она тут же открылась.
-- Здравствуйте, товарищ народный комиссар иностранных дел, -- сказал
встречающий его человек и закрыл за ним дверь.
На мгновение нарком оказался в полной темноте. Затем встречающий открыл
другую дверь -- возможно, шлюзовой камеры, -- и яркий электрический свет
наполнил помещение изнутри.
Молотов оставил здесь пальто и сапоги. Игорь Курчатов кивнул
одобрительно. Ядерному физику было около сорока, на подбородке его резко
очерченного красивого лица торчала остроконечная борода, придававшая ему
почти сатанинское выражение.
-- Приветствую вас, -- поздоровался он еще раз с интонацией,
промежуточной между вежливой и льстивой.
Молотов проталкивал этот проект и удерживал Сталина от репрессий, когда
результаты появлялись медленнее, чем он того желал. Курчатов и все остальные
физики знали, что Молотов -- это единственный барьер между ними и гулагом.
Они были его людьми.
-- Добрый день, -- ответил он, как всегда не радуясь напрасной трате
времени на вежливость. -- Как дела?
-- Мы работаем, как бригада сверхстахановцев, Вячеслав Михайлович, --
отвечал Курчатов, -- наступаем на всех фронтах. Мы...
-- Вы уже производите металл плутоний, который будет обеспечивать
мощные взрывы, в которых так отчаянно нуждается Советский Союз? -- прервал
его Молотов.
Дьявольские черты лица Курчатова словно увяли.
-- Пока нет, -- отметил он. Его голос зазвучал громко и пронзительно.
-- Я предупреждал вас, когда проект только начинался, что на это уйдут годы.
Капиталисты и фашисты к моменту нашествия ящеров уже были впереди нас в
технике, они и теперь остаются впереди. Мы пытались, и у нас не получилось
выделить уран-235 из урана-238 [Интересно, а выделять золото из серебра они
не пробовали? Результат должен быть примерно тот же. -- Прим. ред.]. Лучшее
сырье -- шестифтористый уран, который ядовит, как горчичный газ, и вдобавок
ужасно едкий. У нас нет опыта, который требуется для реализации процесса
разделения. Нам пришлось искать другой способ производства плутония, который
также оказался трудным.
-- Уверяю вас, что с болью отдаю себе в этом отчет, -- сказал Молотов.
-- И Иосиф Виссарионович тоже с болью воспринимает это. Если американцы
добиваются успеха, если гитлеровцы добиваются успеха, то почему же у вас
продолжаются срывы?
-- Одна из задач -- создание необходимого реактора, -- ответил
Курчатов. -- В этом нам уже помогло прибытие американца. Работая один в
полную силу, Максим Лазаревич дал нам много ценных указаний.
-- Я на это надеялся, -- сказал Молотов.
Именно сообщение о прибытии Макса Кагана в колхоз No 118 привело его
сюда. Он пока не сказал Сталину, что американцы выбрали для посылки сюда
умного еврея. Сталин не был русским, но совершенно по-русски не переносил
тех, кого называл "безродными космополитами". Сам женатый на умной еврейке,
Молотов не разделял его чувств.
-- Это лишь одна проблема. Какие еще?
-- Самая худшая, товарищ нарком, это получение окиси урана и графита
для ядерного котла без примесей, -- сказал Курчатов. -- В этом Каган, хотя
он опытный специалист в своей области, помочь нам не может, как бы я этого
ни желал.
-- Вы знаете, какие меры должны предпринять производители, чтобы
поставить вам материалы требуемой чистоты? -- спросил Молотов. Когда
Курчатов кивнул, Молотов задал другой вопрос. -- Знают ли производители, что
подвергнутся высшей мере наказания, если не обеспечат выполнение ваших
требований?
Ему доводилось писать "ВМН" -- что означало "высшая мера наказания" --
против имен множества врагов революции и советского государства, и вскоре
после этого их расстреливали. Что заслужили, то и получайте -- без
снисхождения.
Но Курчатов сказал:
-- Товарищ комиссар иностранных дел, если вы ликвидируете этих людей,
их менее опытные преемники не смогут поставить улучшенные материалы. Вы
знаете, требуемая чистота находится на самом пределе того, чего достигли
советская химия и промышленность. Мы делаем все, что можем для борьбы против
ящеров. Временами того, что мы делаем, недостаточно. Ничего тут не поможет.
-- Я отказываюсь принять "ничего" от академика в кризисные моменты
точно так, как и от крестьянина, -- сердито сказал Молотов.
Курчатов пожал плечами.
-- Тогда вернитесь и скажите генеральному секретарю, чтобы он заменил
нас, и пожелаем большой удачи вам и родине с шарлатанами, которые займут эту
лабораторию.
Он и его люди были во власти Молотова, потому что только Молотов изо
всех сил сдерживал гнев Сталина. Но если Молотов лишит их своей защиты, он
нанесет вред не только физикам, но и советской родине. Это создавало
интересный и неприятный баланс между ним и личным составом лаборатории.
Он сердито выдохнул.
-- Есть у вас еще проблемы в создании этих бомб?
-- Да, одна небольшая имеется, -- ответил Курчатов с иронией в глазах.
-- Как только часть урана в атомном котле превратится в плутоний, мы должны
извлечь его и переработать в материал для бомбы -- и это надо сделать, не
допустив утечки радиоактивности в воздух или в реку. Мы это уже знали, но
Максим Лазаревич особенно настаивает на этом.
-- В чем тут трудность? -- спросил Молотов. -- Признаю, я не физик,
чтобы понять тонкие материи без объяснений.
Улыбка Курчатова стала совсем неприятной.
-- Этот вопрос не такой уж тонкий. Утечку радиоактивности можно
обнаружить. Если ее обнаружат, и это сделают ящеры, то вся эта местность
станет гораздо более радиоактивной.
Молотову понадобилось некоторое время, чтобы усвоить, что именно имел в
виду Курчатов. После этого он кивнул -- резко и коротко дернул головой.
-- Смысл вопроса ясен, Игорь Иванович. Вы можете пригласить Кагана сюда
или провести меня к нему? Я хочу выразить ему благодарность советских
рабочих и крестьян за его помощь нам.
-- Подождите, пожалуйста, здесь, товарищ народный комиссар иностранных
дел. Я приведу его. Вы говорите по-английски или по-немецки? Нет? Не важно,
я буду переводить.
Он поспешил по белому коридору, который так не вязался с топорным
внешним видом здания лаборатории.
Через пару минут Курчатов вернулся, ведя с собой парня в белом
лабораторном халате. Молотов удивился тому, как молодо выглядел Макс Каган:
на вид ему было чуть больше тридцати. Он был среднего роста, с вьющимися
темно-каштановыми волосами и умным еврейским лицом.
Курчатов заговорил с Каганом по-английски, затем обратился к Молотову.
-- Товарищ нарком, я представлю вам Максима Лазаревича Кагана, физика,
присланного на время из Металлургической лаборатории Соединенных Штатов.
Каган энергично пожал руку Молотова и пространно сказал что-то
по-английски. Курчатов взял на себя честь перевода.
-- Он говорит, что рад познакомиться с вами и что его цель -- загнать
ящеров в ад и уехать. Это -- идиома, и он интересуется тем, что вы думаете
по этому поводу?
-- Скажите ему, что разделяю его желания и надеюсь, что они будут
реализованы.
Он принялся изучать Кагана и изумился, увидев, что тот делает то же
самое. Советские ученые с почтением относились к человеку, который по рангу
был в СССР вторым после генерального секретаря ВКП(б). Если судить по
поведению Кагана, тот счел Молотова лишь очередным бюрократом, с которым
приходится иметь дело. В небольших дозах такое поведение забавляло.
Каган заговорил по-английски со скоростью пулемета. Молотов не мог
понять, о чем он говорит, но интонации чувствовались безапелляционные.
Курчатов неуверенно ответил на том же языке. Каган заговорил снова, ударив
кулаком по ладони для большей убедительности. И снова ответ Курчатова
прозвучал настороженно. Каган вскинул руки, выражая явное отвращение.
-- Переведите, -- велел Молотов.
-- Он жалуется на качество нашего оборудования, он жалуется на пищу, он
жалуется на сотрудника НКВД, который постоянно сопровождает его, когда он
выходит наружу. Он приписывает сотруднику нездоровые сексуальные привычки.
-- Во всяком случае, у него сложившееся мнение, -- заметил Молотов,
скрывая усмешку. -- Вы можете сделать что-нибудь с оборудованием, на которое
он жалуется?
-- Нет, товарищ нарком, -- ответил Курчатов, -- это самое лучшее, что
есть в СССР.
-- Тогда ему придется пользоваться им и получать максимум возможного,
-- сказал Молотов. -- Что касается остального, то "колхоз" и так имеет
лучшее снабжение продовольствием, чем большинство остальных, но мы
посмотрим, как можно его улучшить. И если он не хочет, чтобы сотрудник НКВД
сопровождал его, больше этого не будет.
Курчатов передал все это Кагану. В ответ американец разразился довольно
длинной речью.
-- Он постарается наилучшим образом использовать наше оборудование и
говорит, что может сконструировать получше, -- перевел Курчатов, -- и что он
в целом доволен вашими ответами.
-- И это все? -- спросил Молотов. -- Он сказал гораздо больше. Скажите,
что именно?
-- Пожалуйста, товарищ народный комиссар иностранных дел. -- Игорь
Курчатов заговорил с некоторым сардоническим удовольствием. -- Он сказал,
что, поскольку я ответствен за этот проект, я должен иметь возможность
решать эти вопросы сам. Он сказал, что я должен иметь достаточно власти,
чтобы подтирать свой зад без разрешения какого-то партийного функционера. Он
сказал, что шпионство НКВД в отношении ученых, как будто они вредители и
враги народа, может и на самом деле превратить их во вредителей и врагов
народа. И еще сказал, что угрожать ученым высшей мерой наказания за то, что
они не выполняют нормы, которые невозможно выполнить, -- это наибольшая
глупость, о которой он когда-либо слышал. Вот его точные слова, товарищ
нарком.
Молотов вперил ледяной взгляд в Кагана. Американец, и свою очередь,
смотрел на него, совершенно не понимая, что речь идет о его судьбе. Немножко
агрессии -- это ободряет. А вот если ее в Советском Союзе будет слишком
много, случится катастрофа.
Курчатов ведь тоже согласен с Каганом. Молотов это понял. Что ж, в
данное время государство и партия нуждаются и опыте ученых. Но может
наступить день, когда он не потребуется. Молотов это предвидит.
* * *
Если вы не собираетесь раздеваться, вряд ли можно получить большее
удовольствие, чем скачка на лошади по извилистой дороге через лес,
покрывшийся весенней листвой. Свежая, вселяющая надежду зелень пела для Сэма
Игера. Воздух был наполнен магическим пряным ароматом, который нельзя
ощутить ни в каком другом времени года: запахом живого и растущего.
Птицы пели так, словно завтра не будет.
Игер глянул на Роберта Годдарда. Если Годдард и чувствовал магию весны,
то внешне не показывал этого.
-- Вы в порядке, сэр? -- обеспокоено спросил Игер. -- Я так и знал, вам
надо было ехать в повозке.
-- Я в полном порядке, -- ответил Годдард голосом более высоким и
раздраженным, чем обычно. Лицо его было почти серым, а не розовым, как
должно было быть. Он вытер лоб рукавом, словно делая небольшую уступку
слабости, овладевшей его плотью. -- Как там, еще далеко?
-- Нет, сэр, -- ответил Сэм с возможно большим энтузиазмом. На самом
деле им предстоял еще один день езды верхом, а то и все два. -- Когда мы
доберемся до места, то прижмем хвост ящерам, так ведь?
Улыбка Годдарда получилась не совсем вымученной.
-- Таков план, сержант. Пока он не сработает, остается только ждать, но
надежда у меня есть.
-- Сработает, сэр, не может не сработать, -- сказал Игер. -- Должна же
у нас появиться возможность сбивать космические корабли ящеров не
чем-нибудь, а ракетами большой дальности. Слишком много уже смельчаков
погибло -- таковы факты.
-- И довольно грустные, -- сказал Годдард. -- Так что теперь посмотрим,
что мы сможем сделать. Единственная проблема -- наведение ракет должно быть
во много раз точнее. -- Он криво ухмыльнулся. -- А этого не так-то просто
добиться -- и это еще один факт.
-- Да, сэр, -- сказал Игер.
Тем не менее он по-прежнему чувствовал себя как герой рассказа Джона
Кэмпбелла: изобрети оружие сегодня, испытай его завтра и пусти в массовое
производство послезавтра. С ракетами дальнего действия Годдарда все обстояло
куда сложнее. При их конструировании ему потребовалась помощь не только от
ящеров, но и от немцев. И ракеты еще не были готовы к тому дню, когда
разбомбили Рим. Но потом работа пошла быстрее, и Сэм радовался, что и он
приложил к ним руку.
Как он и опасался, они не смогли добраться до Фордайса к закату солнца.
Это означало ночевку на обочине шоссе 79. За себя Игер не беспокоился. Но он
волновался из-за того, как скажутся походные условия на Годдарде, даже при
наличии в их снаряжении спальных мешков и палатки. Ученому-ракетчику
требовались все возможные удобства, но в разгар войны на многое он
рассчитывать не мог.
Когда они остановились, он чувствовал себя как загнанная дичь, но не
жаловался. Он с трудом глотал паек, который они открыли, но зато выпил пару
чашек напитка из цикория, который заменял кофе. Он даже шутил по поводу
комаров, хлопая по открытым участкам кожи. Сэм тоже шутил, но при этом не
обманывался. Когда после ужина Годдард забрался в свой спальный мешок, то
уснул как мертвый.
На следующее утро даже дополнительная порция цикорного эрзаца не
взбодрила его. Тем не менее, после того как ему удалось забраться в седло,
он сказал:
-- Сегодня мы преподнесем ящерам сюрприз.
Похоже, что это помогло ему больше, чем все остальное, в том числе и
ненастоящий кофе.
Фордайс, Арканзас, развивался бурно, после нашествия ящеров Игер видел
нечто подобное всего в нескольких городах. Город гордился несколькими
лесопилками, хлопкоочистительными предприятиями и фабрикой гробов. Телеги
увозили продукцию последнего из названных предприятий, нот уж у кого никогда
не было простоя, даже в бесполезные дни мира. Вероятно, оно продолжает
действовать и поныне.
Местность к югу и западу от Фордайса -- вдоль шоссе 79 -- казалась
настоящим раем для охотников: заросли дуба и сосны должны были кишеть
оленями, индюками и другим зверьем. Перед выездом из Хот-Спрингса Сэму дали
автомат "томпсон". Охотиться с ним неспортивно, но когда охотишься ради
пропитания, спорт как-то уходит на задний план.
В четырех или пяти милях от Фордайса на ржавом капоте брошенного
"паккарда" сидел парень, обстругивавший сосновую палку. На нем были
соломенная шляпа и потрепанный комбинезон, он выглядел как фермер, хозяйство
которого видало гораздо лучшие дни, но в голосе, когда он заговорил с Игером
и Годдардом, не было ни медлительности, ни деревенской гнусавости.
-- Мы ждем вас, -- сказал он с чистым бруклинским выговором.
-- Капитан Ханрахан? -- спросил Игер, и замаскированный ньюйоркец
улыбнулся.
Он повел Годдарда и Игера от шоссе в лес. Через некоторое время им
пришлось спешиться и привязать лошадей. Солдат в оливковой форме, возникший
словно ниоткуда, остался присмотреть за животными. Сэм беспокоился о
состоянии Годдарда. Ходьба по лесу была серьезным испытанием его
выносливости.
Минут через пятнадцать они вышли на поляну. Ханрахан помахал в сторону
чего-то замаскированного под деревьями на дальней стороне поляны.
-- Прибыл доктор Годдард, -- закричал он.
Уважение, которое слышалось в его голосе, прозвучало почти как "прибыл
Господь". Через мгновение Сэм услышал звук, который с этого момента он
перестал считать чем-то само собой разумеющимся: звук запуска мощного
дизельного двигателя.
Тот, кто был внутри кабины, прогревал его минуту или две, затем вывел
на середину поляны _нечто_. События начали развиваться очень быстро.
Откуда-то выскочили солдаты, стащили со странного сооружения брезент,
заваленный ветвями, и обнажили заднюю часть грузовика.
Капитан Ханрахан кивнул Годдарду, затем показал на ракету,
обнаружившуюся после удаления брезента.
-- Вот ваш малютка, сэр, -- сказал он.
Годдард улыбнулся и покачал головой.
-- Малыш был усыновлен американской армией. Я лишь пришел с визитом,
чтобы убедиться, что вы, мальчики, знаете, как заботиться о нем. Я ведь
дальше не могу этого делать.
Плавный бесшумный гидравлический подъемник начал поднимать ракету,
перемещая ее из горизонтального в вертикальное положение. Она двигалась
гораздо медленнее, чем хотелось бы Сэму. Каждая секунда, пока они находились
на открытом пространстве, означала еще один шанс для ящеров обнаружить их с
воздуха или с одной из этих набитых приборами искусственных лун, которые они
поместили на орбите вокруг Земли. Пару запусков назад истребитель обстрелял
лес, заставив их порядком поволноваться: только по глупой случайности ракеты
не повредили большую часть этого собранного по крохам оборудования.
Как только ракета встала вертикально, подъехали два небольших
грузовика-заправщика.
-- Погасите окурки, -- закричал сержант в комбинезоне, хотя никто не
курил.
Двое солдат втащили шланги по лестницам, составлявшим часть рамы
пусковой установки. Заработали насосы. В один из баков пошел жидкий
кислород, в другой -- чистый спирт.
-- С древесным спиртом мы получили бы чуть большую дальность, но со
старым добрым этанолом легче обращаться, -- сказал Годдард.
-- Да, сэр, -- сказал Ханрахан, снова кивая. -- Поэтому вся команда
получит выпивку, когда мы все сделаем. Ей-богу, мы заслужили это. А ящеры у
Гринвилла получат подарочек.
"Девяносто миль, -- подумал Игер. -- Может, чуть больше".
Как только она взлетит -- если только не сотворит какой-нибудь глупости
вроде взрыва на пусковой установке, -- то пересечет Миссисипи и весь штат за
пару минут. Он покачал головой. Если это не научная фантастика, то что же
это?
-- Заправлено! -- пропел водитель грузовика с пусковой установкой --
перед ним были приборы, которые позволяли ему видеть, что происходит с
ракетой.
Солдаты отсоединили шланги, спустились и исчезли. Заправщики уехали
обратно в глубь леса.
Пусковая установка у основания имела поворотный стол. Гироскоп азимута
установили на запланированный курс -- на восток, к Гринвиллу. Водитель
высунул из окна кулак, подняв большой палец кверху: ракета была готова к
полету.
Годдард повернулся к капитану Ханрахану.
-- Вот -- вы видите? Я вам здесь не нужен. Я мог бы оставаться в
Хот-Спрингсе, играя в блошки с сержантом Игером.
-- Да, когда все идет хорошо, получается здорово, -- согласился
Ханрахан. -- Но если что-то не заладится, полезно иметь парня, который до
тонкостей обдумал всю штуку, понимаете, что я имею в виду?
-- Раньше или позже, но вы будете все это делать без меня, -- сказал
Годдард, рассеянно почесывая горло сбоку. Сэм посмотрел на него, подумав,
что же он имел в виду. Возможно, _оба смысла_ -- он знал, что он больной
человек. Ханрахан понял высказывание буквально.
-- Как скажете, доктор. Теперь вот что я скажу -- нам надо убраться
отсюда?
Но вначале Ханрахан подключил провод. Таща его за собой, он вприпрыжку
побежал под покров леса, где его ждала остальная часть команды. Годдард шел
медленными, но уверенными шагами. Сэм держался рядом с ним. Когда они
покинули поляну, Ханрахан вручил Годдарду пульт управления.
-- Вот, сэр. Вы хотите оказать нам честь?
-- Благодарю, я это уже делал прежде. -- Годдард передач пульт Сэму. --
Сержант, может быть, теперь ваша очередь?
-- Я? -- проговорил Сэм удивленно.
Почему бы и нет? Не требуется знать атомную физику, чтобы понять, как
работает пульт. На нем была одна большая красная кнопка, в самом центре.
-- Благодарю вас, доктор Годдард. -- И он сильно надавил на кнопку.
Из-под основания ракеты вырвалось пламя, вначале голубое, затем желтое,
как солнце. Рев двигателя ударил в уши Игеру. Казалось, что ракета
неподвижно зависла над пусковой установкой. Сэм нервно подумал, достаточно
ли далеко они стоят -- когда взрывается одна из этих малюток, то зрелище
получается внушительным. Но она не взорвалась. Наконец она перестала висеть,
а взлетела как стрела, как пуля, как нечто ни с чем не сравнимое. Рев
постепенно затих.
Защитный экран в основании пусковой установки уберег траву от пламени.
Водитель побежал к кабине грузовика. Пусковая установка снова приняла
горизонтальное положение.
-- Теперь надо убираться отсюда, -- сказал Ханрахан. -- Идемте, я
отведу вас к лошадям.
Он пошел быстрым шагом. Игера не требовалось подгонять. И Годдарда
тоже, хотя он тяжело дышал, когда они добрались до солдата, охранявшего
животных. Игер едва успел поставить ногу в стремя, как над головой загудело
звено вертолетов и принялось обстреливать поляну, с которой была запущена
ракета, и окружающий лес снарядами и небольшими ракетами.
Ни один снаряд не лег рядом с ними. Сэм улыбнулся Годдарду и капитану
Ханрахану, когда вертолеты улетели на восток -- в сторону Миссисипи.
-- Они нас не любят, -- сказал он.
-- Эй, не ругайте меня, -- сказал Ханрахан. -- Это ведь вы пустили эту
ракету.
-- Да, -- сказал Игер почти мечтательно. -- И как оно?
* * *
-- Это невыносимо, -- заявил Атвар. -- Одно дело, когда по нам бьют
ракетами дойч-тосевиты. Но теперь и другие Большие Уроды овладели этим
искусством, что ставит нас перед серьезными трудностями.
-- Истинно так, благородный адмирал, -- сказал Кирел. -- Эта ракета
взорвалась совсем близко от корабля "Семнадцатый Император Сатла" и
наверняка уничтожила бы его, если была бы лучше нацелена. -- Он сделал
паузу, затем постарался увидеть в случившемся и светлую сторону: -- Подобно
немецким ракетам, она очень неточна -- это оружие скорее для ударов по
площади, чем для точечного попадания.
-- Если они будут запускать их в большом количестве, то это уже не
имеет значения, -- взорвался Атвар. -- Немцы взорвали звездный корабль, хотя
я не верю, что их разведка поняла это: иначе они усилили бы удары. Но таких
потерь мы никак не можем себе позволить.
-- Так же, как не можем надеяться полностью предотвратить их, -- сказал
Кирел. -- Мы израсходовали последние наши противоракетные средства, а
системы ближнего боя имеют лишь ограниченные возможности по сбиванию цели.
-- Я слишком болезненно воспринимаю эти факты. -- На поверхности
Тосев-3 Атвар чувствовал себя некомфортно, небезопасно. Его глаза нервно
поворачивались то туда, то сюда. -- Я знаю, что мы находимся на большом
расстоянии от ближайшего моря, но что будет, если Большие Уроды установят
свои ракеты на корабли, которые они используют с такой назойливостью? Мы не
в состоянии потопить их все. Корабль, вооруженный ракетами, может уже
приближаться к Египту, в то время как мы ведем этот разговор.
-- Благородный адмирал, это действительно возможно, но мне кажется
маловероятным, -- сказал Кирел. -- У нас достаточно забот для обсуждения,
чтобы придумывать новые.
-- Тосевиты используют ракеты. Тосевиты используют корабли. Тосевиты
возмутительно изобретательны. Это не кажется мне придуманной заботой, --
сказал Атвар, добавив усиливающее покашливание. -- Весь этот
североафриканский регион имеет более здоровый для нас климат, чем любой
другой на этой планете. Если бы весь Тосев-3 был таким, он был бы гораздо
более приятным миром. Я не хочу, чтобы наши будущие поселения здесь были в
опасности от ударов Больших Уродов с моря.
-- И никакой другой самец, благородный адмирал. -- Кирел не принял
подразумеваемой критики Атвара. -- Одним из способов усилить наш контроль
над территорией был бы захват местности к северо-востоку от нас, известной
под названием Палестины. Я сожалею, что Золрааг не добился лояльности
местных мятежных самцов: если бы они выступили против англичан, уменьшились
бы потребности в наших собственных ресурсах.
-- Истинно, -- сказал Атвар, -- но лишь отчасти. Тосевитские союзники
легко становятся и тосевитскими врагами. Посмотрите на мексиканцев;
посмотрите на итальянцев; посмотрите на евреев и поляков. Неужели все эти
Большие Уроды -- евреи?
-- Они евреи, благородный адмирал, -- ответил Кирел. -- Как эти евреи
появляются в таких далеких друг от друга местах -- это выше моего понимания,
но это так.
-- Это в самом деле так, и, где бы они ни появлялись, они везде создают
неприятности, -- сказал Атвар. -- Поскольку евреи в Польше оказались
ненадежными, я не питаю больших надежд, что и в Палестине мы сможем на них
положиться. Например, они не вернут Мойше Русецкого Золраагу, что заставляет
меня сомневаться в их добропорядочности. Однако во многом они стараются
приписать свой провал групповой солидарности.
-- Тем не менее мы можем использовать их, хотя и не можем им доверять,
-- высказал Кирел сентенцию, которую Раса использовала в отношении многих
видов Больших Уродов после нашествия на Тосев-3. Командир корабля вздохнул.
-- Жаль, что евреи обнаружили поисковое устройство, которое Золрааг спрятал
в комнате, где проходила встреча, иначе мы могли бы отыскать здание, в
котором оно было установлено, и отобрать у них Русецкого.
-- Действительно жаль, учитывая, что устройство было настолько
миниатюрным, что их грубая технология не может даже приблизиться к тому,
чтобы повторить его, -- согласился Атвар. -- Они должны быть такими же
подозрительными по отношению к нам, как мы к ним. -- Его рот открылся в
кривой ухмылке. -- И еще у них плохое чувство юмора.
-- Истинно так, благородный адмирал, -- сказал Кирел. -- То, что
обнаруженное ими устройство привело непосредственно к крупнейшей британской
базе в Палестине, было разочарованием.
После прихода на Тосев-3 самцы Расы говорили это же самое и о множестве
других вещей.
* * *
Когда Мордехай Анелевич покидал Лодзь -- как некогда Варшаву, -- он
вспомнил, что евреи, прежде многочисленные, оставались в меньшинстве. Многие
из них теперь были вооружены и могли создать свою милицию, которая
располагала более мощным вооружением, но они были немногочисленны.
Поэтому перспектива сотрудничества с поляками -- особенно в сельской
местности -- заставляла его нервничать. Большинство поляков либо
бездействовали, либо аплодировали, когда нацисты загоняли евреев в гетто
больших городов или уничтожали их в поселках и деревнях. Большинство поляков
ненавидели ящеров не за то, что они изгнали немцев, а за то, что вооружили
евреев, которые помогали им.
И теперь, когда в Лодзь пришло сообщение о том, что польскому
крестьянину срочно требуется поговорить с ним, Мордехай боялся, не идет ли
он прямо в ловушку. Затем он задумался: кто бы мог подготовить ее -- если
она вообще существовала. Его скальп могли захотеть получить поляки. А также
ящеры. А также и немцы -- если они хотели лишить евреев боевого лидера. И
евреи, которые больше боялись нацистов, чем ящеров, могли пожелать отомстить
тому, кто отправил Давида Нуссбойма к русским.
Когда пришло предложение встретиться, Берта Флейшман разложила по
косточкам все эти возможности.
-- Не ходи, -- убеждала она. -- Подумай, какими большими неприятностями
это нам может грозить и как немного может быть хорошего.
Он рассмеялся. Легко было смеяться, находясь внутри бывшего еврейского
гетто в Лодзи, среди своего народа.
-- Мы не вырвались бы из-под власти нацистов, если бы боялись
рисковать, -- сказал он.
Он переубедил ее, и вот теперь он находился здесь, где-то севернее
Лодзи, неподалеку от места, где ящеры пропустили немцев.
И глубоко раскаивается, что пошел. Здесь, где на полях работали
исключительно поляки, каждый бросал на чужака подозрительный взгляд. Сам он
не выглядел типичным евреем, но в предыдущих путешествиях он убедился, что
сойти среди них за поляка не сможет.
-- Четвертая грунтовая дорога на север от этого жалкого городишка,
повернуть на запад, пятая ферма по левой стороне. Спросить Тадеуша, --
сказал он сам себе
Он надеялся, что правильно посчитал дороги. Вот эта узкая тропинка
считается дорогой или нет? Непонятно. Его лошадь иноходью направилась к
пятому крестьянскому дому по левой стороне.
Крупный здоровенный светловолосый мужик в комбинезоне накладывал вилами
свекольную ботву в кормушку для коров. Он и бровью не повел, когда подъехал
Мордехай с немецкой винтовкой за спиной. Винтовка "маузер", такая же как у
Анелевича, лежала возле коровника. Парень в комбинезоне при необходимости
мог бы тут же взять ее в руки. Он воткнул вилы в землю и оперся на них.
-- Вам что-нибудь надо? -- спросил он низким голосом, настороженным, но
вежливым.
-- Я ищу Тадеуша, -- ответил Анелевич. -- Я должен передать ему привет
от Любомира.
-- К черту приветы! -- сказал поляк, скорее всего Тадеуш, с громким
раскатистым смехом. -- Где те пять сотен злотых, что он мне должен?
Анелевич соскочил с коня: это был пароль. Он потянулся. В спине что-то
хрустнуло. Он потер поясницу со словами:
-- Побаливает.
-- Я не удивляюсь. Вы ехали, как увалень, -- беззлобно сказал Тадеуш.
-- Послушайте, еврей, у вас, должно быть, множество тайных связей. Во всяком
случае я не слышал ни о каком другом обрезанном, которого мог искать
немецкий офицер.
-- Немецкий офицер? -- на мгновение вытаращил глаза Мордехай. Затем его
голова снова заработала. -- Танкист? Полковник?
Он не настолько доверял этому большому поляку, чтобы называть имена.
Голова Тадеуша закачалась вверх и вниз, при этом его густая золотистая
борода то открывала, то закрывала верхнюю латунную застежку комбинезона.
-- Именно такой, -- сказал он. -- Он сам хотел встретиться с вами, но
тогда он бы спалился.
-- Спалился... Попался ящерам? -- спросил Мордехай, по-прежнему
стараясь понять, о чем идет речь.
Теперь голова Тадеуша стала качаться из стороны в сторону.
-- Не думаю. О нем расспрашивал какой-то другой вонючий нацист. --
Поляк плюнул на землю. -- Черт с ними со всеми, так я скажу.
-- Послать их всех к черту легко, но мы должны иметь дело с некоторыми
из них, хотя -- видит бог -- я не желал бы этого, -- сказал Анелевич. С
севера и с востока донесся гул артиллерийской канонады. Мордехай показал в
ту сторону. -- Слышите? Это немцы, вероятно, бьют по железной дороге или по
лодзинскому шоссе. У ящеров трудности с доставкой военных грузов, они уже
черт знает сколько времени не могут вырваться с ними из города -- и к этому
приложили руку мы.
Тадеуш кивнул. Его поразительно яркие голубые глаза, затененные
бесформенной шапкой из почти бесцветной ткани, были весьма проницательными.
Мордехай подумал: был ли он крестьянином до войны? Нет, скорее кем-нибудь
вроде армейского майора. Во время германской оккупации польские офицеры
должны были проявлять недюжинную изобретательность, чтобы сделаться
невидимыми.
Его подозрения усилились, когда Тадеуш сказал:
-- Не только у ящеров будут трудности с доставкой военных грузов.
Начнут голодать и ваши люди.
-- Это так, -- заметил Мордехай. -- Приверженцы Румковского заметили
это -- он собирает все запасы, предвидя тяжелые времена. Ублюдок будет
лизать сапоги любому, кто стоит над ним, но он умеет чуять опасность, надо
отдать должное этому старому пачкуну.
Тадеуш без труда понял в польской речи пару слов на идиш.
-- Не худшая для человека способность, -- заметил он.
-- Да уж, -- неохотно ответил Анелевич. Он постарался повернуть
разговор к прежней теме. -- Как вы думаете, кто этот нацист? Если бы я знал
больше, то попробовал бы сообразить, почему этот офицер-танкист пытается
предупредить меня. Что вы знаете?
"Что вы согласитесь сказать мне?" Если Тадеуш был польским офицером и
аристократом, который так низко пал, то вполне возможно, что он в полной
мере чувствует презрение к евреям. С другой стороны, если он настоящий
крестьянин, он может быть даже более склонным к простой, но более явной
ненависти, струящейся в его жилах. И тем не менее, если это в самом деле так
и было, прежде всего он не передал бы послание Ягера. Мордехай не мог
позволить своему укоренившемуся недоверию к полякам проявиться вновь.
Тадеуш почесал бороду, прежде чем ответить.
-- Имейте в виду, я узнал это через четвертые или даже пятые руки. Я
сам не знаю, насколько можно этому доверять.
-- Да, да, -- нетерпеливо ответил Анелевич. -- Просто расскажите мне,
что вы узнали, а я постараюсь связать все обрывки в единое целое. Этот немец
вряд ли мог приспособить полевой телефон, чтобы позвонить прямо в Лодзь, так
ведь?
-- Иногда случаются довольно странные вещи, -- сказал Тадеуш, и
Мордехай кивнул в ответ на это, вспомнив телефонные звонки из-за пределов
города. -- Ладно, вот все, что мне сказали. То, что должно произойти -- я не
знаю, что именно, -- произойдет в Лодзи и коснется это вас, евреев. Говорят,
там прислали одного необыкновенного эсэсовца с множеством зарубок на оружии,
чтобы выполнить эту работу.
-- Это самая безумная вещь, какую я когда-либо слышал, -- сказал
Мордехай. -- Мы сейчас не воюем с нацистами, хуже того -- мы помогаем им,
спаси нас бог. Ящеры оказались не в состоянии устроить контратаку из Лодзи,
и это не потому, что они не пытались.
Вначале ему показалось, что Тадеуш смотрит презрительно, и только потом
он понял, что во взгляде поляка сквозила жалость.
-- Я могу назвать две причины, почему нацисты делают то, что делают.
Во-первых, вы -- евреи, и во-вторых, вы еще раз евреи. Вы ведь знаете о
Треблинке? -- Не дожидаясь ответа Анелевича. он закончил: -- Их не беспокоит
то, что вы делаете, их беспокоит то, что вы существуете.
-- Что ж, я не стану спорить, -- ответил Анелевич. На поясе у него была
польская армейская фляжка. Он отцепил ее с пояса, отвинтил пробку и протянул
Тадеушу. -- Вот, смойте вкус этих слов с вашего языка.
Кадык поляка задвигался, он сделал несколько больших глотков. "Shikker
iz ein goy", -- пронеслось в голове Мордехая: иноверец -- это пьяница. Но
Тадеуш остановился до того, как фляжка опустела, и вернул ее хозяину.
-- Худшее яблочное бренди, которое я когда-либо пил. -- Он похлопал
себя по животу: звук получился таким, словно кто-то колотил по толстой
твердой доске. -- Впрочем, даже и худшее лучше, чем никакое.
Мордехай глотнул из фляжки. Самогон обжег пищевод и взорвался в
желудке, как снаряд.
-- Да, одним перегаром от него можно смывать краску, не так ли? Но пока
он действует, вы получаете то, что надо. -- Он почувствовал, как запылала
его кожа, сердце забилось чаще. -- Ну, и что же я должен делать, если этот
эсэсовец появится в городе? Пристрелить его на месте? Не самая плохая идея.
Тадеуш слегка окосел. Он принял порядочную дозу на пустой желудок и,
возможно, не сразу понял, насколько крепким было зелье. С людьми, которые
много пьют, иногда такое случается: привыкнув пить крепкие напитки, они не
сразу замечают действие очень крепких. Брови поляка сдвинулись вместе, когда
он попытался собраться с мыслями.
-- Так, что же еще говорил ваш нацистский приятель... -- вслух
задумался он.
-- Он мне не приятель, -- с негодованием сказал Анелевич.
Возможно, он был несправедлив. Если бы Ягер не считал, что между ними
что-то есть, он не стал бы посылать сообщение в Лодзь, даже в искаженном
виде. Анелевич должен с уважением отнестись к его поступку, что бы он ни
думал о мундире, который носит Ягер. Он сделал еще один осторожный глоток и
подождал, пока мозги Тадеуша снова придут в рабочее состояние. Через
некоторое время так и произошло.
-- Теперь я вспомнил, -- сказал поляк, просветлев лицом. -- Правда, я
не знаю, насколько этому можно верить. Как я уже сказал -- это прошло через
множество ртов, прежде чем дошло до меня. -- Он громко и отчетливо икнул. --
Только Бог, Святая Дева и все святые знают, каким путем оно добиралось.
-- Ну? -- сказал Мордехай, понукая Тадеуша двигаться вперед, не
отклоняясь в сторону.
-- Ладно, ладно. -- Поляк сделал отталкивающий жест. -- Если по дороге
ничего не переврали, я должен сказать следующее: когда вы встретитесь с ним
в следующий раз, не верьте ни единому слову, потому что он должен будет
солгать.
-- Он послал мне сообщение, что будет лгать? -- Анелевич почесал в
затылке. -- Что бы это означало?
-- Слава богу, это не моя проблема, -- ответил Тадеуш.
Мордехай посмотрел на него, повернулся, вскочил на лошадь и, не говоря
больше ни слова, поехал в сторону Лодзи.
Лесли Гровс не помнил, когда в последний раз он был так далеко от
Металлургической лаборатории. Поразмышляв, он сообразил, что не разлучен с
лабораторией с того дня, когда принял груз плутония, украденный вначале у
ящеров, а затем у немцев -- на корабле британских королевских военно-морских
сил "Морская нимфа". С тех пор он постоянно жил, дышал, ел и спал с атомным
оружием.
И вот теперь он находился здесь, далеко к востоку от Денвера, за многие
мили от забот о чистоте графита и поперечном сечении поглотителя нейтронов
(когда он изучал физику в колледже, никто даже и не слышал о нейтронах) и
еще о том, чтобы не выпустить радиоактивный пар в атмосферу. Если ящеры
засекут радиацию, второго шанса уже не будет -- и Соединенные Штаты почти
наверняка проиграют войну.
Но были и другие возможности проиграть войну -- и без атомных бомб
ящеров, которые могут свалиться ему на голову. Вот почему он находился
здесь.
-- Вроде отпуска, -- пробормотал он.
-- Мне неприятно говорить вам, но если вы хотите в отпуск, генерал, то
вы подписали контракт, неправильно поняв его, -- сказал генерал-лейтенант
Омар Брэдли.
Улыбка на длинном лошадином лице превращала упрек в шутку: он знал, что
Гровс в одиночку делает работу целого взвода.
-- Да, сэр, -- ответил Гровс. -- Знаете, то, что вы мне показали,
произвело на меня потрясающее впечатление. Надеюсь, оно покажется ящерам
таким же беспощадным, как это кажется нам.
-- Вам, мне и всем Соединенным Штатам, -- ответил Брэдли. -- Если ящеры
разгромят эти заводы и захватят Денвер, у нас у всех будет множество
неприятностей. Если они подойдут настолько, что смогут открыть по вашим
предприятиям артиллерийский огонь, мы огребем еще большие неприятности. Наша
работа состоит в том, чтобы не допустить этого, израсходовав как можно
меньше жизней. Жители Денвера повидали уже достаточно.
-- Да, сэр, -- снова сказал Гровс. -- Еще в сорок первом году я видел в
кинохронике, как женщины, дети и старики шагают из Москвы с лопатами на
плечах, чтобы рыть противотанковые рвы и окопы и задержать наступление
нацистов. Я никогда не думал, что такое может однажды случиться здесь, в
Штатах.
-- И я тоже. Никто так не думал, -- сказал Брэдли.
Он казался несговорчивым и изнуренным, это впечатление усиливалось
миссурийской гнусавой речью и тем, что вместо обычного офицерского личного
оружия он имел при себе винтовку М-1. Он был метким стрелком, еще с тех
времен, когда ходил на охоту с отцом, и никому не давал забыть об этом.
Доходили слухи, что он успешно использовал свою М-1 в первом
контрнаступлении против ящеров в конце 1942 года.
-- Мы сделали тогда больше, чем Красная Армия, -- сказал Брэдли. -- Мы
не просто месили грязь. Линия Мажино в подметки не годится нашей работе. Эта
глубокая защитная зона, примерно такая, как линия Гинденбурга в прошлой
войне. -- Он снова сделал паузу, на этот раз чтобы откашляться. -- Не то
чтобы я сам видел линию Гинденбурга, но, черт возьми, я тщательнейшим
образом изучил отчеты.
-- Да, сэр, -- сказал Гровс в третий раз. Он слышал, что Брэдли очень
переживает из-за того, что не был "там" во время Первой мировой войны. Он
поднялся на парапет и посмотрел вокруг. -- Несомненно, ящеры разобьют себе
морду, если попрут против этого.
Голос Брэдли прозвучал сурово.
-- Не "если", а гораздо хуже -- "когда". Мы не сможем остановить их
неподалеку от наших укреплений. Ламар потребовалось эвакуировать на
следующий день, вы знаете?
-- Да, я слышал об этом, -- сказал Гровс: холодок прошел по его спине.
-- Но, глядя на все это, я чувствую себя лучше, чем в момент получения
сообщения.
Было сделано все возможное по превращению прерии в настоящую защитную
территорию. Окопы и глубокие широкие противотанковые рвы охватывали Денвер к
востоку па целые мили. Широкие полосы колючей проволоки могли
воспрепятствовать пехоте ящеров, но не броне.
Огневые точки защищали бетонные колпаки. В некоторых из них находились
пулеметы, другие предназначались под "базуки".
Вместе с противотанковыми рвами высокие бетонные зубья и крепкие
стальные столбы предназначались для того, чтобы направить бронированные силы
ящеров в сторону позиций ракетчиков. Если бы танк попытался форсировать
препятствия, вместо того чтобы обойти их, он подставил бы более слабую броню
на днище противотанковым орудиям, ожидающим именно такого поворота событий.
Просторы прерий выглядели невинными, но в действительности были нашпигованы
минами; ящерам предстояло заплатить высокую цену за попытку пересечь их.
-- Выглядит грандиозно, ничего не скажешь, -- заметил Брэдли. -- Но я
беспокоюсь о трех вещах. Хватит ли у нас людей для этих укреплений, чтобы
они стали максимально эффективными? Достаточно ли у нас боеприпасов, чтобы
заставить ящеров завопить "караул!", когда они обрушатся на нас со всем, что
есть у них? И достаточно ли у нас продовольствия, чтобы содержать наши
войска в укреплениях день за днем, неделя за неделей? Единственный ответ,
который я могу дать на любой из этих вопросов, -- "надеюсь".
-- Принимая во внимание, что на любой ваш вопрос -- или на все сразу --
можно ответить "нет", все-таки это лучше, чем могло бы быть, -- сказал
Гровс.
-- Но все же не слишком хорошо. -- Брэдли поскреб подбородок, затем
повернулся к Гровсу. -- На ваших предприятиях приняты соответствующие
предосторожности?
-- Да, сэр, -- ответил Гровс. Он был уверен, что Брэдли и так все знал.
-- Как только начались бомбежки Денвера и окрестностей, мы ввели в действие
наш план дезинформации. Мы разжигали костры возле наиболее важных зданий и
под покровом дымовой завесы закрывали их брезентом, раскрашенным так, что с
воздуха они выглядят как руины. До настоящего времени мы не имели прямых
попаданий, так что, похоже, наш план себя оправдал.
-- Хорошо, -- сказал Брэдли. -- Он оправдался даже в большей степени.
Ваши предприятия -- вот то, ради чего мы будем биться до последнего
человека, защищая Денвер, и вы это знаете не хуже, чем я. О, мы будем
сражаться за него в любом случае -- видит бог, мы не хотим, чтобы ящеры
распространили свою власть на пространстве Великой равнины, -- но здесь, с
учетом Металлургической лаборатории, мы не имеем права потерпеть поражение.
-- Да, сэр, я понимаю это, -- сказал Гровс. -- Физики рассказали мне,
что в ближайшие две недели мы получим еще одну маленькую игрушку. Хотелось
бы отогнать ящеров от Денвера без нее, я думаю, но если дело дойдет до
выбора: использовать ее или потерять город, то...
-- Я надеялся, что вы мне сообщите что-то вроде этого, генерал, --
ответил Брэдли. -- Как вы сказали, мы сделаем все, чтобы удержать Денвер, не
обращаясь к ядерному оружию, потому что ящеры отыграются на мирном населении
Но если дело дойдет до выбора между потерей Денвера и возможностью его
сохранения, я знаю, что надо выбрать.
Самолеты ящеров визжали в воздухе. Зенитки били по ним. Время от
времени они подбивали истребитель-бомбардировщик, но слишком редко. На их
стороне была лишь слепая удача. Бомбы падали на американские укрепления:
взрывы терзали Гровсу уши.
-- Что бы они там ни разрушили, понадобится порядочно поработать
лопатами, чтобы восстановить все снова. -- Омар Брэдли выглядел несчастным.
-- Вряд ли это честно по отношению к бедным трудягам, которые проделали всю
эту тяжелую работу, а теперь видят, как плоды их трудов разлетаются дымом.
-- Разрушать легче, чем строить, сэр, -- ответил Гровс.
"Вот почему легче стать солдатом, чем инженером", -- подумал он. Вслух
он этого не сказал. Легкая грубость в разговоре с подчиненными может
временами подстегнуть их работать лучше. Если же вы рассердили своего
начальника, он может понизить вас в самый неподходящий момент.
Гровс поджал губы и мечтательно кивнул. В определенном смысле это тоже
было инженерным делом.
* * *
Людмила Горбунова держала руку на рукоятке автоматического пистолета
системы Токарева.
-- Вы используете меня неверно, -- сказала она командиру партизанского
отряда, упрямому худому поляку, который отзывался на имя Казимир.
Для верности она сказала это сначала по-русски, потом по-немецки и
затем на том, что, по ее мнению, было польским языком.
Он смотрел на нее злобно.
-- Конечно, нет, -- сказал он. -- Ты по-прежнему в одежде.
Она выхватила из кобуры пистолет.
-- Свинья! -- закричала она. -- Идиот! Вытащи мозги из штанов и
послушай! -- Она ударила рукой по лбу. -- Боже мой! Если бы ящеры догадались
провести вокруг Хрубешова голую проститутку, они заманили бы тебя и каждого
из твоих бабников в лес и там прикончили.
Вместо того чтобы ударить ее, он сказал:
-- Ты очень красива, когда сердишься.
Видимо, он позаимствовал эту фразу из плохо переведенного американского
фильма. Она едва не пристрелила его на месте. Вот что она получила, оказав
услугу "культурному" генералу фон Брокдорф-Алефельдту: банду партизан, у
которых не хватило ума очистить от деревьев посадочную полосу и которые не
имели ни малейшего представления, как использовать квалифицированного
специалиста.
-- Товарищ, -- сказала она, стараясь воспринимать все как можно проще,
-- я -- пилот. И у меня здесь нет исправного самолета. Если использовать
меня в качестве солдата, то я могу сделать меньше, чем в другом качестве. Вы
не знаете о каком-нибудь еще самолете, на котором я могла бы летать? Казимир
сунул руку под рубашку и почесал живот. Он был волосат, как обезьяна. "И не
намного умнее", -- подумала Людмила. Она не ожидала ответа и пожалела, что
не сдержалась, -- но не слишком сильно. Он все-таки ответил:
-- Я знаю отряд, который или имеет, или знает, или может добыть
какой-то немецкий самолет. Если мы доставим вас к ним, вы сможете на нем
летать?
-- Я не знаю, -- сказала она. -- Если он исправен, я, наверное, смогу
летать на нем. Непохоже, что вы много знаете. -- Через мгновение она
добавила: -- Об этом самолете, я имею в виду. Какого он типа? Где он? Он в
исправном состоянии?
-- Я не знаю, о чем вы говорите. Я не знаю, существует ли он вообще. А
вот где? Это я знаю. Довольно далеко отсюда, на северо-запад от Варшавы,
недалеко от места, где снова действуют нацисты. Если вы захотите отправиться
туда, это, наверное, можно организовать.
Она задумалась: существует этот самолет или же Казимир просто хочет
отделаться от нее? И старается загнать ее еще дальше от Родины. Он хотел,
чтобы она ушла, потому что была русской. В его отряде было несколько
русских, но они не показались ей идеальными образцами советских людей. С
другой стороны, если самолет действительно есть, она сможет сделать с ним
что-то полезное. Здесь она убила зря слишком много времени.
-- Хорошо, -- оживленно сказала она, -- ладно. Какие проводники и
пароли понадобятся мне, чтобы добраться до этого таинственного самолета?
-- Мне понадобится некоторое время для подготовки, -- сказал Казимир.
-- Ее можно ускорить, если вы...
Он замолк: Людмила подняла пистолет и прицелилась ему в голову. У него
хватило выдержки -- и голос его не дрогнул:
-- С другой стороны, может, и обойдется.
-- Хорошо, -- снова сказала Людмила и опустила пистолет.
Она не снимала его с предохранителя, но Казимир об этом не знал. Она
даже не особенно сердилась на него. Он мог не быть "культурным", но он
понимал слово "нет", когда смотрел в дуло пистолета. Некоторые мужчины --
тут же вспомнился Георг Шульц -- нуждаются в куда более серьезных намеках,
чем этот.
Возможно, пистолет, направленный в лицо, убедил Казимира, что и в самом
деле лучше быстро избавиться от Людмилы. Два дня спустя она в сопровождении
двух провожатых -- еврея по имени Аврам и поляка по имени Владислав --
направилась на северо-запад в старой телеге, которую тянул старый осел.
Людмила колебалась, не стоит ли ей избавиться от летного снаряжения, но,
посмотрев, во что одеты поляк и еврей, отказалась от этого намерения.
Владислав вполне мог сойти за красноармейца, хотя за спиной у него была
немецкая винтовка "маузер-98". А крючковатый нос Аврама и густая седеющая
борода казались совершенно неуместными под козырьком каски, похожей на
перевернутое ведро для угля, которое уже никогда не понадобится неизвестному
солдату вермахта.
Пока телега тряслась по холмистой местности к югу от Люблина, она
успела заметить, насколько обычной была такая смесь предметов одежды, не
только среди партизан, но и у обычных граждан -- если предположить, что
такие еще существовали в Польше. Каждый второй мужчина и примерно каждая
третья женщина имели при себе винтовку или автомат. С одним лишь пистолетом
Токарева у бедра Людмила чувствовала себя почти голой.
Она также смогла получше присмотреться к ящерам: то проезжала мимо
колонна грузовиков, поднимая тучи пыли, то танки калечили дорогу, делая ее
еще хуже. Случись такое в Советском Союзе, пулеметы этих танков уже давно бы
разделались с телегой и тремя вооруженными людьми в ней, но эти проезжали
мимо, пугающе тихие, даже не притормаживая.
На довольно приличном русском языке -- Аврам и Владислав оба говорили
на нем -- еврей сказал:
-- Они не знают, с ними мы или против них. Вдобавок они научились, что
не надо разбираться в этом. Каждый раз, когда они ошибались и стреляли в
людей, которые были их друзьями, они превращали множество своих сторонников
во врагов.
-- Почему в Польше так много добровольных изменников человечества? --
спросила Людмила. Эта фраза из передач московского радио сорвалась с ее губ
автоматически, и только потом она подумала, что ей следует быть более
тактичной.
К счастью, ни Владислав, ни Аврам не рассердились. Напротив, они начали
смеяться и принялись отвечать в один голос. Картинным жестом Аврам
предоставил слово Владиславу. Поляк пояснил:
-- После того как поживешь некоторое время под нацистами и некоторое
время под красными, то ни нацисты, ни красные большинству народа не кажутся
хорошими.
Теперь они совсем распоясались и оскорбили ее лично или по крайней мере
ее правительство. Она сказала:
-- Но я помню, что говорил товарищ Сталин в своем выступлении по радио.
Единственная причина, по которой Советский Союз занял восточную половину
Польши, состояла в том, что польское государство было внутренним банкротом,
правительство разбежалось, украинцы и белорусы в Польше -- братья советского
народа -- были оставлены на произвол судьбы. Советский Союз избавил польский
народ от войны и дал ему возможность вести мирную жизнь, пока фашистская
агрессия не наложила свою длань на всех нас.
-- Именно так и говорилось по радио, в самом деле? -- изумился Аврам.
Людмила выпятила вперед подбородок и упрямо кивнула. Она
сосредоточилась и приготовилась к изощренным, беспощадным идеологическим
дебатам, но Аврам и Владислав не были склонны спорить. Вместо этого они
засмеялись душераздирающим смехом, как пара свихнувшихся волков, подвывающих
на луну. Они колотили кулаками по бедрам и кончили тем, что обняли друг
друга. Осел, которому надоело их поведение, хлопал ушами.
-- Что я сказала такого забавного? -- ледяным тоном осведомилась
Людмила.
Аврам не ответил напрямую. Он задал встречный вопрос:
-- Могу я научить вас Талмуду за несколько минут?
Она не знала, что такое Талмуд, и на всякий случай покачала головой.
-- Правильно. Чтобы выучить Талмуд, вы должны научиться смотреть на мир
по-новому и думать тоже по-новому -- по новой идеологии, если хотите. -- Он
снова сделал паузу. На этот раз она кивнула. Он продолжил: -- У вас уже есть
идеология, но вы настолько свыклись с ней, что даже не замечаете. Вот это-то
и забавно.
-- Но моя идеология -- научна и правильна, -- сказала Людмила.
Почему-то после этого у еврея и поляка начался очередной приступ смеха.
Людмила махнула рукой. С некоторыми людьми просто невозможно вести
интеллектуальную дискуссию.
Местность понижалась в сторону долины Вислы. Высокий песчаный берег,
прорезанный множеством оврагов, зарос ивами, ветви которых свисали до воды.
-- Весной сюда приходят влюбленные, -- заметил Владислав.
Людмила подозрительно глянула на него, но он умолк, так что, вероятно,
это не следовало понимать как предложение.
Некоторые здания вокруг рыночной площади были большими и, вероятно,
довольно интересными, когда были целыми, но месяцы боев оставили от
большинства из них обугленные руины. Синагога выглядела ненамного лучше
других развалин, но в нее входили и выходили евреи. Другие евреи --
вооруженная охрана -- стояли снаружи.
Людмила заметила, что Аврам взглянул на Владислава, ожидая реакции. Тот
промолчал. Людмила не могла понять, порадовало это еврейского партизана или
рассердило. Польская политика была слишком сложной для нее, чтобы попять.
Паром, перевозивший телегу через Вислу, выпустил целое облако угольного
дыма. Местность здесь была такой ровной, что напомнила Людмиле бесконечные
равнины вокруг Киева. Домики с соломенными крышами, с подсолнухами и
мальвами вокруг вполне могли стоять и у нее на родине.
В этот вечер они остановились на ночлег в крестьянском доме у пруда.
Людмила не удивилась тому, что они выбрали именно этот дом. Во-первых, он
расположился у воды, во-вторых, он был окружен старыми заросшими воронками
от бомб -- немцы, видимо, использовали его для учебного бомбометания, --
причем некоторые воронки, наиболее глубокие, постепенно наполнялись
грунтовыми водами, превращаясь в пруды.
Никто не спросил их имен и не назвал себя. Людмила поняла: то, чего не
знаешь, не сможешь и рассказать. Супружеская пара средних лет, которой
принадлежало хозяйство, с целой кучей детей напомнила ей "кулаков",
зажиточных крестьян, которые в Советском Союзе сопротивлялись присоединению
к славному равноправному колхозному движению и не желали расстаться со своей
собственностью, а поэтому исчезли с лица земли, когда она была еще ребенком.
Польша такого уравнивания еще не видела. Хозяйка дома, полная приятная
женщина с ярким платком на голове, похожая на русскую бабушку, сварила
большой горшок борща: свекольный суп со сметаной, который -- исключая
добавку тмина -- вполне мог принадлежать русской кухне Еще она подала на
стол тушеную капусту, картошку и пряную домашнюю колбасу, которую Людмила
нашла восхитительной, но к которой Аврам даже не прикоснулся.
-- Еврей, -- сказала женщина мужу, когда Аврам не слышал.
Они помогали партизанам, но это не означало, что они любили их всех
подряд.
После ужина Аврам и Владислав отправились спать в коровник. Людмиле
достался диван в горнице, честь, которую она без сожаления отклонила бы,
потому что диван был короткий, узкий и жесткий. Она металась, крутилась и в
течение этой мучительной ночи пару раз едва не свалилась на пол.
На следующий день, до заката, они пересекли реку Пилица, приток Вислы,
по восстановленному деревянному мосту и прибыли в город Варка. Владислав с
энтузиазмом восклицал:
-- Здесь делают самое лучшее пиво в Польше!
Неудивительно, что воздух был пропитан ореховым ароматом солода и
хмеля.
-- В Варке родился Пулаский [Казимеж Пулаский -- один из соратников
Тадеуша Костюшко и Августа Беньовского, активный деятель Польской
конфедерации, участник американской революции и войны за независимость.
Генерал, национальный герой США. -- Прим. ред.].
-- А кто это такой -- Пулаский? -- спросила Людмила.
Владислав испустил долгий покорный выдох.
-- Вас немногому учат в большевистской школе, так ведь? -- Увидев, как
она взъерошилась, он рассказал: -- Это был польский дворянин, который
пытался не дать пруссакам, австрийцам и вам, русским, нарезать нашу страну
на куски. Не смог. -- Он снова вздохнул. -- В таких делах мы всегда терпим
неудачу. Потом он отправился в Америку и помогал там Соединенным Штатам
бороться с Англией. Там его, беднягу, и убили. Он был совсем молодым
человеком.
У Людмилы сложилось мнение об этом Пуласком как о реакционном
приверженце коррумпированного польского феодального режима. Но помощь
революционному движению в Соединенных Штатах была, несомненно, прогрессивным
действием. Это удивительное сочетание лишило ее ниши, в которую можно было
бы поместить Пулаского, и вызвало какое-то неопределенное ощущение. Такое
случилось уже во второй раз с тех пор, как она покинула СССР. И оба раза ее
взгляды на мир оказывались не вполне адекватными.
"Несомненно, взгляд на мир по Талмуду должен быть еще хуже", --
подумала она.
Она заметила, что уже некоторое время подсознательно прислушивается:
тихий далекий гул с севера и запада.
-- Это не может быть гром! -- воскликнула она.
День был прекрасный, яркий и солнечный, лишь несколько пушистых белых
облачков медленно плыли с запада на восток.
-- Гром особого рода, -- ответил Аврам, -- особого рода. Это артиллерия
ящеров бьет по нацистам, а может быть, немецкая артиллерия бьет по ящерам.
Там, куда мы едем, легче уже не будет.
-- Я поняла одно, -- сказала Людмила, -- куда бы вы ни шли, легче не
будет нигде.
Аврам дернул себя за бороду.
-- Если вы это знаете, то, видимо, в конце концов, большевистские школы
не так уж и плохи.
* * *
-- Итак, послушайте, люди, что мы собираемся делать, -- произнес Ране
Ауэрбах в холодном мраке ночи, стоявшей над Колорадо. -- Сейчас мы находимся
где-то между Карвалем и Панкин-Центром.
Пара кавалеристов возле него тихо хмыкнула. Он сделал то же самое.
-- Да, вот такие названия давали в этой местности. До захода солнца
разведчики обнаружили посты ящеров к северу и западу от Карваля. Теперь мы
хотим заставить их думать, что нас гораздо больше, чем на самом деле. Если
мы сделаем это, мы замедлим их наступление на Денвер в этом направлении.
-- Да, но, капитан Ауэрбах, ведь между ними и Панкин-Центром, кроме
нас, никого нет, -- сказала Рэйчел Хайнс. В темноте она видела только
силуэты своих товарищей. -- И нас ведь осталось совсем немного.
-- Это знаете вы, и это знаю я, -- сказал Ауэрбах. -- И пока об этом не
знают ящеры, все прекрасно.
Его отряд -- или то, что от него осталось, плюс разный сброд и ошметки
других уничтоженных подразделений, присоединившиеся к нему, -- ответил тихим
смехом. Он добился своего: поднял моральный дух. В действительности ничего
забавного не было. Ящеры, рассчитывая на своего рода блицкриг, достигли куда
большего, чем нацисты. В самом начале наступления они размазали Ламар с
воздуха, затем продрались, черт подери, почти через половину Колорадо,
сметая на своем пути любые помехи. И будь оно все проклято, если Ауэрбах
знал, как остановить их, прежде чем они ударят по укреплениям перед
Денвером. Но он получил приказ попытаться и должен его выполнить.
Очень возможно, что в этой попытке он и погибнет. Что ж, это часть его
работы.
Лейтенант Билл Магрудер сказал:
-- Помните, мальчики и девочки, у ящеров есть штуки, которые позволяют
им видеть в темноте, как кошкам, -- когда они пожелают. Прячьтесь в
укрытиях, одна группа стреляет, чтобы они могли определить ее позицию, а
другая группа старается напасть на них с другого направления. Они не ведут
честную игру. Они и близко не знакомы с честной игрой. Если мы собираемся
побить их, мы тоже должны играть в грязные игры.
Кавалерия вообще не собиралась их бить. Любой из его кавалеристов, кто
не понимал этого, был глупцом. Правда, при неожиданных налетах и немедленных
отступлениях они порой могли добиться чего-то путного.
-- По коням, -- сказал Ауэрбах и направился к своей лошади.
Отряд выдавал свое присутствие лишь темными силуэтами, бряканьем
упряжи, случайным кашлем человека или фырканьем животного. Эту территорию он
не слишком хорошо знал и беспокоился о том, чтобы не наткнуться на пикеты
ящеров до того, как он выяснит, где они расположены. Если такое произойдет,
весь его отряд будет перемолот, без малейшей пользы делу и ущерба для
ящеров.
Но двое людей, которые ехали вместе с ними, были местными фермерами. На
них не было военной формы. Будь они в мундирах, плен означал бы верный
расстрел -- попади они в руки людей-врагов. Для ящеров такие тонкости
значения не имели. Эти фермеры, одетые в полукомбинезоны, знали местность
так же хорошо, как тела жен.
Один из них, Энди Осборн, скомандовал:
-- Здесь мы разделимся.
Ауэрбах принял на веру, что тот знает, где находится это "здесь". Часть
отряда поехала дальше под командованием Магрудера. Ауэрбах и Осборн повели
остальных к Карвалю. Через некоторое время Осборн сказал:
-- Если мы сейчас не спешимся, они нас обнаружат.
-- Коноводы! -- вызвал Ауэрбах.
Он набирал их по жребию перед каждым рейдом. Никто не выказывал желания
заняться этим делом, из-за которого нельзя участвовать в бою, в то время как
ваши товарищи бьются с ящерами. Но это обеспечивало безопасность -- во
всяком случае, некоторую безопасность -- всему отряду. Подбирать коноводов
по жребию казалось единственно честным решением.
-- Здесь есть пара небольших овражков, -- сказал Осборн, -- и, если нам
повезет, мы можем проскочить в тыл к ящерам, так что они даже не узнают, что
мы там, пока не откроемся сами. Мы с этим справимся, мы можем, черт возьми,
нанести по Карвалю ощутимый удар.
-- Да, -- сказал кто-то из темноты нетерпеливым шепотом.
У них были миномет и пара "базук" с достаточным количеством маленьких
ракет. Пытаться подбить танк ящеров в темноте было заранее проигрышным
делом, но они обнаружили, что "базуки" чертовски здорово крушат здания,
поскольку те не были бронированы и не могли перемещаться по местности.
Теперь главное -- подобраться поближе к бивуаку ящеров.
Минометчики отправились вперед одни -- лишь с парой солдат с автоматами
"томпсон" для огневого прикрытия. Им не надо было подходить к Карвалю так же
близко, как пулеметчикам и стрелкам из "базуки".
Ауэрбах хлопнул Осборна по плечу, дав сигнал вести их вниз к оврагу,
который был ближе всего к маленькому городку. Он и остальные бойцы двигались
вперед, низко пригнувшись.
Где-то к северу послышались выстрелы из стрелкового оружия. Они
прозвучали, как хлопушки в день Четвертого июля, а осветительные ракеты,
залившие огнем ночное небо, вполне могли сойти за фейерверк. Но фейерверки
обычно сопровождаются приветственными криками, а не приглушенной бранью
солдат.
-- Слишком рано их обнаружили, -- произнес кто-то.
-- Теперь они будут искать нас особенно тщательно, -- добавила Рэйчел
Хайнс с печальной уверенностью.
Как бы подтверждая ее слова, с низкого холма, на котором находились
пикеты ящеров, в небо взлетела осветительная ракета.
-- Хороший знак, -- сказал Ауэрбах. -- Значит, они не могут выследить
нас своими хитрыми штуками, поэтому и пробуют старый проверенный способ.
Он надеялся, что не ошибся.
Солдаты торопливо пробирались по дну оврага вслед за Осборном. Ракета
стала падать, гаснуть и исчезла вовсе. На севере ударил миномет. Эта
половина отряда еще не приблизилась к Карвалю, как планировалось, но -- что
делать -- отряд прошел столько, сколько смог. Бум! Бум! Если мины не
попадали на территорию этого небольшого города, то все равно промах был
незначительным.
Затем Ауэрбах услышал шум моторов машин. Звук смещался по периметру
Карваля. Во рту сразу пересохло. Не всегда получалось застать спящих ящеров
врасплох.
-- Здесь овраг кончается, -- объявил Энди Осборн.
Теперь Ауэрбах жалел, что не овладел Пенни Саммерс. Вряд ли у него
снова будет такая возможность. Он хотел вспомнить какой-нибудь счастливый
момент в жизни, чтобы отогнать страх, но вспомнить-то ему было нечего. Он
даже не знал, что случилось с Пенни. Последний раз он видел ее, когда она
помогала раненому, -- за день до того, как бронированная колонна ящеров
смела Ламар с лица земли. Они вывозили пострадавших -- ничего лучшего не
смогли придумать -- на крытых санитарных повозках, запряженных лошадьми: их
предки времен Гражданской войны были бы им признательны за такое испытание.
Предполагалось, что Пенни ушла вместе с ними. Он надеялся, что это ей
удалось, но наверняка не знал.
-- Итак, мальчики, -- сказал он громко. -- Минометчики ушли влево,
пулеметчики правее и вперед. "Базуки" -- прямо вперед. Удачи всем.
Сам он пошел вперед с двумя командами стрелков из "базуки". Им
понадобится вся огневая поддержка, которая только возможна, а винтовка М-1
за его спиной имела дальность больше, чем автомат "томпсон".
Позади них пикеты ящеров открыли стрельбу. Солдаты, которые прикрывали
минометчиков, вступили в перестрелку с ящерами. Затем застрочил еще один
пулемет ящеров, чуть ли не в лицо Ауэрбаху. Он не замечал вражеского
бронетранспортера, пока едва не попал под колеса: двигатели у ящеров были
почти бесшумными в отличие от построенных людьми. Ране распластался в грязи,
вокруг поднимались фонтанчики пыли и камешков.
Но пулемет выдал местоположение машины, на которой был установлен. В
нее выстрелила "базука". Ракета вылетела из трубы с львиным ревом. За
мчавшейся к бронированной машине ракетой тянулся хвост желтого пламени.
-- Немедленно убирайтесь к черту! -- закричал Ауэрбах этой состоящей из
двух человек команде.
Если они промахнулись, то враг уже обнаружил их по трассе полета
ракеты.
Они не промахнулись. Фронтальная броня танка ящеров и не дрогнула бы
под взрывчатой головкой снаряда "базуки", но бронетранспортер -- другое
дело. Из подбитой машины вырвалось пламя. Солдаты открыли огонь из
стрелкового оружия по ящерам, едва те показались в аварийных люках. Через
мгновение в ночную какофонию влился дробный стук пулемета.
-- Продолжать движение! Вперед! -- закричал Ауэрбах. -- В Карваль!
Минометчики позади него начали обстрел городка. Ране увидел, что одна
из мин вызвала пожар, осветивший местность. Что ж, пламя поможет уравнять
шансы.
Он задумал желание -- точь-в-точь как на Рождество. Дощатые дома
Карваля один за другим охватывало желтое пламя. По тому, как они горели,
было ясно, что пожар разгорелся надолго. Пламя перекидывалось с одного
здания на другое вдоль миниатюрной главной улицы. В зловещем маслянистом
свете метались силуэты ящеров, казавшиеся демонами в аду.
С расстояния более мили от города по целям, освещенным пожаром, начал
бить крупнокалиберный пулемет. Нельзя рассчитывать попасть с такого
расстояния одной пулей в одну цель, но если вы посылаете множество пуль во
множество целей -- некоторые попадания гарантированы. Когда же бронебойная
пуля крупного калибра попадает в цель из плоти и крови, эта цель (приятное и
безобидное слово для существа, которое думает и страдает, как и вы) падает и
остается лежать.
Ауэрбах заулюлюкал, как краснокожий индеец, увидев следующий
бронетранспортер ящеров. Теперь обе "базуки" начали беспорядочно бить
ракетами по Карвалю. Возникли новые пожары.
-- Операция закончена! -- закричал он, хотя его никто не мог услышать
-- даже он сам себя. Ящеры должны были подумать, что на них напала бригада
броневиков, а не потрепанный кавалерийский отряд.
Треск стрельбы скрывал шум приближающихся вертолетов, пока не стало
слишком поздно. Ауэрбах узнал о них, когда они начали бить ракетами по
"базукам". Картина снова напомнила Четвертое июля, только на этот раз
фейерверки двигались неправильно -- с воздуха на землю. Терзаемая земля
извергалась миниатюрными вулканами.
Взрыв поднял Ауэрбаха, затем швырнул вниз. Что-то мокрое потекло ему в
рот -- кровь, определил он по вкусу. Из носа. Интересно, не течет ли кровь
из ушей? Будь он поближе к месту взрыва -- или если бы он в этот момент
вдыхал воздух, а не выдыхал, -- то его легкие могли бы разорваться на куски.
Шатаясь, он поднялся на ноги и потряс головой, как нокаутированный
боксер, пытающийся заставить работать свой мозг. "Базуки" умолкли.
Крупнокалиберный пулемет переключился на вертолеты. Ему хотелось, чтобы
пулеметная очередь сбила хоть один вертолет. Но вертолеты тоже умели
стрелять. Он увидел, как ниточка трассирующих пуль протянулась к позиции
пулемета. Пулемет замолчал.
-- Отступаем! -- закричал Ауэрбах всем, кто мог его слышать.
Он посмотрел вокруг в поисках радиста. Тот был неподалеку -- мертвый, с
рацией на спине, превращенной в крошево. Что ж, всякий, у кою не хватит
разума отступить, если он потерпел поражение, не заслуживает жизни.
Где же Энди Осборн? Этот местный мог бы, вероятно, проводить его
обратно к оврагу -- хотя, если вертолеты начнут бить сверху, когда он
окажется на дне, овраг станет смертельной ловушкой, а не дорогой в
безопасность. Ящеры все еще продолжали стрелять. Так что теперь ни одной
дороги в безопасность не было вообще.
Силуэт в ночной тьме. Ране поднял оружие -- и понял, что это человек.
Он махнул в сторону северо-запада, показывая, что пора возвращаться домой.
Солдат сказал:
-- Да, сэр, мы уходим отсюда.
Словно издалека он узнал голос Рэйчел Хайнс.
Ориентируясь по звездам, они шли примерно в нужном направлении, не
зная, смогут ли найти лошадей, оставшихся под присмотром коноводов.
Возможно, это уже было бессмысленно: вертолеты превратят животных в собачий
корм, если доберутся туда первыми.
Внезапно позади снова заработал крупнокалиберный пулемет. Хотя стрелки
наверняка погибли, видимо, пулемет нашли другие бойцы и начали стрельбу.
Вероятно, они сумели зацепить вертолеты, потому что машины ящеров изменили
курс и повернули к пулемету.
Новые стрелки вели себя умнее: как только вертолеты приблизились, они
прекратили огонь. "Нет смысла объявлять: "подстрели меня прямо здесь!"", --
подумал Ауэрбах, спотыкаясь на ходу в темноте.
Вертолеты ящеров прочесали местность вокруг пулемета, затем начали
уходить. Сразу после этого солдаты снова открыли огонь.
Они вернулись для следующего захода. И снова, когда они сделали паузу,
пулеметчики на земле доказали, что они еще живы. Один из вертолетов казался
поврежденным. Ауэрбах надеялся, что бронебойные пули доконают его. Но машина
осталась в воздухе. После нового обстрела вертолетами пулемет больше не
стрелял.
-- Сукин сын! -- с отвращением сказала Рэйчел Хайнс. Она ругалась как
солдат, не замечая, что делает это. Затем она сказала совершенно другим
тоном: -- Сукин сын.
Два вертолета-охотника мчались в их сторону.
Он хотел спрятаться, но где можно спрятаться от летящей смерти, которая
видит в ночи? "Нигде", -- подумал он и приложил приклад М-1 к плечу. Пусть у
него нет никаких шансов, но что он сможет сделать -- он сделает. "Если
собираешься уйти навсегда, уходи с музыкой".
Пулеметы обоих вертолетов заработали. На мгновение он подумал, что они
прекрасны. Затем почувствовал мощный удар. И сразу его ноги не захотели
больше держать его. Он начал падать, но не мог понять, ударился он о землю
или нет.
* * *
Охранник открыл дверь в тесную камеру Уссмака.
-- Вы -- на выход, -- сказал он по-русски, который Уссмаку пришлось
учить.
-- Будет исполнено, -- сказал Уссмак и вышел.
Он всегда радовался, покидая камеру, которая поражала его плохим
устройством. Если бы он был тосевитом, то не смог бы встать во весь рост или
лечь, вытянувшись. Поскольку тосевиты выделяли и жидкие, и твердые отходы,
солома в камере вскоре стала бы у Большого Урода вонючей, разлагающейся
массой. Уссмак совершал туалет в уголке и не испытывал особых неудобств
из-за отсутствия смывающего устройства.
У охранника в одной руке был автомат, в другой -- фонарь. Фонарь светил
слабо и издавал неприятный запах, напоминавший Уссмаку о приготовлении пищи:
не используется ли в нем какой-то продукт животного или растительного
происхождения в качестве топлива вместо керосина, на котором двигаются
тосевитские танки и летают самолеты?
Он знал, что лучше не задавать таких вопросов. Результатом были только
большие неприятности, а он их и так имел вполне достаточно. Когда охранник
вел его в камеру для допросов, Уссмак мысленно обрушивал проклятья на пустую
голову Страхи. "Пусть его дух живет в послежизни без Императоров", --
подумал Уссмак. По радио бывший командир корабля с такой уверенностью вешал,
что Большие Уроды ведут себя цивилизованно по отношению к самцам, которых
они взяли в плен. Что ж, могучий когда-то командир корабля Страха не знал о
здешней жизни. К своему сожалению, Уссмак узнал все сам.
В камере для допросов его, как обычно, ждали полковник Лидов и Газзим.
Уссмак послал бесцветному переводчику взгляд, полный одновременно симпатии и
ненависти. Если бы не Газзим, то Большие Уроды не смогли бы выведать у него
так много и так быстро. Он сдал базу в Сибири с намерением рассказать самцам
СССР все, чем он мог помочь им: совершив измену, он собирался и дальше идти
по этой скользкой дорожке.
Но Лидов и другие самцы из НКВД исходили из предпосылки, что он враг,
склонный к утаиванию секретов, а не союзник, стремящийся раскрыть их. Чем
дольше они относились к нему с этой позиции, тем ближе они были к тому,
чтобы превратить свою ошибку в истину.
Может быть, Лидов начинал понимать ошибочность такого подхода.
Заговорив без помощи переводчика Газзима (это он изредка делал), он сказал:
-- Я приветствую вас, Уссмак. Здесь на столе есть нечто, от чего ваш
день пройдет, вероятно, более приятно. Он показал на блюдо, полное
коричневатого порошка.
-- Это имбирь, высокий господин? -- спросил Уссмак.
Он знал, что это так и есть: его хеморецепторы чувствовали наркотик
через всю комнату. Русские не давали ему имбиря -- он не знал, как давно.
Казалось, что целую вечность. Он хотел спросить: "Можно попробовать?" Но чем
ближе он знакомился с самцами из НКВД, тем реже высказывал то, что приходило
ему в голову.
Но сегодня Лидов казался общительным.
-- Да, конечно, это имбирь, -- ответил он. -- Пробуйте, сколько хотите.
Уссмак подумал, не пытаются ли Большие Уроды отравить его чем-то. Нет,
глупости. Если бы Лидов хотел дать ему другой наркотик, он бы так и сделал.
Уссмак подошел к столу, взял немного порошка в ладонь, поднес ко рту и
попробовал.
Это был не просто имбирь, он был обработан лимоном, что особенно
ценилось в Расе. Язык Уссмака высовывался снова и снова, пока последняя
крошка бесценного порошка не исчезла с ладони. Пряный вкус наполнил не
только рот, но и мозг. После столь долгого воздержания травка на него
подействовала очень сильно. Сердце колотилось, воздух бурными порывами
наполнял легкие и стремительно покидал их. Он чувствовал себя веселым,
проворным, сильным и ликующим, превосходящим тысячу таких, как Борис Лидов.
Уголок сознания предупреждал, что это ощущение -- обман, иллюзия. Он
видел самцов, которые не могли это понять и поэтому погибли, находясь в
полной уверенности, что их танки могут делать все, а их противники --
Большие Уроды -- не способны воспрепятствовать им ни в малейшей мере. Тот.
кто не убил себя в результате такой глупости, научился наслаждаться имбирем,
не становясь его рабом.
Но воспоминание пришло тяжело, в середине веселья, вызванного
наркотиком. Небольшой рот Бориса Лидова растянулся, изображая символ,
который тосевиты используют, чтобы показать дружеские чувства.
-- Продолжайте, -- сказал он. -- Пробуйте еще.
Уссмака не требовалось приглашать дважды. Самое худшее в имбире было
то, что, когда его действие заканчивалось, наступала черная трясина уныния.
Спасение было одно -- попробовать еще раз. Обычно одной дозой не
ограничивались. Но на этом блюде имбиря было достаточно, чтобы самец был
счастлив довольно долгое время. Уссмак радостно прильнул снова.
Газзим повернул один глаз в сторону с порошкообразным имбирем, а второй
-- к Борису Лидову. Каждая линия его тощего тела выдавала жуткую жажду, но
он не делал ни малейшего движения к блюду. Уссмак видел страстное желание
самца. Газзим явно опустился до самых глубин. Если он боялся попытаться
попробовать, значит, Советы делали с ним поистине страшные вещи.
Уссмак был привычен к подавляющему эффекту, который имбирь оказывал на
него. Но он не пробовал его уже долгое время, к тому же только что получил
двойную дозу сильного снадобья. Наркотик оказался сильнее, чем его
способность сдерживать себя.
-- Давайте дадим этому бедному дохлому самцу что-нибудь, чтобы он
ненадолго почувствовал себя счастливым, -- сказал он и сунул блюдо с имбирем
прямо под нос Газзима.
-- Нет! -- сердито закричат по-русски Борис Лидов.
-- Я не смею, -- прошептал Газзим, но язык оказался проворнее. Он
засновал между блюдом и зубами, снова, снова и снова, как бы стараясь
наверстать потерянное время.
-- Нет, говорю вам, -- снова сказал Лидов на этот раз на языке Расы,
добавив покашливание, чтобы подчеркнуть значение своих слов.
Ни Уссмак, ни Газзим не обратили на него ни малейшего внимания, и тогда
он шагнул вперед и выбил блюдо из рук Уссмака. Оно разбилось об пол, и
коричневатое облако имбиря повисло в воздухе.
Газзим набросился на самца из НКВД, вцепившись в него зубами и когтями.
Лидов издал булькающий крик и рванулся прочь, истекая кровью. Он поднял одну
руку, чтобы защитить лицо, другой схватился за пистолет, который висел у
него на поясе.
Уссмак прыгнул на него, навалившись на правую руку. Большой Урод был
ужасно силен, но мягкая без чешуи кожа делала его уязвимым: Уссмак
почувствовал, что его когти глубоко погрузились в плоть тосевита. Газзим
словно ополоумел. Его челюсти терзали горло Лидова, словно он хотел съесть
тосевита. Запах рассыпанного имбиря соединился с едким ароматом тосевитской
крови. Это сочетание довело Уссмака почти до животного состояния.
Крики Лидова становились слабее, его рука выпустила рукоятку пистолета.
Уссмак вытащил оружие из кобуры. Оно казалось тяжелым и неудобным.
Дверь в камеру допросов открылась. Уссмак ждал, что это произойдет
гораздо раньше, но Большие Уроды слишком примитивны, чтобы иметь
телевизионные камеры для надзора над такими местами. Газзим вскрикнул и
бросился на охранника, который остановился в дверях. Кровь текла с его
когтей и морды. Даже вооруженный, Уссмак не захотел бы сражаться с ним, даже
подбодренный наркотиком и не совсем в своем уме, как в этот момент.
-- Боже мой! -- закричал тосевит. Но он очень быстро сориентировался:
вскинув автомат, он выпустил короткую очередь, прежде чем Газзим смог
наброситься на него. Самец Расы, извиваясь, ударился об пол. Он был
наверняка мертв, но его тело пока не понимало этого.
Уссмак попытался выстрелить в охранника. Несмотря на то что не смог бы
убежать из этой тюрьмы, он все же был солдатом и имел в руках оружие.
Единственная проблема состояла в том, что он не мог заставить оружие
стрелять. Оно имело какой-то предохранитель, и он не понимал, как его снять.
Пока он неловко разбирался с оружием, ствол автомата Большого Урода
повернулся к нему. Пистолет охранника не испугал. Уссмак с отвращением
бросил тосевитское оружие на пол. Он смутно подумал, что охранник тут же
убьет его.
Но, к его удивлению, этого не произошло. Звуки выстрелов в тюрьме
привлекли других охранников. Один из них немного говорил на языке Расы.
-- Руки вверх! -- крикнул он.
Уссмак повиновался.
-- Назад! -- сказал тосевит.
Уссмак послушно отступил от Бориса Лидова, лежавшего в луже собственной
крови. "Она выглядит точно так, как у бедного Газзима", -- подумал Уссмак.
Двое охранников поспешили к лежащему советскому самцу. Они что-то
говорили на своем гортанном языке. Один из них посмотрел в сторону Уссмака.
Как и любой другой Большой Урод, он должен был повернуться к нему всем своим
плоским лицом.
-- Мертв, -- сказал он на языке Расы.
-- Что хорошего было бы в том, если бы я сказал -- сожалею, в
особенности если на самом деле я не сожалею? -- ответил Уссмак.
Похоже, никто из охранников ею не понял, что было, вероятно, тоже
хорошо. Они снова заговорили между собой.
Уссмак ждал, что кто-то из них поднимет свое оружие и начнет стрелять.
Этого не произошло. Он вспомнил, что сообщала разведка о самцах СССР:
они выполняют приказы почти так же тщательно, как и Раса. Пожалуй, это
казалось верным. Без приказа никто из них не хотел взять на себя
ответственность за уничтожение пленника.
Наконец тот самец, который привел его в комнату допросов, сделал
движение стволом своего оружия. Уссмак понял этот знак: он означал "вперед".
Он пошел. Охранник привел его обратно в камеру, как после обычного допроса.
Дверь за ним захлопнулась. Щелкнул замок.
Его рот разинулся от изумления. "Если бы я знал, что только это и
произойдет, если я убью Лидова, я бы убил его уже давно". Но он не думал,
что... о, нет. Имбирная эйфория покидала его, начиналась депрессия, и он
задумался: что же русские будут делать с ним теперь? Он обдумал все виды
неприятных возможностей, но был неприятно уверен, что действительность
окажется еще хуже.
* * *
Лю Хань шла мимо Фа-Хуа-Су, храма Славы Будды, затем на запад от него,
мимо развалин пекинского трамвайного парка Она вздохнула -- жаль, что
трампарк разрушили. Пекин распростерся на большой площади: храм и трампарк
находились в восточной части города, далеко от ее дома.
Неподалеку от трампарка находилась улица Фарфорового Рта, Цз'у Ч'и
К'оу, которая славилась своей знаменитой глиной. Она пошла по улице на
север, затем повернула в один и 5 хутунов -- бесчисленных переулков и аллей,
которые ответвлялись от главной артерии. Она запоминала свой путь сквозь
этот лабиринт: ей пришлось вернуться и пойти снова, прежде чем она нашла
Сиао Ши, Малый рынок. У этого рынка было и другое название, которое редко
произносили, но всегда помнили -- "Воровской рынок". Лю Хань знала: на рынке
продавалось не только ворованное. Кое-что из этих товаров на самом деле
добыто легально, но продается здесь, чтобы создать иллюзию выгоды у
покупателя.
-- Медные тарелки! Капуста! Палочки для еды! Фишки для маджонга! Лапша!
Лекарства, которые излечат вас от ушибов! Поросята и свежая свинина!
Гороховые и бобовые стручки!
Шум стоял оглушительный. Этот рынок мог считаться небольшим только по
пекинским меркам В большинстве городов он был бы центральным: Лю Хань он
казался таким же большим, как лагерь, в который маленькие чешуйчатые дьяволы
поместили ее после того, как увезли с самолета, который никогда не садится
на землю.
В бурлящей толпе она была одной из многих. Анонимность ее вполне
устраивала. Внимание, которое она привлекала к себе в эти дни, было совсем
не тем, какого бы она хотела.
Мужчина, продававший изящные фарфоровые чашки, которые определенно
выглядели ворованными, показал на нее пальцем и начал двигать бедрами вперед
и назад. Она подошла к нему с широкой улыбкой на лице. Он выглядел
одновременно ожидающим и опасающимся
Она заговорила голосом высоким и сладким, как девушка легкого
поведения. Все еще улыбаясь, она сказала:
-- Я надеюсь, он отгниет и отвалится. Я надеюсь, что он уйдет обратно в
твое тело, так что ты не сможешь найти его, если даже привяжешь нитку к его
маленькому кончику. Если ты найдешь его, я надеюсь, он у тебя никогда не
поднимется.
Он смотрел на нее с открытым ртом, затем потянулся под стол, на котором
стоял его товар. К тому моменту, когда он вытащил нож, Лю Хань уже целилась
из японского пистолета ему в живот.
-- Ты не хочешь сделать это, -- сказала она. -- Ты даже не хочешь
думать о том, чтобы попробовать
Мужчина глупо охнул, вытаращив глаза и разинув рот, словно золотая
рыбка в декоративном пруду недалеко отсюда Лю Хань повернулась к нему спиной
и пошла дальше. Как только толпа разделила их, он принялся выкрикивать
оскорбления в ее адрес.
Она испытывала соблазн вернуться и всадить пулю ему в живот, но если
убивать каждого человека в Пекине, который дразнил ее, потребуется множество
патронов, а ее крестьянская натура противилась напрасной трате.
Через минуту ее узнал еще один торговец. Он проводил ее глазами, но
ничего не сказал. По понятиям, привитым ей с детства, это была сдержанная
реакция. Она отплатила ему тем, что не стала обращать на него внимания.
"Раньше я беспокоилась только из-за Хсиа Шу-Тао, -- с горечью подумала
она. -- Благодаря маленьким чешуйчатым дьяволам и их подлому кино
развратников теперь сотни".
Великое множество мужчин видели, как она отдается Бобби Фьоре и другим
мужчинам на борту самолета, который никогда не садится на землю. Увидев это,
слишком многие решили, что она жаждет отдаться и им. Маленькие дьяволы
преуспели в создании ей в Пекине дурной славы.
Кто-то похлопал ее по спине. Она лягнула его башмаком и попала в
голень. Он грязно выругался. Ей было безразлично. Какой бы ни была ее слава
-- она не могла исчезнуть бесследно. Чешуйчатые дьяволы сделали все, чтобы
погубить ее как инструмент Народно-освободительной армии. Если они добьются
успеха, она никогда не увидит своей дочери.
У нее не было намерения позволить им добиться успеха
Они сделали ее объектом насмешек, как и запланировали. Но одновременно
они сделали ее объектом симпатии. Про некоторые из фильмов, которые
маленькие дьяволы сняли про нее, женщины могли уверенно сказать, что ее
насилуют. И Народно-освободительная армия развернула активную
пропагандистскую кампанию, чтобы информировать жителей Пекина, в равной
степени мужчин и женщин, об обстоятельствах, в которых она оказалась. Даже
некоторые мужчины прониклись к ней симпатией.
Раз или два она слышала выступления христианских миссионеров --
иностранных дьяволов, которые на плохом китайском языке рассказывали о
мучениках. В то время она не понимала: зачем страдать? А теперь она сама
стала жертвой.
Она подошла к небольшому прилавку, за которым стояла женщина,
продававшая карпов, похожих на уродливых золотых рыбок. Она взяла одного за
хвост.
-- Это свежая рыба? -- с сомнением спросила она.
-- Поймана сегодня утром, -- ответила женщина.
-- Почему вы думаете, что я поверю? -- Лю Хань понюхала карпа и
недовольным голосом сказала: -- Пожалуй, да. Сколько вы хотите за нее?
Они стали торговаться, но никак не могли сговориться Люди поглядывали
на них, затем снова возвращались к своим делам, убедившись, что ничего
интересного не происходит. Понизив голос, торговка сказала:
-- У меня есть сведения, которые вы ищете, товарищ.
-- Я надеялась, что у вас они есть, -- с нетерпением ответила Лю Хань
-- Говорите.
Женщина нервно огляделась.
-- То, что вы услышите, никто не должен знать, -- предупредила она. --
Маленькие чешуйчатые дьяволы не знают, что мой племянник понимает их
уродливый язык, иначе они не стали бы говорить при нем так свободно.
-- Да, да, -- сказала Лю Хань, сделав нетерпеливый жест -- Мы направили
многих наших людей к этим ящерам. Мы не выдаем наших источников. Иногда мы
даже воздерживаемся от каких-то действий, чтобы маленькие чешуйчатые дьяволы
не смогли определить, откуда мы получили информацию. Так что можете говорить
и не беспокоиться. И если вы думаете, что я буду платить вашу вонючую цену
за вашу вонючую рыбу, то вы дура! -- Последние слова она сказала громко,
потому что какой-то мужчина проходил слишком близко и мог подслушать их
разговор.
-- Чего ж вы тогда не уходите? -- завопила торговка карпами. Через
мгновение она снова понизила голос: -- Он говорит, что вскоре они сообщат
Народно-освободительной армии о желании продолжить переговоры по всем
вопросам. Помните, он всего лишь маленький человек, он не может объяснить
вам, что означает "все вопросы". Хотя вы, наверное, и сами это знаете, не
так ли?
-- Э? Да, наверное, -- ответила Лю Хань.
Если чешуйчатые дьяволы имели в виду то, что сказали, значит, они могут
вернуться к переговорам о возвращении ей ее дочери. Дочери теперь, по
китайским понятиям, было уже около двух лет: часть этого времени она провела
в чреве Лю Хань, а вторую -- за время после рождения. Как она теперь
выглядит? Как с ней обращался Томалсс? Возможно, как-нибудь через некоторое
время она все узнает.
-- Ладно, я беру, даже если ты воровка.
И словно рассердившись, Лю Хань швырнула монеты и пошла прочь.
Изображая гнев, она внутренне улыбалась. Торговка карпами была ее личным
источником новостей: она не думала, что женщина знала еще кого-то из
Народно-освободительной армии. Лю Хань будет поставлено в заслугу сообщение
центральному комитету о предстоящих переговорах.
Если повезет, то этого, вероятно, будет достаточно, чтобы обеспечить ей
место в комитете. Теперь Нье Хо-Т'инг ее поддержит: она была уверена в этом.
И когда она станет членом комитета, то будет поддерживать его -- в течение
какого-то времени. Но в один из этих дней у нее появится причина не
согласиться. После этого ей придется рассчитывать только на себя.
Она задумалась, как Нье примет это. Смогут ли они оставаться
любовниками после политической или идеологической ссоры? Она не знала. В
одном она была уверена: теперь она нуждалась в любовнике меньше, чем прежде.
Она встала на ноги и была способна противостоять миру, не нуждаясь в опоре
на мужчину. До нашествия маленьких чешуйчатых дьяволов она такого не могла
себе даже вообразить.
Она покачала головой. Странно, что все страдания, через которые провели
ее маленькие чешуйчатые дьяволы, не только сделали ее независимой, но и
привели к мысли, что она обязана быть независимой. Не будь их, она стала бы
одной из бесчисленных крестьянских вдов в растерзанном войной Китае, женщин,
которые стараются уберечься от голодной смерти и потому становятся
проститутками или сожительницами богачей.
Она прошла мимо человека, продававшего конические соломенные шляпы,
которые носили и мужчины, и женщины, чтобы защититься от солнца. Дома у нее
была такая. Когда маленькие чешуйчатые дьяволы только начали показывать свои
отвратительные фильмы о ней, она часто надевала ее. Когда она опускала ее на
лицо, то становилась почти неузнаваемой.
Но теперь она шла по улицам и хутунам Пекина с непокрытой головой и не
испытывая стыда. Когда она покидала Малый рынок, какой-то мужчина злобно
посмотрел на нее.
-- Берегись революционного суда, -- прошипела она.
Парень смущенно шарахнулся назад. Лю Хань пошла дальше.
Одну из своих машин, воспроизводящих изображение, маленькие чешуйчатые
дьяволы установили на углу. В воздухе огромная Лю Хань скакала верхом на
Бобби Фьоре, их кожа блестела от пота. Главное, что поразило ее, когда она
смотрела на себя чуть более молодую, было то, какой сытой и спокойной она
казалась. Она пожала плечами. Тогда она еще не принадлежала революции.
Один из зрителей посмотрел на нее. Он указал пальцем. Лю Хань нацелила
на него палец, словно он был дулом пистолета. Мужчина решил, что надо
заняться чем-то другим -- причем как можно скорее.
Лю Хань пошла дальше. Маленькие дьяволы по-прежнему изо всех сил
старались дискредитировать ее, но одновременно собирались вернуться к столу
переговоров и обсудить все вопросы. Для нее, возможно, это означало победу.
Год назад маленькие чешуйчатые дьяволы не испытывали желания вести
переговоры. Еще год назад они вообще не вели никаких переговоров, а только
сметали все на своем пути. Теперь жизнь для них стала труднее, и они
начинали подозревать, что она может стать еще тяжелее. Она улыбнулась. Она
надеялась, что так и будет.
* * *
Новички поступали в лагерь в крайнем замешательстве и страшно
запуганными. Это забавляло Давида Нуссбойма, который, сумев выжить в течение
первых нескольких недель, стал не новичком, а зэком среди зэков. Он
по-прежнему считался политическим заключенным, а не вором, но охранники и
сотрудники НКВД перестали цепляться к нему, как ко многим коммунистам,
попавшим в сети гулага.
-- Вы по-прежнему стремитесь помогать партии и советскому государству,
так ведь? Тогда вы, конечно, будете лгать, будете шпионить, будете делать
все, что мы вам прикажем.
Это все говорилось другими, более мягкими выражениями, но смысл не
менялся.
Для польского еврея партия и советское государство не намного
привлекательнее, чем гитлеровский рейх. Нуссбойм говорил со своими
товарищами по несчастью на ломаном русском и на идиш, а охранникам отвечал
по-польски, причем быстрыми фразами на сленге, чтобы они не могли понять
его.
-- Это хорошо, -- восхищенно сказал Антон Михайлов, когда охранник
только почесал лоб, услышав ответ Нуссбойма. -- Делай так и дальше, и через
некоторое время они оставят тебя в покое, когда поймут, что нет смысла к
тебе лезть, раз ты такой непонятливый.
-- Смысла? -- Нуссбойм закатил глаза к небу. -- Если бы вы, безумные
русские, хотели искать смысл, то никогда бы не начали с этих лагерей.
-- Ты думаешь? -- спросил другой зэк. -- Попробуй построить социализм
без угля и леса, который дают лагеря, без железных дорог, которые строят
зэки, и без каналов, которые мы роем. Без лагерей вся проклятая страна
просто развалилась бы.
Он говорил так, словно испытывал какую-то извращенную гордость за то,
что был частью такого жизненно важного и социально необходимого предприятия.
-- Может, и развалилась бы, -- согласился Нуссбойм. -- Эти ублюдки из
НКВД отделывают зэков, как нацисты евреев. Я повидал и тех и других, и
выбирать из них трудно. -- Он на мгновение задумался. -- Нет, беру свои
слова обратно. Здесь все-таки лишь трудовые лагеря. У вас нет конвейера
уничтожения, который нацисты запустили перед нашествием ящеров.
-- Зачем убивать человека, когда его можно до смерти замучить работой?
-- спросил Михайлов. -- Это... как бы получше сказать... неэффективно, вот
что.
-- Как? То есть то, что мы делаем здесь, ты считаешь эффективным?! --
воскликнул Нуссбойм. -- Можно ведь обучить шимпанзе делать такую работу.
Русский вор покачал головой.
-- Шимпанзе будут умирать, Нуссбойм. Их нельзя заставить выдержать
лагерь. Сердца у них разорвутся, и они погибнут. Их считают глупыми
животными, но они достаточно сообразительны, чтобы понять, когда дело
безнадежно. И это больше, чем можно сказать о людях.
-- Я о другом, -- сказал Нуссбойм. -- Посмотри, что они заставляют нас
делать сейчас, на бараки, которые мы строим.
-- Напрасно ты жалуешься на эту работу, -- сказал Михайлов. --
Рудзутаку чертовски повезло, что он получил ее для нашей бригады: это
намного легче, чем рубить деревья и снегу по пояс. И после такой работы
возвращаешься на пары не совершенно мертвым, а только наполовину.
-- Я и не спорю об этом, -- с нетерпением сказал Нуссбойм: иногда он
чувствовал себя единственным одноглазым зрячим в стране слепых. -- Но ты
хоть задумывался, что мы строим?
Михайлов посмотрел кругом и пожал плечами.
-- Бараки. Строим по плану. Охранники не ругаются. Раз их это
устраивает, то до остального мне дела нет. Если меня заставят делать бочки
для селедки, то жаловаться не буду. Буду делать бочки.
Нуссбойм от раздражения швырнул свой молоток.
-- Ты будешь делать бочки для сельди, в которых ее не будет?
-- Поосторожнее, -- предупредил его партнер. -- Сломаешь инструмент --
охранники тебя отметелят, и неважно, могут они с тобой говорить или нет. Они
считают, что пинок в ребра может понять любой, и в этом они почти правы.
Буду ли я делать бочки, зная, что в них не будут держать селедку? Буду, если
они мне прикажут. Ты думаешь, я из тех, кто скажет им, что они ошибаются? Я
что, сумасшедший?
Такое поведение типа "нагни-голову-и-делай-что-гово-рят" Нуссбойм видел
и в лодзинском гетто. В гулагах оно не просто существовало, оно
доминировало. Нуссбойму хотелось кричать: "А король-то голый!"
Вместо этого он подобрал молоток и стал забивать гвозди в остов нар,
которые делали они с Михайловым. Он колотил по гвоздям изо всех сил,
стараясь улучшить упавшее настроение.
Однако это не помогло. Протянув руку в ведро за очередным гвоздем, он
спросил:
-- Ты мог бы спать на нарах, которые мы делаем?
-- Я не люблю спать на тех нарах, которые у нас, -- ответил Михайлов.
-- Дай мне бабу, которая согласна, и мне будет все равно, где ты меня
положишь. Я здорово управлюсь.
И он забил гвоздь.
-- Бабу? -- застеснялся Нуссбойм. -- Об этом я не подумал.
Товарищ зэк с жалостью посмотрел на него.
-- Тогда ты просто дурак. Они носятся с этими бараками, как с писаной
торбой. А сколько колючей проволоки накрутили между этими бараками и нашими
-- хватит на заграждение против нацистов, чтобы не смогли границу перейти. Я
слышал, скоро должен прийти эшелон с "особыми пленниками". Ну, как,
приятель, изобразил я тебе картину?
-- Я не слышал о поступлении "особых пленников", -- сказал Нуссбойм. Он
знал, что многое из лагерной болтовни на блатном языке проходит мимо ушей
из-за не очень хорошего владения русским.
-- Да, они будут, -- сказал Михайлов. -- Нам повезет, если мы хотя бы
глазком глянем на них. Но охранники, конечно, будут трахаться, пока не
попадают, вонючие сукины сыны. Ну, еще повара, клерки -- все блатные. А ты,
обычный зэк, забудь и мечтать.
Нуссбойм, с тех пор как попал в лапы Советов, о женщинах и не помышлял.
Нет, неверно: он просто думал, что не увидит ни одной долго, очень долго, а
значит, они превратились в абстракцию. Теперь...
Теперь он сказал:
-- Даже для женщин эти нары слишком маты и очень близко друг от друга.
-- Значит, охранники будут пристраиваться сбоку, а не сверху, -- сказал
Михайлов. -- Им безразлично, что будут думать эти шлюхи, а ты просто глупый
жид, ты понял?
-- Я знаю, -- ответил Нуссбойм: по тону товарища можно было принять его
слова чуть ли не за комплимент. -- Ладно, сделаем все так, как нам сказано.
И если здесь будут женщины, нам не стоит говорить, что эту дрянь строили мы.
-- Это другой разговор, -- согласился Михайлов.
Бригада выполнила дневную норму. Это означало, что их накормят -- без
изысков, но почти достаточно для того, чтобы душа не рассталась с телом.
После супа и хлеба желудок некоторое время не беспокоил Нуссбойма. Вскоре в
животе снова взвоют тревожные сирены, но еще в Лодзи он научился лелеять эти
краткие моменты сытости.
Многие зэки испытывали то же чувство. Они сидели на парах, ожидая
приказа погасить лампы. В темноте они погружались в глубокий мучительный
сон. А пока они болтали или читали пропагандистские листовки, которые
временами раздавали лагерные уборщики (после чего возникали новые анекдоты,
большей частью сардонические или непристойные). Многие чинили штаны и
фуфайки, низко наклонясь над работой, чтобы что-то разглядеть в тусклом
свете.
Где-то вдали раздался гудок паровоза, низкий и печальный. Нуссбойм его
едва расслышал. Через несколько минут гудок повторился, на этот раз заметно
ближе.
Антон Михайлов вскочил на ноги. Все с удивлением смотрели на
непривычный всплеск энергии.
-- Особые пленники! -- воскликнул зэк.
Мгновенно весь барак пришел в волнение. Многие заключенные не видели
женщин годами, не говоря уже о физической близости. Надежд на нее не было,
зато им могли напомнить, что они мужчины.
Выходить наружу в промежутке от ужина до отбоя не запрещалось, хотя
из-за холодной погоды на улицу мало кто стремился. Теперь же десятки зэков
вышли наружу: Нуссбойм был среди них. Другие бараки тоже опустели. Охранники
кричали, пытаясь навести среди заключенных хоть какой-то порядок.
Но у них не очень-то получалось. Словно притянутые магнитом железные
опилки, люди распределились вдоль колючей проволоки, отделяющей их бараки от
новых. Бараки были готовы лишь наполовину, Нуссбойм знал об этом лучше
других, получалось, что это типичный пример советской неэффективности.
-- Смотрите! -- сказал кто-то с уважительным вздохом. -- Поставили
навес, чтобы бедняжки не обгорели на солнце.
-- И поэтому привезли их ночью, -- добавил кто-то еще. -- Ничего себе!
Что ж это такое творится?
Спустя несколько минут поезд остановился, проскрипев колесами по
рельсам. Охранники с автоматами и фонарями поспешили к столыпинским вагонам.
Когда двери открылись, то из вагонов первыми вышли охранники.
-- Ну их к черту! -- сказал Михайлов. -- Не хотим видеть эти уродливые
хари. Надоели уже. Где бабы?
Охранники орали и вопили, торопя пленников, чтобы те поскорее выходили,
и это вызвало у зэков смех, охвативший всю толпу.
-- Будьте осторожнее, дорогие, а то они пошлют вас на фронт, там будет
хуже, -- воскликнул кто-то пронзительным фальцетом.
В дверях одного из вагонов показалась голова. Дыхание толпы заключенных
вырвалось единым выдохом ожидания. Затем из легких вырвался остаток воздуха
-- теперь уже от удивления. Из вагона выпрыгнул ящер. Затем еще один, и еще,
и еще.
Давид Нуссбойм смотрел на них с не меньшей жадностью, чем на женщин. Он
говорил на их языке. Интересно, говорит ли на нем кто-нибудь еще во всем
лагере?
Остолоп Дэниелс смотрел на лодку без всякого энтузиазма.
-- Проклятье! -- с чувством сказал он. -- Когда нам сказали, что не
отправят нас из Элджина обратно в Чикаго, я прикинул, что самое плохое уже
позади. Показывает, как чертовски много я знаю, не так ли?
-- Вы правы, лейтенант, -- сказал сержант Генри Малдун. -- Когда они
говорят об этой операции, похоже на телеграмму с выражением глубокого
соболезнования. Я имею в виду, что вот-вот придет такая телеграмма. Я имею в
виду, возможно, придет, если, конечно, еще посылают такие телеграммы.
-- Хватит об этом, джентльмены, -- сказал капитан Стэн Шимански. -- Нам
доверили эту работу, и мы собираемся ее выполнить.
-- Да, сэр, -- ответил Остолоп.
Невысказанный хвостик фразы Шимански мог звучать только так: "...или
умереть, выполняя". Вполне вероятная перспектива -- что неприятно поразило
Остолопа. Понимал ли это Шимански, он не показал. Может быть, он был хорошим
актером -- а это свойство хорошего офицера, точно так же, как и хорошего
хозяина. Или, может быть, Шимански по-настоящему не верил в глубине души,
что его собственное личное "я" перестанет существовать. Стэну Шимански было
всего-навсего тридцать. Рядом с ним Остолоп чувствовал себя чуть ли не
королем Англии.
Сам Остолоп приближался к шестидесяти. Близость собственной гибели он
чувствовал весьма реально. Еще до нашествия ящеров слишком многие его
друзья, с которыми он познакомился в начале столетия и даже раньше, умерли у
него на руках от болезней сердца, от рака или туберкулеза. Добавить к этому
набору пули и осколки снарядов -- и поневоле придет в голову мысль, что он
живет на взятое взаймы время.
-- У нас будет преимущество в неожиданности, -- сказал Шимански.
"Конечно, будет, -- подумал Остолоп. -- Ящеры чертовски удивятся,
просто обалдеют от того, какими глупыми мы можем быть".
Вслух он ничего не сказал, чтобы не накликать беду.
Капитан Шимански вытащил из кармана многократно сложенный лист бумаги.
-- Посмотрим на карту, -- сказал он.
Дэниелс и Малдун подошли поближе. Карта была произведением армейского
корпуса инженеров. Остолоп узнал ее сразу: скопирована из дорожного атласа
Рэнда Мак-Нелли, того самого, которым пользовались водители автобусов, когда
перевозили провинциальные команды из одного городка в другой. Он и сам
пользовался этой картой, когда водителям случалось заблудиться, что
происходило с угнетающей регулярностью.
Шимански показал:
-- Ящеры удерживают территорию вот здесь, на восточном берегу реки
Иллинойс. Гавана -- на восточном берегу, где Ложка втекает в Иллинойс, --
ключ к их позициям вдоль этого участка реки, здесь они устроили лагерь для
военнопленных, сразу за пределами города. Наша цель -- прорваться туда и
освободить кое-кого. Если мы собираемся выиграть эту войну, то должны
разорвать их удушающие объятия на Миссисипи.
-- Сэр, давайте займемся пока нашей маленькой задачкой, -- сказал
Остолоп. -- Если мы справимся с ней, тогда наши начальники смогут подумать о
более масштабных делах.
Герман Малдун энергично кивнул. Через мгновение тот же жест повторил и
Шимански.
-- Разумно, -- сказал он. -- Мне обещали, что проведут чертовски
сильный отвлекающий удар, когда вечером мы отравимся работать. В этой
поддержке будет использовано нечто особое. Хотя мне и не сказали, что
именно.
-- Поддержка с воздуха? -- нетерпеливо спросил Малдун. -- Они не любят
сообщать о ней на тот случай, если кого-нибудь схватят и он проговорится.
-- Я не знаю. А чего не знаю -- того не могу рассказать и нам, --
ответил Шимански. -- Если вы хотите воодушевить ребят, валяйте. Но не
говорите солдатам ничего конкретного, потому что если на деле что-то
обернется не так, как вы расписывали, пострадает их моральный дух. Усвоили?
-- Да, сэр, -- сказал Малдун.
Остолоп молча кивнул.
Если не будет поддержки с воздуха или какого-то другого серьезного
отвлекающего маневра, пострадает не только моральный дух. Он не стал
говорить об этом. Шимански все еще оставался мальчишкой, хотя и не был
глупцом. Он мог разобраться и сам.
-- Вопросы есть? -- спросил Шимански. Остолоп и Малдун промолчали.
Капитан снова сложил карту и сунул в карман. -- Тогда все. Дождемся
наступления ночи и двинемся.
Он встал и отправился давать указания другому отделению.
-- У него это прозвучало так легко... -- сказал Остолоп.
Он смотрел сквозь завесу ивовых ветвей, свисавших до воды. Возможно --
ему хотелось в это верить, -- они не позволили ящерам на другой стороне
Иллинойса разобраться, что здесь появились американцы.
На дальнем берегу реки крякали утки. Здешние болота были национальным
заказником. Остолоп предпочел бы бродить с охотничьим ружьем вместо
имевшегося у него сейчас автомата "томпсон". В свое время здесь находился
наблюдательный пост -- на верхушке стальной башни высотой в сотню футов. Он
обеспечивал егерям прекрасный вид на браконьеров. В эти дни он обеспечивал
бы прекрасный обзор ящерам, но башня была взорвана в одном из боев за
центральный Иллинойс.
Солдаты рассредоточились вдоль реки, чтобы по возможности не выдать
себя, а если уж кого-то заметят, то примут за обычные патрули. Остолоп и
Малдун собрали людей, рассказав им то, что сообщил Шимански. Это не было
свежей новостью, они уже некоторое время готовились к операции. Хотя сказать
им еще раз о том, что предстоит делать, тоже не помешает. Множество -- не
сосчитать -- раз Остолоп видел, как игрок втихаря пытается нарушить правила
и сжульничать. Остолоп уже давно перестал искать лучшее в людях и в их
планах.
Наступили сумерки, затем темнота. Из воды выпрыгивали рыбы и с плеском
падали обратно. Когда-то Остолоп побывал в этих местах, тогда они выловили
из Иллинойса куда больше рыбы, чем из любой другой реки, кроме Колумбии. Эх,
сейчас бы в руки спиннинг или просто палку с ниткой и крючком.
Остолоп посмотрел на часы. Мягко светящиеся цифры и стрелки показали
ему: без четверти десять.
-- Лодки, -- прошептал он. -- И тише, ради бога, или мы станем мертвым
мясом, не успев отплыть.
Точно в десять по его часам он со своим отрядом начал грести вниз по
течению Иллинойса в сторону Гаваны. Весла, казалось, создавали страшный шум,
погружаясь в воду и выходя из нее снова, но ни один пулемет ящеров не начал
бить по дальнему берегу реки. Остолоп вздохнул с облегчением. Он боялся, что
они попадут в ловушку прямо на старте.
В 10.02 артиллерия, минометы и пулеметы открыли огонь по Гаване с
запада и юга.
-- Точно вовремя, -- сказал Остолоп: перекрытый неожиданным хаосом, шум
от движения лодок беспокоил его намного меньше.
Ящеры отреагировали быстро -- огнем артиллерии и стрелковым оружием.
Дэниелс старался определить, перемещают ли они войска из лагеря, который
находился севернее Гаваны, навстречу очевидной шумной угрозе, которую
создали американцы. Он надеялся -- его это устраивало больше, -- что так и
будет.
Горячее желтое свечение вспыхнуло на юго-западе и быстро
распространилось в сторону Гаваны. Остолопу хотелось ликующе завопить, но
здравый смысл продиктовал ему сказать спокойно:
-- Они на самом деле сделали это, парни. Они зажгли Ложку.
-- Сколько галлонов бензина и масла они в нее вылили перед тем, как
чиркнуть спичкой? -- спросил кто-то в лодке.
-- И насколько хватило бы этого топлива для танка или самолета?
-- Не знаю, -- ответил Остолоп. -- Я полагаю, раз они решили
использовать его против врага таким образом, они знали, что делали. И если в
результате ящеры забудут в меня стрелять, то я жаловаться не буду. А теперь,
парни, мы должны грести, как проклятые, и пересечь Иллинойс прежде, чем сюда
втечет огненная река. Не справимся, -- он шутливо хмыкнул, -- гусь сварится.
Высокие языки пламени, мечущиеся по воде, уже достигли места слияния
рек и начинали плыть по Иллинойсу. Языков пламени все прибавлялось. Ящеры не
использовали катера или другие плавучие средства, поэтому огонь не мог
создать для них настоящей опасности, но он заставлял их сосредоточиться на
Ложке и территории к западу от нее -- и отвлекал их внимание от лодок,
подплывающих к Гаване по Иллинойсу с севера.
-- Давайте, гребите сильнее, вперед, вперед...
Не договорив, Остолоп кувырнулся со своего сиденья -- лодка села на
грунт. Он рассмеялся. Если показал себя дураком перед подчиненными, смейся
первым. Он выскочил на берег. Грязь чмокнула под сапогами.
-- Сделаем перерыв в гребле.
Он отвел взгляд от горящей Ложки, чтобы глаза привыкли к темноте.
Черный силуэт впереди не был лесом -- лес вокруг давно спилили. Он взмахнул
рукой, дав людям знак следовать за ним, и направился к лагерю военнопленных,
устроенному ящерами.
Неподалеку послышался голос сержанта Малдуна:
-- Эй вы, глупые ублюдки, рассредоточьтесь! Хотите, чтобы вас запросто
перестреляли?
Лагерь для пленных был спроектирован для того, чтобы держать людей
внутри, а не препятствовать постороннему проникновению. Ничто не помешало
американцам подобраться к главным воротам, находившимся на северной стороне.
Остолоп было подумал, что они так и войдут внутрь, но тут пара ящеров
открыла по ним огонь из сторожевой будки.
Гранаты и огонь из автоматов быстро подавили сопротивление.
-- Вперед, быстрее, -- кричал Остолоп одно и то же, -- если у этих
чешуйчатых сукиных сынов была радиосвязь, подмога заявится сразу же!
Солдаты с ножницами набросились на острую, как бритва, проволоку у
входных ворот. Заключенные, мужчины и женщины, разбуженные стрельбой
(Остолоп надеялся, что никого из них не задели шальные пули), столпились у
ворот. Как только проход был готов, они хлынули наружу.
Капитан Шимански закричал:
-- Кто хочет присоединиться к борьбе с ящерами, идите к нам. Бог знает,
как мы вам будем рады. Остальные -- разбегайтесь, кто как может. Мы
поддерживаем связь с партизанами, и многие люди вокруг будут давать кров и
делиться тем, что имеют. Удачи вам всем.
-- Благослови вас Господь, -- сказал один мужчина.
К нему словно эхом присоединились многие другие. Часть людей окружала
спасителей, остальные исчезали в темноте ночи.
С юга донеслись выстрелы, звук их быстро приближался.
-- Развернутым строем вперед! -- закричал Остолоп. -- Задержим их,
сколько сможем, чтобы люди успели уйти.
Едва эти слова слетели с его губ, как в землю врезалось нечто вроде
большой бомбы и взорвалось прямо перед наступающими ящерами. Остолоп
заозирался: шум моторов самолета ниоткуда не доносился. С неба слышался лишь
долгий, постепенно затихающий гул рассекаемого воздуха: похоже, что
взрывчатка, или что там, прилетела быстрее, чем сопровождавший его шум.
-- Как будто американская реактивная бомба дальнего действия, -- сказал
капитан Шимански.
Что бы это ни было, но ящеры теперь уже не торопились вперед, как
минуту назад.
Вскоре взорвалась еще одна реактивная бомба, на этот раз -- судя по
звуку -- в паре миль от поля боя в районе Гаваны. Эти бомбы точными никак не
назовешь, они вполне могут упасть и на своих, не только на ящеров.
"Попробуй-ка остановить их, -- подумал Дэниелс, -- валяй, пробуй".
Он отыскал в темноте Шимански.
-- Сэр, думаю, самое время убираться отсюда к черту. Иначе многие из
нас погибнут.
-- Возможно, вы правы, лейтенант, -- сказал командир отряда. -- Нет, вы
определенно правы. -- Он возвысил голос: -- Обратно к реке, парни!
Взобраться в лодку, набитую спасенными пленниками, Остолопу было очень
приятно. Но возвращение через Иллинойс стоило ему хорошего пота. Если бы над
головой сейчас появился, постукивая, вертолет, на воде остались бы только
огонь да кровь. Все понимали это, а потому гребцы работали веслами, как
бешеные, пока не добрались до западного берега реки.
Выбравшись из лодки и запинаясь на ходу, Остолоп мельком подумал:
знаком ли Сэм Игер с этими необыкновенными ракетами (и жив ли еще Сэм,
встретятся ли они когда-нибудь). После забавных научно-фантастических
журналов, которые он постоянно читал, он должен был лучше понимать этот
безумный новый мир, оказавшийся так дьявольски близко.
-- Ни в чем нет больше никакого смысла, -- проговорил Дэниелс и занялся
размещением людей в укрытии.
* * *
В подвале Дуврского колледжа пыхтел работающий на угле генератор. Дэвид
Гольдфарб чувствовал дрожь во всех костях. Он мог слышать это пыхтение, но
только когда осознанно напрягал слух. И пока лампочки горели, радиоприемники
работали, а радар действовал, он вполне мог утверждать, что мир остался
таким же, как до нашествия ящеров.
Когда он произнес эту сентенцию вслух, Бэзил Раундбуш сказал:
-- По моему смиренному понятию... -- Ха! Он был таким же смиренным, как
еврей мог быть римским папой, -- такие игры не особенно-то помогают. Как
только мы покидаем лабораторию, реальный мир грубо подходит вплотную и дает
нам в зубы.
-- Это очень даже правильно, -- сказал Гольдфарб. -- Пусть на каждом
квадратном дюйме острова растет пшеница, картофель и кормовая свекла, но
лишь небесам ведомо, как мы собираемся прокормиться.
-- О, несомненно. -- Усы Раундбуша встопорщились, словно он подул в
них. -- Во время войны с немцами пайки и так были скучными. Теперь еще хуже
-- и янки не посылают необходимые нам излишки. Я слышал, излишков у них
больше нет.
Гольдфарб поворчал и кивнул. Затем взял видеоблюдце -- это название,
похоже, закрепилось за мерцающими дисками, на которых ящеры хранили
изображения и звуки, -- и вставил его в захваченную машину для проигрывания
дисков.
-- Что на нем? -- спросил Раундбуш.
-- Я не узнаю, пока не трону выключатель, который заставляет ее
работать, -- ответил Гольдфарб. -- Думаю, что они просто бросают в корзину
что попало и посылают нам сюда. У нас есть несколько штук, которые
действительно полезны для нас, а остальные видеоблюдца мы снабжаем ярлычками
и отсылаем тем, кому они могут показаться полезными.
-- Удивительно неэффективный способ работы, -- недовольно заметил
Раундбуш, но поленился взглянуть, что покажет это видеоблюдце.
Британцам их досталось немало во время изгнания ящеров с островов.
Некоторые были развлекательными, другие, казалось, содержали ведомости на
оплату или что-то подобное, некоторые служили эквивалентами инструкций к
пользованию. Эти последние были настоящим сокровищем.
Гольдфарб щелкнул выключателем: в отличие от ламповой электроники,
использовавшейся человечеством, аппаратура ящеров не требовала прогрева в
течение минуты или двух, а начинала работать сразу. На экране появилось
изображение танка ящеров. Столкнувшись с этими чудовищами в реальности,
Гольдфарб относился к ним весьма уважительно. Хотя, спрашивается, за что их
уважать?
Пару минут он смотрел на возникшее изображение, чтобы убедиться, что
это действительно руководство по обслуживанию танка, затем остановил его и
заставил проигрыватель выплюнуть блюдце. Сделав это, он завернул видеоблюдце
в бумагу, на которой записал комментарий о сюжете. Он взял еще одно и
вставил в машину. На нем оказались городские сцены на домашней планете
ящеров -- но был это рассказ о путешествии или какая-то драма, Дэвид сказать
не мог.
-- Я слышал, некоторые из них были с порнофильмами, -- заметил
Раундбуш, наблюдая, как Гольдфарб достает видеоблюдце и записывает на
бумаге, которую использовал для завертывания, возможную классификацию
сюжета.
-- О, небо, кому это надо? -- сказал Гольдфарб. -- Зрелище
совокупляющихся ящеров не доставит мне радости.
-- Ты неверно понял, старик, -- возразил Раундбуш. -- Я имею в виду
порнофильмы с людьми. Рассказывали, что в одном многое такое вытворяет
китайская женщина, а на еще одном она рожает ребенка.
-- Почему ящеров интересует это? -- сказал Гольдфарб. -- Ведь мы для
них такие уродливые, как они для нас. Бьюсь об заклад, это слухи, пущенные
начальством, чтобы мы тщательнее просеивали всю эту муть.
Раундбуш рассмеялся.
-- Я об этом не подумал. Не удивлюсь, если ты прав. Сколько этих блюдец
ты собираешься проверить на этот раз.
-- О, наверное, еще шесть или восемь, -- ответил Гольдфарб после
секундного размышления. -- Отвлекусь на какое-то время и смогу опять
ковыряться во внутренностях этого радара.
Он показал на множество электронных компонентов, разложенных на его
рабочем столе, как ему казалось, в логически разумном порядке.
Первые три видеоблюдца не содержали ничего для него полезного -- и
ничего полезного ни для кого, подумал он.
В двух были бесчисленные колонки каракулей ящеров: скорее всего,
механизированные эквиваленты платежных книжек дивизии. Третья показала
космический корабль ящеров и каких-то странных существ, которые не были
ящерами. Гольдфарб не понял, показаны там фактические события или же
изображены чужаки из такой же фантастики, как у Бака Роджерса или Флэша
Гордона. Может быть, кто-то из ученых сумеет определить точнее. Гольдфарб
был не в состоянии.
Он вынул блюдце и вставил новое. Как только включилась запись, Бэзил
Раундбуш радостно завопил и хлопнул приятеля по спине. На экране стоял ящер
со сравнительно скромной раскраской тела и разбирал реактивный двигатель,
лежащий на большом столе.
Моторы были специальностью Раундбуша, а не Дэвида, но он некоторое
время смотрел сюжет вместе с летчиком. Даже без знания языка ящеров он
многое понял по этой записи. Раундбуш с бешеной скоростью записывал.
-- Если бы только капитан Хиппл мог увидеть это, -- несколько раз
повторил он.
-- Мы говорим так уже долгое время, -- печально ответил Гольдфарб. --
Не думаю, что это произойдет.
Он продолжал смотреть видеоблюдце. Некоторые мультипликационные эпизоды
и трюковые снимки, которые инструктор-ящер использовал при объяснениях,
далеко превосходили все, что художники Диснея сделали в "Белоснежке" или
"Фантазии". Как же им это удалось? Однако они это сделали, и сделали таким
же само собой разумеющимся, как он щелкал выключателем на стене, чтобы в
лампочке на потолке появился свет.
Когда учебный фильм закончился, Раундбуш встряхнулся, как собака,
выскочившая из холодного ручья.
-- Это определенно надо сохранить, -- сказал он. -- Было бы совсем
хорошо, если бы нам помогли пленные ящеры, тогда мы бы поняли, что именно
рассказывал этот зануда. Например, вот то, что касалось турбинных лопаток,
-- он говорил техникам, что их можно поправлять или, наоборот, не
прикасаться к ним ни при каких обстоятельствах?
-- Не знаю, -- сказал Гольдфарб. -- Но мы должны разобраться и не
экспериментировать. -- Он заставил проигрыватель вернуть видеоблюдце,
завернул в бумагу, надписал ее и положил в стопку отдельно от других. Сделав
это, посмотрел на часы. -- Боже правый, неужели уже семь часов?
-- Так и есть, -- ответил Раундбуш. -- Похоже, что мы здесь взаперти
около тринадцати часов. Я бы сказал, что мы заслужили право встряхнуться.
Что ты на это скажешь?
-- Сначала я бы хотел посмотреть, что на оставшихся блюдцах, -- сказал
Гольдфарб. -- А уж потом беспокоиться о таких вещах, как еда.
-- Какая преданность делу, -- хмыкнул Раундбуш. -- Среди того, о чем
стоит побеспокоиться, если я, конечно, не ошибаюсь, должна быть еще пинта
или две в "Белой лошади".
Гольдфарб испугался, что его уши раскалились настолько, что будут
светиться, если он выключит свет. Он постарался ответить самым обычным
тоном:
-- Раз уж ты упомянул об этом, то да.
-- Не смущайся, старик. -- И Раундбуш громко захохотал. -- Поверь, я
тебе завидую. Эта твоя Наоми -- прекрасная девушка, и она уверена, что
солнце восходит и заходит ради тебя. -- Он ткнул Гольдфарба в ребра. -- Мы
ведь не будем разубеждать ее в этом, а?
-- Э-э... нет, -- ответил Гольдфарб, все еще смущенный.
Он по очереди вставлял оставшиеся видеоблюдца в проигрыватель.
Надеялся, что ни в одном не окажется ничего об обслуживании и питании
радара. И надеялся, что в них не будет порнофильмов с легендарной, в
представлении Раундбуша, китаянкой.
Ему везло. Пары минут просмотра было достаточно, чтобы убедиться: на
оставшихся видеоблюдцах нет ничего, относящегося к его работе или к
порнографии. Когда проигрыватель выкинул последнее из них, Бэзил Раундбуш
легонько толкнул Гольдфарба в спину.
-- Иди, старик. Я буду поддерживать огонь и постараюсь не спалить
здание.
Солнце все еще было в небе, когда Гольдфарб вышел на улицу. Он вскочил
на велосипед и покатил на север, в сторону "Белой лошади". Как и многие
другие заведения, паб содержал охранника, дежурившего снаружи, который
следил за тем, чтобы двухколесный транспорт не укатился куда-нибудь, пока
хозяева находились внутри.
А внутри в стенных канделябрах горели факелы. Приятный огонь пылал в
камине. Из-за того, что заведение было набито народом, его наполняли жар и
дым. Факелы требовались для освещения. Над огнем в камине готовились два
цыпленка. От аппетитного аромата у Гольдфарба потекли слюнки.
Он направился к бару.
-- Что желаешь, дорогой? -- спросила Сильвия.
Наоми с полным подносом кружек и стаканов обходила столики: увидев
сквозь толпу Гольдфарба, она помахала ему. Он махнул ей в ответ, затем
сказал Сильвии:
-- Пинту горького и еще -- эти птички уже заказаны целиком? -- И он
показал в сторону камина.
-- Нет, еще не все, -- ответила рыжеволосая барменша. -- Чем
интересуешься -- ножками или грудкой?
-- Что ж, думаю, что хотел бы нежное, нежное бедрышко, -- ответил он и
смутился под внимательным взглядом.
Сильвия расхохоталась. Налила ему пива. Он поспешно поднес кружку ко
рту, чтобы скрыть смущение.
-- Покраснел! -- ликующе воскликнула Сильвия.
-- Да нет! -- с негодованием ответил он. -- И даже если так, только
черт помог бы тебе увидеть это при свете камина.
-- Может быть, может быть, -- согласилась Сильвия, продолжая смеяться.
Она провела языком по верхней губе. Гольдфарб тут же вспомнил, что не
так давно они были любовниками. Она словно говорила ему: "Видишь, что ты
потерял?"
-- Принесу тебе цыпленка.
Направляясь к камину, она сильнее, чем прежде, раскачивала бедрами на
ходу.
Через минуту подошла Наоми.
-- О чем вы так смеялись? -- спросила она.
Гольдфарб почувствовал облегчение, услышав скорее любопытство, чем
подозрение в ее голосе. Он рассказал ей всю правду: если бы он этого не
сделал, она узнала бы все от Сильвии. Наоми рассмеялась тоже.
-- Сильвия такая забавная, -- сказала она, а затем, понизив голос,
добавила: -- Временами, может, даже и слишком забавная, ей во вред.
-- Кому во вред? -- спросила Сильвия, вернувшись с дымящейся куриной
ножкой на тарелке. -- Значит, мне. Я слишком много шучу, да? Клянусь
Иисусом, скорее всего так. Но я не шучу, когда говорю, что этот цыпленок
обойдется тебе в две гинеи.
Гольдфарб полез в карман за банкнотами. Со времени нашествия ящеров
цены головокружительно взмыли вверх, и жалование специалиста по радарам и
близко не соответствовало им. Но даже теперь бывали времена, когда паек,
который он получал, уже не лез в горло.
-- Между прочим, -- спросил он, положив деньги на стойку, -- а на что
получше я бы мог их истратить?
-- На меня, -- ответила Наоми.
Если бы такой ответ дала Сильвия, то он был бы откровенно корыстным.
Наоми же не беспокоило, что у него нет доходов маршала авиации. Это -- как и
многое другое -- и делало ее такой притягательной для Дэвида. Она спросила:
-- У тебя есть новые сведения о твоем кузене, о том, который делал
радиопередачи для ящеров?
Он покачал головой.
-- Моя семья выяснила, что он пережил нашествие, -- это все, что я
знаю. Но вскоре он, его жена и сын исчезли. Никто не знает, что с ними
стало.
-- Никто не знает, -- повторила с осуждением Наоми, а Гольдфарб
вцепился зубами в цыплячью ногу. -- Может быть, никто не говорит, но кто-то
ведь знает. В этой стране люди беспричинно не исчезают. Иногда я думаю: вы
не знаете, как вам повезло, что здесь все обстоит именно так.
-- Я -- знаю, -- сказал Гольдфарб, и через мгновение Наоми кивнула,
соглашаясь с ним. Он улыбнулся ей, хотя и кривовато. -- В чем же дело? Ты
снова принимаешь меня за англичанина?
Слегка волнуясь, она кивнула снова. Он перешел на идиш:
-- Если мы выиграем войну и у меня будут дети, а может быть, и внуки,
они будут принимать это как само собой разумеющееся. Мы... -- Он покачал
головой.
-- Если у тебя будут дети, а может быть, и внуки... -- начала Наоми и
остановилась.
Война ослабила моральные нормы всех, но они все же находились не на
передовой. Гольдфарб иной раз об этом жалел.
-- Не нальешь мне еще пинту, пожалуйста? -- попросил он.
Временами тихий разговор -- или короткие реплики, которыми они
обменивались в промежутках между обслуживанием других посетителей, -- был не
хуже любого другого, а может, даже и лучше.
О Сильвии он так думать не хотел. Сильвия вызывала у него
одно-единственное желание: стянуть с нее лифчик и трусики и... Он почесал
голову, раздумывая, в чем же разница между двумя девушками.
Наоми подала ему горького. Он отпил глоток и поставил кружку.
-- Должно быть, любовь, -- сказал он, но она не услышала.
* * *
Артиллерия изматывала Расу на базе Флориды огнем с севера. Большие
Уроды действовали с умом, перемещая орудия с боевых позиций до того, как
огонь контрбатарей нащупывал их, но против ударов с воздуха они мало что
могли предпринять. У Теэрца было две емкости для ракет под крыльями
истребителя. Ракеты относились к одному из простейших видов оружия в
арсенале Расы: они даже не имели средств наведения, но если с избытком
засыпать ими местность, они свое дело делали. Из-за простоты даже
тосевитские заводы могли выпускать их в больших количествах. Оружейники
теперь их любили, и не только потому, что их было в достатке.
-- Я нашел заданную цель визуально, -- доложил Теэрц своим командирам,
-- приступаю к пикированию.
Ускорение вдавило его в сиденье. Большие Уроды знали, что он уже здесь.
Зенитные снаряды стали рваться вокруг истребителя. Больше всего, как он
заметил, разрывов было позади. Несмотря на все старания, тосевиты редко
попадали в истребитель, когда палили по нему. Это помогало пилотам Расы
оставаться в живых.
Он опустошил всю первую емкость. Казалось, волна огня обрушилась от
самолета на позиции артиллерии. Машина слегка качнулась в воздухе, затем
выпрямилась. Автопилот вывел ее из пике. Теэрц сделал круг, чтобы осмотреть
нанесенный урон. Если бы он оказался недостаточным, пришлось бы сделать еще
один заход и опустошить вторую емкость.
На этот раз второго захода не понадобилось.
-- Цель уничтожена, -- сказал он с удовлетворением. Зенитки по-прежнему
били по нему, но он не беспокоился. -- Запрашиваю новую цель.
Голос, ответивший ему, не принадлежал руководителю полетов. Через
мгновение он его все же узнал: с ним говорил Ааатос, самец из разведки.
-- Командир полета Теэрц, у нас... возникла одна проблема.
-- В чем же непорядок? -- потребовал ответа Теэрц.
Вечность, которую он провел в японском плену -- не говоря уже о
привычке к имбирю, которую он приобрел на Тосев-3, -- выработала в нем
нетерпимость к напыщенному стилю речи.
-- Я рад, что вы в воздухе, командир полета, -- сказал Ааатос,
очевидно, не желая давать прямого ответа. -- Вы помните наш недавний
разговор на травянистой поверхности недалеко от взлетно-посадочной полосы?
Теэрц задумался.
-- Помню, -- сказал он. Внезапное подозрение охватило его. -- Вы же не
собираетесь сказать мне, что темнокожие Большие Уроды взбунтовались против
нас, правда?
-- Увы, -- печально сказал Ааатос. -- Вы были правы тогда в своем
недоверии к ним. Я соглашаюсь с этим. -- Для самца из разведки согласиться с
чем-либо было невероятной уступкой. -- Их отряд был развернут строем против
американских Больших Уродов, и, изображая бой, они пропустили вражеских
тосевитов к нам.
-- Дайте мне координаты, -- сказал Теэрц. -- У меня еще достаточно
боеприпасов и топлива. Могу я сделать вывод, что должен считать любых
тосевитов в этом районе враждебными Расе?
-- Это, несомненно, оперативное предположение, -- согласился Ааатос. Он
сделал паузу. -- Командир полета, вы позволите вопрос? Можете не отвечать,
но я был бы благодарен за ответ. Мы предположили, что темнокожие Большие
Уроды будут нам хорошо и верно служить в месте, которое мы им отвели. Эти
предположения были сделаны не случайно. Наши эксперты проиграли на
компьютере много сценариев. Но все они оказались неточными, а ваше опасение
-- правильным. Как бы вы могли это прокомментировать?
-- У меня впечатление, что ваши так называемые эксперты никогда не
имели возможности узнать, какими лгунами могут быть Большие Уроды, --
ответил Теэрц. -- И они никогда не бывали в ситуациях, когда по слабости они
должны говорить своим следователям то, что эти самцы хотят от них услышать.
А я бывал. -- И снова воспоминания о днях японского плена всплыли в памяти:
рука вцепилась в колонку управления самолета. -- Зная способности тосевитов
к вероломству, а также то, что следователи склонны к получению не
соответствующих истине данных, которые подтверждали бы желательные для них
версии, я и пришел к такому выводу.
-- Может быть, вы подумаете о переходе в разведывательные органы? --
спросил Ааатос. -- Точный анализ принес бы нам большую пользу.
-- Пилотируя истребитель, я тоже приношу пользу Расе.
Ааатос не ответил. Теэрц решил, что самец из разведки просто закончил
или же обиделся. Он выбросил это из головы. Эксперты исходили из глупых
предположений, основанных на их безупречной логике, и пришли к худшему
результату, чем тот, который получился бы, если бы они вообще ничего не
делали. Его рот открылся в горьком смехе. Так или иначе, но сюрпризом для
него все это не стало.
Дым от горящих лесов и полей показал, что он приближается к месту
достигнутого изменой прорыва американцев. Он видел несколько горящих танков
производства Расы и множество более медленных неуклюжих машин, используемых
Большими Уродами. Между ними были видны наступающие тосевиты. По их прямой
походке и резким движениям он безошибочно определил, что это именно они,
несмотря на то что пронесся над ними на большой скорости.
Он выпустил почти всю вторую емкость в самое большое скопление Больших
Уродов и отлетел подальше, чтобы развернуться для второго захода. Земля,
казалось, взорвалась мелкими желтыми язычками пламени выстрелов из ручного
оружия, которым уцелевшие пытались сбить его. Никто не отрицал, что тосевиты
проявляют большую смелость. Но временами одной смелости бывает недостаточно.
Теэрц сделал второй боевой заход. Столбы маслянистого черного дыма
отмечали погребальные костры -- боевым машинам тосевитов топливом служили
углеводородные соединения. Пилот тыкал когтем в кнопку "огонь" на колонке
управления, поливая местность артиллерийским огнем, пока световые сигналы не
предупредили о том, что осталось всего тридцать снарядов. По правилам теперь
он должен был прекратить огонь на случай нападения тосевитских самолетов при
возвращении на базу.
-- Чесотка на эти правила, -- пробормотал он и продолжил стрельбу, пока
у пушки не осталось боеприпасов совсем.
Он посмотрел на указатель топлива. Водород был тоже на исходе. Значит,
особой пользы от него на поле боя уже не будет. Он повернул к базе, чтобы
возобновить запасы топлива и боеприпасов. Если тосевитский прорыв не будет
ликвидирован к моменту, когда он закончит заправку, то, вероятно, его сразу
же снова пошлют в бой.
Самец Расы подвел заправщик к его истребителю, но разматывали шланг и
подключали к переходнику на носу машины двое Больших Уродов. Другие Большие
Уроды укладывали артиллерийские снаряды и прикрепляли две новые емкости с
ракетами под крылья самолета.
Во время работы тосевиты пели, эта музыка казалась чуждой слуховым
перепонкам самца, но глубокой, ритмичной и сильной. На них из одежды было
только то, что закрывало нижнюю часть тела, да еще обувь: их темнокожие
торсы блестели от охлаждающей влаги под лучами солнца, в которых даже Теэрц
чувствовал себя комфортно. Он настороженно смотрел на Больших Уродов. Очень
похожие самцы показали себя изменниками. Как он может быть уверен, что эти
парни, скажем, не уложат ракеты так, что они взорвутся раньше, чем будут
выпущены в воздух?
Он не может этого узнать наверняка, пока не выстрелит. Самцов Расы для
выполнения всего того, что требовалось, не хватало. Если бы не помогали
тосевиты, то все военные усилия давно захлебнулись бы. И близкий крах был
неминуем, если это осознают сами тосевиты.
Он постарался избавиться от этих мыслей. Электроника показала, что
истребитель готов к бою.
-- Докладывает командир полета Теэрц, -- сказал он. -- Я готов
вернуться в бой.
Вместо ожидаемого разрешения на взлет и нового приказа командир полетов
сказал:
-- Подождите, командир полета. Мы готовим для вас кое-что новое.
Оставайтесь на этой частоте.
-- Будет исполнено, -- сказал Теэрц, задумавшись, какая же чушь пришла
в головы его начальникам.
Поскольку было очевидно, что немедленно в бой его не пошлют, он вытащил
сосуд с имбирем из пространства между обшивкой кабины и ее стенкой и принял
хорошую порцию. Когда снадобье подействовало, он был готов выйти наружу и
убивать Больших Уродов голыми руками.
-- Командир полета Теэрц! -- загудел голос самца -- командира полетов в
звуковой таблетке, прикрепленной возле слуховой диафрагмы. -- С этого
момента вы освобождаетесь от службы на авиабазе Флориды. Вам приказано
направиться на нашу передовую базу в регионе, известном местным тосевитам
под названием Канзас, чтобы помочь Расе в захвате населенного центра,
носящего местное название Денвер. Полетные инструкции загружаются в ваш
бортовой компьютер во время данного разговора. Вам понадобится
дополнительный сбрасываемый бак водорода. Он будет вам предоставлен.
Естественно, к истребителю Теэрца подкатил еще один грузовик. Из него
вышли двое самцов, с помощью лебедки опустили на тележку бак в форме капли и
затем подвесили по под брюхо машины. Услышав стук когтей, Теэрц порадовался,
что Раса не доверила такую работу наемникам из Больших Уродов. Вероятность
несчастья была бы уж слишком высокой.
Он удивленно зашипел. Здесь, на этом фронте, тосевиты прорвались: он
прекрасно знал, что его бомбардировка их не остановила. Тем не менее
командир базы отправляет его служить на другой фронт. Означает ли это, что
Раса совершенно уверена, что остановит Больших Уродов здесь, или же что для
удара по... Денверу -- так, кажется, назвал его командир полетов? --
действительно отчаянно требуется его помощь? Наверняка спрашивать об этом
нельзя, но на месте он разберется сам.
Он проверил компьютер: действительно, в нем появилась информация,
необходимая для полета в Канзас. Очень кстати, сам он не знал даже, где на
этой планете находится названный регион. Техники закончили установку
сбрасываемого бака и вернулись в грузовик, тот отъехал.
-- Командир полета Теэрц, вам разрешается взлет, -- сказал начальник.
-- Сообщите передовой базе в Канзасе.
-- Будет исполнено.
Теэрц прибавил мощности двигателю и вырулил в конец взлетно-посадочной
полосы.
* * *
Когда бы в эти дни Джордж Бэгнолл ни входил в темноту псковского Крома,
он чувствовал, что и его собственный дух как бы погружается во мрак. Зачем
только Александр Герман упомянул о возможности отправить его, Кена Эмбри и
Джерома Джоунза обратно в Англию? Он уже смирился с пребыванием здесь, в
богом забытом уголке Советского Союза. Но крохотный лучик надежды на
возвращение домой сделал русский город и работу, которой он занимался,
совершенно невыносимыми.
Внутри Крома неподвижно застыли по стойке смирно немецкие часовые.
Стоявшие напротив них русские, большинство в мешковатой гражданской одежде,
а не в застиранных мундирах, не выглядели так щеголевато, но автоматы,
которые они держали в руках, были способны мгновенно перемолоть человека в
кашу.
Бэгнолл поднялся по лестнице в штаб-квартиру генерал-лейтенанта Курта
Шилла. На лестнице царила почти полная темнота: редкие окна-щели и масляные
лампы, попавшие сюда прямо из четырнадцатого столетия, давали света не
больше, чем надо, чтобы различить, куда поставить ногу. Каждый раз,
взобравшись наверх, он благодарил свою счастливую звезду за то, что не
сломал шею.
Он обнаружил, что Эмбри опередил его и теперь обменивается колкостями с
капитаном Гансом Делгером, адъютантом Шилла. Насколько Бэгнолл знал, Делгер
неодобрительно относился к англичанам, но держался корректно и вежливо.
Поскольку споры в Пскове часто разрешались не только словами, но и пулями,
вежливость была бесценной и бессмысленной редкостью.
Когда вошел Бэгнолл, Делгер приветствовал его первым.
-- Гутен таг, -- сказал он. -- Я уж подумал, что вы уподобились
партизанским командирам, но это было бы глупо. Скорее солнце сядет на
востоке, чем русский явится в оговоренное время.
-- Я думаю, что свойство опаздывать -- или по крайней мере не
беспокоиться о том, чтобы успеть вовремя, -- кроется в особенностях русского
языка, -- ответил по-немецки Бэгнолл. Он изучал немецкий язык в школе, а
русским овладел, только попав в Псков.
Многие немцы в Пскове, как это видел Бэгнолл, перестали считать русских
недочеловеками. Капитан Делгер не был в их числе.
Александр Герман прибыл с опозданием в двадцать минут, Николай Васильев
-- спустя еще двадцать минут. Ни один из них не выглядел ни обеспокоенным,
ни даже виноватым. В обществе партизан капитан Делгер был образцом военной
педантичности -- и неважно, что он говорил за их спинами. Бэгнолл воздал ему
должное за то, что он воплощал в себе те же черты, которые можно найти у
хорошего дворецкого.
Курт Шилл что-то буркнул, когда русские и англичане, которые должны
были смягчать советско-германские отношения, вошли в его кабинет. Судя по
бумагам, которыми был завален его стол, он не сидел без дела, пока ему
пришлось ждать.
Встреча была обычной перебранкой. Васильев и Александр Герман хотели,
чтобы Шилл направил на передовую больше солдат вермахта; Шилл хотел держать
их в резерве на случай прорыва, потому что они более мобильны и лучше
вооружены, чем их советские компаньоны. Это было похоже на начало шахматной
партии, когда какое-то время каждая сторона знает ходы, которые вероятнее
всего сделает другая, и знает, как на них ответить.
На этот раз -- неохотно, но убеждаемый Бэгноллом и Эмбри -- Курт Шилл
пошел на уступки.
-- Хорошо, -- утробно прогудел Николай Васильев. Его голос звучал,
словно рев медведя, проснувшегося после долгой зимней спячки. -- От вас,
англичан, есть кое-какая польза.
-- Я рад, что вы так считаете, -- сказал Бэгнолл, не ощущавший никакой
радости.
Если Васильев считал, что они здесь полезны, то, вероятно, и Александр
Герман тоже. Но если Александр Герман считает их полезными здесь, станет ли
он помогать им вернуться в Англию, как намекал?
По виду генерал-лейтенанта Шилла было ясно, что мир ему отвратителен.
-- Я по-прежнему настаиваю, что расходование нашего стратегического
резерва раньше или позже оставит вас без необходимых ресурсов на случай
кризиса, но мы будем надеяться, что данный конкретный случай не создаст
такой трудности. -- Он бросил взгляд в сторону Бэгнолла и Эмбри. -- Вы
свободны, джентльмены.
Он добавил это последнее слово для того, без сомнения, чтобы позлить
партизанских командиров, для которых "джентльменов" заменял на "товарищей".
Бэгнолл не стал задумываться над тонкостями языка, он поднялся с места и
быстро направился к двери. Следовало пользоваться любой возможностью уйти из
мрака Крома. Кен Эмбри без колебаний последовал за ним.
Яркий солнечный свет снаружи ослепил Бэгнолла. Всю зиму ему казалось,
что солнце ушло навсегда. Потом оно оставалось в небесах все дольше и
дольше, а с наступлением лета стало казаться, что оно вряд ли когда-либо
уйдет вообще. Река Пскова снова свободно несла свои воды. Лед весь растаял.
Земля бурно расцвела -- ненадолго.
На рыночной площади неподалеку от Крома сидели бабушки, они болтали
между собой, выставив для продажи или обмена яйца, свинину, спички, бумагу и
многие виды товаров, которые, по идее, давно уже должны были исчезнуть из
Пскова. Бэгнолл задумался: откуда они попадают к торговкам? Пару раз он даже
пытался спросить их об этом, но лица женщин тут же становились замкнутыми и
безразличными, и они делали вид, что не понимают вопросов. "Не ваше дело",
-- безмолвно говорили они.
С окраины города донеслось несколько редких выстрелов. На рыночной
площади все заволновались.
-- О, сумасшедший дом, -- воскликнул Бэгнолл: -- Неужели нацисты и
большевики снова лупят друг друга?
Звуки выстрелов звучали все ближе к площади. Вместе с ними приближался
тихий рев, который напомнил Бэгноллу о реактивных самолетах ящеров, но
доносился с высоты всего в несколько футов над землей. Нечто белое длинное и
тонкое пронеслось по рыночной площади, обогнуло церковь Михаила Архангела и
собор Троицы, а затем ударило в стену Крома. Взрыв сбил Бэгнолла с ног, и
тут же он увидел, как вторая белая стрела повторила курс своей
предшественницы и тоже ударила в Кром. Второй взрыв швырнул на землю Эмбри.
-- Летающие бомбы! -- закричал ему в ухо пилот.
Бэгнолл слышал Эмбри как с очень большого расстояния. После двух
взрывов его уши будто заткнуло ватой.
-- Долгое время они не трогали Кром. Должно быть, они нашли предателя,
который сообщил им, что штаб находился здесь.
Русский, обозленный необходимостью служить рядом с нацистами? Солдат
вермахта, вынужденный помогать войскам Красной Армии, которую он ненавидел
острее, чем любых ящеров? Бэгнолл не знал и догадывался, что никогда не
узнает. В конце концов, это не имеет значения. Главное -- это произошло,
разрушение сделано.
Он поднялся на ноги и побежал назад к крепости, которая когда-то была
сердцевиной, вокруг которой рос город Псков. Огромные серые камни устояли
против стрел и мушкетов. Против взрывчатых веществ, доставленных с большой
точностью, они были бесполезны, а может быть, даже хуже: когда они
обрушивались, то губили тех, кого пощадил взрыв. Во время блицкрига -- как
давно это было! -- кирпичные здания в Лондоне стали смертельными ловушками.
Над развалинами начал подниматься дым. Стены Крома были каменными, но
внутри находилось очень много дерева... и в каждой лампе горел огонь,
который теперь распространяется по горючему материалу.
Крики и стоны раненых достигли слуха ошеломленного Бэгнолла. Он увидел
руку, зажатую между двумя каменными блоками. Чертыхаясь, они с Эмбри
откатили один блок в сторону. Низ камня был в крови. Немецкий солдат,
раздавленный этими глыбами, уже не нуждался в помощи.
Мужчины и женщины, русские и немцы, бежали спасать своих товарищей.
Некоторые, более предусмотрительные, чем остальные, тащили бревна, чтобы
поднимать тяжелые камни. Бэгнолл присоединился к одной такой команде. С
грохотом вывернули камень. У парня, стонавшего внизу, была раздроблена нога,
но он еще мог выжить. Они нашли Александра Германа. Левая рука была
раздавлена, но в остальном он почти не пострадал. Красное месиво под
соседней глыбой размером с автомобиль -- все, что осталось от Курта Шилла и
Николая Васильева.
Между камнями начало пробиваться пламя. Слабое потрескивание, которое
сопровождало огонь, могло бы звучать весело, но оно вызывало ужас. Солдаты,
попавшие в каменные ловушки, кричали: пламя достигало их, прежде чем к ним
могли подобраться спасатели. Дым становился все гуще, он душил Бэгнолла,
заставляя течь слезы, и жег легкие так, словно они сами горели. Джордж
словно работал внутри дровяной печи. Все чаще он чувствовал запах горящего
мяса. Слабея -- потому что он знал, что это было за мясо, -- он все же
старался спасти как можно больше людей, сколько будет в его силах.
Мало, мало. Ручные насосы гнали воду в огонь из реки, но не
справлялись. Пламя заставляло спасателей отступать от пострадавших, спасая
собственную жизнь.
Бэгнолл в безнадежном отчаянии посмотрел на Кена Эмбри. Лицо пилота
было измученным и черным от сажи, на которой стекавшие капли пота прочертили
несколько чистых полосок. У него был ожог на щеке и порез под глазом с
другой стороны. Бэгнолл был уверен, что сам выглядит не лучше.
-- Какого черта мы теперь будем здесь делать? -- спросил он. Его рот
был полон дыма, словно он разом выкурил три пачки сигарет. Когда он сплюнул,
слюна оказалась темно-коричневой -- почти черной. -- Германский комендант
мертв, один из русских командиров тоже, второй ранен...
Эмбри вытер лоб тыльной стороной ладони. Поскольку она была такой же
грязной, как и лоб, цвет не изменился ни там, ни тут.
-- Будь я проклят, если знаю, -- устало ответил пилот. -- Собрать все
по кускам и продолжить, сколько сможем, я полагаю. А что еще?
-- Здесь -- ничего, -- сказал Бэгнолл. -- Но вот оказаться в Англии в
весеннее время...
Мечта улетучилась, размозженная, словно рука Александра Германа.
Остались только руины Пскова. Ответ Эмбри был лучшим из возможных. Несмотря
на то, что оставался гнусным.
* * *
Возвещавшие налет сирены вопили, как грешники в аду. о котором с таким
удовольствием рассказывали польские католические священники. Мойше Русецкий
не верил в вечное наказание. Теперь, пережив воздушные налеты в Варшаве,
Лондоне и Палестине, он начал подозревать, что ад в конечном счете может
оказаться чем-то реальным.
Дверь его камеры открылась. В проеме стоял угрюмый охранник. В обеих
руках он держал по автомату "стэн". Даже для него это было, пожалуй,
многовато. Затем, к удивлению Русецкого, охранник протянул один автомат ему.
-- Вот, возьмите, -- нетерпеливо сказал он. -- Вас освобождают.
Он вытащил из-за пояса пару магазинов и также отдал Русецкому. Судя по
их весу, они были полностью снаряжены.
-- Обращайтесь с ними бережно, как с женщиной, -- посоветовал охранник.
-- Они легко сгибаются, особенно в верхней части, и потом не получается
правильной подачи.
-- Что значит "освобождают"? -- потребовал ответа Мойше почти с
возмущением.
События опережали его. Даже с оружием в руках он не чувствовал
безопасности. Они что, выпустят его из этой камеры, позволят дойти до угла и
затем прошьют пулями? Подобные трюки устраивали нацисты.
Охранник раздраженно выдохнул.
-- Не будьте глупцом, Русецкий. Ящеры вторглись в Палестину, не
прерывая переговоров с нами. Похоже, они собираются победить здесь, поэтому
мы делаем все, чтобы продемонстрировать им свою лояльность, -- создаем
англичанам неприятности, которые придутся по вкусу этим тварям. Но мы не
хотим, чтобы вы оказались между нами и ящерами. Когда они потребуют выдать
вас после окончания боев, мы не хотим оказаться в ситуации, когда вынуждены
будем сказать либо "да", либо "нет". Вы -- не наш. Теперь дошло?
Каким-то безумным образом Мойше понял. Еврейское подполье могло
удерживать его, не признаваясь ящерам, что они это делают, но теперь это
стало слишком рискованно.
-- А моя семья? -- спросил он.
-- Я бы уже отвел вас к ним, если бы вы не тянули резину, -- сказал
охранник.
Мойше негодующе запротестовал, охранник попросту повернулся к нему
спиной, предоставив Мойше сделать выбор -- последовать за ним или остаться
здесь. Он пошел.
Он шел по коридорам, которых не видел прежде. До сих пор они всегда
сами приводили к нему Ривку или Рейвена, а не наоборот. Повернув за угол, он
почти наткнулся на Менахема Бегина.
-- Ну, вы были правы, Русецкий, -- сказал лидер подполья. -- Ящерам
нельзя доверять. Мы будем вести себя с ними как можно лучше и тем самым
сделаем их жизнь жалкой. Как вам это нравится?
-- Могло быть и хуже, -- ответил Мойше. -- Но могло быть и лучше. Вам с
самого начала следовало встать рядом с англичанами против ящеров.
-- И пойти на дно вместе с ними? А ведь они обязательно пойдут ко дну.
Нет, благодарю покорно.
Бегин двинулся по коридору.
-- Подождите, -- вслед ему сказал Мойше. -- Прежде чем вы меня
отпустите, по крайней мере скажите, где я нахожусь.
Лидер подполья и угрюмый охранник засмеялись.
-- Это верно, вы никак не могли узнать этого, -- сказал Менахем Бегин.
-- Теперь нам уже не повредит, если вы будете это знать. Вы в Иерусалиме,
Русецкий, неподалеку от стены храма, которая все еще стоит.
Неуклюже махнув рукой, он поспешил куда-то по своим делам.
Иерусалим? Мойше стоял, озираясь. Охранник исчез за углом, не заметив,
что его подопечный встал как вкопанный, затем выглянул из-за угла и
нетерпеливо помахал рукой. Словно проснувшись, Мойше двинулся вперед.
Охранник снял ключ с пояса и открыл дверь -- такую же, как и все
остальные.
-- Что вы хотите? -- воскликнула Ривка пронзительным от тревоги
голосом. Затем она увидела за широкой спиной рослого охранника своего мужа.
-- Что происходит? -- спросила она совершенно другим тоном.
Мойше быстро пересказал слова охранника. Он не знал, поверила ли она.
Он и сам не слишком верил в происходящее, хотя автомат в руках был мощным
аргументом в пользу того, что ему лгут не во всем.
-- Поторапливайтесь, -- сказал охранник. -- Вам надо уйти отсюда прямо
сейчас.
-- Дайте нам денег, -- сказала Ривка.
Мойше с досадой покачал головой. Он об этом даже не думал. В отличие от
охранника. Тот полез в карман брюк и вытащил свернутые в трубочку купюры,
которых до войны было бы достаточно, чтобы сделать человека богачом, а
теперь едва хватило бы на пропитание -- пока он не найдет работу. Мойше
передал деньги Ривке. Охранник фыркнул, а он нагнулся, чтобы обнять Рейвена.
-- Ты знаешь, где мы находимся? -- спросил он сына.
-- В Палестине, разумеется, -- насмешливо ответил Рейвен, удивляясь,
что это с отцом.
-- Не просто в Палестине -- в Иерусалиме, -- сказал Мойше.
Охранник снова фыркнул, на этот раз -- увидев, как удивленно
распахнулись глаза Рейвена. Он сказал только:
-- А теперь все уходим.
Короткие ножки мальчика едва поспевали за широкими шагами охранника,
выводившего их на улицу. Мойше взял Рейвена за руку, чтобы помочь сыну не
отставать.
"Как странно, -- думал он, -- держать Рейвена одной рукой и автомат
"стэна" другой". Он хотел бороться с ящерами с тех пор, как они в Польше
сделали его обманщиком. Он боролся с ними как врач и как журналист. Теперь
он взял в руки оружие. Мордехай Анелевич убеждал его. что это не лучшее для
него оружие, но все же это лучше, чем ничего.
-- Здесь.
Охранник отодвинул дверной засов. Двери и засов выглядели так, как
будто могли выстоять против всего, кроме танка. Охранник буркнул что-то
невнятное, отодвигая мощные створки лишь настолько, чтобы Мойше и его семья
смогли протиснуться в щель. Как только они оказались на улице, он сказал:
-- Желаю удачи.
Дверь за ними закрылась.
Лязг засова, возвращающегося на место, прозвучал финальным аккордом.
Мойше посмотрел вокруг. Быть в Иерусалиме и не осмотреться казалось
грехом. Вокруг царил хаос. Прежде он видел такое в Варшаве. В Лондоне хаоса
было меньше: англичане подвергались бомбежкам задолго до того, как он прибыл
туда, и научились справляться с этим, как умели... и во всяком случае они
были гораздо более флегматичными, чем поляки, или евреи, или арабы.
Семья Русецких прошла пару кварталов. Затем кто-то заорал на них:
-- Прочь с улицы, дураки!
Только когда Мойше добежал до арки, он понял, что кричали на
английском, а не на идиш или иврите. Солдат, одетый в хаки, вопреки
собственному совету, стрелял по самолетам ящеров над головой.
-- Он не сможет их сбить, папа, -- серьезно сказал Рейвен: за свою
короткую жизнь он уже стал специалистом по воздушным налетам. -- Он не знает
этого?
-- Знает, конечно, -- ответил Мойше. -- И все равно он старается,
потому что он смелый.
Бомбы падали, но не очень близко: война обострила слух Мойше. Он слышал
резкий свист в небе, затем снова взрывы. Стена, к которой он прислонился,
сотрясалась.
-- Это не бомбы, папа, -- воскликнул Рейвен -- да, теперь он стал
знатоком в подобных вещах. -- Это артиллерия.
-- Ты снова прав, -- сказал Мойше.
Если ящеры обстреливают Иерусалим артиллерийским огнем, значит, они
недалеко. Ему захотелось убежать из города, но как? Куда надо идти?
Ударила новая волна снарядов, на этот раз ближе к ним, в воздухе
свистели осколки. Дом напротив превратился вдруг в кучу щебня. Арабская
женщина с покрывалом на лице, платком на голове и в платье до земли
выскочила из двери соседнего дома и побежала в поисках нового убежища,
словно жук, прятавшийся под камнем, который затем потревожили. Всего в
нескольких метрах от нее в землю ударил снаряд. После этого она уже не могла
бежать. Она лежала, корчилась и кричала.
-- Она тяжело ранена, -- сказал Рейвен пугающим тоном знатока.
Мойше подбежал к ней. Он понимал, что без лекарств и инструментов мало
чем может помочь.
-- Осторожнее! -- закричала вслед ему Ривка.
Он кивнул, но усмехнулся про себя. Как он может быть здесь осторожным!
Это зависело от снарядов, а не от него.
Женщина лежала в луже крови. Она причитала по-арабски, которого Мойше
не понимал. Он сказал ей, что он врач -- студент-медик звучало бы не слишком
убедительно, -- на немецком, идиш, польском и английском. Она не понимала ни
одного языка. Когда он попытался оторвать кусок ткани от платья, чтобы
забинтовать рану высоко на ноге, она стала отбиваться, будто подумала, что
он собирается изнасиловать ее прямо здесь. Может быть, она и в самом деле
думала так.
Подошел мужчина-араб.
-- Что ты тут делаешь, еврей? -- спросил он на плохом иврите, затем
повторил на ужасном английском.
-- Я -- доктор. Я стараюсь помочь ей, -- ответил Мойше также на двух
языках.
Мужчина перевел его слова на быстрый, как огонь, арабский язык.
Посредине его речи женщина перестала сопротивляться. Но не потому, что
покорилась. Мойше схватил ее за запястье. Пульса не было. Когда он отпустил
ее руку и та упала, араб понял, что это означает.
-- Иншаллах, -- сказал он и перевел на английский: -- Божья воля. Добро
вам за помощь, еврейский доктор.
Поклонившись, он ушел.
Качая головой, Русецкий вернулся к своей семье. Обстрел начал стихать.
Прижимаясь ближе к стенам, Мойше повел жену и сына по улицам Иерусалима. Он
не знал, чего ищет. Наверное, выход из города, какое-нибудь укрытие -- или
краешек Стены Плача.
Но прежде чем он нашел хоть что-нибудь, в нескольких сотнях футов на
улице вспыхнула перестрелка.
-- Это ящеры? -- воскликнула Ривка.
-- Не думаю, -- ответил Мойше. -- Скорее, это еврейские повстанцы
напали на англичан.
-- Ой! -- одновременно сказали Ривка и Рейвен.
Мойше печально склонил голову.
Стрельба -- из винтовок, автоматов, пулеметов, временами хлопки
минометов -- распространялась во всех направлениях словно лесной пожар.
Через пару минут семья Русецких уже пряталась в арке ворот, а повсюду вокруг
свистели и отскакивали пули. Несколько британских солдат в касках, в
рубашках и шортах хаки выскочили на улицу. Один заметил Мойше и его семью.
Он прицелился в них и закричал:
-- Не двигайтесь или будете трупами, еврейские ублюдки!
И только тут Мойше вспомнил про автомат, который лежал на земле возле
него. "Так дорого заплатить за то, чтобы взять в руки оружие", -- подумал
он.
-- Возьмите автомат, -- сказал он англичанину. -- Мы сдаемся.
Солдат громко спросил:
-- Можно взять пленных, сэр?
Русецкий сначала не понял, в чем дело. Затем до него дошло: если бы
солдат не получил разрешения, то застрелил бы их и побежал дальше. Мойше был
готов броситься к автомату. Если он должен погибнуть, он погибнет в бою.
Но парень со звездочками второго лейтенанта на погонах сказал:
-- Да, отведи их обратно в центр задержания. Если мы начнем убивать их,
эти безумцы будут уничтожать наших.
Он говорил безмерно горько и печально. Мойше надеялся, что Ривка не
поняла его слов.
Британский солдат подскочил и забрал автомат.
-- Встать! -- приказал он. Когда Мойше поднялся, солдат выхватил у него
магазины. -- Руки вверх! Если опустите руки, будете мертвыми -- ты, баба,
отродье, любой.
Мойше повторил приказ на идиш, чтобы жена и сын все поняли.
-- Марш! -- гаркнул англичанин.
Они подчинились. Солдат привел их на бывшую рыночную площадь. Колючая
проволока и посты с пулеметами вокруг превратили ее в лагерь для пленных. С
одной стороны находилась высокая стена, сложенная из больших камней, она
выглядела так, будто стоит на этом месте вечно. На верху стены располагалась
мечеть, золотой купол которой портила дыра, пробитая снарядом.
Мойше понял, что это за стена, только когда британский солдат загнал
его с семьей в эту большую клетку из колючей проволоки. Здесь они и
остались. Единственными санитарными устройствами были помойные ведра возле
колючей проволоки. У некоторых людей были одеяла, у большинства их не было.
Ближе к полудню охранники стали раздавать хлеб и сыр. Порции здесь были
побольше, чем в варшавском гетто, но не намного. Бочки для воды были
снабжены обычными ковшиками. Мойше помрачнел -- здесь должны кишеть болезни.
Он и его семья провели две неприятные холодные ночи -- спали,
обнявшись, на холодной голой земле. Артиллерийские снаряды падали повсюду,
некоторые -- в опасной близости. Если бы хоть один попал внутрь огороженного
колючей проволокой периметра, бойня получилась бы ужасной. Утром третьего
дня Иерусалим сотрясли сильные взрывы.
-- Англичане отступают! -- воскликнул кто-то уверенным юном. -- Они
взрывают то, что не могут унести с собой.
Мойше не знал, был ли прав этот парень, но незадолго до того охранники
бросили свои посты, прихватив с собой пулеметы.
Не прошло и нескольких минут после их исчезновения, как на площади
появились другие вооруженные люди: бойцы из еврейского подполья. Пленники
хрипло поздравляли друг друга, когда товарищи освобождали их из заключения.
Но вместе с евреями пришли ящеры. Мойше оцепенел: вот тот, возле ворот,
это не Золрааг? И в тот самый момент, когда он узнал этого ящера, Золрааг
узнал его и возбужденно зашипел:
-- Вот кто нам нужен, -- и добавил усиливающее покашливание.
* * *
-- Наконец-то прогресс! -- сказал Атвар.
Приятный морской бриз овевал его. Он шел вдоль северного берега
небольшого треугольного полуострова, который отделял Египет от Палестины.
Тепло, песок, камни напоминали ему о Доме. Это была очень приятная страна --
и тем не менее он должен был добираться сюда на вертолете, потому что
Большие Уроды не побеспокоились о необходимом количестве дорог.
Рядом с ним шел Кирел и некоторое время молчал: возможно, командир
корабля тоже вспоминал о мире, который он оставил ради вящей славы
Императора. Пара покрытых перьями летающих существ пролетела мимо двух
самцов. У них не было ничего общего с летающими существами, имеющими
кожистые крылья, с которыми Атвар был знаком до приезда на Тосев-3, лишний
раз напомнив ему, что это чужой мир. Самцы и самки, которые вылупятся здесь
после того, как прибудет флот колонизации, будут считать этих тосевитских
животных вполне обычными, непримечательными. А сам он вряд ли когда-нибудь
привыкнет к ним.
Он не думал также, что когда-нибудь сможет привыкнуть к Большим Уродам.
Но его не покидала надежда завоевать этот мир, несмотря ни на что.
-- Прогресс! -- повторил он. -- Наиболее важные центры Палестины в
наших руках, наступление на Денвер в целом более или менее
удовлетворительно... и мы теперь можем праздновать победу.
Не ответить означало для Кирела признаться, что он считает ошибочным
мнение командующего флотом. Подвергаясь опасности опалы, самец намекал на
это уже несколько дней. Поэтому Кирел сказал лишь:
-- Истинно. В этих областях мы наступаем.
К сожалению, ответ напомнил Атвару о многих других местах, где Раса
по-прежнему не могла наступать: о Польше, где создавали проблемы немцы; о
Китае, где захваченные города и дороги жались в сельской местности, словно в
море мятежа, и где даже контроль над городами временами был иллюзорным; о
СССР, где успехи на западе были сведены на нет советским наступлением в
Сибири; о центральной части Соединенных Штатов, где ракеты сделали уязвимыми
звездные корабли; об Индии, где Большие Уроды не особенно сопротивлялись, но
соглашались скорее умереть, чем подчиниться Расе.
Он шел сюда не для того, чтобы вспоминать о таких местах, и решительно
отодвинул их в дальний угол своей памяти. Даже уродливые летающие существа,
напоминавшие ему, что он очень далек от Родины, не портили это место,
предназначенное для отдыха, для наслаждения приличной -- более чем приличной
-- погодой и для того, чтобы заниматься чем-то очень приятным.
И, решительно переключившись, он сказал:
-- Наконец-то нам попались в руки этот агитатор, Мойше Русецкий, вместе
с ним его самка и их детеныш. Мы можем контролировать его через них или
совершить акт возмездия за многочисленные неприятности, которые он доставил
нам. Это тоже прогресс.
-- Также истинно, благородный адмирал. -- Поколебавшись, Кирел добавил:
-- Прежде чем наказать его, как он того заслуживает, следует, может быть,
допросить его, чтобы точно узнать, почему он выступил против нас, хотя
сотрудничал с нами вначале. Несмотря на все его последующие пропагандистские
выступления, полной ясности в этом вопросе так и не наступило.
-- Я хочу, чтобы он был наказан, -- сказал Атвар. -- Измена Расе --
неискупимое преступление.
Это было не совсем верно, в особенности на Тосев-3. Раса поддерживала
добрые отношения с Большими Уродами, которые приняли ее покровительство:
восстанавливать их против себя означало создать больше проблем, чем решить.
Но условия на Тосев-3 создавали двусмысленность и сомнения в великом
множестве вопросов. Почему же именно с этим должно быть по-другому? Атвар
высказался за букву закона.
-- Он обязательно будет наказан, благородный адмирал, -- сказал Кирел,
-- но в свое время. Давайте вначале узнаем от него все, что сможем. Мы ведь
не Большие Уроды, чтобы действовать неосмотрительно и уничтожить возможность
без того, чтобы узнать, как мы можем ее использовать. Мы будем стараться
править тосевитами в течение будущих тысячелетий. И то, что мы узнаем от
Русецкого, может дать нам ключ к тому, как делать это лучшим образом.
-- Ах, -- сказал Атвар. -- Теперь мои хеморецепторы чувствуют еще и
запах. Да, возможно, так и следует поступить. Как вы сказали, он в наших
руках, поэтому наказание, хотя и неизбежное, не должно быть проведено
поспешно. Несомненно, он должен чувствовать, что мы наказываем его по праву.
Этот мир постоянно заставляет меня спешить. Я должен вспоминать снова и
снова, что должен сопротивляться этому.
На встречу с нацистами Мордехай Анелевич отправился в компании взвода
евреев с автоматами и винтовками.
По взмаху его руки отряд спрятался за деревьями. Если на встрече
произойдет что-нибудь неладное, немцы дорого заплатят. Еще пару лет назад
еврейские бойцы не умели так ловко двигаться в чаще. Теперь
напрактиковались.
Анелевич шел по тропе к поляне, где должен был встретиться с нацистами.
После разговора с поляком, который называл себя Тадеуш, Анелевич был
настроен сомневаться во всем, что немец собирается сказать ему. С другой
стороны, он должен был бы сомневаться в любых предложениях Ягера и без
разговора с Тадеушем.
Как его проинструктировали, он остановился прежде, чем выйти на поляну,
и просвистел несколько первых нот из Пятой симфонии Бетховена. Он нашел, что
немцы сделали довольно забавный выбор: эти ноты соответствовали коду Морзе
для буквы "V" -- символа победы антифашистского подполья до нашествия
ящеров. Но когда кто-то просвистел мелодию в ответ, он двинулся дальше по
лесной тропе и вышел на открытое пространство.
Здесь стоял Ягер и рядом с ним высокий широкоплечий человек со шрамом
на лице и блеском в глазах. Из-за шрама трудно было определить выражение
лица этого крупного мужчины: Мордехай не мог определить, изображало ли оно
дружескую улыбку или злобную усмешку. Немец был в гимнастерке рядового, но
он был таким же рядовым, как Анелевич -- священником.
Ягер сказал:
-- Добрый день.
И протянул руку. Мордехай пожал ее: Ягер всегда был честен по отношению
к нему. Полковник-танкист сказал:
-- Анелевич, это полковник Отто Скорцени, который доставил ящерам
больше неприятностей, чем любые десять человек на ваш выбор.
Мордехай упрекнул себя за то, что не узнал Скорцени. Пропагандистская
машина немцев распространила о нем массу материалов. Если он в самом деле
сделал хоть четверть того, что говорил Геббельс, он был, несомненно, живым
героем. Теперь он протянул руку и прогудел:
-- Рад познакомиться с вами, Анелевич. Ягер сказал, вы с ним старые
друзья.
-- Да, мы знаем друг друга, штандартенфюрер. -- Мордехай согласился на
рукопожатие, но умышленно использовал эсэсовский ранг Скорцени вместо
воинского эквивалента, который назвал Ягер. "Я знаю, кто вы".
"Вот как?" -- высокомерно ответили глаза Скорцени.
Вслух он сказал:
-- Разве это не будет приятно? Неужели вы не хотите дать ящерам сапогом
по шарам, которых у них нет?
-- Им или вам -- мне безразлично.
Анелевич сказал это свободным непринужденным тоном. Скорцени произвел
на него большее впечатление, чем он того ожидал. Похоже, он не беспокоился о
том, будет он жить или умрет. Такое Мордехай видел и раньше, но никогда
фатализм не сочетался с таким количеством безжалостной энергии. Если
Скорцени умрет, он сделает все, чтобы его сопровождала достойная компания.
Он тоже изучал Анелевича, явно стараясь приучить его к своему
присутствию. Мордехай не отводил взгляда. Если бы эсэсовец попробовал
сделать что-то дурное, то пожалел бы. Но вместо этого он рассмеялся.
-- Все в порядке, еврей, перейдем к делу. У меня есть маленькая игрушка
для ящеров, и мне нужна некоторая помощь, чтобы доставить ее прямо в центр
Лодзи, где от нее будет больше всего пользы.
-- Звучит интересно, -- сказал Мордехай. -- Что же это за игрушка?
Расскажите мне о ней.
Скорцени прижал пальцем нос сбоку и подмигнул.
-- Это чертовски большая имбирная бомба, вот что это. Не просто
порошкообразное снадобье, как вы подумали, а аэрозоль, который заполнит все
сразу на большой площади и будет держать ящеров в отравленном состоянии, так
что они не смогут опомниться длительное время. -- Он наклонился вперед и
продолжил, понизив голос. -- Мы пробовали его на пленных ящерах, и
действовал он потрясающе. Вытряхивал им мозги.
-- Впечатляюще, -- ответил Анелевич.
"Если, конечно, он говорит правду. Но говорит ли? Если ты -- мышь,
пустишь ты в свою норку кота, который несет сыр?" Но лгал Скорцени или не
лгал, он этого, по крайней мере, ничем не показывал. Если же по странной
случайности он говорил правду, то имбирная бомба действительно может вызвать
хаос. Мордехай легко представил себе, как ящеры бьются друг с другом,
одурманенные имбирем настолько, что не в состоянии рассуждать здраво или же
вообще утратили способность думать.
Ему хотелось верить Скорцени. Если бы не туманное предостережение
Ягера, он вполне мог поверить. Что-то в этом эсэсовце заставляло собеседника
подчиняться его желаниям. Анелевич и сам в определенной степени обладал
таким даром и умел обнаруживать его в других -- а Скорцени превосходил его и
в том, и в другом.
Анелевич решил несколько обострить разговор, чтобы понять, что
скрывается за псевдоискренним фасадом.
-- Какого черта я должен верить вам? -- спросил он. -- Разве СС не
приносит евреям одни только беды?
-- СС приносит беды любым врагам рейха.
В голосе Скорцени прозвучала гордость. По-своему он был -- или казался
-- честным. Анелевич не понял, что предпочтительнее для него -- эта
честность или же лицемерие, к которому он был готов. Скорцени продолжил:
-- Кто теперь самый опасный враг рейха? Вы, жиды? -- Он покачал
головой. -- Конечно, нет. Опаснее всего ящеры. О них мы беспокоимся в первую
очередь, а уж потом -- обо всем прочем дерьме.
До нашествия ящеров самым опасным врагом рейха был Советский Союз. Это
не удержало нацистов от создания в Польше лагерей смерти, стоивших им
средств, которые можно было использовать для борьбы с большевиками.
Анелевич сказал:
-- Ну хорошо, предположим, вы изгоните ящеров из Лодзи и Варшавы. Что
тогда будет с нами, евреями?
Скорцени развел своими большими руками и пожал плечами.
-- Я не занимаюсь политикой. Я только убиваю людей. -- Удивительно, его
улыбка осталась обезоруживающей даже после того, как он произнес эти слова.
-- Вы не хотите быть с нами, а мы не хотим, чтобы вы были с нами, так что,
может быть, мы вышлем вас куда-нибудь. Кто знает? Может быть, на Мадагаскар:
была такая идея перед нашествием ящеров, но мы тогда не владели морями. --
Его кривая улыбка стала злобной. -- А может быть, даже и в Палестину. Черт
его знает -- как я обычно говорю.
Он был многословен. Он был убедителен. Своими рассуждениями он все
больше пугал.
-- Зачем использовать эту штуку в Лодзи? -- спросил Мордехай. -- Почему
не на фронте?
-- По двум причинам, -- отвечал Скорцени. -- Во-первых, в тылу в одном
месте сконцентрировано гораздо больше врагов. А во-вторых, у большинства
ящеров на фронте имеются защитные средства против газовых атак, которые
могут уберечь и от имбиря. -- Он хмыкнул. -- Имбирь -- это газовая война,
газ счастья, но все равно газ.
Анелевич повернулся к Генриху Ягеру.
-- А что вы думаете об этом? Она будет действовать? Если бы вам
потребовалось, вы применили бы ее?
На лице Ягера ничего не отражалось. Впрочем, Мордехай помнил, оно
вообще мало что показывало. Он уже почти пожалел о том, что сделал, -- он
задал самый жгучий в данный момент вопрос своему другу и союзнику в
вермахте. Ягер кашлянул и заговорил:
-- Я участвовал в стольких операциях с полковником Скорцени, что все и
не упомню.
Скорцени громко расхохотался. Не обращая на это внимания, Ягер
продолжил:
-- И я никогда не видел, чтобы он потерпел неудачу после того, как
поставил перед собой цель. Если он говорит, что это сработает, то лучше
прислушаться к нему.
-- О, я слушаю, -- сказал Анелевич. Он снова обратился к Отто Скорцени.
-- Итак, герр штандартенфюрер, что вы будете делать, если я скажу, что мы не
хотим иметь ничего общего с этим? Вы все равно попытаетесь доставить ее в
Лодзь?
-- Абер натюрлих! [Ну естественно! (нем.) -- Прим. перев.] --
Австрийский акцент Скорцени придавал его голосу аристократическую нотку,
уместную скорее для жителя Вены конца прошлого столетия, чем для нацистского
головореза. -- Мы так легко от своих планов не отказываемся Мы это сделаем,
с вами или без вас. С вашим участием, может быть, будет проще, и вы, евреи,
заслужите нашу благодарность. А поскольку мы собираемся выиграть войну и
править в Польше, мое предложение не кажется вам неплохой идеей?
"Вперед. Сотрудничайте с нами". Скорцени говорил напрямую. Мордехай
удивился, если бы обнаружил в нем утонченность. Он вздохнул.
-- Раз уж вы все представили таким образом, то...
Скорцени хлопнул его по спине, и достаточно сильно -- тот покачнулся.
-- Ха! Я знал, что вы -- умный еврей. Я...
Шум в лесу заставил его прерваться. Анелевич быстро сообразил, что это.
-- Значит, на нашу встречу вы захватили с собой друзей? Они должны были
устранить меня?
-- Я же сказал, что вы -- умный еврей, не так ли? -- ответил Скорцени.
-- Как скоро мы начнем? Я не люблю ждать попусту.
-- Дайте мне вернуться в Лодзь и подготовиться к доставке нашей
небольшой поклажи, -- сказал Мордехай. -- Я знаю, как связаться с
полковником Ягером, а он, вероятно, знает, как войти в контакт с вами.
-- Вероятно, да, -- сухо подтвердил Ягер.
-- Уже неплохо, -- сказал Скорцени, -- только не тяните черт знает
сколько, это все, что я хочу вам сказать. Помните, с вами или без вас, это
произойдет. И ящеры еще пожалеют о дне, когда выползли из своих яиц.
-- Вы вскоре услышите обо мне, -- пообещал Мордехай.
Он не хотел, чтобы Скорцени делал все один, что бы он там ни замышлял.
Эсэсовец способен достичь успеха. Он действительно сможет доставить ящерам
неприятности, но Анелевич не стал бы биться об заклад, что и евреи при этом
не пострадают.
Он громко свистнул, давая знак своим людям направиться вперед в Лодзь,
кивнул Ягеру и Скорцени и покинул поляну. В течение всего пути он был очень
задумчив.
-- Насколько все-таки мы доверяем немцам? -- задал он вопрос в
помещении пожарной команды на Лутомирской улице. -- Насколько мы можем
доверять немцам, в особенности после того, как один из них предупредил нас о
том, чтобы мы не доверяли?
-- Timeo Danaos et donas ferentes [Бойтесь данайцев, дары приносящих
(лат.). -- Прим. ред.], -- ответила Берта Флейшман.
Мордехай кивнул: он получил светское образование, и латынь успела ему
надоесть. Для тех, кто не знал Вергилия, Берта Флейшман перевела: "Я боюсь
греков, даже приносящих подарки".
-- Это точно, -- сказал Соломон Грувер.
Этот пожарный с резкими чертами обветренного лица выглядел
борцом-призером, хотя в 1939 году он был сержантом польской армии. Ему
удалось утаить это от нацистов, которые иначе его могли бы ликвидировать. И
это же сделало его чрезвычайно полезным для еврейского подполья: в отличие
от большинства соратников ему не надо было учиться военному делу с азов.
Он подергал себя за густую с проседью бороду:
-- Я временами думаю, что Нуссбойм был в конечном счете прав: лучше
жить под ящерами, чем с этими нацистскими, хлопающими бичом, mamzrim
[Надсмотрщиками (ивр.). -- Прим. пер.].
-- В любом случае мы вытащили короткую соломинку, -- сказал Мордехай.
Сидящие за столом согласно закивали. -- При нацистах короткая соломинка
достанется только нам, но она будет покрыта кровью. При ящерах ее получат
все, но, возможно, дело обернется не так плохо, как при немцах. -- Он
печально вздохнул. -- Значит, нужна сделка?
-- Так что же нам делать? -- не выдержал Грувер.
Это не было военным вопросом или, скажем, не совсем невоенным. Он
предоставлял руководство другим -- иногда даже заставлял других руководить
-- в политических решениях, затем имел железное собственное мнение, но
почему-то стеснялся руководить сам.
Все смотрели на Анелевича. Частично потому, что он встречался с
немцами, частично потому, что люди привыкли смотреть на него. Он сказал:
-- Я не думаю, что у нас есть выбор. Мы должны взять эту штуку у
Скорцени. В таком случае у нас будет какой-то контроль над ней, неважно, чем
это кончится.
-- Троянский конь? -- предположила Берта Флейшман.
Мордехай кивнул.
-- Верно. То, что задумано. Но Скорцени сказал, что сделает это с нами
или без нас. И я верю ему. Мы совершим серьезную ошибку, если не будем
воспринимать этого человека со всей серьезностью. Мы возьмем это,
постараемся разобраться, что это такое, и уйти отсюда. В противном случае он
найдет какой-нибудь способ доставить бомбу в Лодзь тайно, не оповещая нас...
-- Вы в самом деле думаете, что он справится? -- спросил Грувер.
-- Я говорил с этим человеком. Он способен на все, -- ответил Мордехай.
-- Единственный способ уберечься -- это изображать кучку доверчивых
shlemiels, которые верят всему, что он говорит. Может быть, тогда он доверит
нам выполнить для него грязную работу, не заглядывая внутрь этого троянского
коня.
-- А если это действительно самая большая в мире имбирная бомба, как он
говорит? -- спросил кто-то.
-- Тогда ящеры окажутся втянутыми в крупномасштабные беспорядки прямо в
центре Лодзи, -- ответил Мордехай. -- Alevai omayn -- вот все, что мы
получим.
* * *
-- Т-т-тома, -- ликующе произнес тосевитский детеныш и посмотрел прямо
на Томалсса.
Его подвижное лицо изобразило гримасу удовольствия.
-- Да, я -- Томалсс, -- согласился психолог.
Детеныш не умел контролировать собственные выделения, но уже учился
говорить. Насколько мог себе представить Томалсс, Большие Уроды были весьма
своеобразным видом.
-- Т-т-тома, -- повторил детеныш, добавив для большей точности
усиливающее покашливание.
Томалсс задумался, на самом ли деле он выделяет его имя или просто
воспроизводит другой, похожий на слово, звук, уже известный ему.
-- Да, я -- Томалсс, -- снова сказал он.
Если Большие Уроды обучаются языку способом, похожим на тот, который
используют детеныши Расы, то многократное прослушивание слов поможет ему
выучить их. В освоении речи он уже показал себя более зрелым, чем детеныши
Расы: и если он изучал слова, то усваивал их быстро. Но в координации он
уступал даже детенышам, еще сырым от жидкости собственного яйца.
Он повторил имя еще раз, но тут его внимания потребовал коммуникатор.
Психолог подошел к экрану и увидел Плевела.
-- Благородный господин, -- сказал он, включив свою видеокамеру, чтобы
Ппевел тоже мог его видеть. -- Чем могу служить вам, благородный господин?
Помощник администратора восточной части основной континентальной массы
не тратил времени на вежливость. Он сказал:
-- Подготовьте детеныша, который вышел из тела тосевитки по имени Лю
Хань, для немедленного возвращения на поверхность Тосев-3.
Томалсс давно знал, что этот удар близок. Он не смог удержаться от
шипения, выражающего боль.
-- Благородный господин, я должен обратиться к вам, -- сказал он. --
Детеныш находится в начале освоения языка. Отказаться от проекта означает
отринуть знания, которые невозможно получить другим способом, и нарушить
принципы научных исследований, которые Раса традиционно использует
независимо от обстоятельств.
Более веского аргумента он не нашел.
-- Традиции и Тосев-3 все в большей мере доказывают свою
несовместимость, -- ответил Ппевел. -- Я повторяю: подготовьте детеныша к
немедленной отправке на Тосев-3.
-- Благородный господин, будет исполнено, -- печально ответил Томалсс.
Послушание было нерушимым принципом Расы, незыблемой _традицией_. Несмотря
на это, он сделал еще одну попытку: -- Я протестую против вашего решения и
прошу, -- он не мог требовать, поскольку Ппевел был выше его рангом, --
чтобы вы сказали мне, почему вы приняли такое решение.
-- Я объясню вам причины -- или, скорее, причину, -- ответил помощник
администратора. -- Она очень проста: Народно-освободительная армия делает
жизнь в Китае невыносимой для Расы. Их недавняя акция, которая была
проведена день назад, включила в себя взрыв нескольких артиллерийских
снарядов крупного калибра, что привело к потерям большим, чем мы можем
допустить. Самцы из Народно-освободительной армии -- и одна обозленная
самка, детеныш которой находится у вас, -- пообещали сократить подобные
действия в обмен на возвращение этого детеныша. Такая сделка показалась мне
вполне стоящей.
-- Самка Лю Хань по-прежнему занимает высокий ранг в совете этой
бандитской группировки? -- хмуро спросил Томалсс.
Он был так уверен, что сумеет опозорить ее. Его план так хорошо
соответствовал психологии Больших Уродов. Но Ппевел ответил:
-- Да, она на своем посту и по-прежнему настаивает на возвращении
детеныша. Это стало нашим политическим долгом. Возвращение детеныша к
тосевитской самке Лю Хань может превратить этот долг в пропагандистскую
победу, которая приведет к уменьшению военного давления на наши силы в
Пекине. А поэтому в третий раз повторяю -- подготовьте детеныша для
немедленного возвращения на Тосев-3.
-- Будет исполнено, -- с досадой сказал Томалсс.
Ппевел этого не слышал: он уже отключился, без сомнения, затем, чтобы
не слышать дальнейших возражений Томалсса. Получилось грубо. Томалсс, к
сожалению для него, находился в таком положении, когда ему оставалось только
возмущаться.
Он должен был обдумать, что имел в виду Ппевел, говоря "немедленно". Он
должен позаботиться о том, чтобы тосевитский детеныш был обеспечен сухими
обертками, закрывающими его выделительные отверстия; эти обертки должны
также плотно охватывать ноги и среднюю часть тела детеныша. Спуск на
поверхность будет проходить в состоянии невесомости, и меньше всего он хотел
бы, чтобы извержения тела тосевита плавали вокруг него в корабле-челноке.
Если такое случится, то и пилот этому не обрадуется.
Он подумал, что следовало бы сделать что-то и со ртом детеныша. Было
известно, что Большие Уроды в невесомости страдают обратной перистальтикой,
как будто они извергают случайно проглоченный яд. Раса ничем подобным не
страдает. Томалсс приготовил несколько пакетов чистой ткани для обтирки, на
всякий случай.
Детеныш тем временем весело болтал. Звуки, которые он издавал теперь,
уже походили на те, которые использовались Расой, с учетом того, что
формировались несколько иным речевым аппаратом. Томалсс издал еще один
шипящий вздох. Теперь ему придется начать все заново с новым детенышем, и
пройдут годы, прежде чем он узнает все, что ему требуется в познании
тосевитского языка.
В открытой двери остановился Тессрек. Он не стал снимать решетку,
которую Томалсс установил, чтобы не допустить выхода детеныша в коридор, а
просто принялся насмехаться.
-- Я слышал, вы наконец-то избавляетесь от этой ужасной штуки. Я не
буду сожалеть, что наконец-то перестану видеть его -- и нюхать -- позвольте
мне сказать это.
Вряд ли Тессрек узнал новость от Ппевела. Но Ппевел мог обратиться к
самцу, который надзирал над Тессреком и Томалссом, чтобы убедиться в
исполнении приказа. И этого было достаточно, чтобы слух распространился
повсюду.
Томалсс сказал:
-- Идите заниматься собственными исследованиями, и пусть с ними
обойдутся так же бесцеремонно, как и с моими. У Тессрека открылся рот от
иронического смеха.
-- Мои исследования в отличие от ваших продуктивны, поэтому я не боюсь,
что они будут урезаны.
После этого он ушел, и вовремя, потому что Томалсс вполне мог швырнуть
в него чем-нибудь.
Немного спустя самец в красной с серебром раскраске пилота челнока с
сомнением -- одним глазом -- посмотрел через решетку в двери. Второй он
направил на Томалсса, сказав:
-- Готов ли Большой Урод к переезду, исследователь? В тоне его голоса
предостерегающе звучало "лучше, чтобы он был готов".
-- Он готов, -- недовольно сказал Томалсс. Изучив раскраску тела этого
самца еще раз, он добавил еще более недоброжелательным тоном: -- Благородный
господин.
-- Хорошо, -- сказал пилот челнока. -- Между прочим, я -- Хеддош.
Он назвал Томалссу свое имя так, словно был убежден, что исследователь
должен знать его.
Томалсс поднял тосевитского детеныша. Это было не так легко, как тогда,
когда существо только вышло из тела самки Лю Хань: оно стало гораздо больше
и тяжелее. Томалссу пришлось поставить мешок с запасами, который он взял с
собой, чтобы открыть решетку, и при этом детеныш едва не выскользнул из его
рук. Хеддош насмешливо фыркнул. Томалсс посмотрел на него: тот явно не
представлял трудностей, связанных с содержанием детеныша другого вида, чтобы
тот был жив и здоров.
Переход в челнок восхитил детеныша. Несколько раз он замечал что-то
новое и говорил "это" -- иногда с вопросительным покашливанием, иногда нет.
-- Он говорит? -- спросил Хеддош с удивлением.
-- Да, -- холодно ответил Томалсс. -- Он научился бы говорить еще
лучше, если бы мне дали продолжить мой эксперимент.
Теперь же детеныш должен будет освоить ужасные звуки китайского языка
вместо элегантного, точного и -- по мнению Томалсса -- прекрасного языка
Расы.
Лязгающий шум дверей шлюзов челнока напугал детеныша, и он плотно
прильнул к Томалссу. Тот успокаивал его, как мог, все еще стараясь увидеть в
случившемся светлую сторону. Единственное, что пришло ему в голову: до тех
пор, пока он не получит другого только что появившегося детеныша Больших
Уродов, он некоторое время может позволить себе вволю поспать.
Новые лязгающие звуки показали, что челнок отделился от звездного
корабля, к которому он был пришвартован. В отсутствие центробежной силы,
которая имитирует гравитацию, челнок перешел в состояние невесомости.
Томалсс с облегчением заметил, что детеныш не испытывал заметного
дискомфорта. Казалось, что новые ощущения он находит интересными, может
быть, даже приятными. Данные показывали, что у самки Лю Хань были точно
такие же реакции. Томалсс подумал, не передались ли они по наследству.
Это был долгосрочный исследовательский проект, думал он. Может быть,
кто-нибудь другой сможет начать его в безопасных условиях после окончания
завоевания. Он задумался: наступит ли когда-нибудь день, когда завоевание
закончится и воцарится безопасность. Произошло немыслимое -- Раса пошла на
уступки тосевитам в переговорах. Это сделал Ппевел, согласившись на передачу
им детеныша. Если вы начали делать уступки, то где же вы остановитесь? Мысль
была леденящей.
Раздался рев ракетного двигателя челнока. Ускорение швырнуло Томалсса
на сиденье и прижало к нему детеныша. Тот испуганно заплакал. Он снова его
успокоил, хотя вес детеныша привел его в состояние, далекое от комфорта.
Детеныш замолк до окончания ускорения и радостно завопил, когда вернулась
невесомость.
Томалсс задумался, смогла бы самка Больших Уродов Лю Хань так хорошо
обращаться с детенышем, даже если бы он находился при ней после того, как
вышел из ее тела? Он сомневался.
* * *
Когда Отто Скорцени вернулся к месту расположения танкового полка, он
улыбался от уха до уха.
-- Счисти с подбородка перья канарейки, которую ты сожрал, -- сказал
ему Генрих Ягер.
Эсэсовец сделал вид, что и в самом деле вытирает лицо. Ягер не выдержал
и расхохотался. Все-таки у Скорцени был стиль. Проблема состояла в том, что
было слишком много всего остального.
-- Свершилось, -- прогудел Скорцени. -- Евреи клюнули на эту историю,
как простодушная красотка, бедные проклятые дураки. Они прикатили телегу,
чтобы перевезти подарок, и пообещали, что проскользнут с ним мимо ящеров. Я
рассчитываю, что они управятся лучше, чем я сам. А как только они это
проделают...
Ягер откинул назад голову и провел указательным пальцем по горлу.
Скорцени кивнул, хмыкнув при этом.
-- На какое время поставлен таймер? -- спросил Ягер.
-- На послезавтра, -- ответил Скорцени. -- То есть у них будет
достаточно времени, чтобы доставить бомбу в Лодзь. Бедные глупые ублюдки. --
Он покачал головой, возможно, даже выражая искреннюю симпатию. -- Я
удивлюсь, если узнаю, что кто-нибудь когда-то в прошлом проделал такую
большую работу для самоубийства.
-- Масада, -- ответил Ягер, выкопав название из давно прошедших времен
-- еще до Первой мировой войны, -- когда он хотел стать археологом и изучать
Библию. Он понял, что для Скорцени это ничего не значит, и объяснил: -- Это
целый гарнизон, в котором воины перебили друг друга, вместо того чтобы
сдаться римлянам.
-- На этот раз их будет больше, -- сказал эсэсовец. -- Гораздо больше.
-- Да, -- рассеянно ответил Ягер.
Он не мог понять: Скорцени ненавидит евреев по убеждению или потому,
что получил приказ ненавидеть их? В конце концов, какое это имеет значение?
Он в любом случае проявлял бы по отношению к ним такую же гениальную
жестокость.
Дошло ли его послание до Анелевича? Ягер не переставал думать об этом
после встречи в лесу. Анелевич тогда не подал ему руки. Значит, он получил
послание и не поверил ему? Или он получил его, поверил, но не смог убедить
своих товарищей, что оно правдиво?
Способа проверить нет, тем более -- отсюда. Ягер покачал головой. Скоро
он все узнает. Если евреи в Лодзи послезавтра погаснут, как множество
свечей, значит, его послание было сочтено лживым.
Скорцени обладал звериной настороженностью.
-- В чем дело? -- спросил он, видя, как Ягер качает головой.
-- Да так, ничего. -- Полковник-танкист надеялся, что его голос
прозвучал обычно. -- Думаю о сюрпризе, который они получат в Лодзи -- так,
немного.
-- Если немного, то хорошо, -- сказал Скорцени. -- Глупые бараны. Они
ведь знают, что лучше не доверять немцам, но нет -- они идут прямо в пасть.
-- И он сардонически заблеял. -- И кровь агнца будет на дверях всех домов.
Ягер смотрел с удивлением: он не мог представить Скорцени знатоком
Священного Писания. Штандартенфюрер СС хмыкнул.
-- Фюрер мстит евреям, но кто знает? Мы ведь убьем и сколько-то ящеров.
-- Все будет еще лучше, -- ответил Ягер. -- Ты вырвешь сердце из
заселенного людьми района Лодзи, и после этого ничто уже не удержит
чешуйчатых сукиных сынов от выхода из города. Они смогут ударить по нашим
базам севернее и южнее Лодзи и разрезать нас пополам Вот это слишком высокая
цена за месть фюрера, если хочешь знать мое мнение.
-- Твое мнение никого не интересует. В отличие от мнения фюрера, --
сказал Скорцени. -- Он сказал мне это сам -- он хочет, чтобы эти евреи были
мертвыми евреями.
-- Могу ли я спорить? -- сказал Ягер.
Ответ был простым: он не мог. Поэтому он сделал попытку обойти личный
приказ фюрера, так ведь? Что ж, если кто-нибудь когда-нибудь обнаружит, что
он сделал, он в любом случае будет мертвым. Мертвее мертвого он не станет.
"Нет, но они могут сделать долгим процесс превращения живого в мертвого", --
подумал он, проникаясь тревогой.
Он бросился на землю за мгновение до того, как подсознательно услышал
свист снарядов, летящих с востока. Скорцени растянулся возле него, закрывая
руками шею. Где-то неподалеку кричал раненый. Обстрел длился около
пятнадцати минут, затем прекратился
Ягер поднялся на ноги.
-- Нам надо переместить лагерь! -- закричал он. -- Они знают, где мы
находимся. Нам на этот раз повезло -- насколько я понял, это были обычные
снаряды, а не эти их особые штуки, которые плюются минами по большой
площади, так что и люди, и танки не осмеливаются высунуться из щелей. По
всем признакам, этих маленьких красавиц у них теперь не хватает, но они их
применят, если поймут, что выигрыш того стоит. Мы этого им не позволим.
Едва он кончил говорить, как ожили первые двигатели танков. Он гордился
своими людьми. Большинство были ветеранами, прошедшими сквозь все, что
обрушили на них русские, британцы и ящеры. Они понимали, что делать и о чем
побеспокоиться, и создавали минимум хлопот и неразберихи. Скорцени был
гениальным разбойником, но управлять таким полком, как этот, не смог бы. У
Ягера были свои таланты, которыми не следовало пренебрегать.
Пока полк менял свое местоположение, у Ягера не было времени думать об
ужасе, который должен произойти в Лодзи и который приближался с каждым
тиканьем таймера. Скорцени прав: евреи дураки, раз доверились какому-то
немцу. Теперь вопрос стоял так: в отношении какого именно немца они
оказались дураками, поверив ему?
И на следующий день он был слишком занят, чтобы беспокоиться об этом.
Контратака ящеров заставила немцев отступить на запад на 6 или 8 километров.
Танки полка один за другим превращались в обожженный и искореженный
металлолом: два -- от огня танковых орудий, прочие -- от противотанковых
ракет, которые использовала пехота ящеров. Единственный танк ящеров был
подбит рядовым вермахта, который бросил с дерева бутылку "коктейля Молотова"
прямо в башню через открытый люк, когда танк проезжал мимо. Это произошло
перед заходом солнца и, похоже, само по себе остановило наступление
противника. Ящерам не нравилось терять танки.
-- Нам надо сделать кое-что получше, -- сказал он своим людям, когда
ночью они ели черный хлеб и колбасу. -- Мы не можем больше допускать ошибок,
если не хотим быть погребенными здесь.
-- Но, герр оберст, -- сказал кто-то, -- когда они двигаются, то делают
это чертовски быстро.
-- Хорошо, что у нас глубокая защита, иначе они бы смели нас сразу, --
сказал кто-то еще.
Ягер кивнул, радуясь тому, как люди сами анализируют ситуацию. Именно
так германские солдаты и должны действовать. Они ведь не просто
невежественные крестьяне, которые выполняют приказы, не думая о них, как
красноармейцы. Они обладают мозгами и воображением -- и используют их.
Он уже собирался развернуть походную постель под своей "пантерой",
когда в лагере появился Скорцени. Эсэсовец притащил кувшин водки, которую он
нашел бог знает где, и пустил его по кругу, чтобы каждый мог сделать глоток.
Это была неважнецкая водка -- ее запах напомнил Ягеру выдохшийся керосин, --
но все равно лучше, чем вообще ничего.
-- Размышляешь, не собираются ли они снова ударить по нам утром? --
спросил Скорцени.
-- Пока это не произойдет, наверняка не знаю, -- ответил Ягер, -- но
если тебя интересуют предположения, то скажу -- нет. Теперь они наступают,
когда думают, что обнаружили слабое место, но сразу же ослабляют напор, как
только мы показываем силу.
-- Они не могут позволить себе такие потери, которые неизбежны при
наступлении на сильное соединение, -- злобно сказал Скорцени.
-- Думаю, ты прав. -- Ягер бросил взгляд на эсэсовца. -- Мы могли бы
использовать этот нервно-паралитический газ здесь, на фронте.
-- А, ты бы сказал так, даже если бы все было спокойно, -- возразил
Скорцени. -- Делается то, что должно произойти, и именно там, где надо, --
проворчал он. -- Я хочу, чтобы твои радисты были готовы к перехватам
сообщений на эту тему. Если ящеры не сожгут все частоты, я съем свою шляпу.
-- Прекрасно. -- Ягер демонстративно зевнул. -- В данный момент я
собираюсь спать. Хочешь заползти сюда? Самое безопасное место, если они
снова начнут обстрел. Я хорошо знаю, как ты храпишь, но думаю, что переживу.
Скорцени рассмеялся. Гюнтер Грилльпарцер сказал:
-- Он тут не единственный, кто храпит.
Выданный собственным наводчиком, Ягер устроился на ночь. Пару раз он
просыпался от звуков перестрелки. Наступление началось на рассвете, но --
как он и предсказывал -- ящеры были больше заинтересованы в закреплении
того, что завоевали в предыдущий день, чем в преодолении усиливающегося
сопротивления.
Отто Скорцени не обманывал, когда говорил, что надеется на бдительность
радистов. Для вящей надежности он болтался среди них и развлекал бесконечным
потоком непристойностей. Большинство рассказов были неплохими, а некоторые
оказались в новинку даже для Ягера, который считал, что слышал уже все
когда-либо придуманное в этом жанре.
Когда утро уступило место полдню, нервы Скорцени начали сдавать. Он
метался по лагерю, пиная грязь и расшвыривая весенние цветы.
-- Черт побери, мы уже должны были перехватить что-нибудь от евреев или
ящеров Лодзи, -- бушевал он.
-- Может быть, все они мертвы? -- предположил Ягер.
Эта мысль ужаснула его, но могла успокоить Скорцени. Но большой
эсэсовец только покачал головой.
-- Надеяться на это не приходится. В таких обстоятельствах обязательно
кто-то выживает по той или иной глупой случайности.
Ягер вспомнил о сквернослове Максе, еврее, выжившем в Бабьем Яру.
Скорцени был прав.
-- Нет, что-то где-то ушло на юг.
-- Думаешь, таймер не сработал, как надо? -- спросил Ягер.
-- Считаю, что это возможно, -- согласился Скорцени, -- но зажарьте
меня вместо шницеля, если я когда-нибудь слышал об отказе таймера. Они
защищены не только от дурака, но и от идиота, а кроме того -- они
продублированы. Рассылая товар вроде этого, мы хотим быть уверены, что он
подействует, как указано в рекламе. -- Он хмыкнул. -- Это то самое качество,
которое люди, не любящие нас, называют немецкой аккуратностью, а? Нет,
единственно, от чего эта бомба могла не сработать...
-- Что? -- спросил Ягер, хотя у него была своя идея. -- Раз в ней был и
резервный таймер, то он должен был сработать.
-- Единственно, от чего эта бомба могла не сработать... -- задумчиво
повторил Скорцени. Его серые глаза широко раскрылись. -- Единственно, от
чего эта бомба могла не сработать, так только из-за этого вонючего
маленького жида, который отводил мне глаза, и суньте меня в дерьмо, если он
своего не добился! -- Он хлопнул себя по лбу. -- Ублюдок! Дерьмо! Наглец!
Если я еще раз встречусь с ним, отрежу ему шары, по одному. -- Затем, к
удивлению Ягера, он засмеялся. -- Он обвел меня, как сосунка. Не думал, что
кто-то из живых людей способен такое проделать. Я бы пожал ему руку, но
после того, как кастрировал, не раньше. Говоришь "глупый жид" и считаешь это
само собой разумеющимся, и вот на тебе. Иисус Христос!
"Тоже ведь еврей", -- подумал Ягер, но вслух сказал:
-- И что теперь? Если евреи в Лодзи узнают, что это такое, -- ("А если
знают или предполагают, то это благодаря мне, и как я теперь должен себя
чувствовать?"), -- то в их руках окажется нечто такое, что они смогут
использовать против нас.
-- И думать не хочу, -- с отвращением -- то ли к евреям, то ли к себе
-- сказал Скорцени.
Он не привык проигрывать. И вдруг просиял. На мгновение он снова
проявил свою дьявольскую суть.
-- А может, нам накрыть город ракетами или обстрелять из дальнобойной
артиллерии, чтобы подорвать эту проклятую штуку, хотя бы затем, чтобы евреи
не смогли использовать ее против нас? -- Он печально всхлипнул. -- Но
результат будет слишком уж кровавый.
-- Тоже верно, -- согласился Ягер, словно симпатизируя ему. -- Ракеты
нанесут мощный удар, но ты не можешь быть уверен, что они вообще попадут в
город, не говоря уже о нужной улице.
-- Хотел бы я иметь несколько тех игрушек, которые умеют делать ящеры,
-- сказал Скорцени, все еще обиженный на весь свет. -- Они могут попасть не
только в нужную улицу. Они могут в качестве цели выбрать твою комнату. Черт
возьми, они могут залететь даже в нужник, если пожелают. -- Он почесал
подбородок. -- Ладно, так или иначе, евреи за это заплатят. И одним из тех,
кто соберет эту плату, буду я.
Он произнес это с большой уверенностью.
* * *
В одной из комнат главного госпиталя армии и флота в Хот-Спрингс было
собрано столько автомобильных аккумуляторных батарей, что пришлось даже
укрепить пол, чтобы он выдержал их вес. Среди оборудования, захваченного у
ящеров и питавшегося от этих батарей, был и радиоприемник, снятый с челнока,
на котором Страха спустился на землю, когда сбежал в Соединенные Штаты.
Теперь они с Сэмом Игером сидели перед приемником, перебирая частоты
одну за другой, стараясь определить, что собирается делать Раса. До
настоящего времени им удалось поймать не так уж много. Страха не без
удовольствия повернулся к Игеру и спросил:
-- Сколько наших самцов вы используете в практике шпионажа и сбора
сигналов?
-- Сколько? Кто знает, -- ответил Сэм. Если бы он даже и знал, он не
сказал бы это Страхе. Одно из правил, которое он усвоил, состояло в том, что
не следует никому говорить, будь то человек или ящер, того, что тот не
должен знать. -- Но много, порядочно. Немногие из нас, Больших Уродов, -- он
непроизвольно воспользовался кличкой, которой ящеры одарили человечество, --
говорят на вашем языке настолько хорошо, чтобы понимать без помощи кого-то
из нас.
-- Вы, Сэм Игер, по моему мнению, можете добиться успеха, -- сказал
Страха, и Сэм почувствовал себя чертовски польщенным.
Он подумал, что овладел бы языком ящеров еще лучше, если бы ему не
требовалось проводить время с Робертом Годдардом. С другой стороны, он узнал
бы намного больше о ракетах, если бы ему не требовалось проводить время со
Страхой и другими пленными ящерами.
И он куда больше знал бы о своем маленьком сынишке, если бы он не
служил в армии. Не говоря уже о Барбаре: он беспокоился о том, что мало
видится с нею. Не хватало часов в сутках, в году, в жизни, чтобы сделать
все, что ему хотелось. Это верно во все времена, но во время войны стараться
охватить все означает где-то прищемить нос.
Страха коснулся рычажка изменения частоты. Цифры ящеров на указателе
говорили о том, что новая частота на одну десятую мегагерца выше прежней
(точнее, примерно на одну восьмую мегагерца -- ящеры, естественно,
использовали свою систему измерений, отличающуюся от человеческой). Из
громкоговорителя раздался голос самца.
Игер наклонился вперед и начал вслушиваться. Очевидно, ящер находился в
тылу и жаловался на ракеты, которые падали неподалеку, нарушая снабжение
войск, наступающих на Денвер.
-- Это хорошая новость, -- сказал Сэм, делая запись.
-- Истинно так, -- согласился Страха. -- Ваши рискованные шаги в
неисследованные технологии приносят хороший выигрыш вашему роду. Если бы
Раса была так же склонна к новшествам, Тосев-3 была бы давно завоевана --
при условии, конечно, что Раса не превратилась бы в новаторском раже в
радиоактивную пыль.
-- Вы думаете, что мы сотворили бы это и сами, если бы не ваше
вторжение? -- спросил Сэм.
-- Это весьма вероятно, -- ответил Страха, и Игер почти согласился с
ним.
Бывший командир переключил радио на другую частоту. На этот раз речь на
языке ящеров звучала сердито.
-- Он приказывает снять с должности, понизить в ранге и перевести
местного командующего в регион под названием Иллинойс, -- сказал Страха.
Игер кивнул. -- А где это место, Иллинойс?
Сэм показал по карте. Он тоже вслушивался.
-- Что-то о группе пленников, сбежавших или спасенных или что-то
подобное. Парень, который ругается, в самом деле прав, не так ли?
-- Если сказать какому-то самцу, что кто-то нагадил в его яйцо до того,
как он вылупился, драка гарантирована, -- сказал Страха.
-- Верю. -- Сэм еще некоторое время послушал сообщение. -- Они
переводят этого некомпетентного офицера в штат Нью-Йорк. -- Он сделал
запись. -- Это стоит запомнить. Если повезет, мы тоже сможем использовать
его слабость.
-- Истинно, -- снова сказал Страха задумчивым голосом, -- вы, Большие
Уроды, активно используете разведывательные данные, которые собираете, а вы
их собираете в огромных количествах. А в собственных конфликтах вы делаете
то же самое?
-- Не знаю, -- ответил Игер, -- раньше я никогда не был на войне, и на
этой войне я тоже простой человек.
Он вспомнил о временах игры в бейсбол и о значках, которые воровал он
вместе со своими товарищами. В этом деле Остолоп Дэниелс показал себя
настоящим гением. Он задумался, что сейчас с Остолопом -- если он вообще
жив.
Страха переключился на следующую частоту. Какой-то ящер возбужденным
голосом читал длинное запутанное сообщение.
-- А, вот это особенно интересно, -- сказал Страха, когда сообщение
закончилось.
-- Я не все понял, -- признался Сэм, смущенный похвалой Страхи за
владение языком ящеров. -- Что-то об имбире и обмане калькулятора, вот что
там было.
-- Обман не калькулятора, а компьютера, -- сказал Страха. -- Я не
осуждаю вас за то, что вы не все понимаете. Вы, Большие Уроды, хотя и имеете
большие достижения в технике, пока что не осознаете реального потенциала
вычислительных машин.
-- Наверное, нет, -- сказал Игер. -- Мы к тому же не понимаем, как
можно с их помощью совершать преступления.
У Страхи открылся рот от изумления.
-- Совершить преступление легко. Самцы в бухгалтерском отделе
превращали выплаты поставщикам имбиря в счета, о которых знали только они,
поставщики имбиря и, конечно, компьютер. Поскольку больше никто не знал о
существовании этих счетов, то непосвященный в их тайну не мог иметь к ним
доступа. Компьютеры не объявляли об их наличии, так что, по существу, схема
была идеальна.
-- У нас есть поговорка: идеальных преступлений не бывает, -- заметил
Игер. -- А что пошло неправильно у них?
Страха рассмеялся снова.
-- От случайностей ничто не защищено. Самец в бухгалтерском отделе, не
участвовавший в преступном сговоре, проверял один законный счет и, набрав
его номер, обнаружил, что видит один из скрытых счетов. Он сразу же понял,
что это такое, и доложил вышестоящим, которые начали более широкую проверку.
Многие самцы окажутся теперь в трудном положении.
-- Надеюсь, вы не рассердитесь, если скажу вам, что услышанное меня не
расстроило, -- сказал Сэм. -- Кто бы мог подумать, что Раса превратится в
наркоманов? Вы становитесь почти такими же, как люди. Не обижайтесь.
-- Я постараюсь, -- с достоинством сказал Страха.
Игер сохранял невозмутимое выражение лица: Страха уже довольно точно
истолковывал человеческие эмоции, и Игеру не хотелось, чтобы тот понял,
насколько смешным он порой бывает.
Игер сказал:
-- Вряд ли мы как-нибудь сможем использовать эту новость, разве что она
заставит некоторых из ваших соплеменников задуматься, кем в действительности
являются самцы, не употребляющие имбиря. Что-то в этом духе.
-- У вас злобно вывернутый разум, Сэм Игер, -- сказал Страха.
-- Благодарю вас, -- ответил Игер.
Страха в испуге резко повернул оба глаза в его сторону и рассмеялся,
поняв, что это шутка. Игер предложил:
-- Вы можете поговорить с нашими людьми, которые занимаются
пропагандой, и спросить, не захотят ли они, чтобы вы выступили по радио по
этому поводу. Кто знает, во что это выльется?
-- С кем именно? -- спросил Страха. -- Я сделаю это.
Это не было обычным "будет исполнено" -- употребляемым ящерами
эквивалентом "есть, сэр!" -- но прозвучало более уважительно, чем обычно.
Мало-помалу Игер завоевывал у Страхи уважение.
Когда его смена закончилась, он направился к лестнице, чтобы подняться
к Барбаре и Джонатану, но наткнулся в холле на Ристина и Ульхасса. Эти двое
военнопленных-ящеров были его старыми друзьями, он взял их в плен еще летом
1942 года, когда нашествие ящеров только началось и казалось неудержимым. В
данное время они стояли на верном пути превращения в американцев и с
гордостью носили свою официальную раскраску, обозначавшую американских
военнопленных, -- красно-белую с голубым. За прошедшее время они вполне
прилично освоили английский язык.
-- Эй, Сэм, -- сказал Ристин, -- как насчет бейсбола после полудня?
-- Да, -- эхом отозвался Ульхасс. -- Бейсбола! -- И добавил усиливающее
покашливание.
-- Может, попозже, не сейчас, -- ответил Сэм, на что оба ящера ответили
разочарованным шипением.
Благодаря своим быстрым и точным движениям они стали удивительно
способными игроками -- особенно в середине поля, -- и их охотно принимали в
игру. Вдобавок малый рост и врожденный наклон вперед обеспечивали их зоной
удара размером в почтовую марку, поэтому они хорошо подходили на роль
игрока, начинающего игру, -- вернее, самца, начинающего игру, -- даже если
сильный удар по мячу им удавалось нанести нечасто.
-- Прекрасная погода для игры, -- сказал Ристин, стараясь уговорить
Сэма.
Многие солдаты в свободное время играли в мяч, но Ристин и Ульхасс были
всего лишь ящерами, которые присоединялись к игре. А Игера зазывали все как
профессионального игрока, набравшегося опыта за долгие годы. Но теперь
Ристина и Ульхасса все чаще отличали не за их чешую, а за то, как они
играли.
-- Может быть, попозже, -- повторил Сэм. -- Сейчас я хочу увидеть жену
и сына, если вы не очень возражаете.
Ящеры покорно вздохнули. Они знали, что значит семья для тосевитов, но
не ощущали реальности этого -- точно так же, как Игер не воспринимал нутром,
как много значит для них их драгоценный Император. Он пошел к лестнице. А
Ристин и Ульхасс стали отрабатывать подачу. Ристин, который большей частью
играл вторым, чертовски быстро выполнял поворот.
На четвертом этаже Джонатан жаловался на несовершенство мира. Слушая
его вой, Сэм радовался тому, что живущих на этом же этаже ящеров нет дома и
они не слышат шума, который и Сэма временами немного раздражал, а ведь он
был человеческим существом.
Плач прекратился внезапно. Сэм знал, что это значит: Барбара дача
ребенку грудь. Сэм улыбнулся, открывая дверь в комнату. Он тоже любил груди
жены.
Барбара сидела на стуле и кормила Джонатана. Она уже не выглядела такой
ужасно измученной, как сразу после родов, но до прежней бойкости было
далеко.
-- Привет, дорогой, -- сказала она, -- не закроешь ли дверь тихо? Он
может уснуть. Он буйствовал так, что, должно быть, очень устал.
Сэм отметил грамматическую точность речи, характерную для его жены. Он
иногда завидовал ее высшему образованию, сам он бросил школу ради бейсбола,
хотя ненасытная любознательность заставляла его постоянно изучать
грамматику. Барбара никогда не жаловалась на недостаток у него формального
образования, но сам он очень страдал.
Джонатан все же уснул. Ребенок подрос, теперь в колыбели он занимал
больше места, чем сразу после рождения. Сэм коснулся руки жены и сказал:
-- У меня есть для тебя подарок, дорогая. Вообще-то он для нас обоих,
но тебе достанется первой. Я удерживался целое утро, поэтому думаю, что
смогу подождать еще немного.
Он сумел заинтриговать ее.
-- Что у тебя такое? -- выдохнула она.
-- Ничего особенного, -- предупредил он. -- Не алмаз и не открытый
автомобиль.
Они оба рассмеялись, хотя смех был нерадостным. Пройдет немало времени
-- если оно вообще когда-нибудь наступит, -- чтобы можно было начать думать
о прогулке в открытом автомобиле. Он сунул руку в карман и вытащил новую
трубку из кукурузного початка и кожаный кисет с табаком.
-- Вот.
Она удивленно раскрыла глаза.
-- Где ты добыл это?
-- Один цветной рано утром был у нас и продавал это, -- ответил Сэм. --
Он из северной части штата, там еще выращивают табак. Обошлось в пятьдесят
баксов, но не беда. Все равно деньги тратить не на что, так почему бы нет?
-- Я вовсе не против. Да нет, я -- за! -- Барбара сунула пустую трубку
в рот. -- Такую никогда раньше не курила. Я, наверное, похожа на бабушку из
южных штатов.
-- Милая, для меня ты всегда прекрасна, -- сказал Игер.
Выражение лица Барбары смягчилось. Поддерживать у жены хорошее
настроение не так уж сложно -- в особенности если вы вкладываете смысл в
каждое высказываемое слово. Он потыкал пальцем в кисет.
-- Ты хотела бы, чтобы я набил трубку для тебя?
-- Да, пожалуйста, -- сказала она.
У него была зажигалка "Зиппо", заправленная теперь не специальной
жидкостью, а самогоном. Он с ужасом думал, что когда-нибудь закончатся
кремни, но пока этого не случилось. Он крутанул колесико большим пальцем.
Бледное, почти невидимое пламя горящего спирта возникло над нею. Он поднес
его к табаку, в чашке трубки.
Щеки Барбары запали, когда она стала втягивать в себя дым.
-- Осторожнее. -- предупредил Сэм. -- Трубочный табак гораздо крепче,
чем тот, который в сигаретах, и...
Их глаза встретились. Она закашлялась, словно захлебнувшись.
-- ...ты в последнее время вообще не курила, -- закончил он уже без
всякой необходимости.
-- Ничего себе! -- Ее голос стал скрежещущим. -- Помнишь тог отрывок из
"Тома Сойера"? "Первые трубки... но когда я потерял свой ножик", что-то
вроде этого. Теперь я понимаю, что чувствовал Том. Очень крепкий табак.
-- Дай мне попробовать, -- сказал Сэм и взял у нее трубку.
Он осторожно затянулся. Он был знаком с трубочным табаком и знал, что
может сделать с человеком любой табак, если ты некоторое время не курил. Но
Барбара была нрава: этот табак был дьявольски крепким. Его следовало бы
обрабатывать -- для смягчения -- минут пятнадцать, может быть, даже
двадцать. При курении возникало такое ощущение, словно скребли грубой
наждачной бумагой по языку и небу. Слюна заливала рот. Примерно на секунду
он почувствовал головокружение, почти потерю сознания -- хотя знал, что не
следует набирать много дыма в легкие. Он тоже пару раз кашлянул.
-- Ух ты!
-- Ладно, отдай, -- сказала Барбара. Она сделала еще одну, более
осмотрительную попытку, затем выдохнула: -- Боже! По отношению к обычному
табаку это то же самое, что самогон -- к настоящему алкоголю.
-- Ты слишком молода, чтобы знать о самогоне, -- сурово сказал он. В
его памяти всплыли воспоминания о некоторых неприятных моментах. Он снова
затянулся. Сравнение было не самое неудачное.
Барбара захихикала.
-- Один мой любимый дядя в свободное время занимался бутлегерством. У
нас была вечеринка по случаю окончания школы -- вот с этих пор я и знаю про
самогон, между прочим. -- Она снова взяла трубку у Сэма. -- Мне надо немного
времени, чтобы снова к этому привыкнуть.
-- Да, пока кисет не опустеет, -- согласился он. -- Один бог знает,
когда этот цветной парень снова появится в городе -- если вообще появится.
Они выкурили трубку до конца, затем набили ее снова. Комната
наполнилась густым дымом. Глаза Сэма слезились. Он чувствовал легкость и
расслабленность, как после сигареты в старые добрые дни. Правда, при этом он
ощущал легкое головокружение и привкус сырого мяса во рту, но это пустяки.
-- Неплохо, -- сказала она отстраненно и разразилась очередным
приступом кашля. -- Стоящая вещь.
-- Я тоже так считаю. -- Сэм рассмеялся. -- Знаешь, кого мы напоминаем
сейчас? -- Когда Барбара покачала головой, он ответил на свой вопрос сам: --
Мы похожи на пару ящеров, которые засунули языки в банку с имбирем.
-- Какой ужас! -- воскликнула Барбара. Подумав, она добавила: -- Это
ужасно, но, пожалуй, ты прав. Нам нравится наркотик -- табак я имею в виду.
-- Конечно, ты права. Пару раз я пытался бросить, когда играл в мяч, --
не нравилось, как это действует на легкие. И не смог. Нервничал и корчился и
еще не знаю что. Когда табака не достать, это не так уж плохо: у тебя нет
выбора. Но когда табак перед глазами каждый день, нам не утерпеть.
Барбара снова затянулась и сделала гримасу.
-- Наверняка имбирь на вкус лучше.
-- Да, я тоже так считаю -- теперь, -- сказал Сэм. -- Но если бы я
курил постоянно, так бы уже не думал. Ты знаешь, вообще-то вкус кофе тоже
довольно мерзкий, иначе мы не улучшали бы его сливками и сахаром. Но я хотел
бы выпить кофе, к которому привык, если бы он у нас был.
-- Я тоже, -- грустно сказала Барбара. Она показала на колыбель. -- С
его привычкой просыпаться, когда ему это приходит в голову, мне бы
пригодилось немного кофе.
-- Несомненно, мы с тобой -- пара одурманенных наркотиками. По части
кофе.
Игер взял у нее трубку и затянулся. Теперь дым уже не казался таким
неприятным. Он задумался: стоит ли надеяться, что этот негр снова появится с
табаком -- или лучше не связываться с ним?
* * *
Партизанский командир, толстый поляк, который назвался Игнацием, с
удивлением взирал на Людмилу Горбунову.
-- Это вы пилот? -- скептически спросил он на правильном немецком
языке.
Людмила, не отвечая, смерила его изучающим взглядом. Осмотр внушил ей
серьезные опасения. Во-первых, почти единственный способ оставаться жирным в
эти дни сводился к эксплуатации обширного большинства тощих, едва ли не до
полного их истощения. Во-вторых, его имя звучало очень похоже на "наци", а
она начинала нервничать, только услышав это слово. Она ответила также
по-немецки:
-- Да, я -- пилот. А вы командир партизан?
-- Боюсь, что так, -- сказал он. -- За последние несколько лет было не
так много приглашений нанять учителя фортепиано.
Людмила снова принялась изучать его, на этот раз по другой причине.
Значит, это представитель мелкой буржуазии? Он определенно старался скрыть
свою классовую принадлежность: начиная от плохо выбритых щек до
перекрещенных на груди патронташей и разбитых сапог он выглядел как человек,
который всю свою жизнь был бандитом -- и все его предки в течение многих
поколений. Она с трудом могла представить его изучающим этюды Шопена с
усталыми молодыми учениками.
Рядом с ней стоял Аврам и смотрел вниз -- на свои покрытые рубцами
руки. Владислав глазел на вершину липы, под которой они стояли. Оба они,
сопровождавшие ее от Люблина, молчали. Они выполнили свое задание, доставив
ее сюда. Теперь наступила ее очередь.
-- У вас здесь есть самолет? -- спросила она, решив не придавать
значения внешности, имени или классовой принадлежности Игнация. Дело есть
дело. Если великий Сталин мог заключить пакт с фашистом Гитлером, то она
постарается сладить с вооруженным шмайссером учителем фортепиано.
-- У нас есть самолет, -- согласился он.
Возможно, он тоже стремился преодолеть свое недоверие к ней,
социалистке и русской. Во всяком случае он стал объяснять в подробностях:
-- Он приземлился, когда ящеры выставили отсюда немцев. Мы не думаем,
что с ним что-то не в порядке, исключая то, что у него кончилось топливо. У
нас теперь есть топливо, есть новая аккумуляторная батарея, заряженная. Мы
также слили старое масло и гидравлическую жидкость и заменили и то и другое.
-- Это уже хорошо, -- сказала Людмила. -- Какого типа самолет?
Она предполагала, что это может быть "Мессершмитт-109". Она никогда
прежде не летала на настоящем истребителе. Наверное, это будет веселая
жизнь, но уж очень короткая. Ящеры с ужасающей легкостью посбивали
"мессершмитты" и самолеты советских ВВС в первые же дни нашествия.
Но Игнаций ответил:
-- Это -- "Физлер-156". -- Он увидел, что это название ничего не
говорит Людмиле, и поэтому добавил: -- Они называют его "шторх" -- журавль.
Кличка тоже не помогла.
Людмила сказала:
-- Думаю, будет лучше, если вы мне дадите взглянуть на машину.
-- Да, -- сказал он и опустил руки, словно на воображаемую клавиатуру.
Он наверняка был учителем фортепиано. -- Идемте со мной.
От лагеря Игнация до самолета было около трех километров Эти три
километра по неровной тропе свидетельствовали, какие тяжелые бои проходили
здесь. Земля была покрыта воронками от снарядов, повсюду валялись куски
металла и обгоревшие остовы бронетехники. Людмила прошла мимо множества
спешно вырытых могил, большинство с крестами, некоторые со звездой Давида, а
часть -- вообще без ничего. Она показала на одну.
-- Кто похоронен здесь? Ящер?
-- Да, -- снова сказал Игнаций. -- Священники, насколько я знаю, до сих
пор не решили, есть ли у ящеров душа.
Людмила не знала, что ответить, и поэтому промолчала. Она не думала,
что у нее есть душа -- в том смысле, какой подразумевал Игнаций. Люди,
слишком невежественные, чтобы постичь диалектический материализм, всегда
беспокоятся об ерунде!
Она задумалась, где же скрыт гипотетический "Физлер-156". В
окрестностях была лишь парочка зданий, к тому же настолько разрушенных, что
в них нельзя было спрятать не только самолет, но даже автомобиль. Он подвел
ее к небольшому холму и сказал:
-- Мы сейчас стоим прямо на нем.
В голосе его слышалась гордость.
-- Прямо на чем? -- спросила Людмила, когда он повел ее вниз по другому
склону холма.
Они прошли еще немного вбок -- и теперь все стало ясно.
-- Боже мой! Вы возвели над самолетом плоскую крышу!
Вот это была маскировка, к которой бы даже Советы отнеслись с
уважением.
Игнаций заметил восхищение в ее голосе.
-- Так мы и сделали, -- сказал он. -- Нам казалось, что это лучший
способ сохранить его.
Она смогла только кивнуть. Они проделали огромную работу, хотя даже не
могли летать на самолете, который прятали. Командир партизан вытащил свечу
из кармана своего вермахтовского мундира.
-- Там темно: земля и сети загораживают свет.
Она подозрительно взглянула на Игнация и коснулась рукояти своего
"Токарева". Она не любила, когда мужчины водили ее одну в темное место.
-- Только не делайте глупостей, -- посоветовала она.
-- Если бы я не делал глупости, то разве стал бы партизаном? -- спросил
он.
Людмила нахмурилась, но промолчала. Наклонившись, Игнаций поднял край
маскировочной сетки. Людмила вползла под нее. Затем, в свою очередь, она
подержала сетку для польского партизана.
Пространство под маскирующей платформой было слишком обширным, чтобы
одна свеча могла осветить его. Игнаций направился к машине. Людмила
последовала за ним. Когда слабый свет упал на самолет, глаза ее расширились.
-- О, вот какая, -- выдохнула она.
-- Вы ее знаете? -- спросил Игнаций. -- Вы можете летать на ней?
-- Я знаю эту машину, -- ответила она. -- Я не знаю пока, смогу ли я
летать на ней. Надеюсь, что смогу.
"Физлер", или "шторх", был монопланом с высоко расположенным крылом,
немного больше, чем ее любимый "кукурузник", и не намного быстрее. Но если
"кукурузник" был рабочей лошадью, то "шторх" -- тренированным скакуном. Он
мог взлетать и садиться почти на месте, вообще не требуя пространства.
Держась против слабого ветерка, он мог зависать на месте, почти как вертолет
ящеров. Людмила взяла свечу у Игнация и обошла вокруг самолета, восхищенно
изучая огромные закрылки, рули высоты и элероны, которые позволяли машине
делать все эти трюки.
Не на каждом "шторхе" было вооружение, но этот располагал двумя
пулеметами -- один под фюзеляжем, второй за спиной пилота, чтобы огонь из
него мог вести наблюдатель. Она поставила ногу на ступеньку, открыла дверь
со стороны пилота и взобралась в кабину.
Закрытая кабина была полностью остекленной, и поэтому обзор из нее был
гораздо лучше, чем из открытой кабины "кукурузника". Она задумалась: каково
это -- летать без потока воздуха, бьющего в лицо? Затем поднесла свечу к
панели приборов и с изумлением принялась рассматривать. Сколько шкал,
сколько указателей... как же летать, если надо все сразу держать в поле
зрения?
Все было выполнено по гораздо более высоким стандартам, чем те, к
которым она привыкла. Она и раньше видела различное немецкое оборудование:
нацисты делали свои машины, как точные часы. Советский подход, напротив,
заключался в том, чтобы выпустить как можно больше танков, самолетов,
орудий. Пусть они сделаны грубо, что с того? Им все равно предстоит гибель.
[Вообще-то именно простота устройства (а следовательно, и надежность)
является едва ли не главным показателем совершенства военной техники. К
слову сказать, приборные доски у немецких самолетов имели меньше приборов и
всяческих тумблеров-кнопок-переключателей, чем у аналогичных советских, что
свидетельствовало о более высокой технической культуре. -- Прим. ред.]
-- Вы сможете летать на нем? -- повторил Игнаций, когда Людмила с
заметной неохотой спустилась из кабины.
-- Да, думаю, что смогу, -- ответила Людмила.
Свеча догорала. Они с Игнацием направились к сетке, под которой
следовало проползти. Она бросила последний взгляд на "шторх", надеясь стать
наездником, достойным этого красавца.
* * *
С юга Москвы доносился гул выстрелов советской артиллерии, бьющей по
позициям ящеров. Отдаленный гул достигал даже Кремля. Услышав его, Иосиф
Сталин изменился в лице.
-- Ящеры осмелели, Вячеслав Михайлович, -- сказал он.
Вячеслав Молотов не обратил внимания на скрытый смысл этих слов. "Это
ваш просчет", -- словно говорил Сталин.
-- Как только мы сможем изготовить еще одну бомбу из взрывчатого
металла, Иосиф Виссарионович, мы напомним им, что заслуживаем уважения, --
ответил он.
-- Да, но когда это произойдет? -- строго спросил Сталин. -- Эти так
называемые ученые все время мне лгали. И если они не начнут действовать
быстрее, то пожалеют об этом -- и вы тоже.
-- А также весь Советский Союз, товарищ генеральный секретарь, --
сказал Молотов.
Сталин всегда думал, что все ему лгут. Чаще всего люди действительно
лгали -- просто потому, что слишком боялись сказать ему правду. Молотов
пытался объяснить ему, что после использования бомбы, изготовленной из
взрывчатого материала ящеров, СССР еще долгое время не сможет сделать еще
хотя бы одну. Но тот не пожелал слушать. Он редко хотел кого-либо слушать.
Молотов продолжил:
-- Однако, кажется, вскоре мы будем иметь больше такого оружия.
-- Я слышал это обещание и прежде, -- сказал Сталин. -- Я уже устал от
него. Когда именно новая бомба появится в нашем арсенале?
-- Первая -- к лету, -- ответил Молотов.
При этих словах Сталин сел и сделал запись для памяти.
-- Работа в "колхозе" за последнее время привела к замечательному
прогрессу, я рад доложить об этом.
-- Да, Лаврентий Павлович сказал мне то же самое. Я рад слышать это, --
подчеркнуто сказал Сталин. -- Я бы обрадовался еще больше, если бы это
обернулось правдой.
-- Так и будет, -- сказал Молотов.
"Будет еще лучше". Но теперь он начал думать, что благодарить,
очевидно, следует Берию. Доставить этого американца в "колхоз 118" оказалось
мастерским ходом. Его присутствие и его идеи демонстрировали -- иногда очень
болезненным образом, -- насколько далеко отставала от капиталистического
Запада советская исследовательская ядерная программа. Он воспринимал как
само собой разумеющееся и теорию, и инженерную практику, которые Курчатов,
Флеров и их коллеги только начинали постигать. Но благодаря его знаниям
советская программа наконец начала продвигаться.
-- Я рад услышать, что у нас будет такое оружие, -- повторил Сталин, --
рад и за вас, Вячеслав Михайлович.
-- Служу Советскому Союзу! -- сказал Молотов.
Он схватил стакан водки, стоявший перед ним, залпом выпил ее и наполнил
стакан снова из стоявшей рядом бутылки. Он понимал, что имел в виду Сталин.
Если рабочие и крестьяне Советского Союза не получат вскоре бомбу из
взрывчатого металла, то они получат нового комиссара иностранных дел. Будет
виноват в провале именно он, а не старый друг Сталина из Грузии -- Берия,
Сталин не испытывал аллергии, когда писал "ВМН" ["Высшая мера наказания". --
Прим. перев.] папках подследственных, намеченных к ликвидации.
-- Когда у нас будет вторая бомба, товарищ генеральный секретарь, --
сказал Молотов, решительно отказываясь думать о том, что случится с СССР и с
ним самим, если что-то сорвется, -- я рекомендую использовать ее сразу же.
Сталин пыхнул трубкой, посылая нераспознаваемые дымовые сигналы.
-- Когда была первая бомба, вы возражали против ее использования.
Почему теперь вы изменили мнение?
-- Потому что когда мы использовали первую, мы не имели в резерве
второй, и я боялся, что это станет очевидным, -- ответил Молотов. -- Но
теперь, используя новую бомбу, мы не только докажем, что она у нас есть, но
также продемонстрируем способность изготовить и другие бомбы.
Поднялось еще одно облако неприятного дыма.
-- В этом есть смысл, -- сказал Сталин, медленно кивнув головой. -- Это
послужит предупреждением не только ящерам, это предостережет также и
гитлеровцев: с нами шутить нельзя. И этот же сигнал дойдет и до американцев.
Неплохо, Вячеслав Михайлович.
-- В первую очередь, как вы сказали, ящерам.
Это Молотов сказал сугубо деловым тоном. Он не хотел показать Сталину
свой страх перед высказанной угрозой, хотя генеральный секретарь был уверен,
что напугал его. Так или иначе, внешне он не выдал своего отношения. Но вряд
ли он мог обмануть Сталина. Он играл на эмоциях своих подчиненных, как на
струнах скрипки, противопоставляя одного человека другому, как дирижер
оркестра, развивающий расходящиеся темы.
-- Помня о первой очереди, мы должны также помнить, что она не
единственная. После того как ящеры заключат мир с Родиной... -- Сталин
остановился и мечтательно выпустил дым.
Молотов привык вслушиваться в тонкие нюансы речи генерального
секретаря.
-- После того, как ящеры заключат мир, Иосиф Виссарионович? А не после
того, как они будут побеждены, уничтожены или изгнаны из этого мира?
-- Товарищ народный комиссар -- только для ваших ушей. Я не думаю, что
это в наших силах, -- сказал Сталин. -- Мы будем использовать бомбы -- если
ученые соблаговолят дать их нам. Мы уничтожим скопления ящеров, какие
сможем. Они, в свою очередь, уничтожат один из наших городов -- это обмен
ударами, который они практикуют. Победить на таких условиях мы не сможем.
Наша цель теперь -- убедить врагов, что они тоже не смогут победить, им
достанутся только руины, если война продлится.
-- В таком случае, какие условия вы намереваетесь предложить? --
спросил Молотов.
"И как долго вы намерены считаться с ними?" -- пришло ему в голову, но
задать этот вопрос Сталину смелости не хватило. Генеральный секретарь был
безжалостно прагматичен, он выжал все преимущества из пакта с Гитлером.
Одного он не ожидал -- что Гитлер превзойдет его в безжалостности и ударит
первым. Любой мир с ящерами аналогично мог быть только временным.
-- Я хочу изгнать их из СССР, -- сказал Сталин, -- за границы, которые
существовали на 22 июня 1941 года. После этого можно вести переговоры обо
всем. Пусть фашисты и капиталисты торгуются за свои страны. Если они
потерпят неудачу, я не шевельну и пальцем, чтобы помочь им. Как вы знаете,
они мне не помогают.
Молотов кивнул, соглашаясь с этим и одновременно обдумывая
обоснованность решений генерального секретаря. Они соответствовали тем,
которые Сталин принимал в прошлом. Вместо того чтобы раздувать пожар мировой
революции, к чему призывали троцкисты, Сталин сосредоточился на
строительстве социализма в одной стране. Теперь он мог использовать этот же
подход для строительства независимой державы людей.
-- Ящеры -- империалисты, -- сказал Молотов. -- Можно ли заставить их
отступиться от их тщательно продуманной концепции завоевания? Вот мое
главное сомнение, Иосиф Виссарионович.
-- Мы можем превратить Советский Союз в бесполезную территорию.
По тону слов Сталина можно было понять, что он готов сделать именно то,
что сказал. Молотов не думал, что генеральный секретарь блефует. Прежде он
обладал властью, чтобы выполнить подобное, но не имел возможности. Физики
дали ему такую возможность. Может ли главнокомандующий флотом ящеров
сравниться с генеральным секретарем в силе характера? Единственными
встретившимися Молотову людьми, которые достигли этого уровня, были Ленин,
Черчилль и Гитлер. Мог ли Атвар сравниться с ними? Сталин ставил на кон
судьбу своей страны, чего пришельцы сделать не могли.
Молотов чувствовал бы себя более уверенным, если бы в прошлом у Сталина
не было этой катастрофической недооценки Гитлера. Из-за этой ошибки он и
СССР были близки к гибели. Если он допустит подобную ошибку, используя бомбы
из взрывчатого металла, то не выживет ни он, ни Советский Союз, ни
марксизм-ленинизм.
Как сказать Сталину об этих опасениях? Молотов выпил второй стакан
водки. Он не видел выхода.
Снова на фронт. Если бы не долг чести, бригадный генерал Лесли Гровс
предпочел бы остаться в Денверском университете со своим, так сказать,
вязаньем -- другими словами, с производством атомных бомб и с уверенностью в
том, что умными могут быть не только ящеры.
Но когда командующий фронтом приказывает вам прибыть, вы подчиняетесь.
Омар Брэдли в каске нового образца, с тремя золотыми звездами на ней,
со своего наблюдательного пункта показал в сторону фронта и заявил:
-- Генерал, мы бьем их, нет никакого сомнения. Они платят за каждый
дюйм, который захватывают, -- платят больше, чем могут себе позволить, если
наши разведданные хотя бы отчасти правдивы. Мы бьем их, как уже я сказал, но
они продолжают захватывать дюйм за дюймом, и мы этого больше допустить не
можем. Вы поняли, что я сказал?
-- Да, сэр, -- ответил Гровс. -- Мы собираемся использовать атомное
устройство, чтобы остановить их.
-- Или два. Или три. Сколько понадобится, -- сказал Брэдли. -- Они не
должны прорваться в Денвер. Это теперь sine qua non [Непременное условие
(лат.). -- Прим. перев.].
-- Да, сэр, -- повторил Гровс.
В данное время он располагал одной, только одной готовой к
использованию атомной бомбой. И в течение нескольких недель новых не
появится. Брэдли должен был об этом знать. А на случай, если не знает, Гровс
ему напомнил. Большими красными буквами.
Брэдли кивнул.
-- Я понимаю, генерал. И это мне не нравится. Что ж, даже первая
заставит их качнуться назад и даст нам время сделать следующую, только и
всего.
Звено американских самолетов, долго хранившихся на случай самой крайней
нужды, пронеслось над ними на бреющем полете. У этих машин, "Киттихоук"
Р-40, на капотах радиаторов под двигателями были намалеваны страшные акульи
пасти. Пулеметы на крыльях били по боевым порядкам ящеров. Одной машине
удалось подбить вражеский вертолет, который рухнул на землю, объятый
пламенем.
Летчики вскоре прекратили атаку, которая могла закончиться их гибелью,
и повернули обратно. Две машины взорвались в воздухе, причем вторая -- с
таким громким ударом, что он заглушил шум боя. Остальные вернулись на
удерживаемую американцами территорию.
-- Приятно видеть, как ящеры принимают угощение, а не подают его, --
сказал Гровс.
Брэдли кивнул.
-- Надеюсь, пилоты успеют сесть, выйти из машин и спрятаться в укрытие
до того, как ракета ящеров догонит их.
Он слыл "солдатским генералом" за то, что в первую очередь заботился о
людях. Гровс почувствовал слабый упрек совести -- ему это в голову не
пришло.
И словно для примера на позиции американцев, как устремившийся на
добычу орел, спикировал истребитель ящеров. Вместо когтей он использовал
ракеты, Мужчины -- и несколько женщин -- с красными крестами в белых кругах
на касках и на нарукавных повязках побежали к передовой, чтобы перенести
раненых в полевые госпитали.
-- Ящеры ведь не стреляют умышленно в медиков, так ведь? -- сказал
Гровс. -- Они лучше соблюдают правила, чем япошки!
-- Так больше говорить нельзя. Япония теперь на нашей стороне.
Нарочито сухой тон и сурово поднятые брови указывали, что высказывание
Брэдли не следует принимать уж слишком всерьез.
Еще один истребитель ящеров нанес удар по позициям американцев, на этот
раз совсем близко от наблюдательного пункта, где находились Гровс и Брэдли:
они оба нырнули в укрытие, чтобы защититься от осколков бомб и пушечного
огня.
Гровс выплюнул землю. Такой вкус войны был совсем не похож на привычный
ему. Он уже забыл, как выглядит покрытый грязью мундир.
Брэдли воспринял все это спокойно, хотя сам тоже не привык к настоящему
реальному бою. Спокойно, как будто продолжал стоять на ногах, он сказал:
-- Мы хотим поместить бомбу в место, где ящеры сконцентрировали войска
и запасы. И мы стараемся, как можем, достичь такой концентрации. Главная
сложность -- сделать все так, чтобы ящеры не заметили наших усилий, пока не
будет слишком поздно.
-- Скажите мне, сэр, куда ее доставить, и я это выполню, -- сказал
Гровс, изо всех сил стараясь не уступать Брэдли в апломбе. -- В конце
концов, именно так я зарабатываю свое жалование.
-- То, как вы реализуете ваш проект, заслуживает всяческих похвал,
генерал, -- сказал Брэдли. -- Когда генерал Маршалл -- госсекретарь Маршалл
-- посылал меня руководить защитой Денвера, он очень хорошо отозвался о вас
и о сотрудничестве, которого я могу ожидать с вашей стороны. И я не
разочаровался.
Похвала, высказанная Джорджем Маршаллом, -- это настоящая похвала.
Гровс сказал:
-- Мы можем доставить бомбу на фронт в грузовике с усиленной подвеской
или в конном экипаже, что будет медленнее, но не так подозрительно. Если
потребуется, мы можем доставить ее по частям и собрать там, где мы будем ее
взрывать. Этот зверь имеет пять футов в ширину и более десяти в длину, так
что для него нужна чертовски большая клетка.
-- М-мм, я должен подумать над этим, -- сказал Брэдли. -- Прямо сейчас
я склонен проголосовать против. Как я понимаю, если мы потеряем любую из
важных частей, то, имея все остальное, эта штука сработать не сможет.
Правильно?
-- Да, сэр, -- ответил Гровс. -- Если вы попытаетесь завести мотор
джипа, у которого нет карбюратора, вы не доберетесь дальше того места, до
которого можно дойти пешком.
Грязь, покрывавшая лицо Брэдли, делала его улыбку еще ярче и
приветливее.
-- Достаточно честно, -- сказал он. -- Мы будем делать все возможное,
чтобы избежать ее применения, -- мы провели контрнаступление в районе
Кайова, это чуть южнее, и у меня есть некоторые надежды. Ящеры испытывают
трудности на равнинах к юго-западу от Денвера, и в этом районе они до сих
пор не смогли реорганизовать войска. Мы можем нанести им порядочный ущерб.
-- Он пожал плечами. -- Или, наоборот, мы можем просто принудить их
сконцентрировать войска перед взрывом бомбы. Пока не попробуем, не узнаем.
Гровс стряхнул землю, прилипшую к рубашке и брюкам.
-- Я сделаю то, что вы скажете, сэр.
Эти слова дались ему нелегко. Он привык быть самой крупной военной
рыбой в денверском пруду. Но он мог защитить его от ящеров не лучше, чем
Брэдли управился бы с проектом Металлургической лаборатории.
Брэдли подозвал адъютанта.
-- Джордж, доставьте генерала Гровса обратно в Денверский университет.
Он будет ожидать там нашего приказа, в зависимости от развития ситуации.
-- Да, сэр. -- Джордж выглядел пугающе чистым и отглаженным. Он отдал
честь и повернулся к Гровсу. -- Если вы пойдете со мной, сэр...
Их ожидал джип. Гровс вздохнул с облегчением: по делам службы ему
приходилось большую часть дня разъезжать в седле, а поскольку он был очень
толстым, то верховая езда не доставляла радости ни ему, ни лошади. Но на
обратном пути он то и дело посматривал на небо. Ящеры взяли моду
обстреливать автомобили.
Ему удалось вернуться в университетский городок в целости.
В этот вечер сильный грохот орудийных залпов доносился с юго-востока, а
вспышки света на горизонте напоминали далекую зарницу. Гровс поднялся на
крышу Научного центра, но ничего нового не увидел. Он надеялся, что это
заградительный огонь, а не что-то другое.
На следующее утро, когда солнце еще не взошло, его разбудил помощник.
-- Сэр, генерал Брэдли у телефона.
Гровс зевнул, протер глаза, провел руками по волосам, пригладил
непослушные усы, которые щекотали ему нос. К моменту, когда он взял трубку
телефона, примерно через сорок пять секунд после пробуждения, голос его уже
звучал уверенно и связно, хотя сам уверенности пока не ощущал.
-- Гровс у телефона.
-- Доброе утро, генерал, -- прозвучал голос Брэдли на фоне помех,
причиной которых был, скорее всего, телефон -- так, по крайней мере, он
надеялся. -- Вы помните о том багаже, который мы обсуждали вчера. Похоже,
его требуется доставить нам.
Сон сняло как рукой.
-- Да, сэр, -- сказал он. -- И как я вам докладывал, мы готовы. Э-э, вы
хотите получить его собранным или я должен послать частями?
-- В собранном виде будет быстрее, не так ли? -- Не ожидая ответа,
Брэдли продолжил. -- Лучше доставить его так. Мы хотели бы открыть его как
можно скорее.
-- Да, сэр. Я так и сделаю, -- сказал Гровс и положил трубку.
Он скинул пижаму и начал надевать форму, ворча на бесполезную трату
времени, требуемого на одевание. Если Гровс в деле, он никогда не мешкает.
Он пулей пронесся мимо своего помощника, не сказав даже "доброе утро", и
направился на перерабатывающий завод, где хранилась последняя атомная бомба.
Очень скоро часть Колорадо будет объята огнем.
* * *
Сердце Лю Хань колотилось, когда она подходила к павильону маленьких
чешуйчатых дьяволов, который портил красоту острова посередине озера в
Запрещенном Городе. Повернувшись к Нье Хо-Т'ингу, она сказала:
-- По крайней мере, мы одержали настоящую победу против маленьких
дьяволов.
Нье бросил взгляд на нее.
-- Ты имеешь в виду свою победу. Она мало что значит в народной борьбе
против империалистической агрессии, разве что сможем выжать из нее кое-что
для наших пропагандистских целей.
-- Моя победа, -- согласилась Лю Хань.
Насколько она знала, он ставил идеологию и социальную борьбу впереди
любви, будь то любовь между мужчиной и женщиной или между матерью и
ребенком. Большинство членов центрального комитета разделяли его взгляды. Лю
Хань иногда задумывалась, являются ли они на самом деле людьми.
-- Я надеюсь, что ты не допустишь, чтобы твой личный триумф стал для
тебя важнее дела, которому ты служишь, -- сказал Нье.
Возможно, он был менее подчинен чувствам, чем обычный человек, а может
быть, просто держал их в крепких вожжах, -- но он был далеко не глуп.
Маленький чешуйчатый дьявол направил автоматическую винтовку на
приближающихся людей. На приличном китайском он приказал:
-- Вы войдете в палатку. Вы дадите нам посмотреть, что вы не несете
скрытого оружия с собой. Вы пройдете через эту машину.
И он показал на контролирующее устройство.
Лю Хань уже однажды проходила через него, Нье Хо-Т'инг -- много раз.
Никто из них никогда и не пытался пронести тайно оружие. У Нье была
информация, что машина начнет издавать дьявольский шум, если обнаружит
что-либо опасное. И пока Народно-освободительная армия не нашла способа
обмануть ее. Лю Хань подозревала, что раньше или позже это произойдет. На
дело коммунизма работали и очень умные люди.
Машина молчала. За нею стоял еще один вооруженный маленький дьявол,
который сказал:
-- Проходите.
Слово прозвучало невнятно, но ошибиться в значении жеста было
невозможно.
В палатке маленький чешуйчатый дьявол по имени Ппевел сидел за столом,
возле которого Лю Хань его видела в прошлый раз. Рядом сидел самец с куда
более скромной раскраской тела -- его переводчик. Ппевел заговорил на своем
шипящем и щелкающем языке. Переводчик перевел его слова на китайский.
-- Вам надо быть сидящими.
Он показал на два необыкновенно пышных кресла, стоящих перед Нье и Лю
Хань. Они отличались от тех, которые были здесь при первом посещении Лю
Хань, и, вероятно, означали более высокий статус посланцев
Народно-освободительной армии.
Лю Хань почти не заметила этого. Она надеялась увидеть за столом вместе
с Плевелом Томалсса и даже надеялась увидеть свою дочь. Она задумалась, как
же должен выглядеть ребенок, матерью которого была она, а отцом --
иностранный дьявол Бобби Фьоре. Затем ее потрясла поистине ужасная мысль: а
что, если маленькие дьяволы решили заменить рожденного ею ребенка другим,
такого же возраста и вида? Как она сможет это определить?
Ответ был простым и чудовищным: никак. Она вознесла про себя молитву
Амиде Будде, чтобы такая мысль не пришла в голову дьяволам. Она знала, что
Нье Хо-Т'инг ставил Амиду Будду не выше любого другого бога или демона и
считал, что и другим не следует думать иначе. Лю Хань пожала плечами. Такова
была его идеология. Она не могла не видеть в этом определенной правоты.
Ппевел заговорил снова. Переводчик перевел:
-- Мы возвращаем этого детеныша самке как символ нашей готовности
давать в обмен на получение. Мы ожидаем в обмен остановку ваших партизанских
нападений здесь, в Пекине, на полгода. Так договорились?
-- Нет, -- сердито ответил Нье Хо-Т'инг. -- Согласие давалось только на
три месяца -- четверть года.
Сердце Лю Хань упало. Неужели она снова потеряет свою дочь из-за
какой-то четверти года?
Ппевел и переводчик снова заговорили между собой на своем языке. Затем
переводчик сказал:
-- Пожалуйста, извините меня. Четверть года для вас, людей, будет точно
соответствовать соглашению. Для моего народа это полгода.
-- Очень хорошо, -- сказал Нье. -- Тогда мы согласны. Принесите
девочку, которую вы украли в ходе систематической эксплуатации этой
угнетенной женщины. -- Он показал на Лю Хань. -- И хотя мы не
договаривались, я требую, чтобы вы извинились за те страдания, которые она
перенесла от ваших рук, а также за пропагандистскую кампанию по очернению,
которую вы вели против нее в усилиях, направленных на то, чтобы не
возвращать самую маленькую жертву вашей несправедливости.
Переводчик перевел все это Ппевелу. Маленький дьявол с причудливо
раскрашенным телом произнес короткое предложение-ответ, закончив его
усиливающим покашливанием.
Переводчик сказал:
-- Об извинении договоренности не было, значит, не будет и извинения.
-- Ладно уж, -- тихо сказала Лю Хань Нье. -- Меня не интересуют их
извинения. Я хочу вернуть моего ребенка.
Он поднял бровь и ничего не ответил. Она поняла, что он потребовал их
извинения не ради нее или, по крайней мере, не только ради нее одной. Он
действовал так ради дела, стараясь добиться морального превосходства над
чешуйчатыми дьяволами, так же как это он делал при контактах с японцами или
гоминдановской кликой.
Ппевел отвел оба своих глаза от человеческих существ, повернув их к
отверстию, которое вело в заднюю часть огромной палатки. Он сказал что-то на
своем языке. Лю Хань непроизвольно сжала кулаки -- она расслышала имя
Томалсса. Ппевел повторил свои слова.
Вошел Томалсс. Он нес дочь Лю Хань.
Вначале она была не в состоянии рассмотреть, как выглядит ребенок, --
глаза ее, залитые слезами, ничего не видели.
-- Дайте мне ее, -- тихо сказала она.
Ярость, которую она должна была ощутить при встрече с маленьким
дьяволом, укравшим ее дитя, просто не возникла. Она рассеялась при виде
маленькой девочки.
-- Будет исполнено, -- ответил Томалсс на своем языке фразой, которую
она поняла. Затем он перешел на китайский. -- По моему мнению, возвращение
этого детеныша вам -- ошибка. Детеныш мог бы принести гораздо большую пользу
для связи между вашим родом и моим.
Сказав это, он сердито бросил ребенка Лю Хань.
-- А по моему мнению, вы принесли бы гораздо большую пользу в виде
нечистот, -- прорычала она и оттащила дочь подальше от чешуйчатого дьявола.
Теперь она впервые смогла рассмотреть свою маленькую девочку. Цвет ее
кожи был не совсем таким, как у китайского ребенка: кожа чуть светлее и чуть
грубее. Лицо ее было также чуть длиннее и менее плоским; шейка -- тонкая,
напомнившая Лю Хань Бобби Фьоре, -- и положила конец ее страхам. Чешуйчатые
дьяволы не подменили ребенка. Глазки ребенка имели правильную форму -- они
не были круглыми и не выглядели, как у иностранного дьявола.
-- Добро пожаловать домой, маленькая, -- мурлыкала Лю Хань, прижимая
крошку к себе. -- Иди к своей маме.
Ребенок начал плакать. Он смотрел не на нее, а на Томалсса, стараясь
вырваться и вернуться к нему. Острый нож прошелся по сердцу Лю Хань. Звуки,
которые издавала ее дочь, не были похожи на звуки китайского языка или языка
иностранных дьяволов, на котором говорил Бобби Фьоре. Это были шипенье и
щелчки ненавистной речи маленьких чешуйчатых дьяволов. Среди них безошибочно
угадывались усиливающие покашливания.
Томалсс заговорил с выражением презрительного удовлетворения:
-- Как видите, детеныш привык к компании самцов Расы, а не к вашему
роду. Тот язык, на котором говорит детеныш, -- это наш язык. Его привычки --
это наши привычки. Да, он выглядит как Большой Урод, но мыслит как
представитель Расы.
Лю Хань пожалела, что не пронесла в палатку оружие. Она с радостью
прикончила бы Томалсса за то, что он сделал с ее дочерью. Ребенок продолжал
извиваться, стараясь вырваться и вернуться в рабство к Томалссу, к
единственному существу, какое он пока знал. Его плач отдавался в ушах
матери.
Вмешался Нье Хо-Т'инг:
-- То, что сделано, можно переделать. Мы перевоспитаем ребенка в
достойное человеческое существо. На это потребуется время и терпение, но это
может быть сделано и будет сделано.
Все это было сказано на китайском.
-- Будет исполнено. -- Лю Хань перешла на язык маленьких дьяволов,
бросив эти слова в лицо Томалсса и добавив для порядка усиливающее
покашливание.
Ее дочь с широко раскрытыми глазами уставилась на нее с удивлением,
услышав, что мать использует слова, понятные ей. Может, в конце концов, все
будет не так уж плохо, думала Лю Хань. Когда она впервые встретилась с Бобби
Фьоре, единственными словами, понятными обоим, были обрывки языка маленьких
чешуйчатых дьяволов. Они старались -- и это им удалось -- понемногу изучить
и языки друг друга. А дети, когда начинают говорить, усваивают слова с
удивительной быстротой. Нье прав -- если повезет, то вскоре ее дочь начнет
понимать китайский и станет настоящим человеческим существом, а не имитацией
чешуйчатого дьявола.
А пока ей придется использовать слова, которые заставят дочь признать
ее.
-- Теперь все хорошо, -- сказала она на языке маленьких дьяволов. --
Все хорошо.
Она изобразила еще одно усиливающее покашливание, чтобы показать, как
хорошо, когда вернулась дочь.
И снова маленькая девочка изумленно уставилась на нее. Она задыхалась и
сопела, а затем издала звук, похожий на вопросительное покашливание.
Возможно, она хотела сказать:
-- В самом деле?
Лю Хань ответила еще одним усиливающим покашливанием. И вдруг, словно
выглянувшее из-за туч солнце, улыбка осветила лицо ее дочери. Лю Хань
заплакала, думая: как же воспринимает это ее ребенок?
* * *
-- Готов к взлету, -- доложил Теэрц.
Через мгновение командир полетов дал разрешение на вылет. Истребитель
Теэрца с ревом промчался по взлетной полосе и взмыл в небо.
Пилот был доволен тем, что быстро набирал высоту, поскольку зенитки,
появившиеся неподалеку и восточнее от воздушной базы Канзаса, выпустили по
нему несколько снарядов.
Номинально Раса уже некоторое время контролировала эту местность, но
Большие Уроды продолжали тайком завозить оружие на спинах своих самцов или
животных и наносили Расе мелкие уколы. Они не были столь опасны, как в СССР,
но и приятного было мало.
Он сообщил по радио на базу о примерном расположении зениток.
-- Мы позаботимся о них, -- пообещал командир полетов.
Так оно и будет -- если получится. Теэрц уже знал, как это бывает. Пока
они соберутся послать самолеты, вертолеты или пехотинцев -- зениток на том
месте уже не будет. И вскоре они снова откроют огонь, откуда-нибудь
неподалеку.
С этим он ничего поделать не мог. Он летел на запад, к боевым позициям
перед Денвером. Теперь, когда он выполнил несколько боевых вылетов против
тосевитских сил перед городом, он понял, почему начальство перевело его с
флоридского фронта сюда. Большие Уроды создали здесь фортификационные
сооружения даже более мощные, чем японцы вокруг Харбина в Маньчжурии. Да и
зенитных орудий здесь было больше.
Он не любил думать об этом. Он был сбит под Харбином, и его по-прежнему
охватывала дрожь, когда он вспоминал про японский плен. Говорят, что
американцы лучше обращаются со своими пленниками, чем японцы, но Теэрц был
не склонен доверять милости любых тосевитов.
Вскоре он уже осматривал горы, которые бугрились на поверхности этой
земной массы подобно грудным щиткам эрути, животных на Родине. Выше самого
высокого пика поднимались клубы дыма и пыли с поля боя.
Он связался с командиром полетов, чтобы получить координаты
первоочередных целей.
-- Мы достигли успеха возле деревушки, известной у тосевитов как
Кайова. Нападение, которое они начали в этом месте, провалилось, и теперь
они созрели для нашей контратаки. -- Самец дал Теэрцу координаты целей,
добавив: -- Если мы прорвемся здесь, то сможем опрокинуть их позиции.
Ударьте по ним посильнее, командир полета.
-- Будет исполнено, -- ответил Теэрц и направил истребитель в заданном
направлении.
* * *
Для Ранса Ауэрбаха война закончилась. Совсем недавно он думал, что
закончился и он сам. Он даже жаждал этого, получив пулю в грудь и еще одну в
ногу. Рэйчел Хайнс пыталась вытащить его к позициям американцев после того,
как он был ранен. Он вспоминал, как попал в самую гущу, и, если бы мог,
изгнал бы это воспоминание навсегда.
Тогда ящеры, сделав вылазку против кавалерийского отряда, который он
возглавлял, оказались очень близко. Он помнил, как ручьем лилась кровь у
него из носа и рта, когда он прокаркал Рэйчел приказ убираться прочь. Он
понимал, что кричит впустую.
Единственное приятное воспоминание из того страшного времени -- ее
поцелуй в щеку. Он надеялся, что она успела уйти. Точно он не знал -- сразу
же после этого свет для него померк.
Следующее воспоминание: он -- в Карвале, превращенном в развалины
артиллерийским обстрелом. Измотанного вида доктор посыпает рану на бедре
порошком сульфонала, в то время как ящер с красными крестами в раскраске
тела восхищенно наблюдает за этим обоими глазами.
Ауэрбах попытался поднять правую руку, чтобы дать знать доктору -- и
ящеру, который тоже выглядел доктором, -- что он жив. Еще он видел иглу,
воткнутую в вену, и трубку, которая шла к бутылке с плазмой в руках молодой
женщины.
Движение было едва заметным, но девушка увидела и воскликнула. Он
слишком плохо соображал, чтобы рассмотреть лицо девушки, тем более что оно
было прикрыто маской, но узнал ее голос. Он потерял Рэйчел Хайнс, но нашел
Пенни Саммерс.
-- Вы понимаете меня? -- спросил человеческий доктор.
Ауэрбах в ответ еле заметно кивнул.
-- Даже если вас это удивит, вы -- военнопленный, такой же, как я. Если
бы не ящеры, вы наверняка были бы уже мертвы. Они знают об асептиках больше,
чем мы можем узнать за всю жизнь. Думаю, вы выкарабкаетесь. Вы сможете даже
ходить -- через некоторое время.
В данный момент о ходьбе он даже не думал -- было очень трудно дышать.
Когда бронированные силы ящеров покинули Карваль, чужаки стали
использовать город как центр сосредоточения раненых пленников. Очень скоро
немногих оставшихся в городке полуразрушенных зданий стало не хватать для
размещения всех раненых. Тогда вокруг начали ставить палатки жуткого
оранжевого цвета, по одной на пациента.
В такой палатке Ауэрбах находился уже несколько дней.
Доктор теперь нечасто посещал его. А ящеры приходили несколько раз в
день, так же как люди -- медицинские работники, в том числе Пенни Саммерс,
которая посещала его, пожалуй, чаще остальных. Первые раза два он страшно
смущался пользоваться горшком, но потом перестал беспокоиться об этом --
выбора у него не было.
-- Как они тебя захватили? -- спросил он Пенни. Голос его звучал,
словно каркающий шепот, у него едва хватило бы дыхания задуть спичку.
Она пожала плечами.
-- Мы занимались эвакуацией раненых из Ламара, когда в него вошли
ящеры. Ты ведь знаешь, как это, -- они не просто вошли в город, они
буквально прокатились по нему. Они согнали нас вместе, как мальчишка,
который ловит сетью рыбу-солнце, но позволили нам заниматься уходом за
пострадавшими -- и с тех пор я этим и занимаюсь.
-- Хорошо, -- сказал он, кивнув, -- Похоже, они играют по правилам,
очень похоже. -- Он сделал паузу, чтобы набрать воздуха, затем спросил: -- А
как дела на войне?
-- Трудно сказать, -- ответила она. -- Радио поблизости нет ни у кого,
по крайней мере у тех, кого я знаю. Только это я и могу сказать. Хотя
недавно они доставили новую партию пленных. Это может означать, что они
побеждают, так ведь?
-- Может, да, -- сказал он.
Ему хотелось кашлять, но он сдерживался, пока мог. Он уже успел
кашлянуть раз или два и чувствовал себя при этом так, словно грудь
разрывалась на куски. Когда он смог говорить снова, то спросил:.
-- А ты знаешь, какие потери у них самих?
Она покачала головой.
-- Ничего не могу сказать. Своих раненых они отправляют в какое-то
другое место.
-- А, -- сказал он и покачал головой -- но осторожно, потому что от
этого натягивались стежки, скреплявшие его в единое целое. У Бориса Карлова
в роли Франкенштейна их, наверное, было больше, но не намного. -- Будь я
проклят, если знаю, зачем спросил. Похоже, пройдет немало времени, прежде
чем я смогу снова волноваться о таких делах.
Честно говоря, надеяться на возвращение к активным действиям не
приходилось. Если его грудь и ногу залечат, он, скорее всего, попадет в
настоящий лагерь для военнопленных и, может быть, через много-много месяцев
начнет готовиться к побегу. Если излечится грудь, но останется больной нога,
никуда он не денется. Если нога будет здоровой, а грудь -- нет, то... что ж,
в этом случае ему в руки сунут лилию и похоронят.
Пенни посмотрела на него, затем посмотрела вниз, на блестящий материал
-- похожий на толстый целлофан, но гораздо более прочный, -- который ящеры
стлали на землю перед тем, как ставить палатку, затем снова перевела взгляд
на него.
-- Бьюсь об заклад, -- тихим голосом проговорила она, -- что теперь ты
уложил бы меня, если б имел возможность.
Он рассмеялся, задохнулся, затем засмеялся снова.
-- Если хочешь знать, я желал этого с того времени, когда ящеры бомбили
Ламар. Но посмотри на меня. -- У него более или менее действовала только
левая рука. Он подвигал ею. -- Теперь я немного могу сделать, так что зачем
беспокоиться?
-- Да, ты не сможешь, это так. -- Глаза Пенни загорелись. Она встала на
колени возле солдатской койки, на которой он лежал, и откинула одеяло. --
Зато я могу. -- Она рассмеялась, нагибаясь к нему. -- Если кто-нибудь
подойдет, я сделаю вид, что подаю тебе горшок.
На мгновение пурпурные пятна поплыли перед его глазами. Затем все
внутри палатки наполнилось светом, таким прозрачным и ярким, что он
казался...
* * *
Истребитель-бомбардировщик ящеров закончил пикирование и перешел к
набору высоты. Омар Брэдли потер наклеенный на нос кусочек пластыря -- пару
дней назад у генерала вскочил фурункул.
-- Я рад, что мы дублируем команду по радио в дополнение к проводам, --
сказал он. -- Ставлю семь против двух, что бомбы и ракеты оборвут их.
-- Мой отец всегда говорил, что нельзя биться об заклад, когда возможен
проигрыш, -- ответил Гровс. -- Он был прав.
-- Еще как, -- согласился Брэдли. -- Вот кнопки, генерал. Одна из них
сработает наверняка. Хотите принять честь нажать их?
-- Конечно же, -- сказал Гровс. -- Я строю эти проклятые штуки уже черт
знает сколько времени. Теперь наступило время увидеть, каковы они в деле.
От одного из запальных устройств тянулся изолированный провод, от
другого -- нет. Толстый большой палец правой руки Гровса опустился на одну
красную кнопку, палец левой -- на другую.
* * *
-- Получайте же, бесчешуйные, из протухших яиц вышедшие, тугосуставные!
-- прокричал Теэрц, когда его ракеты превратили один из участков обороны
тосевитов в полыхающую жаром печь, где плоть-мясо резалось, перепалывалось и
жарилось одновременно.
Танки Расы продолжали ползти вперед даже во время его атаки на Больших
Уродов. На этот раз тосевиты допустили ошибку -- начали наступление, не имея
достаточных ресурсов, а когда оно выдохлось -- недостаточно быстро перешли к
обороне. Командиры Расы, научившиеся на Тосев-3 проворству, заставят теперь
тосевитов заплатить за это.
В этом секторе и зенитный огонь был не особенно силен. Большие Уроды,
вероятно, потеряли большое количество зенитных орудий, когда началась
контратака Расы. Поднимаясь выше в небо, чтобы вернуться на базу в Канзас и
снова запастись боеприпасами, Теэрц решил, что такой легкой боевой операции
у него не было с времен первых дней завоевания, задолго до того, как он
попал в японский плен.
Неожиданное, невозможно яркое и расширяющееся сияние заставило
мигательные перепонки скользнуть на глаза в тщетной попытке защитить их.
Истребитель накренился, задергался и закрутился в воздухе, полностью утратив
стабильность движения по всем трем осям. Управление отказало и не
реагировало ни на какие действия Теэрца.
-- Нет! -- закричал он. -- Во второй раз не хочу!
Он попытался дотянуться до кнопки катапультирования. Истребитель
врезался в склон холма чуть раньше, чем Теэрц успел на нее нажать.
* * *
...реальным.
Пенни Саммерс отпрянула от него, потрясенная и задыхающаяся. Она
глубоко вздохнула и сказала:
-- Как ты думаешь, что это была за чертовщина?
-- Ты тоже это видела? -- спросил Ауэрбах почти неслышным голосом.
Его сердце колотилось, как у чистокровной лошади в день дерби в
Кентукки.
-- Конечно же. -- Пенни снова накинула на него одеяло. -- Как будто
кто-то зажег новое солнце прямо перед палаткой. -- Она посмотрела вокруг. --
Но теперь оно затухает.
-- Да.
Сверхъестественное свечение длилось всего несколько секунд. Когда
Ауэрбах увидел его, он подумал, что сводит счеты с жизнью. Было бы крайне
приятно уйти вот так вот, но он радовался, что пока жив.
-- Что это такое было?
Прежде чем ответить, Пенни вытерла подбородок уголком одеяла, затем
сказала:
-- Не знаю, что и думать. Возможно, какая-то штука этих проклятых
ящеров.
-- Да, -- снова сказал Ауэрбах. Он наклонил голову набок. На улицах
палаточного города раненых началось необыкновенное волнение. Он слышал, как
кричали ящеры, и их крики были похожи на шипение пара, вырывающегося из
котлов с плохо сделанными швами.
-- Что бы там ни было, они этим явно возбуждены.
* * *
-- Не хотите взглянуть на это? -- тихо спросил Лесли Гровс, откидывая
голову все дальше назад по мере того, как облако, верх которого теперь
раздался в стороны, подобно шляпке гриба, поднималось в небеса все выше --
оно уже было гораздо выше любой вершины Скалистых гор. Он покачал головой в
благоговейном ужасе и удивлении. Горевший неподалеку истребитель ящеров,
ранее ставший бы поводом для праздника, теперь не стоил внимания. -- Не
хотите ли просто посмотреть на это?
-- Я слышал, как это выглядит, -- ответил генерал Брэдли. -- Я был на
развалинах Вашингтона, так что знаю, на что они способны. Но я не
представлял себе самого взрыва. Пока не увидишь... -- Он не стал продолжать.
Продолжения не требовалось.
-- ...и не услышишь, -- добавил все же Лесли Гровс.
Они находились в нескольких милях от Денвера; никому не захочется
находиться слишком близко от атомной бомбы во время взрыва. Но даже здесь
грохот был таким, словно наступил конец света. Земля буквально подпрыгнула
под ногами Гровса. Затем пронесся ветер, и все стихло.
-- Я надеюсь, мы отвели людей достаточно далеко, чтобы взрыв не
повредил им, -- сказал Брэдли. -- Трудно судить, конечно, поскольку у нас
нет достаточного опыта применения такого оружия.
-- Да, сэр, -- сказал Гровс. -- Что ж, мы учимся постоянно, и я ожидаю,
что к окончанию войны мы узнаем очень многое.
-- Очень боюсь, что вы правы, генерал, -- сказал Брэдли, нахмурившись.
-- Теперь посмотрим, где и как ответят ящеры. Цена, которую мы должны
заплатить за остановку их наступления, -- это какой-то город, охваченный
пожаром. Молюсь, чтобы в конце концов эта сделка оказалась оправданной.
-- И я тоже, сэр, -- ответил Гровс, -- но если мы не удержим Денвер, то
не сможем оставить за собой и остальную часть США.
-- Я говорю себе то же самое, -- сказал Брэдли. -- И это позволяет мне
заснуть ночью.
Он сделал паузу. Лицо его стало таким угрюмым и строгим, что Гровс смог
легко представить себе, как будет выглядеть Брэдли в восемьдесят лет, если
доживет.
-- Позволяет мне заснуть, -- повторил он, -- но не позволяет мне
оставаться спокойным.
* * *
Атвар уже привык получать дурные вести в своем кабинете на борту
"127-го Императора Хетто" или в командном центре флагманского корабля.
Получать их в этой тосевитской комнате, более или менее приспособленной для
представителей Расы, было непривычно. Мебель и электроника знакомы, но форма
окон, тосевитский городской пейзаж, на который он смотрел, сами размеры
комнаты, напоминавшие ему, почему Раса назвала тосевитов Большими Уродами,
-- все кричало, что это не его мир, это чужой мир.
-- Возле Денвера, так? -- сказал он грустным голосом и просмотрел цифры
возможных потерь на экране компьютера. Цифры были предварительными, но
выглядели неприятно. Американцы, сражаясь на заранее подготовленных
позициях, уже потеряли множество своих самцов. И вот теперь, когда он думал,
что прорыв близок...
-- Благородный адмирал, они обманули нас, -- сказал Кирел. -- Они
повели наступление в этом секторе, но настолько неудачно, что оно
захлебнулось, и тогда они оставили удерживать фронт совершенно недостаточные
силы. Когда же местный командир попробовал использовать то, что счел их
грубой ошибкой, то...
-- Это и была грубая ошибка. Несомненно, ошибка, -- сказал Атвар. --
Это была наша ошибка. Они хитры, Большие Уроды, полны обмана и
предательства. Они не просто отступили и заманили нас, они применили ядерное
оружие. Мы должны были предупредить об этом наших самцов. Мы этого не
сделали. Они сделали то, что казалось очевидным, хотя и обманным тактическим
маневром, -- и снова обманули нас.
-- Истинно так, -- сказал Кирел таким же усталым и полным боли голосом,
как у командующего флотом. -- Как же нам отомстить за это? Разрушение их
городов, похоже, не удержит их от использования ядерного оружия, которое они
изготавливают.
-- Вы предлагаете провести изменения в политике, командир корабля? --
спросил Атвар.
Это был очень опасный вопрос, подразумевавший приказ Кирелу отказаться
от любых таких предложений. Дело было не в том, как адмирал сформулировал
его. Он имел в виду нечто более серьезное.
И потому голос Кирела звучал настороженно, когда он ответил:
-- Благородный адмирал, может быть, нам следует быть более мудрыми в
выборе ответных действий и уничтожать тосевитские воинские формирования,
противостоящие нам на фронтах. Это могло бы дать больший эффект, чем
разрушение гражданских центров, и уж наверняка не меньший.
-- Вот это уже похоже на дело.
Атвар вывел на экран карту боев в Соединенных Штатах. При этом с экрана
пришлось убрать данные потерь, хотя из памяти они не исчезли. Он показал на
узкий полуостров, выступающий в море в юго-восточном регионе не-империи.
-- Здесь! Местность Флорида нам подойдет. Не только потому, что здесь
бои идут на ограниченном участке, где ядерное оружие будет особенно
эффективным, но и еще потому, что мы одновременно отомстим темнокожим
тосевитам, которые изменнически притворялись верными нам.
-- Вы позволите, благородный адмирал? -- спросил Кирел, подходя к
компьютеру.
После разрешающего жеста Атвара он изменил масштаб карты для более
детального обзора фронтовой обстановки во Флориде.
-- Вот здесь, между городом под названием Орландо и еще одним, меньшим,
который называется... разве город может называться "Апопка"?
Его рот раскрылся от неожиданного удивления. То же произошло и с
Атваром. На языке Расы "апопка" означало "создавать дурной запах".
Главнокомандующий наклонился вперед, чтобы изучить карту.
-- Похоже, это именно то, во что складываются буквы, не так ли? И тем
не менее это подходящее место для возмездия.
-- Истинно так -- Кирел показал позицию на карте. -- Вот здесь
американцы сосредоточили большое количество бронетанковых войск.
-- Сбросим бомбу туда, где вы показали, -- конечно, после того, как
наши самцы отступят немного, но не настолько, чтобы это стало очевидно.
Может быть, мы сможем поймать тосевитов на один из их же собственных трюков.
-- Благородный адмирал, будет исполнено, -- сказал Кирел.
* * *
Нье Хо-Т'инг был доволен, что маленькие чешуйчатые дьяволы прекратили
показывать свои порнографические фильмы о Лю Хань. Они не преуспели в
разрушении ее авторитета, и, после того как ей вернули дочь, уже не имело
смысла изображать ее потаскухой.
Как бы то ни было, но в результате ее авторитет только вырос. Это
произошло частично благодаря действиям Нье, который разъяснил, что эти
фильмы показывают вовсе не характер Лю Хань, а лишь отвратительную
эксплуатацию маленькими чешуйчатыми дьяволами женщины, которая оказалась в
безвыходной ситуации.
Такое толкование для жителей Пекина оказалось убедительным. На
центральный комитет, однако, оно произвело меньшее впечатление. О, члены ЦК
соглашались с аргументами Нье, потому что они способствовали благоприятному
течению переговоров, и, несомненно, считались с Лю Хань. Но они не могли
забыть того, что видели. Поскольку осудить ее они не могли, то с подозрением
стали относиться к Нье за связь с женщиной, делавшей такие вещи.
-- Нечестно, -- пробормотал на ходу Нье.
Эта жалоба осталась незамеченной в хутуне, по которому он шел. Вокруг
болтали женщины, вопили дети, лаяли собаки, продавцы расхваливали снадобья и
овощи, музыканты старались заработать свою денежку... Только пулеметная
очередь могла бы привлечь здесь чье-то внимание. Впрочем, даже пулеметная
очередь -- если не слишком близко -- осталась бы незамеченной в Пекине тех
дней.
Нье вышел на Лю Ли Чьян, улицу Фабрики Глазированных Плиток.
Здесь можно было приятно провести свободное время -- если бы он им
располагал, -- потому что здесь процветало множество магазинов, торгующих
старыми книгами и курьезами.
Хотя он родился в эпоху умирания Китайской Империи и в тонкостях постиг
марксистско-ленинскую мысль, он по-прежнему сохранял уважение к
антиквариату, хотя сам этого почти не осознавал.
Теперь, однако, вместо того чтобы зайти в одну из таких лавочек, он
задержался возле одного из уличных киноустройств, сооруженных маленькими
дьяволами. Вместо того чтобы со злобой смотреть, как Лю Хань позволяет
мощному пестику какого-то мужчины проникать в себя, толпа глазела на мать
всех взрывов.
Гладкий китаец, объяснявший показываемое, -- тот самый пес, который
когда-то с таким сладострастием описывал падение Лю Хань, -- говорил:
-- Вот так Раса уничтожает тех, кто сопротивляется ей. Этот взрыв имел
место в американской провинции, называемой Флорида, где глупые иностранные
дьяволы сверх меры провоцировали милостивых служителей Империи. Пусть это
послужит предостережением всем, кто осмеливается обижать наших хозяев здесь,
в Китае.
После показа огненного облака от взрыва самой бомбы картина изменилась
-- стали показывать вызванные взрывом разрушения. Пушка танка, согнутая,
словно свечка, поднесенная слишком близко к огню. Земля, которая выглядела
так, словно жар бомбы расплавил ее, превратив в стекло. Повсюду обгорелые
трупы. И не только трупы -- некоторые обгоревшие куски мяса были еще живы,
они извивались, стонали и кричали на своем неразборчивом языке.
-- Не хотел бы, чтобы это случилось со мной, -- воскликнул старик с
длинными белыми усами, спускающимися ниже подбородка.
-- Это произошло и с маленькими чешуйчатыми дьяволами, -- сказал Нье
Хо-Т'инг. -- Американцы применили против них такую же бомбу. Эта бомба --
месть чешуйчатых дьяволов, но и люди тоже способны делать такие же.
Это радовало его, хотя американцы были капиталистами.
-- Иностранные дьяволы, может быть, и научились делать такие бомбы,
если правда то, что вы сказали, -- ответил на это старик. -- Но могут ли их
делать китайцы? -- Он сделал паузу, чтобы очевидный ответ появился сам
собой. -- Поэтому лучше, если мы будем делать то, что приказывают маленькие
дьяволы, так ведь?
Несколько человек кивнули. Нье посмотрел на них и на старика.
-- Маленькие дьяволы никогда прежде не применяли бомбы такого типа
здесь и даже не угрожали применить, -- сказал он, -- и если мы не будем
сопротивляться, они станут править нами точно так же, как японцы, --
устрашением и жестокостью. Этого мы хотим?
-- Маленькие чешуйчатые дьяволы оставят вас в покое, если их оставите в
покое вы, -- сказал старик.
Нье решил разузнать, кто он, и принять меры к его уничтожению: старик
явно был коллаборационистом и зачинщиком.
Кое-кто снова кивнул. Но одна женщина сказала:
-- А как насчет той бедной девочки, которую они заставили делать все
эти ужасные вещи перед их камерами? Что она им сделала плохого?
Старик уставился на нее. Он открыл рот, словно смеющийся маленький
дьявол, но зубов у него было много меньше, чем у империалистов со звезд.
Пока он искал ответ, Нье Хо-Т'инг направился к дому-общежитию, в котором
жил.
Войдя внутрь, он увидел в столовой первого этажа Хсиа Шу-Тао, который
пил чай с красивой продажной девицей. У той на шелковом зеленом платье был
сделан разрез -- через него виднелось золотистое бедро. Хсиа посмотрел на
Нье и кивнул без тени смущения. Его самокритика не подразумевала клятвы в
воздержании, просто он обязался удерживаться от приставаний к женщинам, не
заинтересованным в нем. Что касается девицы, то для нее сделка носила чисто
коммерческий характер. Тем не менее Нье нахмурился. Его помощник явно
пренебрегал своими обязанностями.
Но сейчас Нье думал о других вещах. Он поднялся по лестнице и пошел к
комнате, которую делил с Лю Хань и ее дочерью, наконец-то освобожденной от
маленьких чешуйчатых дьяволов. Поднимаясь по лестнице, он тихо вздохнул. Все
шло не так, как представляла себе это Лю Хань. По своему опыту Нье знал, что
в жизни мало что получается сразу. Пока он не нашел подходящего момента
сказать об этом Лю Хань.
Он потянул дверь на себя. Она оказалась запертой. Он постучал.
-- Кто там? -- настороженно спросила Лю Хань изнутри.
Теперь она просто так дверь не открывала -- после того дня, когда Хсиа
Шу-Тао пытался изнасиловать ее. Но, услышав знакомый голос, она подняла
брус, впустила Нье и шагнула в его объятия для краткой ласки.
-- Ты выглядишь усталой, -- сказал он.
Она выглядела изможденной и беспокойной. Но он считал, что лучше
выразиться помягче.
Ее дочь сидела в углу и играла с тряпичной куклой, набитой соломой.
-- Как ведет себя Лю Мэй сегодня?
К его удивлению и ужасу, Лю Хань заплакала.
-- Я родила ее, а она по-прежнему боится меня. Получается так, словно
она должна стать маленьким чешуйчатым дьяволом, а не человеческим существом.
Лю Мэй принялась вытаскивать соломинки из куклы, уже далеко не новой.
-- Не делай этого, -- сказала Лю Хань. Дочь не обратила ни малейшего
внимания. Тогда она произнесла то же самое на языке маленьких дьяволов,
добавив покашливание.
Дочь послушалась. Лю Хань с усталым видом повернулась к Нье.
-- Ты видишь? Она понимает их язык, а не китайский. Она даже не может
произносить правильно звуки китайского языка. Что я могу с ней поделать? Как
я могу ее воспитывать, если она такая?
-- Терпение, -- сказал Нье Хо-Т'инг. -- Ты должна помнить о терпении.
Диалектика доказывает, что коммунизм победит, но ничего определенного не
говорит о том, когда. Маленькие чешуйчатые дьяволы ничего не знают о
диалектике, но их долгая история дает им терпение. Лю Мэй находилась у них
всю свою жизнь, и они изо всех сил старались сделать ее своей. У тебя она
находится всего несколько дней. Ты не должна ожидать, что она изменится за
один день.
-- Этим -- я понимаю. -- Лю Хань постучала пальцем по лбу. -- Но мое
сердце разрывается, когда она отодвигается от меня, будто я монстр, и всякий
раз, когда мне нужно говорить с нею, я пользуюсь языком, который выучила,
потому что я была рабыней.
-- Как я сказал, ты не смотришь на проблему рационально, -- ответил
Нье. -- Одна из причин в том, что ты мало спишь. Лю Мэй нельзя назвать
обычным человеческим ребенком, но она просыпается ночью, как любой другой.
-- Он зевнул. -- Я тоже устал.
Лю Хань не просила его помогать в уходе за ребенком. Уход за ребенком
-- женская работа. В определенном смысле Нье воспринимал женщин и их место в
жизни как само собой разумеющееся -- подобно Хсиа Шу-Тао.
Впрочем, Лю Хань была с ним согласна. Она сказала:
-- Я хотела бы, чтобы мне было легче с ней. Я не то, чего она хочет. --
Ее губы скривились в горькой досаде. -- Она хочет этого маленького дьявола,
Томалсса. Это он сделал ее такой. Надо заставить его заплатить за это.
-- Здесь мы ничего не сможем сделать, пока мы не узнаем, что он снова
спустился на поверхность мира, -- сказал Нье. -- Даже
Народно-освободительная армия не может добраться до корабля чешуйчатых
дьяволов высоко в небе.
-- Маленькие дьяволы терпеливы, -- задумчиво проговорила Лю Хань. -- Он
не будет вечно оставаться на своем корабле. Он спустится, чтобы украсть еще
одного ребенка, чтобы превратить его в маленького чешуйчатого дьявола. Когда
он...
Нье Хо-Т'инг не хотел, чтобы она так смотрела на него.
-- Думаю, ты права, -- сказал он, -- но он сможет проделать это не в
Китае. Мир гораздо больше, чем мы обычно думаем.
-- Если он спустится, то только в Китай, -- сказала Лю Хань с чисто
мужской уверенностью. -- Он говорит по-китайски. Я не думаю, что он говорит
на каком-либо еще человеческом языке. Если он ограбит какую-то бедную
женщину, то это произойдет только в Китае.
Нье только развел руками.
-- Логично, должен сказать. Что мы должны сделать с ним?
-- Наказать его, -- тут же ответила она. -- Я вынесу вопрос на
центральный комитет и добьюсь официального одобрения.
-- Центральный комитет не одобрит акт личной мести, -- предостерег он.
-- Получить согласие на внесение в повестку вопроса о спасении твоего
ребенка тоже было довольно трудно, но это...
-- Думаю, предложение будет одобрено, -- настойчиво сказала Лю Хань, --
я не намереваюсь представить это как акт личной мести, но как символ того,
что угнетение человечества маленькими дьяволами нельзя терпеть.
-- Представляй это, как хочешь, -- ответил Нье. -- Все равно это личная
месть. Мне жаль, Лю Хань, но я не чувствую, что могу обеспечить тебе
поддержку в этом вопросе. Я и так уже потратил слишком много политического
капитала ради Лю Мэй.
-- Я все равно внесу предложение, -- сказала ему Лю Хань. -- Я уже
обсуждала его с несколькими членами комитета. Думаю, что оно пройдет,
поддержишь ты его или нет.
Он опешил. Они так хорошо работали вместе, в постели и вне нее, но
всегда он был доминирующим партнером.
А почему нет? До нашествия маленьких чешуйчатых дьяволов, когда все
пошло кувырком, он уже был начальником штаба армии, а она была всего лишь
крестьянкой, а потом -- примером угнетения чешуйчатых дьяволов. Все, чем она
стала в революционной борьбе, произошло благодаря ему. Он устроил ее в
центральный комитет, чтобы обеспечить себе дополнительную поддержку.
Как она может выступить против него?
По-видимому, она добилась необходимой поддержки для принятия ее
предложения. Добилась тихо, за его спиной. До Хсиа Шу-Тао такие сведения
тоже не дошли.
-- Хороша! -- сказал он с неподдельным восхищением. -- Очень хороша.
-- Да, это так, -- сказала она утвердительно. Затем выражение ее лица
несколько смягчилось. -- Спасибо тебе за то, что устроил меня на место, где
у меня есть возможность показать, какой я могу быть.
Она была очень хороша. Она даже старалась не обидеть его, убедиться,
что он не сердится. И она это сделала как мужчина, словами, а не с помощью
своего тела. Он не думал, что она больше не любит его: просто это был другой
способ показать, на что она способна.
Он улыбнулся. Она смотрела с настороженным удивлением.
-- Мы вдвоем пойдем далеко, если будем вместе, -- сказал он.
Она подумала над этим, затем кивнула. Только позже он задумался:
поведет ли он ее своей дорогой, или же она поведет его по своей?
* * *
Поезд со стоном остановился. Уссмак никогда еще не ездил на таком
средстве передвижения. На Родине рельсовый транспорт перемещался быстро,
ровно и почти бесшумно: благодаря магнитной левитации поезда на самом деле
не соприкасались с рельсами, вдоль которых они двигались. Здесь было
по-другому. Он чувствовал каждую крестовину, каждый стык, на котором
подбрасывало медленно идущий поезд. У его танка был более мягкий и ровный
ход, когда он двигался по пересеченной местности, чем у этого поезда на его
полотне.
Он издал тихое, означающее досаду, шипение.
-- Если бы я был посообразительнее, то никогда бы не вонзил свои зубы в
это существо, Лидова. Увы, вот что имбирь делает с самцом!
Один из самцов, набитых вместе с ним в отделение вагона, самец-стрелок
Ойяг сказал:
-- По крайней мере, вы смогли укусить одного из вонючих Больших Уродов.
Большинство из нас просто выжали и использовали.
Из уст остальных прозвучал согласный хор. Для них Уссмак был героем
именно потому, что смог нанести удар по СССР даже после того, как местные
Большие Уроды забрали его в свои когти. Это была честь, без которой он
вполне мог обойтись. Тосевиты знали, за что он попал в этот поезд, и
обращались с ним хуже, чем с другими. Как сказал Ойяг, у Советов просто
кончились вопросы, которые можно задать большинству плененных самцов. Уссмак
стал исключением.
Двое Больших Уродов с автоматическим оружием открыли дверь в отделение.
-- Выходи! Выходи! -- орали они на уродливом русском языке.
Это было слово, которое Уссмак выучил. Он знал немного русских слов, но
некоторые его товарищи находились в плену уже давно. Они переводили
приказания для тех, кто вроде него был новичком.
Он вышел. В коридоре было холодно. Тосевиты стояли вдоль внешней
стенки, не допуская скопления самцов и возможного нападения на охрану. Но
никто не оказался таким безрассудно храбрым, чтобы попробовать. Никто,
имевший опыт проживания в СССР, не сомневался, что Большие Уроды с радостью
пристрелят любого самца, который доставит им хоть малейшую неприятность.
Наружная дверь в дальнем конце вагона была открытой. Уссмак направился
к ней. Он привык жить в тесноте с другими самцами -- ведь он был членом
танкового экипажа, -- но даже немножко прогуляться было приятно.
-- Может быть, они будут кормить нас получше, чем в этом поезде? -- с
надеждой проговорил он.
-- Молчать! -- закричал один из вооруженных охранников по-русски.
Уссмак знал это слово и замолк.
Если в коридоре было просто холодно, то снаружи холод стоял страшный.
Уссмак принялся вертеть глазами, осматриваясь и раздумывая над тем, что это
за местность. Она определенно отличалась от разрушенной Москвы, куда его
доставили после того, как он сдал свою базу самцам СССР. В той поездке он
тоже кое-что повидал, но тогда он был коллаборационистом, а не пленником.
Темно-зеленые тосевитские деревья во множестве росли вокруг открытого
пространства, на котором остановился поезд. Он слегка приоткрыл рот, чтобы
язык его почувствовал запах. Он был острым и пряным и почти напомнил ему об
имбире. Ему захотелось имбиря -- чтобы только отвлечься от неприятностей. Он
больше не будет пытаться напасть на Больших Уродов. Он не будет и думать об
этом.
Крики и жесты Больших Уродов погнали его вместе с жалкой толпой
остальных самцов через ворота в изгороди, сделанной из большого количества
когтистого материала, который тосевиты используют вместо режущей проволоки,
-- и дальше, к нескольким довольно грубо сделанным зданиям из нового сырого
дерева. Другие, более старые здания располагались дальше вглубь и тоже
отделялись от новых проволокой с когтями. Большие Уроды в грязных и
поношенных одеждах смотрели на него и его товарищей с пространства между
этими старыми зданиями.
Подробностей Уссмак рассмотреть не успел. Охранники кричали и
размахивали руками, показывая, куда идти дальше. У некоторых было
автоматическое оружие; другие держали больших рычащих животных, у которых
рты были полны больших острых желтых зубов. Уссмак видел таких тосевитских
зверей и раньше. Один такой со взрывчатым материалом, привязанным к спине,
вбежал под его танк, взорвал себя сам и подорвал гусеницу боевой машины.
Если Большие Уроды смогли натренировать их на это, то -- он был уверен в
этом -- могут научить их гоняться и кусать самцов Расы, которые выйдут из
строя.
Он не собирался выходить из строя, ни в буквальном, ни в переносном
смысле слова. Вместе с остальными самцами он вошел в здание, куда их гнали.
Вертя глазами, он так же быстро осмотрелся внутри здания. По сравнению с
коробкой, в которой его держали в московской тюрьме, по сравнению с набитым
до предела отделением вагона, в котором его везли в это место, оно было
просторным и роскошным. По сравнению с любыми другими жилыми помещениями,
даже с тосевитскими бараками в Безансоне, где ему тоже пришлось пожить, оно
служило синонимом убогости.
Внутри имелось небольшое открытое пространство с металлическим
устройством посередине. Охранник взял железную кочергу и открыл дверцу этого
устройства, затем бросил несколько черных камней в огонь, который горел там.
Только теперь Уссмак понял, что это устройство, должно быть, печь.
Вокруг стояли ряды и ряды нар, в пять и шесть этажей, сделанные по
размерам Расы, а не Больших Уродов. Когда самцы поспешили занять места,
впечатление о просторе барака исчезло. Здесь они также оказались в отчаянной
тесноте.
Охранник что-то закричал Уссмаку. Он не знал, чего от него хотят, но
начал двигаться -- что, вероятно, удовлетворило Большого Урода. Он занял
нары на третьем этаже во втором ряду от печки. Он надеялся, что устроился
достаточно близко. Послужив в Сибири, он испытывал благоговейное уважение к
тосевитской погоде.
Место для спанья на нарах было из голых досок, с единственным вонючим
одеялом -- вероятно, сотканным из шерсти какого-то местного животного, с
неудовольствием подумал он, на случай, если печь не даст достаточно тепла.
Это показалось Уссмаку вполне возможным. Почти ничего тосевиты не делали
так, как следовало бы, исключая то, что причиняло страдания. Это у них
выходило отлично.
Ойяг вскарабкался на нары над ним.
-- Что они будут делать с нами, благородный господин? -- спросил он.
-- Я этого тоже не знаю, -- ответил Уссмак.
Как бывший водитель танка он по рангу стоял выше самца-стрелка. Но даже
те самцы Расы, у которых раскраска тела была более замысловатой, чем у него,
теперь часто удостаивали его почетного обращения. Никто из них не поднимал
мятежа или не командовал базой, сместив законного руководителя.
"Они и не знают, как я жалею, что сделал это, -- с досадой думал
Уссмак, -- и еще больше жалею, что сдал базу советским войскам, когда она
была в моих когтях".
От этого сожаления пользы было не больше, чем всегда.
Барак постепенно наполнялся самцами. Когда последние прибывшие заняли
нары -- расположенные так далеко от печки, что Уссмаку стало их жаль: каково
им придется, когда наступит ночь? -- еще один самец и два Больших Урода
вошли в дверь и остановились, ожидая, чтобы их заметили.
Уссмак с интересом рассматривал пришедших. Самец Расы вел себя так,
словно он здесь что-то значит, хотя раскраска его потускнела и ободралась,
не позволяя судить о ранге. Стоявшие рядом с ним тосевиты представляли
интересный контраст. На одном была одежда, типичная для охранников,
угнетавших Уссмака с момента пленения. Другой был одет в потрепанную одежду,
такую же, как у самцов, наблюдавших через изгородь из проволоки с когтями за
прибытием Уссмака и его товарищей. У этого дополнительно росли волосы на
лице, что делало его, по мнению Уссмака. еще более неопрятным, чем прочие
тосевиты. Самец сказал:
-- Я -- Фссеффел. Когда-то я был командиром звена бронетранспортеров.
Сейчас я старший самец Барака-Один Расы.
Он сделал паузу. Большой Урод с шерстью на лице заговорил по-русски с
тем, кто был одет в одежду официального покроя. "Переводчик", -- сообразил
Уссмак. Он решил, что Большой Урод, понимающий его язык, может оказаться
полезным, а поэтому с ним стоит познакомиться.
Фссеффел продолжил:
-- Самцы Расы, вы находитесь здесь, чтобы работать на самцов СССР. С
данного момента это будет вашей единственной функцией. -- Он сделал паузу,
чтобы все поняли и для перевода тосевита. -- То, как хорошо вы будете
работать, как много вы произведете, будет определять, как хорошо вы будете
питаться.
-- Это варварство, -- прошептал Ойяг Уссмаку.
-- Ты ожидал, что Большие Уроды будут вести себя, как цивилизованные
существа? -- прошептал в ответ Уссмак.
Он сделал знак Ойягу замолчать -- Фссеффел продолжал говорить.
-- Вы выберете себе старшего самца в этом Бараке-Три Расы. Этот самец
будет вашим посредником в делах с русскими самцами народного комиссариата
внутренних дел, тосевитской организации, ответственной за управление этим
лагерем. -- Он снова сделал паузу. -- Призываю вас разумно отнестись к
выбору. -- Он добавил усиливающее покашливание. -- Если вы не сделаете
выбора, он будет сделан вместо вас, более или менее случайным образом. В
Бараке-Два Расы так и случилось. Результат получился неудовлетворительный. Я
призываю вас воздержаться от такого поведения.
Уссмак подумал, что же за неудовлетворительный результат имел в виду
Фссеффел. Все виды возможных неприятностей он уже переживал: голод, пытки,
наказания. До мятежа он о таких вещах не задумывался. С тех пор его границы
познания расширились -- и не в лучшую сторону.
Ойяг удивил его, закричав:
-- Уссмак!
Через мгновение уже половина самцов в бараке называла его имя. Они
хотят, чтобы он стал их старшим самцом, понял он без всякой радости. В этом
случае ему придется постоянно общаться с Большими Уродами, чего он желал
менее всего на свете. Но подходящего повода отказаться он не видел.
Большой Урод с волосистым лицом сказал:
-- Пусть самец по имени Уссмак выйдет вперед, чтобы все увидели его.
Он говорил на языке Расы так же бегло, как любой тосевит, которого
слышал Уссмак. Когда Уссмак спустился с нар и подошел к двери, Большой Урод
сказал:
-- Я приветствую вас, Уссмак. Мы будем вместе в каждый из остальных
дней. Я -- Давид Нуссбойм.
-- Я приветствую вас, Давид Нуссбойм, -- сказал Уссмак.
* * *
Бриз по-прежнему доносил чуждую вонь Каира к обонятельным рецепторам на
языке Атвара. Но это был приятный слабый бриз, и командующий флотом был
готов терпеть тосевитскую вонь, тем более что добился успеха и нанес Большим
Уродам мощный удар.
Он вывел ситуационную карту Флориды на один из компьютеров в его
тосевитском жилище.
-- Мы сломили здесь американцев, -- сказал он Кирелу, показывая на
карту. -- Бомба проделала брешь, и мы хлынули в нее. Теперь они бегут перед
нами, как в первые дни после начала завоевания. Наше обладание полуостровом
кажется гарантированным.
-- Истинно, благородный адмирал, -- сказал Кирел, но затем добавил,
умеряя радость. -- Жаль, что завоевание в других идет не так, как в первые
дни.
Атвар не желал затрагивать эту тему, если только его не заставляли.
После того как американцы взорвали свое ядерное устройство под Денвером,
наступление Расы захлебнулось. Оно обошлось гораздо дороже, чем показывали
расчеты. Бомба прорвала южный фланг наступления и привела к ослаблению
наступления в центре и на севере, потому что местный командир переместил
силы на юг, чтобы помочь создать то, что казалось брешью. Брешь была входом
в ловушку.
Кирел сказал:
-- Благородный адмирал, что же нам делать с последним сообщением из
СССР? Его руководство нагло требует, чтобы мы покинули их территорию, что
является условием для заключения мира.
-- Так и должно быть. И это просто большой блеф, -- ответил Атвар. --
Единственное ядерное оружие, которое смог изготовить СССР, было произведено
из плутония, украденного у нас. То, что эта не-империя не смогла сделать еще
одну бомбу, указывает нашим аналитикам на их неспособность к производству.
Проинформируйте Большого Урода, называемого Молотов, и его хозяина, великого
Сталина -- великого по сравнению с чем? -- добавил он, презрительно фыркнув,
-- что СССР не в таком положении, чтобы требовать от нас того, чего он не
смог добиться на поле битвы.
-- Будет исполнено, -- сказал Кирел.
Атвар вернулся к прежней теме:
-- Успех нашей бомбы возмездия снова заставляет меня подумать о том,
чтобы использовать это оружие шире, чем мы делали прежде.
-- Но только не в СССР, благородный адмирал, -- сказал Кирел с легкой
тревогой. -- Его земли слишком уязвимы для радиоактивных загрязнений, они
станут непригодны для сельского хозяйства и пастбищ наших колонистов.
-- С чисто военной точки зрения это было бы гораздо эффективнее, но мы
не можем игнорировать потребности флота колонизации, -- обиженно осветил
Атвар. Он вздохнул. -- К сожалению, не можем. Если бы не было флота
колонизации, то флот вторжения был бы просто ни к чему. Аналитики согласны с
вами: крупномасштабные ядерные бомбардировки СССР хотя и соблазнительны тем,
что избавили бы эту планету от клики, убившей своего Императора и теперь
правящей этой не-империей, но могут привести к большему долгосрочному
ущербу, чем военное преимущество, которое мы получим.
-- Я тоже изучал данные анализа, -- сказал Кирел.
У Атвара возникли подозрения: не собирается ли Кирел подготовить свое
тело к раскраске командующего флотом? Но он не сделал пока ничего такого, на
что Атвар мог бы обидеться, поэтому адмирал стал ждать, что тот скажет
дальше.
-- Они констатируют, что есть некоторые регионы, где ядерное оружие
можно было бы успешно использовать в качестве наступательного без причинения
ненужного ущерба планете.
Подозрения Атвара несколько уменьшились, и не в последнюю очередь из-за
того, что Кирел согласился с ним.
-- Если мы будем применять ядерное оружие по нашему собственному
разумению, а не в качестве ответной меры после выходок тосевитов, для
Больших Уродов мы станем менее предсказуемыми и более опасными. Это может
дать непропорционально больший политический эффект по сравнению с тем,
который дает наша военная мощь.
-- И снова, благородный адмирал, истинно, -- сказал Кирел. -- Дав
Большим Уродам понять, что мы тоже можем быть непредсказуемыми, мы добьемся,
как вы сказали, значительного прогресса.
-- Это важнейший вопрос, -- согласился Атвар. -- Мы не в состоянии
предвидеть действия Больших Уродов, даже располагая всей нашей электроникой,
в то время как они, очень ограниченные в подобных средствах, часто могут
предвидеть то, что мы намереваемся делать, с результатами, слишком часто
приводящими нас в замешательство.
Определив, что Кирел согласен с ним, Атвар вызвал вместо карты Флориды
другую.
-- Этот большой остров -- или, возможно, небольшой континент, последнее
слово за планетологами -- лежит к юго-востоку от основной континентальной
массы и имеет огромные пространства, идеально подходящие для расселения Расы
и мало освоенные Большими Уродами, причем большая часть поселений тосевитов
стянута к влажному восточному берегу. Именно с этих баз они постоянно
устраивают беспокоящие нас рейды. Все обычные усилия подавить эти рейды
оказались бесполезными. Это может оправдать ядерное вмешательство.
-- Хорошо сказано, благородный адмирал, -- ответил Кирел. -- Если мы
нанесем по этим местам ядерные удары, большая часть радиоактивных осадков
будет унесена в море, а гигантские моря Тосев-3, несомненно, смогут
приспособиться к осадкам с гораздо меньшим ущербом, чем земли.
-- Эта планета вообще имеет слишком много морей относительно площади
земель, -- согласился Атвар. -- Планетологи потратят столетия, чтобы
объяснить, что делает эту планету столь отличной от Родины и миров Работев и
Халесс.
-- Оставим им беспокойство по этому поводу, -- сказал Кирел. -- Наша
работа состоит в том, чтобы дать им возможность беспокоиться о таких
пустяках.
-- Вот это вы хорошо подметили, командир корабля, -- сказал Атвар.
Кирел несколько расслабился. В последнее время он принимал при общении
с адмиралом излишне нервную позу. Атвар подумал, что он нечасто удостаивал
похвалы своего ближайшего помощника. С его стороны это было ошибкой: если
они не будут вместе хорошо работать, то это помешает прогрессу в завоевании
-- и без того уже слишком многое мешало прогрессу завоевания. Атвар
прошипел, выдыхая воздух:
-- Если бы я представлял себе сложность задачи подавления сопротивления
в индустриальном мире без уничтожения его, я бы очень долго думал, принимать
командование или нет.
Кирел не дал немедленного ответа. Если позиции Атвара ослабнут,
командующим флотом, скорее всего, будет назначен он. Насколько ему хочется
этой должности? Атвар не мог дать уверенного ответа, и, возможно, это делало
его отношения с командиром флагманского корабля более натянутыми, чем
следовало бы. Кирел никогда не проявлял нелояльности, тем не менее...
Когда командир корабля заговорил, то стал уточнять тактическую ситуацию
и не стал комментировать последнее замечание Атвара.
-- Благородный адмирал, мы начнем подготовку к использованию ядерного
оружия против тех тосевитских поселений на острове, или континенте, или как
его там? -- Он наклонился, чтобы прочитать обозначения на карте, избегая
возможной ошибки. -- Я имею в виду Сидней и Мельбурн?
Атвар тоже наклонился вперед, чтобы лично проверить выбранные места.
-- Да, именно эти. Начните подготовку как можно скорее.
-- Благородный адмирал, будет исполнено.
Если уж говорить о тюрьмах, то в той, куда попали теперь Мойше
Русецкий, его жена и сын, было не так уж плохо. Она превосходила даже виллу,
на которой их прятало еврейское подполье в Палестине. Здесь, в некогда
прекрасном отеле, он и его семья имели достаточно пищи и наслаждались
электричеством, холодной и горячей водой. Если бы не решетки на окнах и
вооруженные ящеры перед входом, их жизнь можно было бы считать роскошной.
Окна притягивали Мойше, несмотря на решетки. Он в восхищении
вглядывался в Каир, протянувшийся вдоль Нила, и в пирамиды за городской
чертой.
-- Никогда не думал, что, подобно Иосифу, приду в Египет из Палестины,
-- сказал он.
-- А кто будет нашим Моисеем, который выведет нас отсюда? -- спросил
Рейвен.
Русецкий почувствовал гордость: мальчик еще так мал, но уже не только
изучает великую историю Торы, но и применяет знания в своей жизни. Ему
хотелось бы дать ответ получше, чем "я не знаю", но лгать Рейвену он тоже не
желал.
Ривка задала более конкретный вопрос:
-- Что они сделают с нами теперь?
-- Этого я тоже не знаю, -- ответил Мойше.
Он пожалел, что Ривка и Рейвен пошли вместе с ним, когда Золрааг
опознал его в иерусалимском тюремном лагере. Теперь жалеть поздно. В их
присутствии он становился более уязвимым. Еще в Варшаве ящеры грозили ему,
что заставят его делать то, что им хочется.
Если бы его семья отсутствовала, они оказались бы бессильны. Он был
готов скорее умереть, чем подчиниться ящерам. Но допустить страдания жены и
сына -- это нечто другое.
В замке повернулся ключ -- снаружи. Сердце Мойше заколотилось. В
промежутке времени между завтраком и обедом ящеры обычно не беспокоили его.
Дверь открылась.
Вошел Золрааг. Бывший правитель провинции Польша имел теперь более
богатую раскраску тела, чем в те времена, когда Мойше видел его в Палестине.
Хотя он и не вернулся к роскоши прежней раскраски, напоминавшей стиль
рококо, но уже шел к ней.
Он высунул язык в сторону Мойше, затем снова втянул его внутрь.
-- Вы пойдете со мной немедленно, -- сказал он на неплохом немецком,
при этом слово "немедленно" -- "зофорт" -- прозвучало длинным угрожающим
шипением.
-- Будет исполнено, -- ответил Мойше на языке Расы.
Он обнял Ривку, поцеловал в лоб Рейвена, не зная, увидит ли он их
снова. Золрааг позволил, но издавал при этом тихие нетерпеливые звуки,
похожие на те, какие слышатся от начинающего закипать горшка.
Когда Мойше подошел к нему, ящер постучал в дверь -- дверная ручка была
снята. Золрааг использовал ранее не использовавшуюся последовательность
ударов -- вероятно, для того, чтобы семья Русецких не смогла запомнить ее,
постучаться, выйти и причинить неприятности. Не в первый раз Мойше пожалел,
что он и его семья не были в действительности такими опасными, как думали
ящеры.
В коридоре четверо самцов направили на него автоматическое оружие.
Золрааг жестом приказал им отойти к лестнице. Два охранника-ящера
последовали за ними, причем на таком расстоянии, чтобы он не смог, резко
повернувшись, выхватить их оружие -- как будто он был "meshuggeh" [Безумцем.
-- Прим. пер.], чтобы пойти на такую попытку.
Золрааг приказал ему влезть в механическое боевое транспортное
средство. Охранники тоже забрались внутрь. Один захлопнул заднюю дверь. Звон
от удара металла о металл был страшен, как приговор.
Золрааг бросил единственное слово в микрофон в передней части отделения
для бойцов:
-- Вперед!
Боевая машина с грохотом двинулась по улицам. Через бойницу в стенке
машины Мойше мог видеть немногое. Это было одно из наименее приятных
путешествий в его жизни. Сиденье, на котором он неловко старался устроиться,
было рассчитано на самца Расы, а не на землянина: он не помещался в нем,
колени упирались в подбородок. Вдобавок внутри было жарко, жарче, чем
снаружи. Ящеры наслаждались жарой. Русецкий задумался, выдержит ли он, пока
они добираются до того места, куда едут.
Он успел взглянуть на рыночную площадь, перед которой все те, которые
он видел в Палестине, казались пятачками. Через броню машины он слышал крики
глумления и ругань по адресу ящеров -- по крайней мере, он так думал, хотя и
не знал ни слова по-арабски. Но чем еще могли быть эти гортанные жгущие
слова? В любом случае Золрааг игнорировал крики.
Через несколько минут машина остановилась. Один из охранников открыл
дверцу сзади.
-- Jude heraus! [Еврею выйти! -- Прим. пер.] -- сказал Золрааг, отчего
на затылке у Мойше волосы встали дыбом.
Его привели в другой отель. Ящеры укрепили его, как линию Мажино. Когда
Мойше осмотрелся, то заметил большое количество режущей проволоки, чужаков с
автоматическим оружием и такое количество танков и боевых машин, что их
хватило бы остановить и "африканский корпус" Роммеля, и англичан, воевавших
против него... Но в эти дни нацистам и англичанам было не до Северной
Африки.
Рассматривать подробности времени не было.
Золрааг сказал:
-- Идите.
Охранники навели на него оружие, и он подчинился. В холле были
вентиляторы на потолке. Они не работали. Свет горел, и Мойше решил, что
вентиляторы не работают потому, что ящеры этого не хотят.
Лифт, однако, работал. Более того, он поднимался более плавно и
бесшумно, чем любой, которым пользовался Мойше в прошлом. Он не понял, был
лифт таким с самого начала или же ящеры усовершенствовали его после того,
как завоевали Каир. Подумать только, какая ерунда его занимает!
Когда двери лифта открылись, он обнаружил, что находится на шестом,
последнем этаже здания.
-- Выходите, -- сказал Золрааг, и Мойше снова подчинился.
Золрааг повел его по коридору к многокомнатному номеру, по сравнению с
которым помещения, в которых содержалась семья Русецких, казались тюрьмой.
Ящер со странной раскраской тела -- правая сторона была довольно скромной, в
то время как левая раскрашена настолько замысловато, что Мойше ничего
подобного прежде не видел, -- заговорил с Золраагом, стоя у двери, затем
нырнул внутрь комнаты.
Через мгновение он вернулся.
-- Введите Большого Урода, -- сказал он.
-- Будет исполнено, адъютант главнокомандующего флотом, -- ответил
Золрааг.
Они говорили на своем языке, но Мойше смог понять их.
-- Главнокомандующий флотом? -- сказал он, гордясь тем, что, несмотря
на удивление, не забыл добавить вопросительное покашливание.
Но ящеры все равно игнорировали его вопрос. Он даже не мог себе
представить, что главнокомандующий флотом находится на поверхности земли.
Раскраска тела Атвара была такой же, как на левой стороне тела Пшинга,
но покрывала все тело. В остальном для Русецкого он выглядел как обычный
ящер. Мойше мог отличать одного чужака от другого только после того, как
общался с ним некоторое время.
Золрааг торжественно объявил:
-- Благородный адмирал, я представляю вам тосевита Мойше Русецкого,
который наконец возвращен в заключение к нам.
-- Я приветствую вас, благородный господин, -- сказал Мойше так
вежливо, как только мог: нелогично оскорблять главного ящера.
Но все равно он не избежал ошибки.
-- Я приветствую вас, благородный адмирал, -- резко сказал Золрааг.
Мойше повторил фразу, на этот раз с должным почтением.
-- Так лучше, -- сказал ему Золрааг.
Атвар тем временем изучал его с головы до ног, двигая глазами
независимо один от другого, что было свойственно ящерам и действовало на
людей угнетающе. Главнокомандующий заговорил на своем языке, причем слишком
быстро, чтобы Мойше мог понять. Золрааг перевел его слова на немецкий.
-- Благородный адмирал желает знать, поражены ли вы ошеломляющей мощью
Расы.
Вместо слова "Раса" он использовал немецкое слово "фольк", то есть
"народ". У Мойше снова встопорщились волосы на шее -- это слово использовали
и нацисты. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и дать
ответ.
-- Скажите главнокомандующему, что я не поражен. Если бы Раса обладала
ошеломляющей мощью, эта война давно закончилась бы.
Он подумал, что такой ответ рассердит Атвара. Он надеялся, что этого не
произойдет. Он должен быть осторожен в своих высказываниях, не столько ради
себя, сколько ради Ривки и Рейвена. К его облегчению, рот Атвара открылся.
Смотреть на мелкие острые зубки и длинный раздвоенный язык ящера было
неприятно, но это означало, что его слова скорее позабавили
главнокомандующего, чем расстроили.
-- Истинно, -- сказал Атвар слово, которое Русецкий знал. Он кивнул,
чтобы показать, что понял. Атвар продолжил на своем языке, и Золрааг снова
перевел:
-- Благородный адмирал узнал от меня и от других, что вы противились
восстанию евреев, выступивших на нашей стороне, когда мы занимали Палестину.
Почему вы так поступили, ведь вы нас поддерживали в борьбе против немцев в
Польше?
-- По двум причинам, -- ответил Мойше. -- Во-первых, я теперь знаю, что
вы собираетесь править всем человечеством вечно, и я этого поддерживать не
могу. Во-вторых, немцы в Польше уничтожали евреев, как вы знаете. Англичане
в Палестине этого не делали. Некоторые евреи, которые поддерживали вас
здесь, убежали из Германии или из Польши. Вы кажетесь мне более опасными,
чем англичане.
Золрааг превратил его слова в шипучие, щелкающие и скрипящие звуки
языка ящеров. Атвар снова заговорил, на этот раз медленнее и обращаясь
непосредственно к Мойше:
-- Те, другие самцы, которые сбежали, думают не так, как вы. Почему?
Мойше призвал на помощь все свои познания в языке Расы.
-- Другие самцы смотрят вперед недалеко. Я смотрю вдаль. В долгосрочном
плане ящеры хуже, англичане лучше.
Чтобы показать, насколько он уверен в этом, он закончил усиливающим
покашливанием.
-- Это хорошо, что вы думаете с дальним прицелом. Немногие Большие
Уроды поступают так, -- сказал Атвар. -- Может быть, так и должно быть и, с
точки зрения Большого Урода, который не желает подчиниться правлению Расы,
вы и правы. -- Он сделал паузу, повернув оба глаза к Русецкому. -- Но это
вам все равно не поможет.
Ящеры заменили всю сделанную людьми мебель своей, отчего комната, в
которой стоял сейчас Русецкий, казалась больше, чем была в действительности.
Чистый стеклянный экран одного устройства вдруг засветился, и на нем
появилось лицо ящера. Из машины также послышался его голос. "Телефон с
киноприспособлением", -- подумал Мойше.
По тому, как дернулся адъютант Атвара, выслушав сообщение, можно было
подумать, что он сунул язык в электрическую розетку.
Он повернул один глаз к Атвару и сказал:
-- Благородный адмирал!
-- Не теперь, Пшинг, -- ответил Атвар с совершенно человеческим
нетерпением.
Но адъютант Пшинг продолжал настаивать. Атвар прошипел что-то, чего
Русецкий не понял, и повернулся к экрану. И тут же лицо ящера на экране
сменилось огромным грибоподобным облаком, поднимающимся высоко в небо. Мойше
в ужасе охнул. Он видел такое облако на пути в Палестину -- оно поднималось
над тем, что было Римом.
Его восклицание напомнило Атвару, что пленник все еще здесь.
Главнокомандующий повернул один глаз в сторону Золраага и взорвался:
-- Выведите его отсюда!
-- Будет исполнено, благородный адмирал, -- сказал Золрааг. -- Теперь
идите. У благородного адмирала есть дела, более важные, чем какой-то
незначительный Большой Урод.
Мойше вышел. Он молчал, пока боевая машина, которая привезла его в
штаб-квартиру Атвара, не тронулась в обратный путь к отелю. Затем он
спросил:
-- Где взорвалась эта атомная бомба?
Золрааг издал шипение, прозвучавшее, как шум неисправного самовара.
-- Значит, вы узнали? Это место -- часть провинции Египет. У него два
названия, по вашему нелепому обычаю. Оно называется Эль-Искандрия и
Александрия Вы знаете какое-то из этих названий?
-- Кто-то бомбил Александрию? -- воскликнул Мойше. -- Vay iz mir! Кто?
Как? Вы, Раса, ведь держите под контролем всю страну, не так ли?
-- Я считал, что так, -- ответил Золрааг. -- Но очевидно, что нет. Кто?
Мы не знаем. Англичане, которые мстят нам за то, что мы сделали в Австралии?
Мы не верили -- не верим, что у них есть оружие такого вида. Они не могли
занять его у американцев?
Вопрос прозвучал очень серьезно. Мойше поспешил ответить:
-- Не представляю себе, благородный господин.
-- Не представляете? -- спросил Золрааг. -- Вы ведь вели радиопередачи
для англичан. Мы должны расследовать это.
По спине Мойше прошел холодок. Ящер продолжил:
-- Может быть, это немцы, которые воюют с нами, где только могут? Мы не
знаем -- но когда узнаем, кто из Больших Уродов сделал это, они заплатят
большую цену.
Золрааг сказал и еще что-то, но тут Мойше сообразил:
-- Австралия, благородный господин? Что произошло в Австралии?
-- Мы разрушили там два города, чтобы обеспечить наши завоевательные
действия, -- ответил с холодным безразличием бывший правитель провинции
Польша, затем вернулся к прежнему вопросу. -- Каким образом? Мы не знаем. Мы
не засекли ни самолетов, ни ракет, ни судов, движущихся по воде. Мы не
верим, что бомбу можно было тайно доставить по земле, -- мы обнаружили бы ее
при досмотре грузов.
-- Ни по воде, ни по воздуху, ни по суше? -- сказал Мойше. -- Остается
немногое. Может быть, кто-то прорыл туннель под Александрией?
Золрааг возмутился:
-- У вас, тосевитов, нет технологии, чтобы выполнить такое! -- Тут ему
показалось, что Русецкий шутит, хотя и намеком. -- Ничего в этом забавного
нет, рабби Мойше, -- сказал он и добавил усиливающее покашливание.
Никто не обращался к Мойше "рабби" после того, как он покинул Варшаву.
Тогда он думал, что ящеры явились в ответ на его молитвы, чтобы заставить
нацистов прекратить уничтожение евреев в гетто. Люди питали надежду на это.
Теперь он увидел, что ящеры, хотя и не питают особой ненависти к
евреям, более опасны для всего остального мира, чем нацисты. Два
австралийских города были разрушены без видимых причин. И, несмотря на
знойный воздух в машине, он задрожал.
* * *
Генрих Ягер заглянул в моторный отсек "пантеры".
-- Опять прокладка топливного насоса? -- проворчал он. -- Боже
милостивый, когда же они научатся их делать как следует?
Гюнтер Грилльпарцер показал номер партии, нанесенный белой краской на
черной резиновой прокладке.
-- Вот эта старая, сэр, -- сказал он, -- сделана, вероятно, в первые
два месяца после того, как началось их производство.
Это не слишком утешило Ягера.
-- Нам чертовски повезло, что мотор не вспыхнул, когда она порвалась.
Того, кто прислал ее нам, надо бы отхлестать.
-- Ага, дать тупому ублюдку лапши и поставить на его место кого-то
другого, -- сказал Грилльпарцер, используя эсэсовский сленг для обозначения
пули в затылок.
Возможно, он перенял выражение у Отто Скорцени. Возможно, это не было
шуткой. Ягер знал, как обстоят дела на германских заводах. Когда столько
немцев находилось на фронте, для работы на производстве использовались
евреи, русские, французы и другие рабочие-рабы, достойные только одного
наказания за малейшую ошибку.
-- На замену идет новая? -- спросил Ягер.
Грилльпарцер посмотрел на номер партии.
-- Да, сэр, -- ответил он. -- Мы прилепим ее сюда, и неприятностей не,
будет -- до следующего раза.
На этой оптимистической ноте он схватил отвертку и набросился на
топливный насос.
Вдали со скрежетом пронеслась стая ракет, в сторону позиций ящеров.
Ягер поморщился от жуткого шума. Ему довелось быть слушателем сталинского
органного концерта: Красная Армия обрабатывала вермахт "Катюшами", еще до
нашествия ящеров. Когда требуется спешно растерзать участок земли, лучший
способ для этого -- ракеты.
Отто Скорцени они вовсе не беспокоили.
-- Кому-то достанется ад, -- весело сказал он. Затем, понизив голос
так, чтобы его слышал только Ягер, он продолжил: -- Почти такой, как мы
устроили в Александрии!
-- А-а, значит, это были мы, так ведь? -- сказал Ягер так же тихо, -- а
по радио взрыв приписали не рейху.
-- Чертово радио и не собирается объявлять, что это сделал рейх, --
ответил эсэсовец. -- Если мы возьмем это на себя, какой-то наш город
исчезнет с карты. Кельн, а может быть, Франкфурт или Вена. Они в любом
случае могут исчезнуть, но мы не собираемся хвастаться и провоцировать
ящеров, если можем помалкивать и таинственно улыбаться. Ты меня понимаешь?
Возможно, он хотел изобразить при этом таинственную улыбку, но она
получилась пошлой.
Ягер спросил:
-- Ты знаешь, как мы это сделали? Для меня это тайна.
-- Вообще-то я знаю, но говорить не полагается, -- сказал Скорцени.
Ягер поднял с земли ветку и замахнулся. Скорцени хмыкнул.
-- Дерьмо, я никогда не соблюдал правила. Ты знаешь, что такую бомбу
невозможно приспособить к самолету или ракете, так ведь?
-- О, да, -- согласился Ягер. -- Помнится, я был втянут в этот проект
глубже, чем мне хотелось бы. Ты -- безумный ублюдок, и это была и твоя
ошибка тоже. Если бы я не участвовал в том рейде, когда ты стянул взрывчатый
металл у ящеров...
-- То стал бы куклой в руках Советов и, вероятно, сейчас был бы уже
мертв, -- прервал его Скорцени. -- Если бы тебя не сцапали ящеры, то это
сделали бы большевики. Но на этот раз мы все сделали по-другому. Мы не стали
устанавливать ее на грузовом судне, как сделали, когда рванули Рим. Трудно
одурачить ящеров дважды одним и тем же способом.
Ягер шагал, раздумывая. Он поскреб подбородок. Надо бы побриться. У
него имелась острая бритва, но скрести ею лицо без мыла было настоящей
пыткой. Наконец он сказал:
-- Мы не могли доставить ее по суше. Остается... даже не могу себе
представить.
-- Вот и ящеры тоже! -- Скорцени злобно улыбнулся. -- Они рвали бы на
себе волосы, если бы имели их. Но я знаю кое-что, чего они не знают. -- Эти
слова он почти пропел, как мальчишка, насмехающийся над своими сверстниками
во дворе школы. Он ткнул пальцем в грудь Ягеру. -- Я знаю кое-что, чего и ты
не знаешь.
-- Все в порядке, -- сказал Ягер. -- Если не скажешь, дам тебе сапогом
в зад. Как же мы сожгли Александрийскую библиотеку?
Намек на классику прошел для Скорцени незамеченным, но на главный
вопрос он ответил:
-- Я знаю, что у нас есть новый тип подводной лодки, вот что я знаю.
Будь я проклят, если знаю как, но она может проплыть в погруженном состоянии
каждый сантиметр из целых четырехсот пятидесяти километров.
-- Боже правый! -- воскликнул Ягер с неподдельным изумлением. -- Если
бы не нашествие ящеров, мы вымели бы всю Атлантику с такими лодками. -- Он
снова почесал подбородок, мысленно представив себе карту восточной части
Средиземного моря. -- Ее, должно быть, привели отсюда -- с Крита?
На лице Скорцени мелькнула забавная смесь уважения и разочарования.
-- А ты ведь неглупый парень, а? Да, от Крита до Александрии можно
проплыть под водой -- если знаешь, что назад не вернешься.
-- M-м, вот как... -- Ягеру потребовалось подумать еще. -- Всей команде
нельзя сказать -- могла взбунтоваться. Но можно найти человека, на которого
можно положиться. И тогда он нажмет кнопку, или щелкнет выключателем, или
сделает что-то еще, что требуется для взрыва.
И он снял свою черную форменную фуражку в знак уважения к смелости
этого человека.
-- Должно быть, все сделали как надо, -- согласился Скорцени. -- Одна
только тонкость -- он так и не узнал, что его погубило.
Ягер вспомнил об огненном шаре, который он видел к востоку от Бреслау,
том самом, который остановил наступление ящеров на город. Он попытался
представить себя в середине этого огненного шара.
-- Ты прав, -- сказал он. -- Это все равно, что швырнуть человека
внутрь Солнца.
-- Наверняка так и было, -- сказал эсэсовец.
Он шел рядом с Ягером, бессмысленно насвистывая сквозь зубы. Через
несколько шагов он спросил -- самым будничным тоном:
-- Как там твой еврейский приятель из Лодзи, сообщает что-нибудь?
Радуются они тому, что получили от меня?
-- Ни слова от них я не слышал, -- правдиво ответил Ягер. -- Я не
удивлюсь, если после товара, который ты попробовал им сбыть, они вообще
перестанут доверять немцам. -- Он подумал, что выбрал для газовой бомбы
прекрасный эвфемизм. Надо будет использовать его и в будущем. -- Они до сих
пор не позволяют ящерам использовать Лодзь в качестве опорного пункта против
нас, несмотря ни на что.
-- Как сентиментально, -- сказал Скорцени с тонкой сардонической
усмешкой. Он ткнул Ягера в спину так, что тот едва не ударился головой в
ствол березы. -- Но очень скоро это потеряет всякое значение.
-- Потеряет? -- По спине Ягера побежали мурашки. Значит, Скорцени
что-то слышал. -- Они собираются приказать нам захватить город? Не уверен,
что мы сможем сделать это. Даже если удастся, в уличных боях наша техника
станет мишенью.
Скорцени расхохотался, он хохотал громко и долго. С березы донесся
негодующий крик белки.
-- Нет, они не собираются совать ваш стержень в колбасную машину, Ягер,
-- сказал он. -- Как я это понимаю. Если мы смогли преподнести подарок
ящерам в Александрии, сможем осчастливить и евреев в Лодзи.
Ягер был лютеранином. Он пожалел, что не католик. Ему очень хотелось
перекреститься. Ошибиться в том, на что намекал Скорцени, было невозможно.
-- Как вы доставите ее в Лодзь? -- спросил он с неподдельным
удивлением. -- Евреи больше никогда не доверятся вам -- нам всем. Могут
предупредить и поляков. Боже, если только они узнают, что будет в этой вашей
бомбе, они могут предупредить и ящеров.
-- К черту ящеров. К черту поляков. К черту и евреев тоже, -- сказал
Скорцени. -- На этот раз я не воспользуюсь ничьей помощью. Когда груз
прибудет сюда, я доставлю его лично.
* * *
-- Вы должны работать, -- сказал Давид Нуссбойм на языке ящеров и
добавил усиливающее покашливание. -- Если вы не будете работать, они уморят
вас голодом или просто убьют.
И, как бы подчеркивая его слова, Барак-3 окружили люди с автоматами.
Представитель ящеров, самец по имени Уссмак, ответил:
-- И что же? При том, как нас кормят, работа невозможно трудна. В любом
случае мы умрем от голода. Если нас убьют быстро, все кончится сразу же. Наш
дух присоединится к духам ушедших Императоров, и мы будем покоиться в мире.
-- Он опустил глаза.
То же проделали и остальные ящеры, присутствовавшие при разговоре.
Нуссбойм видел, как ящеры в Лодзи вели себя аналогично, говоря о своем
суверене. Они верили в дух ушедших Императоров так же страстно, как
ультраортодоксальные евреи верят в Бога или истинные коммунисты -- в
диктатуру пролетариата. Они были правы и в отношении пайка, который
получали. Не это беспокоило Нуссбойма. Если он не заставит ящеров работать,
его снова отправят изготавливать деревянные детали, от чего он избавился,
когда прибыли ящеры. Паек, который получали лесорубы-люди, тоже вел к
голодной смерти.
-- Что могут сделать администраторы лагеря, чтобы вы вернулись на
работу? -- спросил он Уссмака.
Он был готов давать самые невероятные обещания. Согласятся ли с ними
люди из НКВД, управлявшие лагерем, это другой вопрос. Но как только ящеры
втянутся в работу, они уже не остановятся.
Почти все ящеры были наивны и доверчивы по человеческим меркам. Уссмак
доказал, что он к таким не относится.
-- Они могут уйти. Они могут умереть, -- ответил Уссмак, оставив рот
открытым в определенно сардонической улыбке.
-- Бригада Фссеффела работает, как приказано, -- сказал Нуссбойм,
пробуя другой вариант уговаривания, -- они выполняют нормы по всем
профессиям.
Он не знал, так ли это на самом деле, но Уссмак не мог проверить:
контакты между его бараком и тем, который возглавлял Фссеффел, были
прекращены, как только самцы начали забастовку.
-- Из-за того, что Фссеффел -- дурак, не думайте, что и я такой, --
ответил Уссмак. -- Мы не будем работать до смерти, мы не будем умирать от
голода. Пока мы не поверим, что мы не будем слишком много работать или
недоедать, мы ничего делать не будем.
Нуссбойм глянул наружу, на охранников НКВД.
-- Они могут прийти сюда, вытащить нескольких из вас наружу и
расстрелять, -- предостерег он.
-- Да, они могут, -- согласился Уссмак. -- Но от самцов, которых они
расстреляют, работы они не получат.
И он снова рассмеялся.
-- Я передам ваши слова коменданту; -- сказал Нуссбойм.
Он хотел предостеречь их, но не думал, что они произведут на него такое
впечатление. Ящеры, как ему казалось, чувствовали большую горечь от своего
положения, чем любой из самцов Расы, которых Нуссбойм встречал в Польше. Там
он был почти человеческим существом. В Польше, конечно, пленные были у Расы.
Пленных самцов там не было.
Уссмак уклонился от ответа, и Нуссбойм вышел из барака.
-- Удалось? -- спросил по-русски кто-то из охранников.
Он покачал головой. Ему не понравилось мрачное выражение лица
охранника. Ему не нравилось также возвращаться к использованию смеси
польского, русского и идиш для общения с товарищами-людьми. Временами
добиться понимания на языке ящеров было легче.
Охранниками, которые окружили барак, командовал унылый капитан по
фамилии Марченко.
-- Товарищ капитан, мне нужно поговорить с полковником Скрябиным, --
сказал Нуссбойм.
-- Может, тебе и нужно. -- У Марченко был особый акцент -- украинский,
как думал Нуссбойм, из-за этого его было труднее понимать, чем большинство
русских. -- Но нужно ли ему говорить с тобой?
У него это считалось остротой.
Через мгновение, оставаясь таким же мрачным, он кивнул.
-- Ладно, иди обратно в старый лагерь.
Административные службы лагеря помещались в зданиях, лучше построенных
и отапливаемых и не таких переполненных, как бараки зэков, хотя половина
работавших здесь были зэками -- клерки, посыльные и тому подобное. Это была
гораздо более легкая работа, чем рубить сосны и березы. Заключенные глазели
на Нуссбойма, бросая взгляды наполовину заговорщицкие, наполовину
подозрительные. Вообще говоря, он был одним из них, но в то же время точный
статус его оставался неясным и мог оказаться достаточно высоким, чтобы
вызвать их возмущение. Быстрота, с которой он получил доступ к Скрябину,
вызвала разговоры в канцелярии.
-- Какие новости, Нуссбойм? -- спросил полковник НКВД.
Нуссбойм был не такой большой фигурой, чтобы этот живой коротышка,
полковник Скрябин, обращался к нему по имени-отчеству.
С другой стороны, Скрябин понимал по-польски, и это означало, что
Нуссбойму не придется изъясняться с ним на уродливом местном жаргоне.
-- Товарищ полковник, ящеры продолжают упорствовать, -- сказал он
по-польски. Поскольку Скрябин назвал его по фамилии, то и он не мог сказать
полковнику: "Глеб Николаевич". -- Могу я высказать свое мнение, почему так
обстоит дело?
-- Валяй, -- сказал Скрябин.
Нуссбойм не знал, насколько умен полковник. Проницателен -- это да, вне
всякого сомнения. Но в какой степени настоящая интеллигентность является
основой для живости ума -- это вопрос другой. Теперь он откинулся на спинку
своего кресла, сцепил пальцы рук и изобразил перед Нуссбоймом внимание --
или его видимость.
-- Их причины, я думаю, исключительно религиозные и иррациональные, --
сказал Нуссбойм, -- и поэтому они относятся к ним глубоко и искренне. -- Он
рассказал о почитании Императоров, охватывающем всю Расу, закончив так: --
Они могут пожелать принести себя в жертву, чтобы присоединиться к ушедшим
Императорам.
Скрябин закрыл глаза на некоторое время. Нуссбойм подумал, слушал ли он
его вообще и не захрапит ли он в следующий момент. Затем Скрябин вдруг,
рассмеялся, поразив его.
-- Ошибаешься, -- сказал он. -- Мы сможем заставить их работать, причем
с легкостью.
-- Извините, товарищ полковник, но я не понимаю как.
Нуссбойм не любил проявлять свою некомпетентность. НКВД вполне мог
предположить, что если он не знает чего-то одного, то может не знать слишком
многого, и в дальнейшем лучше обойтись без его услуг. Он знал, что такое
бывало.
Но полковник Скрябин казался удивленным, а не рассерженным.
-- Ты, вероятно, слишком наивный. Возможно, ты просто невежествен.
Любой увидит твою слепоту. Вот что ты скажешь этому Уссмаку, который думает,
что мы не сможем убедить его делать то, что требуют рабочие и крестьяне
Советского Союза...
Он дал подробные инструкции, затем спросил:
-- Теперь ты понял?
-- Да, -- сказал Нуссбойм с уважением, невольным, но реальным. Скрябин
был очень проницательным или действительно умным.
-- Теперь немедленно отправляйся туда и покажи этому ящеру, что он не
может противопоставить свою волю исторической диалектике, ведущей Советский
Союз к победе.
-- Я иду, товарищ полковник, -- сказал Нуссбойм. У него было свое
мнение об исторической диалектике, но полковник Скрябин его не спрашивал.
Если повезет, и не спросит.
Капитан Марченко сердито посмотрел на вернувшегося Нуссбойма. Его это
не расстроило: Марченко смотрел на него сердито всегда. Нуссбойм вошел в
барак, наполненный бастующими ящерами.
-- Если вы не приступите к работе, некоторые из вас будут расстреляны,
-- предупредил он, -- полковник Скрябин суров и решителен.
-- Мы не боимся, -- сказал Уссмак. -- Если вы убьете нас, духи
Императоров прошлого будут охранять нас.
-- В самом деле? -- спросил Давид Нуссбойм. -- Полковник Скрябин сказал
мне, что многие из вас -- мятежники, которые убили собственных офицеров.
Даже те, кто в этом не участвовал, наверняка передавали секреты Расы
Советскому Союзу. Почему Императоры захотят иметь дело с вашим духом?
Жуткая тишина воцарилась в мятежном бараке. Затем ящеры тихими голосами
заговорили между собой, большей частью слишком быстро, чтобы Нуссбойм смог
понять. Но общий смысл он уловил: что-то такое, о чем каждый ящер мог думать
про себя, но никогда не осмеливался обсуждать это вслух. Он отдал Скрябину
должное: тот прекрасно понял, как работает разум чужаков.
Наконец Уссмак сказал:
-- Вы, Большие Уроды, идете прямо к убивающему выстрелу, не так ли? Я
не покинул Империю, в том числе и духом, но Императоры могут покинуть меня.
Это верно. Смею ли я использовать шанс выяснить это? Смеем ли мы
использовать шанс узнать это?
Он повернулся к пленникам и повторил свои вопросы громко.
В Польше ящеры презрительно называли демократию "счет особей". Сейчас
при обсуждении они использовали нечто необыкновенно похожее. Нуссбойм ничего
не говорил, пока они спорили, и старался, насколько мог, разобраться в их
дебатах.
-- Мы будем работать, -- сказал Уссмак. Голос его звучал печально и
униженно. -- Но нам требуется больше пищи. И... -- Он замялся, затем решил
договорить. -- Если бы вы смогли обеспечить нас травяным имбирем, он скрасил
бы нам эти длинные тоскливые дни.
-- Я передам ваши требования полковнику Скрябину, -- пообещал Нуссбойм.
Он не думал, что ящерам увеличат паек. Достаточного количества еды не
получал никто, кроме охранников, их доверенных лиц и поваров. Имбирь --
другое дело. Если он эффективно одурманивает их, то его они смогут получить.
Он вышел из барака.
-- Нормально? -- гаркнул ему капитан Марченко.
-- Забастовка закончилась, -- ответил он по-польски, затем добавил
немецкое слово "капут", чтобы быть уверенным, что охранник понял его.
Марченко кивнул. Он по-прежнему был зол на весь мир, но не выглядел как
человек, готовый палить из автомата в окружающих, что он частенько
проделывал. Он приказал Нуссбойму вернуться в свой лагерь.
По дороге он увидел Ивана Федорова, который шел, хромая, в лагерь в
сопровождении охранника. Правая штанина у Федорова была в крови. Федоров
посмотрел на него, пожал плечами, затем отвернулся У Нуссбойма запылали
щеки. Это был не первый случай. С тех пор как он стал переводчиком у ящеров,
он почувствовал холодок в отношении к нему людей из его бывшей бригады. Они
слишком явственно указывали ему, что он больше не из их числа. Его не
просили предать или доносить на них, но они обращались с ним с тем же
подозрительным вниманием, которым удостаивали любого зэка, перешедшего из их
рядов на работу с администрацией лагеря.
"Я просто остаюсь реалистом", -- сказал он себе. В Польше сила была в
лапах ящеров, и он сотрудничал с ними. Только дурак мог подумать, что немцы
лучше. Что же, Господь никогда не стеснялся превращать дураков в удобрение.
Вот почему он в конце концов оказался здесь. Где бы ни находился
человек, он должен крепко стоять на ногах. Он даже служил человечеству,
помогая НКВД выжать из ящеров как можно больше. Он доложил полковнику
Скрябину, чего хотят бастующие. Скрябин только проворчал.
Нуссбойм задумался: почему он чувствует себя таким одиноким?
* * *
Впервые с тех пор, как Джордж Бэгнолл познакомился с Георгом Шульцем,
тот явился в полной германской форме вместо пестрой смеси нацистских и
большевистских предметов одежды, в которой обычно щеголял. Стоя в дверях
дома, в котором проживали Бэгнолл, Кен Эмбри и Джером Джоунз, он выглядел
внушительно, важно и угрожающе.
Угрожающе звучали и его слова:
-- Вам, проклятым англичанам, лучше убраться прочь из Плескау, пока у
вас есть такая возможность. -- Он использовал немецкий вариант названия
русского города. -- Если вы не уберетесь сейчас, не поручусь, что вас
выпустят на следующей неделе. Вы поняли, что я сказал?
Эмбри и Джоунз встали сзади Бэгнолла. Словно случайно в руках у пилота
оказался "маузер", а специалист по радарам прихватил советский автомат
"ППШ".
-- Мы поняли вас, -- сказал Бэгнолл, -- а вы нас понимаете?
Шульц плюнул на пол.
-- Сделаешь людям любезность -- и получишь такую вот благодарность.
Бэгнолл посмотрел на Эмбри, Эмбри посмотрел на Джоунза, Джоунз
посмотрел на Бэгнолла. Они расхохотались.
-- Какого дьявола вы хотите оказать нам любезность? -- потребовал
ответа Бэгнолл. -- Насколько я понимаю, вы предпочли бы видеть нас мертвыми.
-- В особенности меня, -- добавил Джоунз. -- Хотя я не несу
ответственности за любовные пристрастия прекрасной Татьяны или за их
изменения.
Он сказал это таким тоном, словно речь шла о буране, или землетрясении,
или каком-то еще стихийном бедствии.
-- Если вы будете мертвыми, она не сможет стягивать с вас штаны -- это
да, -- сказал Шульц. -- И если вы уйдете, она тоже не сможет стягивать с вас
штаны. Так или иначе, не особенно тяните. Я уже сказал. Можете убраться
отсюда или умереть -- побыстрее выбирайте, что вам больше нравится.
-- Кто собирается убить нас? -- спросил Бэгнолл. -- Вы? -- Он бросил
взгляд на своих товарищей. -- Удачи вам.
-- Не будьте дураком, -- посоветовал Шульц, -- если дело дойдет до
настоящего боя, то вы трое будете -- как это говорят? -- второстепенными
потерями, вот чем. Никто и не узнает, что вы мертвы, пока вы не начнете
вонять. И будьте уверены, настоящие бои будут. Мы собираемся навести порядок
в городе, вот что мы собираемся сделать.
-- Полковник Шиндлер сказал... -- начал было Бэгнолл и остановился.
Этот следующий по рангу после генерал-лейтенанта Шилла полковник много
и правильно шумел о сохранении советско-германского сотрудничества, но у
Бэгнолла сложилось впечатление, что это был только шум. Шилл считал, что
сотрудничество с русскими -- лучший способ защитить Псков от ящеров. Если
Шиндлер не...
-- А, вижу, вы не так уж глупы, -- сказал Шульц, сардонически кивнув в
знак одобрения. -- Если кто-нибудь нарисует вам картинку, вы сразу скажете,
что на ней. Очень хорошо.
Он щелкнул каблуками, словно перед офицером своей армии.
-- Почему бы нам не пойти к командиру Герману с этой новостью? --
спросил Кен Эмбри. -- Вы нас не остановите. Он притворился, что целится в
Шульца.
-- Вы что, думаете, русские слепы, глухи и немы, как вы? -- Шульц
откинул назад голову. -- Мы здорово надули их в сорок первом году. Второй
раз они этого не допустят. Но это не имеет значения. -- Он качнулся назад,
демонстрируя наглую уверенность. -- Если не придут ящеры, мы выметем их вон,
в том числе и из Плескау.
Первую часть этого заявления проверить было невозможно. Но вторая точно
была близка к истине. Советские вооруженные силы в Пскове и вокруг него
состояли из бывших партизан. У них были винтовки, пулеметы, гранаты и
несколько минометов. У нацистов имелось все то же самое плюс настоящая
артиллерия и кое-какая бронетехника, хотя Бэгнолл не был уверен, есть у них
достаточно топлива. Если дело дойдет до открытой войны, вермахт победит.
Бэгнолл ничего не сказал. Спросил только:
-- Вы думаете, что у вас будет возможность содержать прекрасную
Татьяну, -- "прекрасную Татьяну" было сказано по-немецки, -- как ручное
животное? Я бы не хотел уснуть возле нее после того самого.
Шульц нахмурился, как дождевая туча. Очевидно, он далеко не
задумывался. В бою он, вероятно, предоставляет своим офицерам думать за
него. Через мгновение туча рассеялась.
-- Она, Татьяна, понимает силу. Когда силы рейха показали себя сильнее,
чем большевистские, когда я показал себя сильнее, чем она... -- Он выпятил
вперед грудь, изображая мужественность и значительность.
Английские летчики снова посмотрели друг на друга. Татьяна Пирогова
била немцев с самого начала войны и очень неохотно перешла на стрельбу по
ящерам. Если Шульц думает, что победа нацистов в Пскове вызовет у нее
благоговение перед немецкими сверхчеловеками, то очень разочаруется --
вероятно, очень болезненно, а может быть, и летально.
Но стоит ли говорить ему об этом? Лучше не надо. Пока Бэгнолл
соображал, как это сказать, Шульц заговорил сам:
-- Предупреждение вы получили. Поступайте, как хотите. Всего хорошего.
Он сделал поворот кругом и, топая, вышел. Теперь, когда наступила
настоящая весна, на нем были форменные германские пехотные сапоги вместо
русских фетровых валенок, которыми зимой пользовались все, независимо от
политических воззрений.
Бэгнолл закрыл дверь, затем обратился к товарищам:
-- Так, и что же, черт возьми, мы должны делать со всем этим?
-- Думаю, для начала, независимо от того, что сказал Шульц, мы нанесем
визит Александру Герману, -- сказал Джером Джоунз. -- Одно дело -- знать,
что вас не любят немцы, и совсем другое -- узнать, что они собираются в один
из ближайших дней дать вам по шарам.
-- Да, но что потом? -- спросил Кен Эмбри. -- Я не слишком рвусь удрать
отсюда, но будь я проклят, если буду воевать за нацистов, и вовсе не
стремлюсь положить свою жизнь за большевиков.
Бэгнолл просто кивнул, чтобы не повторяться:
-- Джоунз прав. Мы узнаем, что известно Герману о том, что собираются
делать немцы.
Прежде чем выйти на улицу Пскова, он взял винтовку. Эмбри и Джоунз тоже
захватили оружие. Оно имелось у большинства мужчин и у многих женщин:
нацисты и красные русские напоминали ему ковбоев и краснокожих индейцев. Но
игра здесь может быть более кровавой.
Они прошли через рыночную площадь восточнее развалин Крома. То, что
увидел Бэгнолл, ему не понравилось. Лишь несколько "бабушек" сидели за
столами, не было ни болтовни, ни шуток, которые звучали на площади даже
зимой. Товары, которыми торговали эти пожилые женщины, были совсем убогие,
словно они не желали показывать что-то получше из опасения кражи.
Александр Герман разместил свою штаб-квартиру напротив церкви Святых
Петра и Павла, на улице Воровского, к северу от Крома. Солдаты Красной
Армии, охранявшие здание, с подозрением посмотрели на англичан, но
пропустили их к командиру.
Неистовые рыжие усы, которые носил Герман, придавали ему облик пирата.
Теперь, когда лицо его стало худым, бледным и усталым, усы казались
приклеенными, словно неудачный театральный грим. Огромная повязка
по-прежнему охватывала его размозженную руку. Бэгнолл удивился, почему
хирурги ее просто не ампутировали: он не мог себе представить, чтобы от
изуродованной руки было больше пользы, чем от простого крючка вместо нее.
Он с Джеромом Джоунзом стал рассказывать Герману о предупреждении
Георга Шульца. Но партизанский командир отмахнулся здоровой рукой.
-- Да, я знаю, -- сказал он на идиш, что для него казалось более
естественным, чем русский. -- Нацист, вероятно, прав -- фашисты и мы вскоре
снова начнем воевать.
-- От этого никому не будет лучше, кроме ящеров, -- заметил Бэгнолл.
Александр Герман пожал плечами.
-- Им от этого тоже хорошего немного, -- сказал он. -- Они не
собираются двигаться на север, чтобы захватить Псков. Большую часть своих
сил они переправили в Польшу для войны с немцами. Мы воевали с немцами до
нашествия ящеров и будем воевать после их ухода. Нет причин, чтобы не
воевать с ними и сейчас, пока ящеры еще здесь.
-- Не думаю, что вы победите. Герман еще раз пожал плечами.
-- Тогда мы снова уйдем в леса и снова станем лесной республикой. Мы
можем не удержать город, но нацисты не смогут удержать сельскую местность.
Это прозвучало с абсолютной уверенностью.
-- Не означает ли эго, что нам здесь места уже нет? -- спросил
по-русски Джером Джоунз. Благодаря университетскому образованию он
предпочитал этот язык немецкому; с Бэгноллом было иначе.
-- Вам здесь действительно места нет, -- согласился Александр Герман.
Он вздохнул. -- Я думал о том, чтобы отправить вас отсюда. Теперь у меня
такой возможности не будет. Но я призываю вас уйти, пока мы и нацисты не
начали воевать друг против друга. До настоящего времени вы делали все, чтобы
такого не случилось, но полковник Шиндлер кажется менее разумным, чем его
предшественник, -- и, как я сказал, опасность со стороны ящеров теперь
меньше, так что у нас нет теперь общего врата, объединявшего нас. Двигайтесь
в сторону Балтики, пока это возможно.
-- Вы дадите нам пропуск для свободного прохода? -- спросил Кен Эмбри.
-- Да, конечно, -- сразу же ответил партизанский командир -- Вам
следует получить его и у Шиндлера. -- Лицо его скривилось. -- В конце
концов, вы -- англичане, и поэтому заслуживаете достойного обращения по
законам ведения войны. Вот если бы вы были русскими... -- Он покачал
головой. -- Вам также следует помнить, как невелика ценность этого пропуска
-- хоть моего, хоть от Шиндлера. Если кто-нибудь пальнет в вас с пяти сотен
метров, вы его предъявить не сможете.
Александр Герман нашел листок бумаги, обмакнул ручку в пузырек с
жидкостью, которая пахла скорее ягодным соком, чем чернилами, и принялся
быстро писать. Он вручил документ Бэгноллу, который кириллицу разбирал с
большим трудом. Бэгнолл передал его Джерому Джоунзу. Тот пробежал его
глазами и кивнул.
-- Удачи вам, -- сказал Александр Герман. -- Хотелось бы предложить
что-нибудь более существенное, чем это, но теперь всего не хватает.
Трое англичан вышли от партизанского командира с угрюмым видом.
-- Считаете, что нам надо получить пропуск от Шиндлера? -- спросил
Эмбри.
-- Полагаю, не стоит беспокоиться, -- ответил Бэгнолл. -- Немцы вокруг
-- сплошь солдаты, и все они знают, кто мы. Но это ни в коем случае не
относится к русским. Клочок бумаги сможет удержать некоторых крестьян от
того, чтобы перерезать нам горло как-нибудь ночью, когда мы уснем в стогу.
-- Или как раз наоборот, -- сказал Эмбри, не желая, чтобы пострадала
его репутация циника. -- Тем не менее, полагаю, с бумагой нам будет лучше.
-- Жаль, что мы не взяли с собой продовольствие и боеприпасы, -- сказал
Бэгнолл. -- Мы смогли бы тронуться в путь прямо сейчас, не заходя домой.
-- Это же недалеко, -- сказал Джоунз, -- и после того, как мы все
соберем, предлагаю не праздновать наш уход. Если обе стороны предупреждают,
что лучше умотать отсюда, будем дураками, если не послушаемся. Исключая ту
сферу, которая касается прекрасной Татьяны, -- он печально улыбнулся, --
миссис Джоунз дураков не воспитывала.
-- Наконец-то ты от нее избавишься, -- напомнил ему Бэгнолл.
-- Это правда, -- сказал он, -- черт побери.
* * *
Капитан с набором медалей не менее внушительным, чем у Бэзила
Раундбуша, постучал в дверь лаборатории Дэвида Гольдфарба в Дуврском
колледже.
-- Привет, -- сказал он, -- у меня для вас подарочек, парни.
Он обернулся и издал несколько бормотаний и шипений, словно он
старательно пытался задохнуться до смерти. В ответ прозвучало еще несколько
забавных звуков. Затем в комнату вошел ящер, обшаривая выступающими глазами
все вокруг.
Первой реакцией Гольдфарба было -- схватиться за пистолет. К сожалению,
оружия у него не оказалось. А Раундбуш прицелился, причем с похвальной
быстротой.
-- В этом нет необходимости, -- сказал украшенный наградами капитан. --
Мцеппс -- совершенно ручной, а я, Дональд Мэзер, к вашим услугам.
Бэзил Раундбуш присмотрелся к форме Мэзера. Пистолет вернулся обратно в
кобуру.
-- Он из секретной службы, Дэвид. Полагаю, что он сможет защитить нас
от ящера или двух... дюжин.
В его устах это прозвучало не похоже на шутку.
Гольдфарб еще раз взглянул на Мэзера и понял, что Раундбуш говорил
вполне серьезно. Капитан был красивым светловолосым парнем с точеными
чертами лица, довольно любезным, но что-то в его глазах предупреждало, что
неправильное отношение к нему будет ошибкой -- причем фатальной. И свои
медали он явно получил не за чистоту и порядок в казарме.
-- Сэр, что мы будем делать с... Мцеппсом, так вы сказали? -- спросил
он.
-- Да, это Мцеппс, -- ответил Мэзер, произнося каждое "п" по
отдельности. -- Полагаю, он будет полезен вам: видите ли, он техник по
радарам. Я буду находиться при нем, чтобы переводить, пока вы не начнете
понимать друг друга достаточно хорошо, что меня лично осчастливит. Он
немного говорит по-английски, но еще далек до совершенства.
-- Техник по радарам? -- тихо протянул Бэзил Раундбуш. -- О, Дэвид, как
же тебе везет. Ты хоть знаешь это, а? Сначала красавица-девушка, теперь
собственный ящер, чтобы играть с ним. -- Он повернулся к Мэзеру. -- А
специалист по реактивным двигателям у вас случайно не припрятан? У нас есть
прекрасные видеоблюдца о том, как их обслуживать, и если узнать, что
означают слова, это помогло бы нам понять картинки.
Капитан Мэзер заглянул к себе в рукав:
-- Боюсь, что нет.
Бесстрастность ответа сделала его еще более абсурдным. Мцеппс заговорил
на шипящем языке ящеров. Мэзер послушал его, затем сказал:
-- Он говорит, что встречался с парой специалистов по двигателям в...
Впрочем, вам об этом знать не требуется. Там, где он был раньше. Им
нравилось быть там. А почему, Мцеппс? -- Он повторил вопрос на языке ящеров,
выслушал ответ, рассмеялся и сообщил: -- Потому что парень, с которым они
работали, не выше их самих... Эй! Что это на вас нашло?
Гольдфарб и Раундбуш радостно взвизгнули.
Гольдфарб объяснил:
-- Это должен быть полковник Хиппл. Мы оба считали, что он расстался с
жизнью, когда ящеры навалились на Брантингторп. И это первая весть о том,
что он жив.
-- А, неплохое шоу, -- сказал Мэзер. Он пощелкал пальцами и указал на
Гольдфарба. -- Я чуть не забыл кое-что сообщить вам. -- Он, казалось,
рассердился на себя: ему ничего забывать не полагалось. -- Вы ведь кузен
этому парню Мойше Русецки, не так ли? -- Не ожидая кивка пораженного
Гольдфарба, он продолжил: -- Да, конечно, это вы. Я должен поставить вас в
известность, что не так давно я посадил его с семьей на пароход, идущий в
Палестину, по приказу начальства.
-- В самом деле? -- бесцветным голосом спросил Гольдфарб. -- Благодарю
вас, сэр, за то, что вы рассказали. Другое дело... -- Он покачал головой. --
Я вывез его из Польши, чтобы ящеры не смогли совершить над ним самое худшее,
и теперь он снова в стране, которую они захватили. Вы что-нибудь получали от
него, после того как он прибыл туда?
-- Боюсь, что нет, -- ответил Мэзер. -- Я даже не слышал, добрался ли
он туда вообще. Вы же знаете, как сейчас с безопасностью. -- Он казался
несколько смущенным. -- Наверное, мне не следовало говорить вам, но ведь
кровь все же гуще воды, так?
-- Да. -- Гольдфарб закусил губу. -- Полагаю, что все же лучше знать.
Он не был уверен в том, что хотел этим сказать. Он почувствовал себя
беспомощным. Но ведь Мэзер вполне мог принести весть, что, например, Мойше,
Ривка и Рейвен погибли во время воздушного налета ящеров на Лондон. Но здесь
все же оставалась надежда. Уцепившись за нее, он сказал:
-- Что ж, у нас не из чего особенно выбирать. Мы можем только
надеяться, правда?
-- Вы совершенно правы, -- сказал Мэзер, и Гольдфарб понял, что
произвел приятное впечатление. -- Единственный способ не сойти с ума --
продолжать дело.
"Как это по-британски", -- подумал Гольдфарб, с печалью и восхищением
одновременно.
-- Посмотрим, что знает Мцеппс о радарах и что он сможет рассказать об
установках, которые мы захватили у его товарищей.
Еще до окончания работы в первый день общения с ящером он узнал больше,
чем за несколько месяцев терпеливой -- а иногда и не очень -- деятельности
методом проб и ошибок. Мцеппс дал ему ключ к системе цветной кодировки,
которую ящеры использовали для обозначения деталей и проводов, гораздо более
сложной и информативной, чем та, к которой привык Гольдфарб. Ящер показал
себя и искусным техником, продемонстрировав специалисту королевских ВВС с
десяток быстрых приемов, с помощью которых сборка, разборка и отыскание
неисправностей в блоках радара выполнялись легче.
Но когда дело дошло непосредственно до ремонта, тут от него пользы было
меньше.
Гольдфарб спросил его через Мэзера:
-- Что вы будете делать, если этот блок окажется неисправным?
И он показал на устройство, управляющее длиной волны радара. Он не
знал, как это делается, хотя его изыскания убедили его, что это возможно.
-- Вы вынимаете модуль и заменяете его исправным. -- Мцеппс потянулся к
радару. -- Смотрите, он вставляется и вынимается вот так. Очень просто.
Это было очень просто. С точки зрения легкости разборки и доступа к
деталям приборы ящеров значительно превосходили все, что имелось у
королевских ВВС. Ящеры сконструировали их так, что они были не только
эффективными, но и удобными в обслуживании. В них было вложено немало
инженерного ума. Британские же инженеры пока достигли лишь уровня, при
котором радары хотя бы работали. Каждый раз, когда Гольдфарб смотрел на
мешанину проводов, резисторов и конденсаторов, составлявших внутренности
радара королевских ВВС, он понимал, что об удобстве обслуживания еще никто
не задумывался.
Мцеппс, однако, не вполне понял вопрос.
-- Я понял, как вы заменили его, да. Но представьте себе, что у вас нет
замены всего блока. Предположим, вам надо отремонтировать часть, которая
стала неисправной. Как вы отыщете ее и как отремонтируете?
Капитан Мэзер перевел уточненный вопрос ящеру.
-- Ничего нельзя сделать, -- сказал тот по-английски.
Затем продолжил на своем языке. Мэзеру пришлось дважды останавливать
его и задавать дополнительные вопросы. Наконец он изложил Гольдфарбу суть:
-- Он говорит, старик, что ничего сделать нельзя. Сборка -- блочная.
Если какая-то часть неисправна, выбрасывается весь блок. -- Мцеппс добавил
что-то еще. Мэзер перевел: -- Идея в том, чтобы ничего не ломалось и
выбрасывать ничего не требовалось.
-- Если нельзя починить то, что сломалось, что хорошего в таком
подходе? -- спросил Гольдфарб.
Насколько он знал, заниматься электроникой без теоретических знаний о
действии техники бесполезно -- а если вы разбираетесь в теории, то вы уже на
полпути к умению починить неисправность. Временами они случаются.
Через мгновение он решил, что несправедлив к ящеру.
Множество людей управляют автомобилем и знают о том, как он действует,
ровно столько, чтобы залить бензин да залатать проколотую камеру. Тем не
менее он не стал бы включать такого человека в команду, если бы водил
гоночный автомобиль.
Мцеппс, похоже, придерживался своего мнения. Через капитана Мэзера ящер
пояснил:
-- Задача техника состоит в том, чтобы сказать, какая из частей больна.
В любом случае мы не можем производить компоненты для нашей аппаратуры на
этой планете. Ваша технология слишком примитивна. Мы должны использовать то,
что привезли с собой.
Гольдфарбу тут же представился экспедиционный корпус викторианских
времен в черной Африке, попавший в стесненные обстоятельства. Британские
солдаты побили множество туземцев -- пока хватало патронов, пока в пулемете
"максим" не сломалась какая-то деталь, пока лошади не начали гибнуть от
сонной болезни и пока сами они не стали гибнуть от малярии, оттого что
заблудились... Да мало ли что может случиться в черной Африке! Если эта
викторианская армия застряла без надежды спастись...
Он повернулся к Дональду Мэзеру.
-- Знаете, сэр, я впервые почувствовал некоторую симпатию к ящерам.
-- Не спешите, -- посоветовал Мэзер. -- Они полезны вам, и это истинная
правда. Но они опасные противники, а значит, мы должны стать еще опаснее.
Газы, эти вот бомбы... если мы не хотим утонуть, надо хвататься за все, за
что сможем.
Это было бесспорно правильно. Но Мэзер тоже не понял, что имел в виду
Гольдфарб. Дэвид посмотрел на разведчика. Нет, Мэзер явно не относится к
тем, кто одобряет споры на основе исторических аналогий, даже если он знает
смысл этого слова.
-- Спросите Мцеппса, что он и его чешуйчатые друзья будут делать, когда
у них закончатся запасные части.
-- К тому времени мы уже будем разгромлены, -- сказал Мэзер после того,
как ящер дал ответ. -- Он до сих пор верит их пропаганде, несмотря на
потрясение.
-- Полагаю, вряд ли можно ожидать от них высказываний о том, что они
обречены, -- допустил Гольдфарб. -- Но если наш очаровательный пленник
считает, что мы будем побеждены, почему он сотрудничает с нами? Он ведь
помогает воевать со своим собственным народом. Почему не ограничиться
сообщением своего имени, ранга и номера в ведомости на жалование?
-- Интересный вопрос.
Мэзер воспроизвел несколько звуков паровой машины, обращаясь к Мцеппсу.
Гольдфарб засомневался, следует ли задавать вопросы, интересные сами по
себе, в дополнение к текущим вопросам по делу. Ящер ответил столь же
пространно и даже с некоторой живостью. Мэзер изложил Гольдфарбу суть
сказанного:
-- Он говорит, что мы -- его захватчики и, следовательно, его
начальники Ящеры подчиняются начальникам так, как паписты подчиняются папе,
но в гораздо большей степени.
Гольдфарб не знал, как католики подчиняются папе. Свое невежество он
Мэзеру показывать не стал. Возможно, разведчик неприязненно относится к
другим религиям, включая еврейскую. Нельзя, чтобы это мешало выполнению ею
работы.
-- Как с ними обращаются? -- спросил он Мэзера, указывая на Мцеппса. --
После того как мы закончим, куда он денется? Как он проводит время?
-- Мы привезли несколько ящеров в Дувр для работы с вами, военными
исследователями, -- ответил Мэзер.
Местоимение "вы" удивило Гольдфарба, который привык считать военными
исследователями людей вроде Фреда Хиппла, не относя это название к себе. Он
предположил, что для боевого солдата вроде Мэзера любой, кто участвует в
войне со счетной линейкой и с паяльником вместо автомата "стэн" и ручных
гранат, считается интеллектуалом. Его удивление привело к тому, что он
упустил часть фразы, сказанной разведчиком:
-- ...разместили их в здании кинотеатра, бесполезном при таком
недостатке электроэнергии в городе. Они получают тот же паек, что и наши
войска, но...
-- Бедные дьяволы, -- с глубоким сочувствием сказал Гольдфарб. -- Это
не противоречит Женевской конвенции? Я имею в виду умышленную жестокость.
Мэзер хмыкнул.
-- Я не удивился бы. Вообще-то они получают больше мяса и рыбы, чем мы.
Есть признаки, что они нуждаются в такой диете.
-- И я тоже, -- мечтательно произнес Бэзил Раундбуш. -- О, как я
нуждаюсь. Видите, как я страдаю по филею?
Капитан Мэзер вытаращил глаза и попытался продолжить:
-- Тем, кто хочет, мы даем имбирь. У Мцеппса к нему привычки нет.
Разговаривают между собой. Некоторые играют в карты, в кости и даже в
шахматы.
-- Это, наверное, не те игры, к которым они привыкли? -- решил
Гольдфарб.
-- Мцеппс рассказал мне, у них есть игра в кости. Другие игры, я
полагаю, позволяют им проводить время. Их собственных игр мы им не даем. Не
можем. Большинство из них электрические, нет, вы бы сказали, электронные,
так? Кто знает, не смогут ли они соорудить из них что-то вроде радиостанции.
-- M-м, пожалуй, так. -- Гольдфарб посмотрел на Мцеппса. -- Он доволен?
-- Я спрошу его, -- сказал Мэзер, выслушал ответ и рассмеялся. -- "Вы
что, сошли с ума?" -- перевел он.
Мцеппс сказал что-то еще. Мэзер продолжил:
-- Он говорит, что он жив, его кормят и не подвергают мучениям, и это
гораздо больше, чем он ожидал, когда попал в плен. Он не пляшет на ромашках,
но и не получает пинков.
-- Довольно честно сказано, -- заключил Гольдфарб и вернулся к работе.
* * *
Сержант Герман Малдун смотрел сквозь разбитые окна второго этажа
Вуд-Хауза в Квинси, штат Иллинойс, вниз по течению Миссисипи, на основание
крутого утеса.
-- Речной ад, -- объявил он.
-- Это еще и местный ад, -- сказал Остолоп Дэниелс. -- Да, окна разбиты
вдребезги, но сам дом вряд ли изменился по сравнению с тем, каким он был,
когда я последний раз приезжал в этот город, в промежутке между седьмым и
девятнадцатым годами.
-- Переплеты сделаны на совесть, точно, -- согласился Малдун. -- И
каменные блоки с прокладками из свинца, их где попало не применяют. -- Он
сделал паузу. -- А что вы делали здесь в девятьсот седьмом году, лейтенант,
осмелюсь спросить?
-- Играл в мяч -- что еще? -- ответил Остолоп. -- Я начал вторым
кэтчером за "Квинси Джем" в лиге штата Айова. В первый раз я оказался в
стране янки, и -- боже! -- как я был одинок. Первый кэтчер -- его имя
Раддок, Чарли Рад-док -- сломал большой палец на второй неделе мая. После
этого я выбил 360 в месяц, и "Грейс Харбор Грей" из штата Вашингтон купили
мой контракт. Северо-Западная лига была класса Б, на два зубчика выше
"Квинси", но я все равно жалел, что ухожу.
-- Как это вышло? -- спросил Малдун. -- Вы ведь не из тех, кто
пренебрегает движением вверх, лейтенант, и, бьюсь об заклад, никогда таким
не были.
Дэниелс тихо рассмеялся. Он тоже смотрел на Миссисипи. Здесь это была
большая река, но -- ничто по сравнению с тем, какой она втекает в свой
родной штат. Пока что в нее еще не влились ни Миссури, ни Огайо, ни Красная,
ни множество других рек.
На самом деле он смотрел не столько на реку, сколько на собственную
жизнь. Скорее себе, чем Герману Малдуну, он сказал:
-- Здесь была хорошенькая маленькая девочка с курчавыми волосами цвета
спелой кукурузы Ее имя было Адди Страсхейм, я и сейчас вижу ямочку у нее на
щеке, как будто это было вчера. Она была такая конфетка, эта Адди. Если бы я
остался здесь на весь сезон, я, наверное, женился б на ней, если бы уговорил
ее отца
-- Значит, у вас есть шанс найти ее, -- сказал Малдун. -- За город шли
не такие уж сильные бои, и вряд ли все люди ушли отсюда, чтобы сложить
головы за другой большой город.
-- Вы знаете, Малдун, при таких замечательных мозгах вы иногда
выглядите круглым дураком, -- сказал Остолоп.
Сержант улыбнулся ему. Медленно, снова скорее для самого себя, Дэниелс
продолжил: -- Мне было тогда двадцать один, ей -- наверное, восемнадцать. Не
думаю, что был первым мальчиком, который когда-либо целовал ее, но по моим
расчетам передо мной их вряд ли было больше двух. Она еще жива, она стала
старой, такой же, как я, как вы, как все. Раньше я думал о ней, какая она --
такая сладкая, словно сливовый пирог. -- Он вздохнул. -- Черт побери, я
раньше думал о себе, каким я был... Мальчишка, веривший, что поцелуй -- это
нечто особенное! И не стоял в очереди, чтобы быстренько перепихнуться...
-- Мир -- поганое место, -- сказал Малдун. -- Поживешь в нем, и через
некоторое время он тебя истреплет. Война делает это быстрее, но и без нее --
тоже плохо.
-- Не в этом ли досадная и печальная правда? -- сказал Остолоп.
-- Вот. -- Малдун вытащил из-за пояса фляжку и протянул лейтенанту. --
Это вас подлечит.
-- Да? -- Никто еще не предлагал Остолопу воды с такими словами.
Он отвернул крышку, поднес фляжку к губам и сделал глоток. Внутри было
нечто прозрачное, как вода, но пинающееся, как мул. Несколько раз он
пробовал сырой пшеничный ликер, но этот напиток в отличие от многих видов
самогона, которые он вливал в себя, заставлял его чувствовать себя не просто
Дэниелсом, а настоящим крепким мужчиной. Он проглотил, пару раз кашлянул и
вернул фляжку Малдуну.
-- Хорошо, что у меня нет сигарет Если я зажег бы спичку и вдохнул,
наверное, взорвался бы.
-- Я бы не удивился, -- хмыкнув, сказал сержант. Он посмотрел на часы.
-- Лучше воспользуемся временем увольнения, пока можно. В полночь мы снова
начнем отрабатывать жалованье.
Дэниелс вздохнул.
-- Да, я знаю. И если все пойдет, как надо, мы оттесним ящеров на
четверть мили вниз по Миссисипи. С такой скоростью мы освободим эту
проклятую реку за три недели до Страшного Суда.
Он завернулся в одеяло и через полторы минуты заснул.
Засыпал он в ожидании, что капитан Шимански разбудит его пинком. Но
проснулся в должное время без помощи сапога командира отряда. Об этом
позаботились москиты. Они влетали в разбитые окна Вуд-Хауза, жужжа громче,
чем звено истребителей.
Он принялся хлопать по лицу и рукам. Все остальное было закрыто
одеждой, но москиты радовались любому открытому участку кожи. Наступит утро,
и он будет выглядеть, как сырое мясо. Затем он вспомнил об операции.
Наступит утро, и он сам может оказаться сырым мясом.
Малдун тоже проснулся. Они вместе спустились по лестнице, пара
стариков, все еще стойко державшихся в мире молодых и участвовавших в их
игре. Когда он был мальчишкой и пробивался в большую игру, пусть ненадолго,
он презирал -- почти ненавидел -- старикашек, которые так вот стойко
держались и держались, не желая уйти, чтобы дать шанс новым парням. Теперь
он старикашкой стал сам. Но если "уйти" означает скопытиться, это куда хуже,
чем потерять работу.
Капитан Шимански был уже внизу в большом холле и раздавал указания
пехотинцам. Считалось, что они должны все знать и так, но, само собой
разумеется, мозги и тому подобное есть не у всех. Шимански закончил свою
речь словами:
-- Слушайтесь вашего лейтенанта и сержанта. Они поведут вас.
Остолоп развеселился.
Снаружи москитов было еще больше. Трещали сверчки.
Квакало несколько весенних лягушек, хотя для большинства сезон уже
кончался. Ночь была теплой и влажной. Взвод топал на юг, к позициям ящеров.
Сапоги громко стучали по мостовой, затем -- по земле и траве -- шум шагов
стал тише.
Двое разведчиков остановили наступавших американцев к северу от
Марблхеда, деревушки, расположенной по реке ниже Квинси.
-- Окопаться, -- шепотом приказал Остолоп в липкую темноту.
Шанцевый инструмент уже врезался в землю. Дэниелс избегал строительства
сложных окопных систем, применявшихся в Первую мировую войну, потому что
современный бой предполагал слишком быстрое перемещение и для большинства
случаев такие окопы были непрактичны. Но даже наскоро вырытые норы временами
оказывались очень полезными.
Он отодвинул рукав, чтобы посмотреть на часы. Четверть двенадцатого,
показали светящиеся стрелки. Он поднес часы к уху. Да, тикают. Ему казалось,
что прошло уже часа два лишних и с атакой что-то неладно.
-- Когда забавляешься, время летит быстро, -- пробормотал он.
Едва он опустил руку, как артиллерия открыла огонь -- к востоку от
Квинси. Снаряды ударили по Марблхеду, некоторые взрывались в каких-то двух
сотнях ярдов южнее от места, где он лежал. Значит, все в порядке и как надо,
просто он слишком заработался и потерял ощущение времени.
-- Вперед, -- закричал он, когда часы показали назначенное время.
Сектор обстрела тут же переместился с северной на южную часть
Марблхеда. Артиллерия ящеров тоже вступила в дело, но занималась в основном
артиллерийской дуэлью. Остолоп радовался, что ящерам не до него.
-- Сюда, -- закричал разведчик. -- Мы сделали проходы в проволоке.
Вместо колючей проволоки ящеры использовали нечто вроде длиннейшего
тонкого обоюдоострого бритвенного лезвия. Эта режущая проволока была еще
противнее колючей. По плану проходы действительно предусматривались, но не
всегда планы соответствуют действительности.
Ящеры открыли из Марблхеда огонь по наступающим американцам,
двигавшимся через проволочное заграждение. Сколько ни ставь ловушек, всех
крыс все равно не поймаешь. Сколько ни обстреливай пехоту артиллерией, всех
бойцов все равно не перебьешь. Остолопу приходилось бывать под навесным
огнем и похуже этого. Он ожидал сопротивления, и его не обманули.
Он пострелял из своего "томпсона", затем бросился на землю за
перевернутым кузовом старой машины. Майк Уилер, стрелок из его взвода, палил
из автоматической винтовки по городку. Дэниелсу хотелось бы, чтобы на его
месте был Дракула Сабо из его прежнего взвода. Дракула всегда упреждал
противника, когда сталкивался с ящером носом к морде.
Атака его взвода обозначила позиции ящеров. Другой взвод вошел в
городок с востока через несколько минут. Теперь они знали, где прячется
противник, и выбивали чужаков поочередно из каждого дома. Некоторые ящеры
сдались, некоторые сбежали, некоторые умерли. Один из их медиков и двое
людей-солдат бок о бок перевязывали пострадавших.
"Небольшой бой", -- устало подумал Остолоп. Людей погибло немного,
ящеров даже меньше, если уж говорить честно. В Марблхеде сильного гарнизона
не было. Местные жители стали выглядывать из убежищ, которые они соорудили
для защиты от кусков металла, летавших повсюду.
-- Не так уж плохо, -- сказал Герман Малдун. Он показал на запад, в
сторону Миссисипи. -- Еще часть реки освободили. Мы вычистим ящеров гораздо
быстрее, чем за три недели до Судного дня.
-- Да, -- согласился Дэниелс. -- Может, за шесть недель. Малдун
расхохотался.
Лю Хань обернулась и увидела, что Лю Мэй взяла штык, который Нью
Хо-Т'инг беззаботно оставил на полу.
-- Нет! -- закричала Лю Хань. -- Положи это!
Она поспешила отнять опасный предмет у маленькой дочери.
Прежде чем она успела подойти, Лю Мэй бросила штык и уставилась на мать
широко открытыми глазами. Та начала было бранить ее, но вдруг замолкла. Ее
дочь подчинилась ей, хотя она закричала по-китайски. Ей не понадобилось
говорить на языке маленьких чешуйчатых дьяволов или использовать усиливающее
покашливание, чтобы ребенок понял ее.
Она подхватила Лю Мэй на руки и крепко прижала к себе. Лю Мэй не
заплакала, не закричала пронзительно, она не вырывалась, как это было, когда
Лю Хань в первый раз взяла ее у Томалсса. Ее дочь понемногу привыкала быть
человеческим существом среди человеческих существ, а не игрушкой лгущих
маленьких дьяволов.
Лю Мэй показала на штык.
-- Это? -- спросила она на языке маленьких дьяволов вместе с
вопросительным покашливанием.
-- Это штык, -- ответила Лю Хань по-китайски. -- Штык.
Лю Мэй попыталась повторить, но у нее получился звук, похожий на тот,
что мог бы воспроизвести чешуйчатый дьявол. Ребенок снова показал на штык и
еще раз спросил:
-- Это?
Лю Хань потребовалось время, пусть даже очень короткое, чтобы понять:
вопрос был задан на китайском.
-- Это -- штык, -- снова сказала она.
Она обняла Лю Мэй и горячо поцеловала ее в лоб. Лю Мэй не понимала, как
относиться к поцелуям, которыми осыпала ее Лю Хань, получив ребенка обратно:
тогда девочка воспринимала их с отчаянием или досадой. Теперь малышка
поняла: поцелуй -- это что-то приятное.
Она засмеялась в ответ. Вообще Лю Мэй умела смеяться, но улыбалась
редко. Никто не улыбался ей, когда она была совсем крошкой: лица чешуйчатых
дьяволов не приспособлены к улыбкам. Это тоже вызывало досаду у Лю Хань. Она
беспокоилась, сможет ли когда-нибудь научить Лю Мэй улыбаться.
Она принюхалась, затем, несмотря на протесты ребенка -- вопить Лю Мэй
не стеснялась, вымыла ее и переодела.
-- Из тебя кое-что вышло, -- сказала она дочери. -- Это все? Тебе
хватает еды?
Ребенок издал визжащий звук, который мог что-то значить -- или не
значил ничего. Лю Мэй уже была достаточно большой, чтобы ее кормить грудью,
да и груди Лю Хань давно не давали молока, потому что ребенка отняли у нее
совсем маленьким. Но Лю Мэй не нравились ни рисовая пудра, ни вареная лапша,
ни супы, ни кусочки свинины и курятины, которыми Лю Хань пыталась кормить
ее.
-- Томалсс, должно быть, кормил тебя консервами, -- рассерженно сказала
Лю Хань.
Она еще больше расстроилась, потому что Лю Мэй насторожилась и
обрадовалась, услышав знакомое имя маленького чешуйчатого дьявола.
Лю Хань тоже питалась консервами, когда маленькие дьяволы держали ее
пленницей в самолете, который никогда не садится на землю. В основном эти
консервы были захвачены в Америке Бобби Фьоре или в других странах, где
употребляют подобную пишу. Она ненавидела эту еду. Они годились на то, чтобы
уберечь от голодной смерти, но никак не заменяли настоящих продуктов.
Но они были известны Лю Мэй, так же как и сама компания чешуйчатых
дьяволов. Ребенок считал, что китайская пища, которая Лю Хань казалась
единственно правильной, имеет неприятный вкус и запах, и ел ее с такой же
неохотой, какую Лю Хань испытывала, питаясь мясными консервами и другой
гадостью.
Еду иностранных дьяволов можно было найти в Пекине и теперь, хотя, как
правило, она имелась у богатых последователей гоминдановской
контрреволюционной клики или тех, кто служил, как верная собака, чешуйчатым
дьяволам, -- и эти две группы были почти неразделимы. Нье Хо-Т'инг предлагал
раздобыть эту еду разными окольными способами, чтобы кормить Лю Мэй тем, к
чему она привыкла.
Лю Хань каждый раз отказывалась. Она подозревала -- да нет, была
уверена, что им движет: он хотел помочь ей, чтобы ребенок вел себя по ночам
тихо. Вполне понятное желание, и, конечно, ей очень хотелось высыпаться по
ночам, но она была поглощена идеей превратить Лю Мэй в нормального
китайского ребенка, и как можно скорее.
Она много размышляла над этим с тех пор, как ей вернули ребенка. Но
теперь она смотрела на Лю Мэй по-новому, словно прежде не видела ребенка
вообще. Она добивалась полной противоположности тому, чего добивался
Томалсс: он так активно стремился превратить Лю Мэй в чешуйчатого дьявола,
как Лю Хань старалась теперь сделать из нее обычного достойного человека. Но
и маленький дьявол, и сама Лю Хань обращались с Лю Мэй так, словно она была
чистой страницей, на которой можно писать любые иероглифы по своему выбору.
А чем еще мог бы быть ребенок?
Для Нье все было просто. По его мнению, ребенок -- это сосуд, который
надо наполнить революционным духом. Лю Хань фыркала. Нье, вероятно,
раздражало, что Лю Мэй не могла пока устраивать взрывы и не носила красную
звезду на своем комбинезончике. Ну что ж, это проблема Нье, а не ее или
ребенка. Над жаровней в углу комнаты Лю Хань стоял горшок с "као кан
миен-ер", сухой пудрой для лепешек. Лю Мэй она нравилась больше, чем другие
виды порошкообразного риса или старая рисовая мука.
Лю Хань подошла и сняла крышку. Сунула указательный палец в горшок, а
когда вытащила, он был покрыт комками теплой липкой массы, образовавшейся из
сухой рисовой пудры. Поднесла палец к ротику Лю Мэй, и девочка съела рис с
пальца.
Может, в конце концов Лю Мэй привыкнет к нормальной пище. Может быть,
сейчас она настолько голодна, что все съедобное кажется ей вкусным. Лю Хань
вспоминала ужасное время на самолете, который никогда не садится на землю.
Она ела серовато-зеленый горошек, который вкусом напоминал вареную пыль. Как
бы то ни было, Лю Мэй проглотила несколько комков "као кан миен-ер" и
успокоилась.
-- Разве это хорошо? -- тихо проговорила Лю Хань.
Она подумала, что сухая рисовая пудра почти безвкусна, а маленькие дети
не любят пищи с острым вкусом. Так, по крайней мере, говорят бабушки, а кому
знать лучше, как не им?
Лю Мэй посмотрела на Лю Хань и издала усиливающее покашливание. Лю Хань
уставилась на дочь. Неужели она хотела сказать, что сегодня ей понравилась
сухая пудра? Лю Хань не могла придумать, что еще бы могло обозначать это
покашливание. И хотя ее дочь все еще изъяснялась, как маленький чешуйчатый
дьявол, она одобрила тем самым не просто земной, но китайский продукт.
-- Мама, -- сказала Лю Мэй и снова издала усиливающее покашливание.
Лю Хань подумала, что сейчас растечется маленькой лужицей каши. Нье
Хо-Т'инг был прав: мало-помалу она перетягивала дочь от чешуйчатых дьяволов
на свою сторону.
* * *
Мордехай Анелевич смотрел на своих товарищей. Они сидели в комнате над
помещением пожарной команды на Лутомирской улице.
-- Ну вот, мы ее получили, -- сказал он. -- Что нам с ней теперь
делать?
-- Мы должны вернуть ее нацистам, -- прогудел Соломон Грувер. -- Они
пытались убить нас с ее помощью, значит, честно будет воздать им
благодарностью.
-- Давид Нуссбойм предложил бы отдать ее ящерам, -- сказала Берта
Флейшман, -- но не в том смысле, какой подразумевает Соломон, а подарить
по-настоящему.
-- Да, и именно за то, что он говорил подобные вещи, мы с ним и
распрощались, -- ответил Грувер. -- Таких глупостей нам больше не нужно.
-- Просто чудо, что нам удалось извлечь это ужасное вещество из корпуса
и поместить в запаянные сосуды так, чтобы никто не погиб, -- сказал
Анелевич. -- Чудо и пара аптечек с антидотом, которые нам продали солдаты
вермахта, -- они применяют его, когда начинают ощущать действие газа,
несмотря на противогазы и защитную одежду. -- Он покачал головой. -- Нацисты
-- большие мастера на такие штуки.
-- Они большие мастера и в том, чтобы всучивать нам всякую мерзость, --
сказала Берта Флейшман. -- Прежде их ракеты могли бы принести сюда несколько
килограммов нервно-паралитического газа и взрывом мощного заряда рассеять
его вокруг. Но это... из бомбы мы извлекли более тонны. И они собирались
заставить нас поместить ее в такое место, где она навредила бы нам больше
всего. Ракеты далеко не так точны.
Смех Соломона Грувера нельзя было назвать приятным.
-- Бьюсь об заклад, Скорцени был крайне раздражен, когда обнаружил, что
не обыграл нас, как сосунков, хотя и рассчитывал.
-- Вероятно, да, -- согласился Анелевич. -- Но не думайте, что он на
этом успокоится. Я не верил, что mamzer может руководствоваться той
бессмыслицей, которую Геббельс нес по радио, но ошибался. Этого человека
надо принимать всерьез во всем. Если мы не будем постоянно присматривать за
ним, он сделает что-нибудь страшное. Даже под нашим неусыпным наблюдением он
все равно может это проделать.
-- Благодарите Бога за вашего друга, другого немца, -- сказала Берта.
Теперь Анелевич рассмеялся с неловкостью:
-- Я не думаю, что он друг мне, если уж говорить точно. Я ему тоже не
друг. Но я оставил его в живых и пропустил его со взрывчатым материалом
обратно в Германию, так что... Я не знаю, что это такое. Может быть, чувство
чести. Он уплатил свой долг.
-- Значит, бывают и приличные немцы, -- неохотно заметил Соломон
Грувер.
Мордехай снова засмеялся. Смех мог довести его до грани истерики. Он
представил себе пухлого нациста с моноклем, точно таким же тоном говорящего:
"Бывают ведь и приличные евреи".
-- Я по-прежнему думаю: что было бы, если бы я убил его тогда? --
сказал Мордехай. -- Нацистам было бы гораздо труднее делать их бомбы без
того металла, и один бог знает, насколько лучше стал бы мир без них. Но мир
не стал лучше после прихода ящеров.
-- А мы застряли между ними, -- сказала Берта Флейшман. -- Если победят
ящеры, проиграют все. Если победят нацисты, проиграем мы.
-- Перед тем как уйти, мы нанесем им большой урон, -- сказал Анелевич.
-- Они сами помогли нам. Если они отступят, мы не позволим обращаться с нами
так, как они делали прежде. Никогда больше. То, что было моим самым горячим
желанием в жизни до прихода ящеров, исполнилось. Еврейская самооборона стала
фактом.
Насколько мало значил этот факт, выяснилось в следующий момент, когда в
комнату вошел еврейский боец по имени Леон Зелкович и сказал:
-- У входа внизу стоит районный руководитель службы порядка, который
хочет поговорить с вами, Мордехай.
Анелевич сделал кислую мину.
-- Какая честь.
Служба порядка в еврейском районе Лодзи по-прежнему подчинялась
Мордехаю Хаиму Румковскому, который был старостой евреев при нацистах и
остался старостой евреев и при ящерах. Большую часть времени служба порядка
благоразумно делала вид, что еврейского Сопротивления не существует. Если
марионеточная полиция ящеров явилась к нему -- с этим надо разобраться. Он
встал и вскинул на плечо свою винтовку "маузер".
Офицер службы порядка по-прежнему носил шинель и кепи нацистского
образца. На рукаве красовалась введенная нацистами повязка: красная с белым
с черным "могендовидом"; белый треугольник внутри звезды Давида обозначал
ранг служащего. На поясе у него висела дубинка. Против винтовки, конечно,
ерунда.
-- Вы хотели видеть меня?
Анелевич был сантиметров на десять -- двенадцать выше офицера и смотрел
на пришедшего свысока и с холодком. -- Я...
Представитель службы порядка кашлянул. Он был коренастым, с бледным
лицом и черными усами, которые выглядели как моль, севшая на верхнюю губу.
Он все-таки справился с голосом:
-- Я -- Оскар Биркенфельд, Анелевич. У меня приказ доставить вас к
Буниму.
-- В самом деле?
Анелевич ожидал встречи с Румковским или с кем-то из его прихвостней.
Если его приглашает главный ящер в Лодзи -- значит, произошло что-то
экстраординарное. Он подумал, не следует ли этого Биркенфельда убрать. При
необходимости он так и сделает. Есть сейчас такая необходимость? Чтобы
потянуть время, он спросил:
-- Он мне дает охранное свидетельство на встречу и обратно?
-- Да, да, -- с нетерпением ответил представитель службы порядка.
Анелевич кивнул с задумчивым лицом. Пожалуй, ящеры лучше соблюдают свои
обязательства, чем люди.
-- Ладно, я иду.
Биркенфельд отвернулся, явно испытав радостное облегчение. Может быть,
он ожидал отказа Мордехая и последующего наказания.
Он зашагал вперед пружинистым шагом, развернув плечи и демонстрируя
всему миру, что он выполняет достойную миссию, а не кукольную. С досадой и
удивлением Анелевич пошел за ним.
Ящеры помещались в здании бывшей германской администрации на рыночной
площади Бялут. "Очень подходяще", -- подумал Анелевич. Офис Румковского
находился в соседнем здании, его двуколка с изготовленной немцами биркой --
знаком старосты евреев -- стояла рядом. Мордехай едва успел бросить взгляд
на двуколку, потому что навстречу ему вышел ящер, чтобы взять на себя
дальнейшее попечение о еврейском лидере. Районный руководитель Биркенфельд
поспешно исчез.
-- Вашу винтовку, -- сказал ящер Анелевичу на шипящем польском языке.
Он протянул оружие. Ящер взял его.
-- Идемте.
Кабинет Бунима напомнил Мордехаю варшавский кабинет Золраага: он был
наполнен восхитительными, но непостижимыми устройствами. Даже те, назначение
которых руководитель еврейских бойцов понял, действовали неизвестно как.
Например, когда охранник ввел его в кабинет, из квадратного ящика,
сделанного из бакелита или очень похожего на бакелит материала, выползал
листок бумаги. Лист был покрыт каракулями письменности ящеров. Должно быть,
ее напечатали внутри ящика. Он видел, как чистый лист вполз внутрь, затем
вышел с текстом. И практически беззвучно, исключая слабый шум маленького
электромотора.
Из любопытства он спросил охранника.
-- Это машина "скелкванк", -- ответил ящер. -- В вашем языке нет слова
"скелкванк".
Анелевич пожал плечами. Машина так и осталась непонятной.
Буним повернул к нему один глаз. Региональный субадминистратор -- ящеры
использовали такие же невнятные титулы, какие придумывали нацисты, --
довольно бегло говорил по-немецки. Он спросил на этом языке:
-- Вы -- еврей Анелевич, возглавляющий еврейских бойцов?
-- Я тот самый еврей, -- сказал Мордехай.
Может, ящеры еще сердятся на него за помощь Мойше Русецкому, который
сбежал из их лап. Если Буним пригласил его по этой причине, лучше про
Русецкого не заикаться. Но форма приглашения противоречила этому
предположению. Похоже, что ящеры не собирались арестовывать его, только
поговорить.
Второй глаз Бунима тоже повернулся к нему, так что теперь ящер смотрел
на Мордехая обоими глазами -- знак полного внимания.
-- У меня предостережение вам и вашим бойцам.
-- Предостережение, благородный господин? -- спросил Анелевич.
-- Мы знаем больше, чем вы думаете, -- сказал Буним. -- Мы знаем, что
вы, тосевиты, играете в двусмысленные -- я это слово хотел применить? --
игры с нами и с немцами. Мы знаем, что вы мешали нашим военным усилиям
здесь, в Лодзи. Мы знаем это, говорю вам. Не беспокойтесь отрицать это.
Бесполезно.
Мордехай и не отрицал. Он стоял молча и ждал, что еще скажет ящер.
Буним испустил шипящий выдох, затем продолжил:
-- Вы также знаете, что мы -- сильнее вас.
-- Этого я не могу отрицать, -- сказал Анелевич со злобным азартом.
-- Да. Истинно. Мы можем сокрушить вас в любое время. Но чтобы сделать
это, мы должны будем отвлечь ресурсы. А ресурсов мало. Так. Мы терпели вас
как неприятность -- я это хотел сказать? Но не более того. Вскоре мы снова
двинем машины и самцов через Лодзь. Если вы будете мешать, если будете
создавать неприятности, вы за это заплатите. Вот наше предупреждение. Вы
поняли?
-- О да, я понял, -- ответил Анелевич. -- А вы понимаете, сколько
неприятностей начнется по всей Польше, от евреев и поляков одновременно,
если вы попытаетесь подавить нас? Вы хотите, как вы сказали, неприятностей
по всей стране?
-- Мы идем на такой риск. Вы свободны, -- сказал Буним. Один его глаз
повернулся к окну, второй -- к листам бумаги, которые выползали из бесшумной
печатающей машины.
-- Вы идете, -- сказал ящер-охранник на плохом польском.
Анелевич вышел. Когда они оказались вне здания, в котором ящеры
управляли Лодзью, охранник вернул ему винтовку.
Анелевич шел, размышляя. Когда он дошел до помещения пожарной команды
на Лутомирской улице, он улыбался. Ящеры плохо понимали выражение лица
людей. Если бы понимали, его физиономия им явно не понравилась бы.
* * *
Макс Каган говорил на английском со скоростью пулемета. Вячеслав
Молотов не понимал, о чем идет речь, но тот говорил очень горячо. Затем
Игорь Курчатов перевел:
-- Американский физик потрясен теми способами, которые мы выбрали для
извлечения плутония из усовершенствованного атомного реактора, который он
помог нам сконструировать.
Тон речи Курчатова был сух. Молотову показалось, что он испытывает
удовольствие, излагая жалобы американца. Роль переводчика при Кагане
избавляла его от рамок субординации и от ответственности за это. Пока они
оба -- и Каган, и Курчатов -- необходимы, более того, незаменимы для
наращивания военных усилий... Но однажды...
Но не сегодня. Он сказал:
-- Если есть более быстрый способ извлечения плутония, чем
использование заключенных в процессе извлечения стержней, пусть он ознакомит
меня с ним, и мы перейдем на него. Если нет, то нет.
Курчатов заговорил по-английски. Каган ответил ему очень подробно.
Курчатов повернулся к Молотову.
-- Он сказал, что не стал бы конструировать реактор таким образом, если
бы знал, что мы будем использовать заключенных для вытаскивания урановых
стержней, которые перерабатываем в плутоний. Он обвиняет вас в нескольких
несчастных случаях, подробности я не считаю нужным переводить.
"Но слушаешь с удовольствием". В сокрытии собственных мыслей Курчатов
не был настолько умелым, как следовало бы.
-- Пусть он ответит на мой вопрос, -- сказал Молотов, -- существует ли
более быстрый способ?
После обмена мнениями Курчатов сказал:
-- Он говорит, что Соединенные Штаты используют в таких процессах
машины и механические руки с дистанционным управлением.
-- Напомните ему, что у нас нет машин или дистанционно управляемых
механических рук.
-- Он хочет напомнить вам, что заключенные умирают от радиации, в
которой они работают.
-- Ничего, -- безразлично ответил Молотов, -- у нас их достаточно,
чтобы заменять, когда понадобится. Могу заверить вас, что проект в них
недостатка испытывать не будет.
По тому, как потемнело и без того смуглое лицо Кагана, было ясно, что
это не тот ответ, которого он ожидал.
-- Он спрашивает, почему заключенных, по крайней мере, не обеспечат
одеждой для защиты от радиации, -- сказал Курчатов.
-- У нас мало такой одежды, и вы это прекрасно знаете, Игорь Иванович,
-- сказал Молотов. -- У нас нет времени для производства ничего другого,
кроме бомбы. Ради этого великий Сталин готов полстраны бросить в огонь -- но
Кагану передавать мои слова нет нужды. Когда мы получим достаточно плутония
для бомбы?
-- Через три недели, товарищ народный комиссар иностранных дел, может
быть, через четыре, -- сказал Курчатов. -- Благодаря американскому опыту
результаты резко улучшились.
"Тоже неплохо", -- подумал Молотов.
-- Сделайте за три, если сможете. Главное здесь -- результат, а не
метод. Если Каган не в состоянии понять это, он дурак.
Когда Курчатов перевел это Кагану, американец вскочил с места, встал по
стойке смирно и выбросил правую руку в гитлеровском приветствии.
-- Товарищ народный комиссар иностранных дел, я не думаю, что вы его
убедили, -- сухо сказал Курчатов.
-- Убедил я его или нет, меня не беспокоит, -- ответил Молотов.
Про себя -- не допуская никаких внешних проявлений недовольства -- он
добавил еще один факт к делу Кагана, которое завел лично. Может быть, когда
война закончится, этот слишком умный физик обнаружит, что домой вернуться не
так-то просто. Но это пища для размышлений в будущем.
-- Каковы мотивы его сотрудничества с нами? Вы не видите риска? Его
привередливость не влияет на его полезность?
-- Нет, товарищ народный комиссар иностранных дел. Он -- откровенный.
-- Курчатов кашлянул в кулак: это гораздо хуже, чем просто откровенность. --
Но кроме того, он еще и предан делу. Он будет работать с нами.
-- Очень хорошо. Я полагаюсь на вас, присматривайте за ним.
"Твоя голова ляжет на плаху, если что-нибудь пойдет не так", -- вот что
имел в виду Молотов, и Курчатов в отличие от Кагана был вовсе не таким
наивным, чтобы не понять намек. Народный комиссар иностранных дел еще не
закончил:
-- В ваших руках -- будущее СССР. Если мы вскоре сможем взорвать одну
из таких бомб и в короткий срок изготовить новую, то продемонстрируем
чужакам -- империалистическим агрессорам, -- что мы в состоянии сравняться с
ними по уровню вооружения и наносить им удары, которые впоследствии станут
для них смертельными.
-- Наверняка они смогут нанести такие же удары и нам, -- ответил
Курчатов, -- и наша единственная надежда уцелеть состоит в том, чтобы
сравняться с ними, как вы сказали.
-- Такова политика великого Сталина, -- согласился Молотов, что
одновременно означало: именно так и должны развиваться события. -- Он
уверен, что так и будет, стоит нам показать ящерам, на что мы способны. Они
станут более уступчивыми в переговорах, цель которых -- изгнание врагов с
территории нашей Родины.
Народный комиссар иностранных дел и советский физик смотрели друг на
друга, а Макс Каган всматривался в них обоих с удрученным непониманием.
Молотов видел, как в глазах Курчатова мелькнула некая мысль. Он
заподозрил, что физик увидел ту же мысль и в его собственных глазах,
несмотря на каменную маску, якобы приросшую к его лицу. Но этой темы лучше
не касаться.
"Лучше, чтобы великий Сталин оказался прав".
* * *
Шипение Томалсса отражало странную смесь досады и удовольствия. Воздух
в городе Кантоне был довольно теплым, по крайней мере во время длинного лета
Тосев-3, но настолько сырым, что исследователь чувствовал себя так, словно
плыл в нем.
-- Как вы предупреждаете образование грибка в промежутках между
чешуйками? -- спросил он своего проводника, молодого исследователя-психолога
по имени Салтта.
-- Благородный господин, временами мы бессильны, -- ответил Салтта. --
Если это один из наших грибков, то его хорошо подавляют обычные мази и
аэрозоли. Но точно так, как мы можем питаться тосевитской пищей, так и
некоторые тосевитские грибки могут питаться нами. Большие Уроды слишком
невежественны, чтобы изобрести фунгициды, заслуживающие этого названия, а
наши медикаменты не показали себя достаточно эффективными. Некоторых
зараженных самцов пришлось переправить -- конечно, в условиях карантина --
на госпитальные корабли для дальнейшего лечения.
Язык Томалсса высунулся и резко задергался в стороны, изображая
отвращение. Очень многое на Тосев-3 раздражало его. Он едва не пожалел, что
не стал пехотинцем и не уничтожает Больших Уродов, вместо того чтобы изучать
их. Ему не нравилось ходить пешком по тосевитским городам. Он чувствовал
себя потерянным и ничтожным в толпе тосевитов, снующих по улицам вокруг
него. Независимо от того, насколько Раса изучит этих шумных, противных
существ, сможет ли она цивилизовать их и интегрировать в структуру Империи,
как это удачно получилось на Работеве и Халессе? Он в этом сомневался.
Если Раса собирается достичь успеха, то ей надо начать с только что
вылупившихся тосевитов, таких, которые еще не воспитывались по-своему, и
изучить средства, с помощью которых можно было контролировать Больших
Уродов. Именно это он делал с детенышем, вышедшим из тела самки по имени Лю
Хань... пока Плевел непредусмотрительно не заставил его вернуть детеныша.
Он наделся, что Ппевела поразит неизлечимая тосевитская грибковая
инфекция. Как много времени потеряно! Как много данных можно было бы
собрать. Теперь он собирался начать все сначала с новым детенышем.
Потребуются годы, прежде чем он получит полезные результаты, и в первой
части эксперимента ему придется повторить работу, которую уже делал.
Ему также придется вновь пройти процедуру недостаточного сна, которой
ему так хотелось бы избежать. Детеныши Больших Уродов появляются из тел
самок в настолько жалком недоразвитом состоянии, что не имеют ни малейшего
представления о разнице между днем и ночью и издают ужасающие звуки, когда
им это нравится. Почему такое поведение не привело в короткий срок к
вымиранию этого рода, оставалось для него непостижимым.
-- Вот, -- сказал Салтта, когда они завернули за угол. -- Мы выходим на
одну из главных рыночных площадей Кантона.
Если улицы города были просто шумными, то на рынке царила настоящая
какофония. Китайские тосевиты громко расхваливали достоинства своих товаров.
Другие, возможные покупатели, кричали так же громко, а может быть, и еще
громче, понося качества предлагаемых товаров. Когда они не кричали -- а
временами они все-таки не кричали, -- то они развлекались тем, что рыгали,
плевались, очищали зубы и морды, засовывали пальцы в окруженные мясистыми
наростами отверстия, которые служили им слуховыми диафрагмами.
-- Хотите? -- закричал один из них на языке Расы, едва не ткнув в глаз
Томалссу длинный зеленый овощ с листьями.
-- Нет! -- сказал Томалсс с сердитым усиливающим покашливанием. --
Идите прочь!
Нисколько не смущаясь, торговец овощами испустил несколько лающих
звуков, которые Большие Уроды используют для изображения смеха.
Вместе с овощами торговцы на рынке продавали все виды тосевитских форм
жизни, употребляемых в пищу. Поскольку холодильное оборудование здесь
имелось лишь в зачаточном состоянии или отсутствовало вообще, то некоторые
продаваемые существа хранились живыми и находились в кувшинах и стеклянных
банках, наполненных морской водой.
Томалсс посмотрел на желатиноподобное существо с множеством ног,
покрытых присосками. Оно своими странно мудрыми глазами, в свою очередь,
смотрело на Томалсса. Другие живые формы тосевитской жизни имели соединенные
вместе раковины, некоторые -- когтистые лапы: последних Томалсс ел и нашел
их вкусными. Были и существа, очень похожие на тех, которые плавали в
небольших морях на Родине.
У одного парня был ящик с множеством безногих чешуйчатых существ,
которые напоминали Томалссу животных его мира гораздо сильнее, чем волосатые
и тонкокожие формы жизни, преобладавшие на Тосев-3. После обычного громкого
торга Большой Урод купил одно из таких существ. Продавец схватил тварь
щипцами и вытащил наружу, затем большим ножом отсек голову. У еще
извивающегося тела торговец вспорол живот и извлек внутренности. Затем он
нарезал тело кусками длиной в палец, налил жира в коническую железную
сковороду, установленную над жаровней, в которой горел древесный уголь, и
начал жарить мясо существа для покупателя.
Все это время он, вместо того чтобы смотреть на работу, не сводил глаз
с двух самцов Расы. Занервничав, Томалсс сказал Салтта:
-- Он скорее проделал бы это с нами, чем с животным, у которого есть
некоторые наши признаки.
-- Истинно, -- сказал Салтта. -- Истинно, без сомнения. Но эти Большие
Уроды все еще дики и невежественны. Только после нескольких поколений они
будут видеть в нас своих господ и почитать Императора, -- он опустил глаза,
и то же самое проделал Томалсс, -- как их суверена и утешение их духу.
Томалсс задумался, можно ли вообще завершить завоевание Тосев-3? Даже
если оно будет завершено, можно ли цивилизовать тосевитов, как это раньше
произошло с жителями Работева и Халесса? Его окрылила убежденность молодого
самца в мощь Расы и правоту их дела.
К северу от рынка улицы были узкими и хаотично расположенными. Томалсс
удивлялся, как это Салтта находит здесь дорогу. Приятное тепло в этом районе
было не таким сильным: Большие Уроды, для которых оно не было приятным,
строили верхние этажи своих домов и магазинов так близко друг к другу, что
большая часть света Тосев не проникала на улицы.
Вокруг одного здания стояли на страже вооруженные самцы Расы. Томалсс
был рад видеть их: чувство тревоги постоянно сопровождаю его на этих улицах.
Большие Уроды такие непредсказуемые -- это было самым добрым из слов,
которое пришло ему в голову.
Внутри здания находилась тосевитская самка. Она держала недавно
появившегося детеныша возле железы в верхней части своего торса, а он
всасывал питательную жидкость, которую она выделяла для этой цели. Это
явление возмущало Томалсса, напоминая ему паразитизм. Ему пришлось
задействовать отстраненность ученого, чтобы хладнокровно наблюдать за
процессом.
Салтта пояснил:
-- Самке будет хорошо компенсирована уступка детеныша нам, благородный
господин. Это должно предотвратить трудности, проистекающие из парных
связей, которые, похоже, проявляются между поколениями тосевитов.
-- Хорошо, -- сказал Томалсс.
Теперь он спокойно добьется успеха в своей экспериментальной программе
-- а если нытики вроде Тессрека не беспокоились о ней, тем хуже. Он перешел
на китайский и заговорил с самкой Больших Уродов:
-- С вашим детенышем ничего плохого не случится. Его будут хорошо
кормить, хорошо ухаживать за ним. Все, что ему потребуется, он получит. Вы
понимаете? Вы согласны?
Речь его стала более беглой, он даже помнил, что вопросительных
покашливаний использовать не надо.
-- Я понимаю, -- тихо сказала самка. -- Я согласна.
Но когда она передала детеныша Томалссу, из углов ее небольших
неподвижных глаз закапала вода. Томалсс воспринял это как признак
неискренности. Отбросил его как несущественный. Компенсация -- вот
лекарство, которое залечит эту рану.
Детеныш задергался в руках Томалсса из стороны в сторону и издал
раздраженный визг. Самка отвернулась.
-- Хорошо сделано, -- сказал Томалсс Салтте. -- Заберем детеныша в наше
местное отделение. Затем я перевезу его в свою лабораторию и начну
исследования. Мне могли воспрепятствовать один раз, но второй раз я этого не
допущу.
Для полной уверенности их с Салттой на пути к базе Расы, расположенной
на маленьком островке Перламутровой реки, сопровождали четверо охранников.
Отсюда вертолет доставит его и детеныша к пусковой площадке космического
челнока -- и он вернется на звездный корабль.
Салтта вел всех обратно в точности той же дорогой, по которой они шли к
дому самки Больших Уродов. Едва они добрались до рыночной площади, где
продавались странные животные, путь им загородила влекомая животными телега
почти такой же ширины, как переулок, по которому они шли.
-- Назад! -- закричал Салтта по-китайски Большому Уроду, управлявшему
телегой.
-- Не могу! -- закричал в ответ Большой Урод. -- Слишком узко, чтобы
развернуться. Идите до угла, поверните за него и так обойдете меня.
То, что сказал тосевит, было очевидной истиной: развернуться он не мог.
Томалсс повернул один свой глаз назад, чтобы определить, далеко ли придется
идти. Было недалеко.
-- Придется пойти назад, -- уступил он.
Как только они повернули, из здания напротив раздались выстрелы.
Большие Уроды подняли крик. Охранники, окровавленные, повалились на землю.
Один из них успел выпустить ответную очередь, но затем его прошило еще
несколько пуль, и он перестал двигаться.
Из здания выскочило несколько тосевитов в потрепанных одеждах. В руках
они все еще держали легкое автоматическое оружие, с помощью которого
уничтожили охрану. Некоторые направили оружие на Томалсса, другие -- на
Салтту.
-- Вы пойдете с нами прямо сейчас или умрете! -- закричал один из них.
-- Мы пойдем, -- сказал Томалсс, не давая Салтте возможности не
согласиться с ним.
Один из Больших Уродов выхватил тосевитского детеныша из рук Томалсса,
другой увел ученого в то самое здание, из которого выбежали нападающие. Оно
имело задний выход на другую узкую улочку Кантона. Томалсса вели,
подталкивая, по столь многим улицам и так быстро, что вскоре он потерял
представление о том, где он находится.
Вскоре Большие Уроды разделились на две группы, одна увела его, другая
-- Салтту. Они разошлись. Томалсс остался среди тосевитов один.
-- Что вы будете делать со мной? -- спросил он, от страха с трудом
выговаривая слова.
Один из захватчиков изогнул губы так, как это делают тосевиты, когда
забавляются. Поскольку Томалсс изучат Больших Уродов, то опознал улыбку как
неприятную -- сложившаяся ситуация не предполагала приятных улыбок.
-- Мы освободили ребенка, которого вы похитили, а теперь мы собираемся
передать вас Лю Хань, -- ответил парень. Этого Томалсс и боялся больше всего
на свете.
* * *
Игнаций показал на пулемет "шторха".
-- Он для вас бесполезен.
-- Конечно же, -- взорвалась Людмила Горбунова, раздраженная тем, что
польский партизанский командир ни о чем не говорит напрямую. -- Поскольку я
лечу в самолете одна, то стрелять из него не смогу, разве что руки у меня
вытянутся, как щупальца осьминога. Этот пулемет для наблюдателя, а не для
пилота.
-- Я не это имел в виду, -- ответил ставший партизанским командиром
учитель фортепиано. -- Даже если бы с вами был наблюдатель, из него стрелять
было бы невозможно. Мы вынули из него патроны некоторое время назад. У нас
очень мало патронов калибра 7,92, и это очень жаль, потому что у нас очень
много германского оружия.
-- Даже если бы у вас были боеприпасы, толку немного, -- сказала ему
Людмила. -- Пули из пулемета не могут подбить вертолет ящеров, разве только
очень повезет, а для огня по наземным целям пулемет установлен неправильно.
-- И снова я имел в виду не это, -- сказал Игнаций. -- Нам требуется
дополнительное количество таких патронов. Мы немного добыли из скудных
запасов, которые ящеры выделили своим марионеткам. Сейчас мы связались с
вермахтом на западе. Если завтра вечером вы вылетите на этом самолете к их
позициям, они загрузят его несколькими сотнями килограммов патронов. Когда
вы вернетесь сюда, вы окажете нам большую помощь в нашем непрекращающемся
сопротивлении ящерам.
Людмиле хотелось только одного: вскочить в самолет и лететь на восток
до территории, удерживаемой Советами. Если она доберется до Пскова, Георг
Шульц наверняка сможет поддерживать машину в рабочем состоянии. Каким бы
нацистом он ни был, но в технике разбирался, как жокей в лошадях.
Но, несмотря на технические таланты Шульца, Людмиле не хотелось ни
связываться с вермахтом, ни лететь на запад. Хотя немцы стали теперь
товарищами по оружию в борьбе против ящеров, каждый раз, когда ей
приходилось иметь дело с немцами, разум по-прежнему кричал: "Враги!
Варвары!" Вот только, к сожалению, ее чувства были мелочью по сравнению с
военной необходимостью.
-- Значит ли это, что у вас есть бензин для двигателя? -- спросила она,
хватаясь за последнюю соломинку. Когда Игнаций кивнул, она вздохнула и
сказала:
-- Хорошо, я привезу вам боеприпасы. Немцы подготовят посадочную
полосу?
Для "Физлера-156" многого не требовалось, но все равно совершать ночную
посадку в никуда большой радости не доставляло.
Тусклый свет фонаря, который держал Игнаций, позволил разглядеть
утвердительный кивок.
-- Вам надо пролететь курсом двести девяносто два примерно пятьдесят
километров. Посадочная площадка будет обозначена четырьмя красными фонарями.
Вы знаете, что означает "лететь курсом двести девяносто два"?
-- Да, я знаю, что это означает, -- заверила его Людмила. -- И помните,
если вы хотите получить свои боеприпасы, то вы должны обозначить посадочную
полосу, когда я буду возвращаться.
"А еще вы должны надеяться, что меня не подобьют ящеры, когда я буду
лететь над их территорией, но тут уж вы ничего сделать не сможете, это мои
заботы".
Игнаций снова кивнул.
-- Мы обозначим поле четырьмя белыми фонарями. Я полагаю, вы вернетесь
в ту же ночь, так?
-- Если только что-нибудь не сорвется, -- ответила Людмила.
У нее волосы вставали дыбом, но выжить в подобной операции все же
проще, чем лететь при свете яркого дня, когда любой ящер, заметив самолет,
тут же собьет его.
-- Ну, и хорошо, -- сказал Игнаций. -- Значит, вермахт будет ждать
вашего прилета завтра около двадцати трех тридцати.
Значит, он сначала обо всем договорился с нацистами и только потом
обратился к ней. Лучше бы он сначала получил ее согласие и потом стал
договариваться с немцами. Теперь волноваться по этому поводу поздно. Она
понимала, что слишком привыкла в своем деле полагаться на себя, забыв, что
является частичкой огромной военной машины. Она никогда не испытывала
негодования, выполняя приказы своих красных командиров: она должна была
исполнять их, как приказано, и никогда не задумывалась об этом.
Может быть, дело в том, что этот польский партизан не показался ей
истинно военным человеком, чтобы беспрекословно подчиняться ему? А может,
она просто не чувствовала, что принадлежит этому миру. Если бы ее "У-2" не
был поврежден, если бы идиоты-партизаны под Люблином не забыли простейшие
правила подготовки взлетно-посадочных полос...
-- Позаботьтесь, чтобы посредине того, что будет посадочной площадкой,
не было деревьев, -- предупредила она Игнация.
Он помигал, затем кивнул в третий раз.
Большую часть следующего дня она провела, проверяя, насколько это
возможно, техническую исправность самолета. Она с неудовольствием отдавала
себе отчет в том, что никогда не станет специалистом такого класса, как
Шульц, и в том, что этот самолет ей совершенно незнаком. Она старалась
преодолеть свое невежество дотошностью и многократным повторением. Скоро она
узнает, что у нее получилось.
Когда наступила темнота, партизаны оттащили маскировочную сеть с одного
края и выкатили машину наружу. Людмила знала, что места для разбега у нее
немного. Для "физлера" как будто много и не требовалось. Она надеялась, что
все слухи об этой машине оправдаются.
Она взобралась в кабину. Едва ее палец нажал кнопку стартера, как мотор
"Аргус" тут же ожил. Пропеллер завертелся, его словно размыло в воздухе,
затем он как будто исчез. Партизаны отбежали в сторону. Людмила отпустила
тормоз, дала "шторху" полный газ и понеслась в сторону двух людей со
свечами, отмечавших место, где начинались деревья. Они приближались с
тревожащей быстротой, но когда она потянула на себя ручку, "шторх" взмыл в
воздух с такой же легкостью, как его пернатый тезка.
Первой ее реакцией было облегчение: наконец-то она снова в полете.
Затем она поняла, что по сравнению с тем, к чему она привыкла, теперь в ее
руках гораздо более сильная машина. "Аргус" имел в два с лишним раза больше
лошадиных сил по сравнению с радиальным двигателем Шевцова, а "шторх" был не
намного тяжелее самолета "У-2". Она почувствовала себя пилотом истребителя.
-- Не глупи, -- сказала она себе. Хороший совет пилоту в любых
обстоятельствах.
В закрытой кабине "физлера" она могла слышать свои слова, что при
полете на "кукурузнике" совершенно невозможно. Непривычным было и отсутствие
потока воздуха, бьющего в лицо.
Она держалась как можно ближе к земле: сделанный людьми самолет,
который поднимался выше сотни метров, часто попадал на землю быстрее, чем
этого желали пилоты. При полете над мирной территорией это срабатывало
неплохо. Перелет через боевые позиции, как она это обнаружила, оказался
сложнее. Несколько ящеров открыли по "шторху" огонь из автоматического
оружия. Звук от пуль, пробивавших алюминий, отличался от того, который
получается, когда пули проникают сквозь ткань. Но "шторх" не дрогнул и не
свалился с неба, и у нее появилась надежда, что конструкторы самолета знали,
что делали.
Она миновала позиции ящеров и оказалась на территории Польши, занятой
немцами. Двое нацистов тоже пальнули в нее. Она почувствовала, что ей
хочется выхватить пистолет и открыть ответный огонь.
Но вместо этого она принялась вглядываться в тьму в поисках
прямоугольника из четырех фонарей. Пот заливал ей лицо. Она летела так
низко, что вполне могла пропустить фонари. Если она пропустит их, ей
придется сесть где попало. И что тогда? Сколько времени понадобится немцам,
чтобы перетащить боеприпасы от места посадки до ее самолета? А может, ящеры
заметят "шторх" и размажут его по земле прежде, чем в него успеют погрузить
боеприпасы.
Теперь, когда она летела над территорией, удерживаемой людьми, она
могла позволить себе лететь на несколько большей высоте. Вот! Слева и
недалеко. В конце концов, ее навигационные способности не так уж плохи. Она
плавно развернула "шторх" и направила его к обозначенной полосе.
Площадка показалась ей размером с почтовую марку. Сможет ли она
посадить "шторх" на таком крошечном пространстве? Придется попробовать, это
точно.
Она прикрыла дроссель и опустила огромные закрылки. Дополнительное
сопротивление воздуху, которое они создали, удивительно быстро уменьшило
скорость полета. Может быть, в конце концов ей удастся посадить "шторх"
целым. Она наклонилась вперед и посмотрела вниз через дно стеклянного домика
кабины, почти чувствуя расстояние до земли.
Приземление было удивительно мягким. Шасси "шторха" имело мощные
пружины, поглотившие удар от резкого соприкосновения с землей. Если бы само
прикосновение было менее резким, она вообще не поняла бы, что находится уже
на земле. Людмила заглушила мотор и резко нажала на тормоз. Она не сразу
поняла, что машина остановилась -- а у нее еще метров пятнадцать или
двадцать запасного пространства.
-- Хорошо. Это было хорошо, -- сказал человек с фонарем, сказал ей,
приблизившись к "физлеру". Свет фонаря осветил его белозубую улыбку. -- Где
эти драные партизаны нашли такого отчаянного пилота?
В это же время другой человек -- по тону речи явно офицер -- обратился
к людям, скрытым темнотой:
-- Эй, вы, тащите ящики сюда. Думаете, они сами пойдут, что ли?
Его слова звучали требовательно и одновременно смешно -- хорошее
сочетание, если хочешь добиться от своих солдат максимума возможного.
-- Вы, немцы, всегда считаете, что вы единственные, кто знает все обо
всем, -- сказала Людмила солдату с фонарем.
У того рот открылся от удивления. Она слышала, что у ящеров эта гримаса
что-то обозначает, но так и не смогла вспомнить, что именно. Но она
подумала, что это забавно. Немецкий солдат отвернулся и воскликнул:
-- Эй, полковник, вы не поверите! На этом самолете прилетела девушка.
-- Я встречался раньше с женщиной-пилотом, -- ответил офицер. -- И она
была очень хорошим пилотом, в самом деле хорошим.
Людмила застыла на непривычном сиденье "шторха". Все ее тело, казалось,
погрузилось в колотый лед -- или это был огонь? Она не могла сказать. Она
смотрела на панель приборов -- все стрелки лежали на колышках возле нулевых
отметок, -- но не видела их. Она сама не поняла того, что слова -- на
русском -- непроизвольно сорвались с ее губ:
-- Генрих... это ты?
-- Майн готт, -- тихо сказал офицер где-то в темноте, наполненной
треском сверчков, в которой она не могла увидеть его. Она подумала, что это
его голос, но она не встречалась с ним полтора года и могла ошибиться. Через
мгновение он осмелел: -- Людмила?
-- Что тут за чертовщина происходит? -- спросил солдат с фонарем.
Людмила выбралась из "физлера". Она все равно должна была это сделать,
чтобы немцам удобнее было грузить в самолет ящики с патронами. Но даже когда
ее ноги зашагали по земле, она чувствовала себя так, будто все еще летит, и
гораздо выше, чем безопасно для любого самолета.
Ягер подошел к ней.
-- Ты еще жива, -- почти сурово сказал он.
Посадочный фонарь давал немного света. Она не смогла рассмотреть, как
он выглядит. Но теперь, когда она смотрела на него, память добавила
недостающие детали: у уголков глаз его появились складки; губы с одной
стороны приподнимаются, когда он увлечен или просто задумался; седые волосы
на висках.
Она сделала шаг к нему, и одновременно он сделал шаг к ней. Они
оказались так близко, что смогли обнять друг друга.
-- Что за чертовщина здесь происходит? -- повторил солдат с фонарем.
Они игнорировали его.
В ночи прогудел сильный глубокий голос, сказавший по-немецки:
-- Что же, это ведь сладко, не так ли?
Людмила игнорировала и это вмешательство. Ягер не мог себе этого
позволить. Он оборвал поцелуй раньше, чем хотел бы, и повернулся к
подходившему человеку -- в ночи это была лишь большая, нависающая тень.
Официальным тоном он сказал:
-- Герр штандартенфюрер, представляю вам лейтенанта...
-- ...старшего лейтенанта, -- вмешалась Людмила.
-- ...старшего лейтенанта Людмилу Горбунову из советских ВВС. Людмила,
это штандартенфюрер Отто Скорцени из Ваффен СС [Войска СС -- на протяжении
1933-1945 годов это понятие значительно изменяло свой смысл. Созданные как
части усиления для "охранных отрядов", с началом воины они были
преобразованы в полноценные воинские части, вначале элитные,
добровольческие, а к концу войны -- совершенно рядовые. Отличались от
строевых частей вермахта знаками отличия и воинскими званиями. Система
обучения пехотинца, разработанная для войск СС, после войны была принята в
большинстве армий мира. -- Прим. ред.], мой...
-- ...соучастник, -- перебил его Скорцени. -- Вижу, вы старые друзья.
-- Он расхохотался. -- Ягер, скрытный дьявол, ты прячешь самые разные
интересные вещи под своей фуражкой, не так ли?
-- Это необычная война, -- с некоторым упрямством ответил Ягер.
Быть "старым другом" советской летчицы было разрушительно для карьеры
служащего вермахта -- а может быть, и хуже, чем просто разрушительно. Равно
как и отношения такого рода с немцем были опасны для Людмилы. Но он не стал
отпираться, сказал только:
-- Ты ведь работал с русскими, Скорцени.
-- Но не так интимно. -- Эсэсовец снова захохотал. -- Не прибедняйся.
-- Он взял Ягера за подбородок, словно был его снисходительным дядюшкой. --
Не делай того, что не доставляет мне радости.
Насвистывая мелодию, которая звучала, как он, вероятно, считал,
скабрезно, он ушел в темноту.
-- Ты работаешь с ним? -- спросила Людмила.
-- Случается, -- сухо отметил Ягер.
-- Как? -- спросила она.
Вопрос, как понимала его Людмила, был очень широк, но Ягер понял, что
она имеет в виду.
-- Осторожно, -- ответил он, вкладывая в ответ больший смысл, чем в
ожидаемый ею.
* * *
Мордехай Анелевич уже давно уступил неизбежности и пользовался
отдельными предметами германского обмундирования. В Польше имелись огромные
запасы его, оно было прочным и достаточно практичным, пусть даже и не так
хорошо приспособленным к зимним холодам, как обмундирование русского
производства.
Но одевшись с головы до ног в полную форму вермахта, он испытал
несколько другие ощущения. Глядя в зеркало, он видел нацистского солдата,
которые так зверствовали в Польше, и его охватывал сверхъестественный страх,
несмотря на то что он считал себя светским человеком. Но на это пришлось
пойти.
Буним угрожал евреям репрессиями, если они попытаются заблокировать
перемещения войск ящеров в Лодзи. Поэтому нападения должны происходить за
пределами города, чтобы их можно было списать на немцев.
Соломон Грувер, также в германской форме, подтолкнул его локтем. К его
каске эластичными лентами были прикреплены зеленые ветки, и он был почти
неразличим в лесу неподалеку от дороги.
-- Вскоре они должны напороться на первые мины, -- сказал он тихим
голосом, искаженным противогазом.
Мордехай кивнул. Мины были тоже германскими, в корпусах из дерева и
стекла, чтобы их было труднее обнаружить. Бригада, ремонтировавшая шоссе,
только что установила их... вместе с некоторыми другими вещами. На этом
участке шоссе длиной в два километра ящеров ожидала по-настоящему неровная
дорога.
Грувер, как обычно, имел мрачный вид.
-- Это будет нам стоить многих людей, неважно каких, -- сказал он, и
Анелевич вынужден был согласиться.
Ему неприятно было проявлять благосклонность к немцам, в особенности
после того, что немцы собирались сделать с евреями в Лодзи. Но эта
благосклонность должна была пойти на благо немцам вроде Генриха Ягера, не
дав ничего хорошего Скорцени или СС. Так надеялся Анелевич.
Он вглядывался в дорогу сквозь стекла своего противогаза. Воздух,
которым он дышал, был на вкус сухим и мертвым.
В противогазе он приобрел внешность свинорылого существа, такого же
чужака, как ящеры. Противогаз был тоже немецкого производства -- немцы знали
толк в химической войне, в частности против евреев, еще до нашествия ящеров.
-- Бум-м!
Резкий взрыв означал, что сработала мина. Естественно, грузовик ящеров
перевернулся на бок и загорелся. Из кустарника с обеих сторон дороги ударили
пулеметы -- по нему и по машинам, шедшим следом. Издалека по автоколонне
ящеров начал бить германский миномет.
Два бронетранспортера свернули с дороги, чтобы расправиться с
нападавшими. К вящему ликованию Анелевича, обе почти сразу же подорвались на
минах. Одна загорелась, и он открыл огонь по ящерам, выскакивавшим из нее.
Вторую занесло в сторону -- у нее была разорвана гусеница.
Но то оружие, которое, как надеялся Анелевич, должно было нанести
наибольший урон, вообще обходилось без взрывчатых веществ: оно состояло из
катапульт, сделанных из автомобильных камер, и запечатанных воском бутылок,
наполненных доверху маслянистой жидкостью. Как они с Грувером определили, с
помощью этой старой резины можно зашвырнуть бутылку на три сотни метров, и
этих трех сотен было вполне достаточно. Со всех сторон бутылки с захваченным
у нацистов нервно-паралитическим газом полетели в остановившуюся головную
часть автоколонны ящеров. Еще больше полетело в машины всей колонны, едва
она остановилась.
Большинство бутылок разбилось. Ящеры начали падать. Противогазов на них
не было. Кроме того, они были покрыты только краской для тела, хотя и
обычная одежда надежной защиты не обеспечивала. Мордехай слышал, что немцы
для своих химических войск выпускают специальное прорезиненное
обмундирование. В самом ли деле это так, он не знал. Для дотошных немцев это
было бы весьма логично, но не превратишься ли ты в тушеного цыпленка, если в
боевой обстановке пробудешь в такой резиновой одежде более часа или двух?
-- Что мы будем делать дальше? -- спросил Грувер в паузе, вставляя
очередную обойму в свою винтовку "гевер 98".
-- Как только разбросаем все наши запасы газа, сразу отойдем, --
ответил Анелевич. -- Чем дольше мы задержимся, тем больше возможностей у
ящеров схватить кого-нибудь из наших, а мы этого не хотим.
Грувер кивнул.
-- Если сможем, то надо обязательно унести с собой и наших погибших, --
сказал он. -- Не знаю, насколько осведомлены ящеры в отношении этих дел, но
если да -- они смогут определить, что мы не настоящие нацисты.
-- Это так, -- согласился Мордехай. Последний раз, когда ему напомнили
об этой особенности, Софья Клопотовская сочла это забавным. Последствия,
однако, могут оказаться слишком серьезными.
Бросаемые катапультами бутылки с нервно-паралитическим газом имели
некоторые преимущества перед обычной артиллерией: ни вспышки, ни гром
выстрела не раскрывали позиций метальщиков. Они продолжали бросать бутылки,
пока не израсходовали их полностью.
После этого еврейские бойцы стали отходить от дороги, прикрываемые
пулеметами. Было предусмотрено несколько сборных пунктов -- на фермах
надежных поляков. "Поляков, на которых, как мы надеемся, можно положиться",
-- подумал Мордехай, приближаясь к одной из них. Там они переоблачились в
обычную одежду и вооружились более эффективным оружием, чем винтовки. В те
дни в Польше появиться на публике без "маузера" за плечами было почти то же
самое, что выйти голым.
Мордехай вернулся в Лодзь с западной стороны, дальней от места
нападения на автоколонну. Вскоре после полудня он подошел к помещению
пожарной команды на Лутомирской улице.
Берта Флейшман приветствовала его перед входом.
-- Говорят, утром было нападение нацистов, всего в двух километрах от
города?
-- В самом деле? -- в замешательстве спросил он. -- Я не слышал об
этом, хотя утром действительно была стрельба. Впрочем, сейчас стреляют почти
каждый третий день.
-- Это, должно быть, как его там... Скорцени, вот как, -- сказала
Берта. -- Какой еще сумасшедший рискнет сунуть голову в осиное гнездо?
Во время их разговора к зданию подошел районный руководитель службы
порядка, который приводил Анелевича к Буниму. Оскар Биркенфельд имел при
себе только дубинку, а потому с уважением ожидал, когда вооруженный
винтовкой Анелевич обратит на него внимание. Когда это произошло, сотрудник
службы порядка сказал:
-- Буним снова требует вашего появления немедленно.
-- В самом деле? -- спросил Анелевич. -- И зачем?
-- Он скажет сам, -- ответил Биркенфельд с некоторым вызовом --
насколько это возможно было при почти полном отсутствии оружия.
Анелевич свысока посмотрел на него, ничего не отвечая. Сотрудник службы
порядка поник и спросил слабым голосом:
-- Вы пойдете?
-- О да, я пойду, хотя Буниму и его марионеткам следовало бы поучиться
хорошим манерам, -- сказал Мордехай.
Биркенфельд сердито вспыхнул.
Мордехай похлопал по плечу Берту Флейшман:
-- Скоро увидимся.
* * *
-- ...Немного, -- ответил он. -- О нападении нацистов я услышал в тот
самый момент, когда ваш ручной полицейский пришел, чтобы привести меня сюда.
Вы можете спросить его после того, как я уйду: мне кажется, он слышал, как
мне сообщили эту новость.
-- Я проверю, -- сказал Буним. -- Так вы отрицаете какую-либо вашу роль
в нападении на автоколонну?
-- Разве я нацист? -- спросил Анелевич. -- Берта Флейшман, женщина, с
которой я разговаривал, когда Биркенфельд нашел меня, думает, что к этому
может иметь отношение некто Скорцени. Я наверняка не знаю, но слышал, что он
где-то в Польше, может быть, даже к северу от Лодзи.
Если он сможет чем-то навредить эсэсовцу, надо это сделать.
-- Скорцени? -- Буним высунул свой язык, но не стал, дергать им вперед
и назад, верный признак заинтересованности. -- Уничтожить его стоит целого
выводка яиц обычных тосевитов вроде вас.
-- Истинно, благородный господин, -- сказал Мордехай.
Если Буниму хочется думать, что он безопасный трепач, для него это
только на пользу.
Ящер сказал:
-- Я исследую, имеют ли слухи, о которых вы сообщаете, какую-либо
обоснованность. Если да, то я приму все меры для уничтожения вредного самца.
При успехе мой статус повысится.
Мордехай подумал, предназначена ли последняя фраза ему, или же Буним
говорит сам с собой.
-- Я желаю вам удачи, -- сказал он.
И хотя он лично возглавил нападение на колонну, идущую на север воевать
против немцев, он имел в виду именно то, что сказал ящеру.
* * *
-- А ведь мы правильно действуем! -- с энтузиазмом произнес Омар
Брэдли, присаживаясь в кабинете Лесли Гровса в Научном центре Денверского
университета. -- Вы сказали, что следующая бомба вскоре будет на подходе, и
заверили, что так и будет.
-- Если бы я лгал вам -- или еще кому-то, -- меня схватили бы за
задницу и вытурили вон, заменив человеком, который выполняет свои обещания,
-- ответил Гровс. Он наклонил голову набок. Где-то вдали продолжала
грохотать артиллерия. Но теперь Денвер не выглядел готовым сдаться. -- А вы,
сэр, вы проделали дьявольскую работу по защите этого города.
-- У меня был хороший помощник, -- сказал Брэдли.
Они обменялись легкими поклонами, довольные друг другом. Брэдли
продолжил:
-- Не похоже, что нам следует использовать вторую бомбу где-нибудь
поблизости. Попробуем перевезти ее в другое место, где от нее им будет еще
хуже.
-- Да, сэр. Так или иначе, но мы справимся с этим, -- сказал Гровс.
Железнодорожные пути, ведущие в Денвер и из него, были разрушены, но
обычные дороги еще сохранились. Если разобрать устройство на части, то его
можно перевезти на лошадях, куда нужно.
-- Рассчитываю, что да, -- сказал Брэдли. Он потянулся к нагрудному
карману, но на полпути остановил движение руки. -- Никак не могу отвыкнуть
от курения. -- Он сделал длинный усталый выдох. -- А ведь благодаря этому
есть шанс прожить дольше.
-- Наверное, это так, -- сказал Гровс.
Брэдли хмыкнул, но тут же придал себе невозмутимый вид. Гровс его не
осуждал. У него тоже были заботы поважнее, чем табак. Он заговорил о самой
большой:
-- Сэр, как долго мы с ящерами будем играть в "око за око"? Вскоре уже
не останется несданных городов, если мы продолжим в том же духе.
-- Я знаю, -- сказал Брэдли, и его длинное лицо помрачнело. -- Черт
возьми, генерал, я такой же солдат, как и вы. Я не делаю политику. Я только
провожу ее в жизнь наилучшим образом, которым только могу. Делать политику
-- работа президента Халла. Если хотите послушать, я расскажу вам то, что
говорил ему.
-- О да, конечно, я хочу услышать это, -- ответил Гровс. -- Если я
смогу понять, что я должен делать, я соображу, как делать, чтобы было легче.
-- Не все так думают, -- сказал Брэдли. -- Многие хотели бы
сосредоточиться только на своем дереве и забыть про лес. Мое мнение: нам
следует использовать эти бомбы только для того, чтобы заставить ящеров сесть
за стол и серьезно поговорить об окончании этой воины. Насколько я понимаю,
любой мир, который позволит нам сохранить малейшую независимость, стоит
этого.
-- Малейшую независимость? -- переспросил Гровс. -- Даже не всю нашу
территорию? Это тяжелый мир, чтобы просить его, сэр.
-- В данное время, я считаю, это все, на что мы можем надеяться.
Принимая во внимание изначальные цели вторжения ящеров, даже этого добиться
будет нелегко, -- сказал Брэдли. -- Вот почему я так рад вашим успехам. Без
ваших бомб нас уже победили бы.
-- Но даже с ними нас все равно победят, -- сказал Гровс. -- Хотя
побеждают они нас не так быстро, и мы заставляем ящеров платить, как чертей,
за все, что они получают.
-- Правильная мысль, -- согласился Брэдли. -- Они явились сюда с
ресурсами, которые нелегко обновить. Сколько они истратили? Сколько у них
еще осталось? Сколько они могут допустить потерь?
-- В этом и состоит вопрос, сэр, -- сказал Гровс. -- Главный вопрос.
-- О нет. Есть еще один, гораздо более важный, -- сказал Брэдли. Гровс
вопросительно поднял брови. -- Останется ли у нас что-нибудь к моменту,
когда они будут выскребать остатки ресурсов со дна бочки?
-- Да, сэр, -- проворчал Гровс.
* * *
Ядерный огонь расцвел над тосевитским юродом. Вид его, снятый с
разведывательного спутника, был прекрасным. Из верхних слоев атмосферы
рассмотреть в подробностях то, что сделала бомба с городом, было невозможно.
Это собственными глазами видел Атвар лично, проезжая по руинам Эль-Искандрии
в специальной защищенной машине. Вблизи это ни в малейшей степени не
казалось прекрасным.
Кирел не участвовал в поездке, однако смотрел видеозаписи этого и
других взрывов, проведенных и Расой, и тосевитами. Он сказал:
-- А мы отплатим взрывом над городом Копенгагеном. Когда же это
кончится, благородный адмирал?
-- Командир, я не знаю, когда это кончится, и даже кончится ли вообще,
-- ответил Атвар. -- Психологи недавно передали переведенный том тосевитских
легенд в надежде, что смогут помочь мне -- и Расе в целом -- лучше понять
противника. Одна из них, которая мне запомнилась, рассказывает о тосевитском
самце, который боролся с воображаемым чудовищем с множеством голов. Каждый
раз, когда он отрезал одну из них, вместо нее вырастало две. Вот в таком же
неприятном положении теперь оказались и мы.
-- Я понял, что вы сказали, благородный адмирал, -- сказал Кирел. --
Гитлер, германский не-император, кричал на всех радиочастотах, что он может
приказать отомстить нам за то, что он называет бессмысленным разрушением
нордического города. Наши семантики до сих пор анализируют точное значение
слова "нордический".
-- Меня не волнует, что оно означает, -- раздраженно взорвался Атвар.
-- Все, о чем я беспокоюсь, так только о том, чтобы довести завоевание до
успешного конца, и я больше не уверен, что мы в состоянии выполнить это.
Кирел смотрел на него обоими глазами. Даже когда обстоятельства
складывались наихудшим образом, он без колебаний верил в конечный успех
миссии Расы.
-- Значит, вы намереваетесь прекратить военные усилия, благородный
адмирал? -- спросил Кирел тихим и предостерегающим голосом.
Атвар тоже понял это предостережение. Если Кирелу не понравится его
ответ, он поднимет восстание против Атвара, как это сделал Страха после
первого тосевитского ядерного взрыва. Если бы Кирел возглавил такое
восстание, то успех бы был обеспечен.
Поэтому Атвар дал ответ, также содержащий предостережение:
-- Прекратить? Ни в коем случае. Но я начинаю думать, что мы не сможем
захватить всю поверхность суши этого мира без неприемлемо больших потерь как
для наших сил, так и для поверхности. Мы должны думать о том, что найдет
флот колонизации, когда прибудет сюда, и соответственно вести себя.
-- Это может вовлечь нас в дискуссии с тосевитскими империями и
не-империями, которые борются против нас теперь, -- сказал Кирел.
Атвар не смог прочитать в этом высказывании мнения командира. Да и сам
он еще не определился. Даже мысль о переговорах означала вступление на
неразрешенную полосу. План Расы, разработанный на Родине, предусматривал
полное завоевание Тосев-3 в течение нескольких дней, а не четырех лет --
двух медленных оборотов планеты вокруг ее звезды -- жесточайшей войны,
результат которой все еще не приближался к успеху. Может быть, теперь Расе
для перевеса надо пойти на ударные меры, хотя это и не предусматривалось в
приказе Императора, переданном Атвару перед тем, как он погрузился в
холодный сон.
-- Командир корабля, в конце дело может дойти и до этого, -- сказал он.
-- Я все еще надеюсь, что до этого не дойдет -- наши успехи во Флориде,
помимо других мест, дают мне основания надеяться, -- но как конечная мера
это возможно. Что вы скажете?
Кирел испустил тихое шипение, которое выразило его удивление.
-- Только то, что Тосев-3 изменила нас так, как мы никогда не смогли
предположить, и что меня не беспокоят никакие изменения, не говоря уже о
тех, которых вызваны в нас такими крайними обстоятельствами.
-- Меня они тоже не волнуют, -- ответил Атвар. -- Каким должен быть
разумный самец? Наша цивилизация просуществовала столь долго исключительно
потому, что мы свели к минимуму разрушительное влияние бессмысленных
изменений. Но в ваших словах я слышу самую суть различий между нами и
тосевитами. Когда мы сталкиваемся с изменениями, то воспринимаем их как
беду. Тосевиты бросаются на них и хватают обеими руками, словно сексуального
партнера, к которому они питают мономаниакальную страсть, называемую словом
"любовь".
Он воспроизвел это слово на тосевитском языке, называемом "английским":
он был широко распространен и еще шире использовался для радиопередач,
поэтому Раса была знакома с ним лучше, чем с любыми другими языками Больших
Уродов.
-- Разве Псалфу-Завоеватель вел переговоры с жителями Работева? --
спросил Кирел. -- Разве Хисстан-Завоеватель вел переговоры с халессианами?
Что сказали бы Императоры, если бы до них дошли вести о том, что наше
вторжение не достигло цели, поставленной перед нами?
Подразумевалось: что скажет Император, если узнает, что завоевание
Тосев-3 может быть неполным?
-- Мы не можем обогнать скорость света, -- ответил Атвар -- Что бы он
ни сказал, мы узнаем об этом примерно в то же время, когда прибудет флот
колонизации, а может быть, и через несколько лет после этого.
-- Истинно, -- сказал Кирел. -- А до того мы автономны. Автономность на
языке Расы несет оттенок одиночества, изолированности, отрезанности от
цивилизации.
-- Истинно, -- с досадой согласился Атвар. -- Что ж, командир корабля,
мы должны делать все, что в наших силах, на благо флота и Расы в целом,
частью которой мы остаемся.
-- Как скажете, благородный адмирал, -- ответил Кирел. -- Когда так
много происходит в этой странной окружающей среде, с бешеной быстротой,
держать в голове этот базовый факт временами трудно.
-- Частенько трудно, вы имеете в виду, -- сказал Атвар. -- Помимо битв,
здесь достаточно поводов для раздражения. Тот исследователь-психолог,
которого похитили Большие Уроды в Китае... Они объявили, что это наказание
за его изучение только что появившегося тосевита. Как мы можем вести
исследования Больших Уродов, если наши самцы опасаются мести за каждое
исследование, которое они проводят?
-- Это -- проблема, благородный адмирал, и, боюсь, дальше она будет еще
острее, -- сказал Кирел. -- С тех пор как мы получили сообщение об этом
похищении, еще двое самцов остановили исследовательские проекты на
поверхности Тосев-3. Один из них переправил предметы исследования на
звездный корабль, находящийся на орбите, что может привести к искажению
результатов работы. Второй тоже вернулся на корабль, но остановил свой
проект. Он говорит, что ищет новую тему. -- Кирел, изображая иронию,
подвигал глазом.
-- Я не слышал об этом, -- сердито сказал Атвар. -- Надо усиленно
воодушевить его вернуться к работе: при необходимости вытолкните его из люка
воздушного шлюза этого корабля.
Рот Кирела открылся от смеха.
-- Будет исполнено, благородный адмирал.
-- Благородный адмирал!
На экране коммуникатора, установленною в кабинете главнокомандующего,
внезапно появилось изображение Пшинга, адъютанта адмирала. Этот экран
предназначался для передачи чрезвычайных сообщений. Атвар и Кирел посмотрели
друг на друга. Как они только что отмечали, все завоевание Тосев-3 состояло
из сплошных чрезвычайных происшествий.
-- Продолжайте, адъютант. Что случилось на этот раз?
Он сам удивился тому, как холодно задал этот вопрос.
Когда вся жизнь состоит из чрезвычайных происшествий, каждый из
отдельных кризисов кажется не таким уж огромным.
-- Благородный адмирал, я сожалею о необходимости донести о тосевитском
ядерном взрыве возле прибрежного города, носящего местное название Саратов.
-- Через мгновение, повернув глаз, чтобы свериться с картой, он добавил: --
Этот Саратов находится внутри не-империи СССР. Сообщается, что повреждения
должны быть значительными.
Атвар и Кирел снова посмотрели друг на друга, на этот раз в ужасе. Они
и их аналитики были уверены, что СССР смог провести один ядерный взрыв,
только используя радиоактивные вещества, похищенные у Расы, а его технология
слишком отстала, чтобы они смогли создать свою собственную бомбу, подобно
Германии и Соединенным Штатам. И снова аналитики знали не все, что
следовало.
Атвар с трудом проговорил:
-- Я подтверждаю прием сообщения, адъютант. Я начинаю процесс выбора
советской местности, которая должна стать объектом возмездия. И после этого,
-- он со значением посмотрел на Кирела, намекая на дискуссию, только что
прошедшую между ними, -- что ж, после этого я просто не знаю, что нам делать
дальше.
Пишущая машинка выбивала очереди букв, как пулемет: клак-клак-клак,
клак-клак-клак, клакети-клак. В конце строки колокольчик звякал. Барбара
Игер нажала на рычаг -- и каретка с масляным шуршанием вернулась на место,
чтобы начать новую строку.
Она посмотрела с неудовольствием на свою работу.
-- Лента слишком стерлась, -- сказала она. -- Надо, чтобы они раздобыли
несколько свежих.
-- Теперь нелегко найти все, чего ни хватишься, -- ответил Сэм Игер. --
Я слышал, что одну из наших поисковых групп обстреляли.
-- Я что-то об этом слышала, но немного, -- сказала Барбара. -- Это
сделали ящеры?
Сэм покачал головой.
-- Ящеры тут ни при чем. Там была группа из Литтл-Рока, они искали то
же самое, что и наши ребята. Сейчас всего этого попадается все меньше и
меньше, и последнее время мало что можно добыть, не оказавшись перед дулом
оружия. Думаю, дальше будет и хуже.
-- Я знаю, -- ответила Барбара. -- Нас так возбуждают разные мелочи
вроде табака, который ты купил... -- Она покачала головой. -- Я вот думаю,
много людей умерло голодной смертью из-за того, что зерно не посеяли, или
ничего не выросло, или его не смогли доставить с ферм в город?
-- Много, -- сказал Сэм. -- Помнишь гот маленький городок в Миннесоте,
который мы проезжали на пути в Денвер? Там уже тогда начали забивать скот,
потому что не могли обеспечить его кормом, -- а ведь это было полтора года
назад. Скоро и Денвер начнет голодать. Ящеры смели окрестные фермы, а также
разрушили железные дороги. Еще один пункт им в счет, если мы когда-нибудь
его сможем предъявить.
-- Нам повезло, что мы находимся там, где мы есть, -- согласилась
Барбара. -- Если дело дойдет до голода, нам повезет, если мы вообще будем
находиться хоть где-нибудь.
-- Да. -- Сэм постучал ногтем по переднему зубу. -- Мне еще везет, что
я до сих пор не сломал мост. -- Он суеверно постучал кулаком о деревянный
стол, за которым сидела Барбара. -- А если сломаю, дантист потратит уйму
времени, чтобы его починить. -- Он пожал плечами. -- Еще один повод для
беспокойства.
-- У нас их предостаточно. -- Барбара показала на лист бумаги,
вложенный в машинку. -- Я займусь отчетом, дорогой, ведь никто не прочитает
его, пока я не закончу. -- Она, поколебавшись, спросила: -- А как себя
чувствует доктор Годдард, Сэм? Когда он давал мне печатать эти материалы,
голос у него был такой же слабый и унылый, как буквы, которые получаются с
этой ленты.
Сэм так бы не выразился, но ведь он не изучал литературу в колледже. Он
ответил, медленно подбирая слова:
-- Я заметил это некоторое время назад, дорогая, и мне кажется, ему
стало хуже. Я знаю, он встречался здесь с докторами, но что они ему сказали,
неизвестно. Я вряд ли могу спросить его об этом, и он мне ничего не скажет.
-- Он поправил себя: -- Беру слова назад. Он сказал такую вещь: "Мы ушли уже
так далеко, что ни один человек сам по себе особого значения не имеет".
-- Мне не нравится, как это прозвучало, -- сказала Барбара.
-- Мне тоже -- после того, как я вспомнил, -- сказал Сэм. -- Прозвучало
-- как это называется -- как в некрологе, который человек пишет сам себе,
так ведь? -- Барбара кивнула. -- Дело в том, что он прав. Очень много
разработок по ракетам сделано им -- или же украдено нами у ящеров, или
заимствовано у немцев. И при необходимости мы сможем двигаться вперед и без
него, хотя это будет не так быстро или не так прямолинейно.
Барбара снова кивнула. Она похлопала по отчету, который печатала.
-- Ты знаешь, что здесь? Он пытается увеличить масштаб -- такой термин
он применяет, -- разработать настолько большие и мощные ракеты, чтобы они
могли нести атомную бомбу вместо взрывчатки или что у них там сейчас.
-- Да, он говорил со мной об этом, -- сказал Сэм, -- Он думает, что и
нацисты работают над таким же проектом, и что они нас опережают. Я не думаю,
что у них есть ящер, который знает так же много, как наш Весстил, но их люди
делали ракеты, гораздо большие, чем доктор Годдард, еще до нашествия ящеров.
Мы делаем, что можем, вот и все. Можем мы сделать что-то большее?
-- Нет.
Барбара напечатала еще несколько предложений, дошла до конца страницы.
Вместо того чтобы продолжить отчет, она посмотрела на Сэма прищуренными
глазами:
-- Ты помнишь? Именно этим я занималась в Чикаго, когда мы встретились
в первый раз. Ты привез Ульхасса и Ристина для беседы с доктором Баркеттом.
С тех пор многое поменялось.
-- Кое-что поменялось, -- согласился Сэм.
Тогда она была замужем за Йенсом Ларссеном, хотя ей казалось, что он
мертв: в противном случае они с Сэмом никогда не сошлись бы, не родился бы
Джонатан, не произошло бы многого другого. Он не разбирался в литературе и
не умел витиевато говорить; он не знал, как изложить свои мысли в изящной
манере. Он сказал только:
-- Прошло столько времени... Ты попросила у меня сигарету. У меня для
тебя есть одна.
Она улыбнулась.
-- Верно. Не прошло и двух лет. -- Она наморщила нос, глядя в его
сторону. -- Я чувствую себя сейчас, как в средние века, -- но это только
из-за Джонатана.
-- Я рад, что он уже достаточно подрос и теперь ты, не беспокоясь,
можешь днем отдавать его на попечение мамми, -- сказал Сэм. -- Ты стала
посвободнее, так что ты можешь заниматься делом и снова чувствовать себя
полезной. Я знаю, что ты так думаешь.
-- Да, это так, -- сказала Барбара без особой радости. Она понизила
голос -- Я хотела бы, чтобы ты не называл так цветных женщин.
-- Что? Мамми? -- Сэм почесал голову. -- Но они же и есть мамми.
-- Я знаю это, но это звучит так... -- Барбара не была Барбарой, если
бы не нашла подходящее слово. -- Antebellum [Время, предшествующее
Гражданской войне в США 1861-1865 гг. -- Прим. перев.]. Словно мы оказались
на плантациях, где работают негры и поют свои спиричуэлс, а добрые хозяева
сидят, попивая мятную водку, и даже не подозревают, что вся их социальная
система больна и неправильна. Не по этой ли причине ящеры дали оружие
цветным, ожидая, что те начнут воевать с Соединенными Штатами?
-- Они убедились, что так делать не стоит, -- сказал Сэм.
-- Да, некоторые негры взбунтовались, -- согласилась Барбара, -- но я
бы побилась об заклад, что не все. И ящеры не стали бы даже пробовать, если
бы знали, что из этого ничего не выйдет. А как обращаются с цветными
здесь... Помнишь, в кинохронике, еще до того, как мы вступили в войну,
показывали счастливых украинских крестьян, встречавших нацистов с цветами,
потому что они освободили их от коммунизма?
-- Ух-х, -- сказал Сэм. -- Они очень быстро поняли, что их следует
ругать, не так ли?
-- Не в этом дело, -- настаивала Барбара. -- Дело в том, что негры
могли бы приветствовать ящеров точно так же.
-- Многие из них так и делали. -- Сэм предупреждающе поднял руку, чтобы
Барбара его не перебивала. -- Я знаю, что ты имеешь в виду, дорогая. Многие
из них на это не пошли. Ситуация стала бы куда хуже, если бы это случилось,
тут двух мнений нет.
-- Теперь ты понял, -- просияв, сказала Барбара.
В ее голосе всегда чувствовалась радость в таких случаях, радость и
легкое удивление: пусть у него не было достойного образования, но он далеко
не тупой. Он не думал, что она знает, какие чувства выдает ее голос, и не
собирался спрашивать. Он был просто доволен тем, что может приблизиться к ее
уровню.
-- Другая сторона медали -- это я о цветных женщинах, и я не буду
называть их "мамми", если ты этого не хочешь, -- но они не могут делать
такую работу, какую делаешь ты. Поскольку они на нашей стороне, разве мы не
должны обеспечить их работой, которую они в состоянии делать, чтобы
остальные могли заняться делами, которые цветные делать не могут?
-- Это нечестно, -- сказала Барбара.
Она сделала паузу и задумалась. Ее пальцы легко прошлись по клавиатуре
машинки, поднимая печатающие рычажки, но не ударяя ими по бумаге. Наконец
она сказала:
-- Это может быть нечестно, но, полагаю, это практично.
И она снова принялась печатать.
Сэм чувствовал себя так, словно в бейсболе сделал выигрышный дубль в
девятке. Он нечасто добивался согласия в споре с Барбарой. Он ласково
прикоснулся к ее плечу. Она мимолетно улыбнулась. Шум машинки не прерывался.
* * *
Лю Хань держала в руках автомат, словно маленькую Лю Мэй. Она знала,
что делать, если Томалсс шагнет к ней: направить автомат на него и нажать
спусковой крючок. Несколько пуль остановят его.
По словам Нье Хо-Т'инга, автомат был германского производства.
-- Фашисты продали его гоминьдану, а мы его освободили, -- сказал он.
-- Точно так же мы освободим весь мир не только от фашистов и реакционеров,
но и от чуждых агрессивных чешуйчатых дьяволов.
На словах это звучало просто. Отомстить Томалссу тоже казалось просто,
когда она внесла предложение в центральный комитет. И действительно,
схватить его в Кантоне оказалось несложно: как она и предсказывала, он
вернулся в Китай, чтобы отнять ребенка у еще одной бедной женщины. А вот
доставить пленника в Пекин так, чтобы остальные чешуйчатые дьяволы не смогли
бы его освободить, было не так-то просто.
Народно-освободительная армия справилась и с этим.
И вот теперь он находился здесь, в хибарке хутуна неподалеку от
общежития, в котором жили Лю Хань и ее дочь. В сущности, он поступил в ее
полное распоряжение, и она могла делать с ним, что хотела. Как она мечтала
об этом, когда томилась в руках маленьких чешуйчатых дьяволов! Теперь мечта
ее стала реальностью.
Она открыла дверь хибарки. Некоторые прохожие, из тех, кто продавал или
покупал что-то на улице, были ее соучастниками, но она не знала точно, кто
именно. Они помогут ей и не допустят, чтобы Томалсс сбежал, и не позволят
никому освободить его.
Она закрыла за собой дверь хибарки. Внутри, недоступная постороннему
взгляду, находилась еще одна, более прочная дверь. Она открыла и ее, вошла в
тускло освещенную комнатушку.
-- Благородная госпожа! -- зашипел Томалсс на своем языке, затем
продолжил на китайском: -- Вы уже решили мою судьбу?
-- Возможно, мне следует подержать вас здесь длительное время, --
задумчиво проговорила Лю Хань, -- и посмотреть, чему люди смогут научиться у
вас, маленьких чешуйчатых дьяволов. Это был бы неплохой проект, вы согласны,
Томалсс?
-- Это был бы неплохой проект для вас. Вы многому бы научились, --
согласился Томалсс.
На мгновение Лю Хань подумала, что он не понял ее иронии. Но ошиблась.
-- Я не думаю, что вы поступите так. Я думаю, вместо этого вы будете
мучить меня.
-- Чтобы узнать, какую жажду, какой голод, какую боль вы сможете
выдержать, -- это был бы интересный проект, вы согласны, Томалсс? -- Лю Хань
промурлыкала эти слова так, словно кошка, обхаживающая мышь.
Она надеялась, что Томалсс будет унижаться и просить. А он смотрел на
нее с выражением, которое благодаря более долгому, чем ей хотелось бы,
общению с чешуйчатыми дьяволами она истолковала как печальное.
-- Мы, Раса, никогда не обращались так с вами, когда вы были в наших
когтях, -- сказал он.
-- Нет? -- воскликнула Лю Хань. Она в изумлении уставилась на
чешуйчатого дьявола. -- Вы не отняли у меня ребенка и не разбили мое сердце?
-- Детеныш не пострадал ни в чем -- наоборот, -- ответил Томалсс. -- И,
к нашему сожалению, мы не поняли в полной мере связи поколений у вас,
тосевитов. Это одна из вещей, которые мы узнали -- частично от вас самой.
Лю Хань поняла смысл его ответа. Он не думал, что проявляет
бессмысленную жестокость, -- хотя это и не означало, что он не был жесток.
-- Вы, чешуйчатые дьяволы, забрали меня в самолет, который никогда не
садится на землю, и там превратили меня в распутную женщину. -- Лю Хань была
готова пристрелить его за одно это. -- Ложись с этим или не будешь есть.
Затем надо лечь с тем, с другим, с третьим. Все время вы наблюдали за мной и
снимали фильм. И теперь говорите, что не причинили мне зла?
-- Вы должны понять, -- сказал Томалсс, -- у нас спаривание -- это
спаривание. Когда наступает сезон спаривания, самец и самка находят друг
друга, и через некоторое время самка откладывает яйца. Для работевлян -- еще
одной расы, которой мы управляем, -- то же самое: спаривание значит
спаривание. Для халессианцев -- еще одной расы, находящейся под нашим
управлением, -- спаривание значит спаривание. Откуда мы могли знать, что для
вас, тосевитов, спаривание это не просто спаривание? Да, мы узнали это. Мы
узнали это из того, что делали с такими, как вы, и тосевитскими самцами,
которых мы поднимали на наш корабль. Прежде нам было неизвестно. У нас и
сейчас есть проблемы в понимании того, какие вы.
Лю Хань смотрела на него, как через пропасть, разделяющую Китай и то
странное место, которое чешуйчатые дьяволы называют "Родиной". Впервые она
поняла, что Томалсс и остальные дьяволы действовали без злого умысла. Они
пытались изучить людей и делали это, со своей точки зрения, как можно лучше.
Ее ярость поутихла. Но не улеглась.
-- Вы эксплуатировали нас, -- сказала она, используя ходкое в
пропаганде Народно-освободительной армии слово. Оно подошло впору, как
башмак, сшитый руками мастера. -- Из-за того, что мы были слабыми, из-за
того, что мы не могли сопротивляться, вы схватили нас и заставили делать то,
что хотели. Вы понимаете, что это неправильно и безнравственно?
-- Это то, что сильный делает со слабым, -- сказал Томалсс,
сгорбившись: для маленьких дьяволов это было все равно что пожать плечами.
Он повернул к ней оба глаза. -- Теперь я слабый, а вы -- сильная. Вы поймали
меня, привели сюда и говорите, что будете использовать для экспериментов.
Разве это не эксплуатация меня? Это неправильно и безнравственно или нет?
Маленький дьявол был умен. На все, что говорила Лю Хань, он имел ответ.
Что бы она ни сказала, он находил способ так вывернуть ее слова, что они
оборачивались против нее. Ей захотелось посмотреть на его дискуссию с
подкованным в диалектике Нье Хо-Т'ингом. Но у Лю Хань был аргумент, которому
Томалсс ничего не мог противопоставить: ее автомат.
-- Это месть, -- сказала она.
-- Ах! -- Томалсс наклонил голову. -- Пусть духи Императоров прошлого
презреют мой дух.
Он тихо ждал, когда она прикончит его. Конечно, она видела войну и ее
кровавые последствия. Это она придумала, как устраивать взрывы, которые
убивали, ранили, увечили маленьких чешуйчатых дьяволов, -- и чем больше, тем
лучше. Но лично она никого не убивала, тем более на таком близком
расстоянии. Это, как она поняла, оказалось очень непростым делом.
Рассердившись на Томалсса, заставившего ее смотреть на него, как на
человека, а не уродливого чужака, рассердившись на себя за то, что Нье
расценил бы это как слабость, она повернулась и вышла из комнаты. Захлопнув
внутреннюю дверь, закрыла ее на замок, затем проделала то же самое с внешней
дверью.
Она направилась обратно к общежитию. Ей не хотелось быть вдали от Лю
Мэй дольше, чем этого требовала абсолютная необходимость. С каждым новым
китайским словом, которое ребенок обучался понимать и произносить, она
побеждала Томалсса снова и снова.
За ней увязался какой-то мужчина:
-- Эй, прекрасная сестрица. Я дам тебе пять мексиканских долларов,
настоящее серебро, -- если ты покажешь мне свое тело.
Он приглашающее звякал монетами, но в голосе слышалась злоба.
Лю Хань быстро обернулась и направила автомат ему в лицо.
-- Я покажу тебе это, -- прорычала она.
Мужчина вскрикнул, как испуганная утка. Он повернулся и пустился
бежать, шлепая сандалиями по хутуну. Лю Хань устало пошла своей дорогой.
Томалсс был меньше ростом, чем эксплуататоры-люди, которых знала Лю Хань
(она вспомнила аптекаря Юй Мина, который пользовался ею так же безжалостно,
как другие мужчины, которых на свою беду она встретила в самолете, который
никогда не садится на землю, исключая одного только Бобби Фьоре). Томалсс
был чешуйчатым, он был более уродливым, он был -- или должен был быть --
более сильным физически.
Но был ли он на самом деле хуже?
-- Я просто не знаю, -- сказала она, вздохнув, и пошла дальше.
* * *
-- Что за мерзкая страна! -- воскликнул Бэгнолл, осмотревшись по
сторонам.
На своем трудном пути на север из Пскова они с Кеном Эмбри и Джеромом
Джоунзом уже миновали озера Псковское и Чудское, оставшиеся слева и сзади.
Они расплатились колбасой со стариком, который переправил их на лодке
через реку Нарва. Теперь они двигались на северо-запад, в сторону
балтийского берега.
К востоку от Пскова от лесов сохранилось одно воспоминание. Кругом
лежала плоская равнина, плоская настолько, что Бэгнолл не мог понять, как
озера и реки не выплескиваются из берегов. Эмбри думал о том же.
-- Должно быть, кто-то прошелся по этим местам утюгом, -- сказал он.
-- Да уж, кто-то, -- ответил Джоунз. -- Мать-природа, вот кто. В
последний ледниковый период, бог знает сколько тысячелетий назад, льды дошли
аж до этих мест, затем отступили. Они смяли землю, как человек придавливает
лист растения камнем через доску.
-- Меня это как-то не беспокоит, -- сказал Бэгнолл. -- Мне это
неинтересно, и все тут. Она не только плоская, она еще и бесцветная. Вся
зелень, которая должна быть яркой, здесь бледная. Не думаю, что это из-за
солнца, хотя теперь оно в небе почти двадцать четыре часа в сутки.
-- Мы находимся не очень высоко над уровнем моря, -- сказал Эмбри. --
Интересно, насколько эти земли засолены? Может, это и влияет на растения?
-- Хорошая мысль, -- сказал Бэгнолл. -- Приятно объяснять все, что
попадается на глаза. Не знаю, правильно ли твое объяснение, но придется с
ним согласиться как с необходимостью войти в первый попавшийся, даже самый
неудобный порт, если разразилась буря, так ведь?
-- Кстати, о портах... -- Эмбри вынул карту. -- Лучшее, что я могу
сказать, -- мы примерно в десяти милях от берега. -- Он показал на
северо-запад. -- Вот тот большой столб дыма, думаю, поднимается от большого
промышленного центра Кохтла-Ярве.
Его ирония относилась не к названию местности -- просто он принял точку
на карте, обозначавшую город, за мушиный след.
-- Похоже, там что-то творится, -- заметил Джером Джоунз, -- если
только не ящеры нанесли по нему удар.
-- Не думаю, что это -- из-за военных разрушений, -- сказал Кен Эмбри.
-- Дым поднимается ровно и постоянно. Мы наблюдали его весь прошедший день и
еще полдня, и он вряд ли менялся. Думаю, что русские, или немцы, или еще
кто-то, кто контролирует город, жгут там всякую дрянь, чтобы не дать ящерам
увидеть с неба, что там внизу.
-- Вы все не о том, -- сказал Бэгнолл. -- Главный вопрос -- где нам
легче добыть судно? Заявиться прямиком в этот Кохтла-Ярве или же лучше
поискать счастья где-нибудь поблизости на Балтике в рыбацкой деревушке?
-- И что лучше, иметь дело с солдатами или с крестьянами? -- спросил
Джоунз.
-- Если мы попробуем иметь дело с крестьянами и что-то пойдет не так,
мы переключимся на солдат, -- рассудил Бэгнолл, -- Но если не получится с
солдатами, то все может кончиться плохо.
Его товарищи поразмыслили и почти одновременно кивнули в знак согласия.
-- Правильное решение, Джордж, -- сказал Эмбри.
-- Я чувствую себя несколько библейски, выбирая направление по столбу
дыма, -- сказал Джером Джоунз, -- хотя мы и идем не на него, а в сторону.
-- Вперед, -- сказал Бэгнолл, сориентировавшись так, чтобы выйти к
балтийскому берегу восточнее Кохтла-Ярве.
Бэгнолла поражали советские просторы. Он подумал, что сибирские степи
должны быть еще больше и пустыннее, но и в Эстонии земли было немало, можно
было всю и не возделывать. Это удивляло его. Пройдя мимо фермы, окруженной
полями, англичане вскоре обнаруживали, что дальше идет необработанная земля,
которая тянется до следующей фермы.
Хотя они приближались к балтийскому берегу, фермы чаще попадаться не
стали. Бэгнолл начал беспокоиться, смогут ли они найти рыбацкую деревню,
когда дойдут до берега.
Преимущество путешествий в это время года -- можно идти столько,
насколько хватает сил. На широте, соответствующей примерно широте
Ленинграда, солнце заходило не более чем на два часа и не уходило глубоко за
горизонт, создавая непрекращающиеся сумерки. Даже в полночь северное небо
ярко сияло, и пейзаж был пронизан молочным светом. Как сказал Кен Эмбри в
тот вечер:
-- Теперь местность совсем не уродливая -- напоминает неяркую провинцию
страны сказок, не так ли?
В этом исходящем из ниоткуда свете без теней было трудно определять
расстояние. Дом и сарай, до которых вроде бы оставалась целая миля, через
две минуты неожиданно оказались прямо перед носом.
-- Попросим убежища на ночь? -- спросил Бэгнолл. -- Я бы лучше поспал в
соломе, чем разворачивать одеяло на земле, где оно наверняка промокнет.
Они приблизились к ферме, не скрываясь. Пропуск, выданный Александром
Германом, им пришлось предъявить всего пару раз: крестьяне вопреки их
волнениям в целом были настроены к ним дружественно. Но когда они находились
от фермы примерно в четверти мили, по оценке Бэгнолла, кто-то внутри
закричал.
Бэгнолл нахмурился.
-- Это не по-немецки. Ты что-нибудь понял, Джоунз?
Джером покачал головой.
-- Это и не по-русски. Могу поклясться. Но что это такое, я не знаю.
Крик повторился, и снова так же неразборчиво.
-- Может быть, это эстонский? -- задумчиво предположил Джоунз. -- Я и
не думал, что кто-нибудь вообще говорит по-эстонски, включая самих эстонцев.
-- Мы друзья! -- закричал Бэгнолл в сторону дома, сначала на
английском, затем на немецком и, наконец, на русском. Если бы он знал, как
сказать это по-эстонски, не преминул бы. Он сделал пару шагов вперед.
Кто бы ни находился в доме, но незваных гостей он не жаловал. Над
головой Бэгнолла свистнула пуля -- прежде чем он услышал выстрел, вспышку
которого увидел в окне. Расстояние было небольшое, и промах стрелка,
вероятно, был вызван обманувшим его призрачным ночным светом.
Не будучи пехотинцем, Бэгнолл, однако, достаточно участвовал в боях,
чтобы сообразить: когда в тебя стреляют, надо броситься на землю. То же
сделал и Кен Эмбри. Они одновременно закричали Джоунзу:
-- Ложись, дурак!
Он стоял, разинув рот, пока не пронеслась еще одна пуля, на этот раз
еще ближе, чем первая. И только после этого он тоже растянулся на животе.
Второй выстрел раздался не из дома, а из сарая. Затем к двум стрелкам
присоединился третий -- он открыл огонь из другого окна дома.
-- Куда это мы забрели? -- спросил Бэгнолл, прячась в кустах. -- На
ежегодное заседание эстонской лиги "Мы ненавидим всех, кто не мы"?
-- Стоит ли удивляться, -- ответил Эмбри из-за своего укрытия. -- Если
это эстонцы, то они, должно быть, приняли нас за нацистов, или за
большевиков, или за другие низшие формы жизни. Откроем ответный огонь?
-- Я бы предпочел отступить и обойти, -- сказал Бэгнолл.
В этот момент двое с винтовками выбежали из сарая и. залегли за двумя
невысокими деревцами. Джордж снял с предохранителя винтовку.
-- Беру свои слова обратно. Если они собираются охотиться на нас, за
эту привилегию им придется заплатить.
Он прижал к плечу приклад германской винтовки "маузер" с неудобным
затвором.
Прежде чем он успел выстрелить, из задней двери дома выбежали еще трое,
направляясь к отдельно стоящей постройке слева.
Кен Эмбри выстрелил в одного, но свет был обманчивым не только для
эстонцев, но и для него. Все трое невредимыми скрылись в постройке и открыли
огонь по летчикам. Несколько пуль ударилось в землю так близко от Бэгнолла,
что он занервничал.
-- Ничего себе положеньице, -- протяжно проговорил Джером Джоунз.
"Мерзкое дело, -- подумал Бэгнолл -- я просто оцепенел". Слишком много
эстонцев, и они, очевидно, не собираются останавливаться.
Двое стрелков в доме и один в сарае продолжали стрелять по англичанам,
не давая им поднять голову. Под прикрытием огня первые двое выбежавших
эстонцев стали пробираться направо, к высокому кустарнику.
Бэгнолл дважды выстрелил в них, ничего не добившись.
-- Хотят обойти нас с фланга, -- в унынии сказал он.
Затем заговорила еще одна винтовка -- сзади и справа. Один из бегущих
уронил оружие и упал, как подкошенный. Неизвестная винтовка рявкнула еще раз
-- второй бегущий тоже повалился на землю с криком боли, разнесшимся над
плоской травянистой равниной.
Он попытался уползти и скрыться, но Бэгнолл дважды выстрелил в него.
Должно быть, одна из пуль попала в цель: он затих и больше не двигался.
Эстонец, прятавшийся за постройкой, высунулся, чтобы выстрелить. Но
стрелок, стрелявший откуда-то сзади, подстрелил и его. Эстонец повалился. Он
выпустил из рук винтовку, Бэгнолл видел, куда она упала.
-- У нас есть друг, -- сказал он -- Интересно, немец это или русский?
Он оглянулся назад, но никого не увидел. Человек в доме, стрелявший
первым -- или, может быть, кто-то другой, вставший у того же окна, --
выстрелил снова. В этот же самый момент меткий стрелок за спиной у Бэгнолла
тоже выстрелил. Из окна свесилась рука, затем втянулась внутрь.
-- Кто бы это ни был, он -- настоящее чудо, -- сказал Эмбри.
Очевидно, что и эстонцы пришли к тому же выводу. Один из них замахал
белой тряпкой.
-- У нас раненый, -- закричал он на немецком со странным акцентом. --
Вы разрешите нам унести его в дом?
-- Давайте, -- ответил Бэгнолл, хотя сначала заколебался. -- А вы нас
пропустите? Мы не хотели захватывать это место с боем.
-- Проходите, -- сказал эстонец. -- Может быть, вы не те, за кого мы
вас принимали.
-- Может, стоило спросить, прежде чем пробовать оторвать нам головы, --
сказал Бэгнолл. -- Идите, но помните: мы вас держим на прицеле -- и наш друг
тоже.
Продолжая размахивать тряпкой, эстонец поднял винтовку своего товарища.
Он и его уцелевший сотоварищ поволокли раненого в дом. Судя по тому, как он
обвис у них на руках, ранен он был тяжело.
В то же время, не особенно доверяя заключенному перемирию, Бэгнолл и
его товарищи стали отползать назад. Но эстонцы в доме и в сарае, очевидно,
утихомирились. Бэгнолл понял, что отползает туда, где находится стрелок,
выручивший их из беды.
-- Danke schon [Большое спасибо (нем.). -- Прим. перев.], -- тихо
проговорил он и затем на всякий случай добавил по-русски: -- Спасибо.
-- Не за что. Привет! -- ответили ему по-русски.
Второй раз он угадал правильно. Но услышав голос спасителя, он отвесил
челюсть: контральто вместо баритона.
Джером Джоунз взвизгнул как щенок, хвост которому прищемило дверью.
-- Татьяна! -- воскликнул он. -- Что ты тут делаешь?
-- Теперь это не имеет значения, -- ответила девушка. -- Сначала
обойдем дом, набитый антисоветскими реакционерами, раз уж вы, англичане, так
глупо уступили его им.
-- Откуда ты знаешь, что это -- не антифашистские патриоты? -- спросил
Эмбри на смеси немецкого и русского языков.
Татьяна Пирогова неодобрительно фыркнула.
-- Раз они -- эстонцы, значит, антисоветчики.
С ее точки зрения, это был, похоже, закон природы. Бэгнолл не склонен
был ссориться с нею, в особенности после того, как она их выручила.
Больше она ничего не сказала. Она повела английских летчиков вокруг
дома по большому кругу. Они двигались медленно: никто не решался выпрямиться
в полный рост, опасаясь стрельбы. Но дом и сарай не обнаруживали признаков
жизни, словно там никого не было.
Наконец настороженно, как кошка, Татьяна поднялась на ноги. Англичане,
облегченно вздохнув, последовали ее примеру.
-- Как же вы наткнулись на нас в самый подходящий момент? -- спросил
Бэгнолл.
Она пожала плечами.
-- Я вышла через два дня после вас. Вы двигались не очень быстро. Вот
так я и оказалась здесь. Через полчасика, может и скорее, я окликнула бы
вас, но тут началась стрельба.
-- А как насчет Георга Шульца? -- нерешительно спросил Джером.
Она снова пожала плечами с великолепным безразличием.
-- Ранен. Может быть, и убит. Надеюсь, что убит, хотя и не уверена. Он
ведь сильный. -- Она сказала это с недоброжелательным уважением. -- Но он
думал, что может делать со мной, что захочет. Он ошибался.
И она похлопала по стволу винтовки с телескопическим прицелом, чтобы
показать, как сильно он ошибался.
-- Что вы будете делать теперь? -- спросил ее Бэгнолл.
-- Провожу вас до моря, чтобы было безопасно, -- ответила она. -- А
потом? Кто знает? Полагаю, что вернусь и убью еще сколько-то немцев под
Псковом.
-- Благодарю вас за то, что вы пошли так далеко, чтобы присмотреть за
нами, -- сказал Бэгнолл.
Странно было думать о Татьяне Пироговой, великолепном снайпере (раньше
он сомневался в этом, но стычка возле фермы доказала ее снайперский талант),
как о курице-наседке, но похоже, что она обладала материнским инстинктом.
Бэгнолл смутился, но все-таки сказал:
-- Если мы раздобудем лодку, то приглашаем вас -- настоятельно
приглашаем -- отправиться с нами в Англию.
Он боялся, что она рассердится: такое с ней случалось частенько. Вместо
этого на лице ее отразились досада и -- никогда за ней такого не водилось --
смущение. Наконец она ответила:
-- Вы возвращаетесь на свою родину, на свою землю-мать. Для вас это
правильно. Но это, -- она топнула ногой о бледную зеленую траву, -- это моя
родина. Я останусь здесь и буду бороться за нее.
Эстонец, которого она подстрелила, думал, что эта земля является частью
его родины, а не ее. Немцы в Кохтла-Ярве, несомненно, думали, что это --
продолжение Фатерланда. Так или иначе, он понял чувства Татьяны.
Он кивнул на запад, туда, где постоянно и без перерывов поднимался дым.
-- Что они там делают такое, что они скрывают от ящеров?
-- Там каким-то образом выдавливают нефть из скал, -- ответила Татьяна.
-- Мы делали это в течение многих лет, мы, а затем реакционные эстонские
сепаратисты. Наверное, фашистам заводы достались в рабочем состоянии, или же
они отремонтировали их.
Бэгнолл кивнул. Это имело смысл. Нефтяные продукты в эти дни были
вдвойне бесценны. Немцы гонялись за ними повсюду.
-- Идемте, -- сказала Татьяна, не думая больше о немцах.
Она шла широким раскачивающимся шагом, что само по себе отвлекало ее и
до некоторой степени объясняло шпильку насчет того, что летчики шли
медленно.
Через пару часов они достигли балтийского берега. Он выглядел не
особенно впечатляюще: серые волны катились, наступая и отступая от покрытого
грязью берета. И тем не менее Джером Джоунз закричал, изображая воинов
Ксенофонта, увидевших море после похода:
-- Таласса! Таласса!
Бэгнолл и Эмбри улыбнулись, узнав слово. Татьяна только пожата плечами.
Может быть, она подумала, что это английский. Для нее этот язык был таким же
чуждым, как греческий.
Примерно через полмили к западу у моря обнаружилась деревушка. Бэгнолл
испытал прилив радости, увидев пару рыбачьих лодок на берегу. Остальные,
несмотря на ранний час, уже вышли в море.
Деревушка встретила летчиков и Татьяну лаем собак. Рыбаки и их жены
вышли из дверей посмотреть на пришельцев. Выражение их лиц варьировало от
безразличия до враждебности. Бэгнолл сказал по-немецки:
-- Мы -- трое английских летчиков. Мы застряли в России больше чем на
год. Мы хотим вернуться домой. Может кто-нибудь из вас переправить нас в
Финляндию? Мы не располагаем многим, но заплатим, чем сможем.
-- Англичане? -- спросил один из рыбаков, с таким же странным акцентом,
как эстонские стрелки. Враждебность исчезла. -- Я возьму вас.
Через мгновение кто-то еще предъявил свои права на объявившихся
почетных пассажиров.
-- Не ожидал, что из-за нас начнется ссора, -- пробормотал Бэгнолл,
когда жители деревни заспорили. Победил тот, кто первым согласился везти их.
Он убежал в дом, затем вернулся в сапогах и в вязаной шерстяной шапке и
повел всех к своей лодке.
Татьяна последовала за ними. На прощанье она по очереди расцеловала
летчиков. Жители деревни оживленно прокомментировали это на своем непонятном
языке. Двое или трое мужчин захохотали. Это было вполне понятно. А две
женщины громко презрительно фыркнули.
-- Вы уверены, что не поедете с нами? -- спросил Бэгнолл.
Татьяна снова отрицательно покачала головой. Она повернулась и, не
оглядываясь, зашагала на юг. Она знала, что ей полагается делать, и
понимала, какие последствия будет иметь ослушание.
-- Идемте, -- сказал рыбак.
Летчики поднялись на борт вместе с ним. Остальные жители деревни
столкнули лодку в море. Рыбак открыл дверцу топки паровой машины и принялся
бросать в топку куски дерева, торфа и высушенного конского навоза. Покачав
головой, он пояснил:
-- Надо бы угля. Но нету. Приходится топить тем, что есть.
-- Мы знаем несколько куплетов этой песни, -- сказал Бэгнолл.
Рыбак хмыкнул. Лодка, вероятно, была бы тихоходной и на угле. А на чем
попало она шла еще медленнее, и дым, поднимавшийся из ее трубы, был еще
противнее, чем дым Кохтла-Ярве. Но машина работала. Лодка плыла. Если с
воздуха не свалятся на голову ящеры, то до Финляндии менее дня пути.
* * *
-- О, Ягер, дорогой, -- сказал Отто Скорцени нарочитым фальцетом.
Генрих Ягер удивленно оглянулся: он не слышал, как подошел Скорцени.
Эсэсовец засмеялся:
-- Хватит мечтать об этой твоей русской куколке, удели внимание мне.
Мне от тебя кое-что требуется.
-- Она не куколка, -- сказал Ягер. Скорцени засмеялся еще громче.
Полковник-танкист настаивал: -- Если бы она была куколкой, я бы вряд ли
мечтал о ней.
Эта частичная уступка устроила Скорцени, и он кивнул.
-- Хорошо, пусть так. Но даже если она сама Мадонна, оставь мечты о
ней. Ты знаешь, что наши друзья из дома прислали нам подарок, знаешь?
-- Трудно не узнать, -- согласился Ягер. -- Столько вас, проклятых
эсэсовцев, вокруг, что и пописать негде, и каждая вонючка -- со "шмайссером"
и с таким видом, будто он готов тебя пристрелить. Бьюсь об заклад, что знаю,
что это за подарок.
Он не стал уточнять -- и не потому, что мог ошибиться, а из доведенного
до автоматизма инстинкта безопасности.
-- Наверняка, -- сказал Скорцени. -- А почему бы и нет? Об этом
веществе ты знаешь так же давно, как и я, с того дня под Киевом.
Больше он ничего не сказал, но и не требовалось. На Украине они украли
взрывчатый металл у ящеров.
-- Что ты собираешься делать с... этим? -- настороженно спросил Ягер.
-- У тебя неладно с головой? -- спросил Скорцени. -- Я собираюсь
взорвать жидов в Лодзи и удрать, вот что я собираюсь сделать, а их друзья
ящеры и бедные проклятые поляки окажутся в неподходящее время в неподходящем
месте. -- Он снова захохотал. -- Тут в одном предложении вся история Польши,
не так ли? Бедные проклятые поляки в неподходящем месте в неподходящее
время.
-- Полагаю, у тебя есть на это разрешение? -- сказал Ягер, предполагая
как раз обратное. Если бы кому-то захотелось воспользоваться атомной бомбой
для своих собственных целей, то Отто Скорцени -- именно тот человек, который
сделает это без всякого разрешения.
Но не сейчас. Крупная голова Скорцени закачалась вверх и вниз.
-- Можешь поставить в заклад свою задницу, но оно есть: от рейхсфюрера
СС и от самого фюрера. Оба у меня в портфеле. Хочешь глянуть на интересные
автографы?
-- Ни малейшего желания. -- В определенном смысле Ягер почувствовал
облегчение -- раз Гиммлер и Гитлер подписались, то, по крайней мере,
Скорцени удержится в каких-то рамках... или не выйдет за них больше, чем
обычно. И все же...
-- Поражает меня напрасная трата бомбы. Никакой угрозы из Лодзи не
исходит. Посмотри, что получилось в последний раз, когда ящеры попытались
переправить через город подкрепление нашим врагам: их перехватили и
перемололи.
-- О да, евреи оказали нам чертовскую милость! -- Скорцени закатил
глаза. -- Эти ублюдки были в германской форме, когда напали на ящеров, но за
это их ругать не стоит -- что мы и сделали. В частности, я. Ящеры подкупили
пару поляков со снайперскими винтовками, те подобрались сюда и устроили
охоту на Скорцени. Ящерам очень хотелось мне отплатить.
-- Ты ведь все еще здесь, -- отметил Ягер.
-- Ты заметил, не так ли? -- Скорцени сделал движение, словно целуя его
в щеку. -- Какой же ты умный мальчик. Но оба поляка мертвы. Понадобилось
некоторое время -- и мы с точностью до злотого знаем, сколько им заплатили.
-- Он улыбнулся, показав зубы: возможно, при воспоминании о том, как погибли
поляки. Но затем он помрачнел.
-- Но мертв еще и подполковник Брокельман. Этому несчастному сыну
потаскухи повезло вырасти примерно с меня ростом. Один из поляков снес ему
голову с расстояния в тысячу метров. Исключительно точная стрельба, должен
сказать. Я сделал ему комплимент тем, что вручил ему его указательный палец.
-- Уверен, он очень обрадовался, -- сухо сказал Ягер.
Быть связанным со Скорцени означало быть замешанным в самые грязные
дела, дела, о которых он как командир танкового соединения не должен бы и
думать. Массовые убийства, пытки... Он за все это не расписывался. Но они
входили в меню войны, независимо от того, подписался он под ним или нет.
Зачем уничтожать город, жители которого приносят рейху больше пользы, чем
зла? И достаточно ли для смертною приговора единственной причины: они евреи?
Достаточно ли еще одной причины: они уязвили Скорцени, не дав ему уничтожить
их с первой попытки? Ему требовалось все это обдумать -- и не слишком
затягивать размышления. А пока он спросил:
-- А что должен буду делать я? Какую милость ты имеешь в виду? Ты ведь
знаешь, я никогда не был в Лодзи.
-- О да, я знаю. -- Скорцени потянулся, как тигр, решивший, что он еще
слишком сыт, чтобы снова заняться охотой. -- Если бы ты побывал в Лодзи, то
разговаривал бы с гестапо или с СД [Зихерхайт-Динст -- служба безопасности
(нем.). -- Прим. перев.], а не со мной.
-- Я с ними уже разговаривал, -- Ягер пожал плечами, стараясь не
показать охватившей его тревоги.
-- Я и это знаю, -- ответил Скорцени. -- Но теперь они бы спросили у
тебя побольше -- задавали бы более острые вопросы и использовали более
острые инструменты. Но не беспокойся. Я не хочу, чтобы ты отправился в
Лодзь. -- Тигр, однако, насторожился. -- Я не уверен, что могу доверить тебе
отправиться в Лодзь. От тебя я хочу, чтобы ты устроил отвлекающую атаку и
заставил ящеров смотреть в другую сторону, пока я буду тащиться по дороге с
компанией моих проказников и изображать святого Николая.
-- Завтра сделать то, что ты хочешь, не смогу, -- быстро -- и правдиво
-- ответил Ягер. -- Каждый бой нам обходится дороже, чем ящерам, гораздо
дороже. Ты это знаешь. Именно сейчас мы восполняем потери -- получаем новые
танки, комплектуем экипажи и стараемся восстановить прежний уровень --
точнее, хотя бы приблизиться к нему. Дай мне неделю или десять дней.
Он ожидал, что Скорцени возмутится и потребует, чтобы он был готов
вчера, если не раньше. Но эсэсовец удивил его -- Скорцени много раз удивлял
его -- тем, что сразу согласился.
-- Отлично. Мне тоже надо сделать некоторые приготовления. Да и для
проказников надо подготовить план, как тащить эту чертовски тяжелую корзину.
Я дам тебе знать, когда ты мне понадобишься. -- Он хлопнул Ягера по спине.
-- А теперь можешь вернуться к размышлениям об этой твоей русской -- как она
голышом.
И он пошел прочь с хохотом, переходящим в визг.
-- На кой дьявол все это затевается, командир? -- спросил Гюнтер
Грилльпарцер.
-- Действительно дьявол. -- Ягер посмотрел на наводчика, провожавшего
глазами Скорцени, так, словно он был киногероем. -- Он нашел новый повод для
того, чтобы укокошить еще кое-кого из нас, Гюнтер.
-- Чудесно! -- воскликнул Грилльпарцер с непритворным энтузиазмом,
оставив Ягера размышлять над причудами молодости.
Он закончил перефразированной сентенцией Экклезиаста. "Причуда причуд,
все сущее есть причуда". Это казалось таким же верным описанием реальной
жизни, как и более точные толкования.
* * *
-- Ах, как я рад видеть вас, Вячеслав Михайлович, -- сказал Иосиф
Сталин, когда Молотов вошел в его кремлевский кабинет.
-- И я вас, товарищ генеральный секретарь, -- ответил Молотов.
Такого мурлыкающего тона в голосе Сталина Молотов не слышал уже давно
-- насколько он мог припомнить, даже сразу после взрыва предыдущей советской
атомной бомбы. Последний раз он слышал это мурлыканье, когда Красная Армия
отбросила нацистов от ворот Москвы в конце 1941 года. Оно означало, что
Сталин обдумывает какие-то предстоящие события.
-- Я позволю себе предположить, что вы снова направили ящерам наше
безусловное требование прекратить свою агрессию и немедленно убраться с
территории миролюбивого Советского Союза, -- сказал Сталин. -- Возможно, они
обратят больше внимания на это требование после Саратова
-- Возможно, обратят, Иосиф Виссарионович, -- сказал Молотов.
Ни тот ни другой не упомянули Магнитогорск, который перестал
существовать вскоре после того, как Саратов был превращен в пепел. По
сравнению с ударом, нанесенным ящерам, потеря любого города, даже важного
промышленного центра вроде Магнитогорска, была незначительной. Молотов
продолжил:
-- По крайней мере, они не отвергли наше требование сразу же, как
делали в предыдущих случаях.
-- Если мы когда-нибудь затащим их за стол переговоров, мы побьем их,
-- сказал Сталин. -- Это предсказывает не только диалектика, но и их
поведение на всех предшествующих конференциях. Боюсь, они слишком сильны,
чтобы мы могли изгнать их со всей планеты, но когда мы их вынудим к
переговорам, то освободим от них Советский Союз и его рабочих и крестьян.
-- Мне дали понять, что они получили требование убраться от
правительств Соединенных Штатов и Германии, -- сказал Молотов. -- Поскольку
эти державы также обладают атомным оружием, ящеры должны отнестись к ним с
такой же серьезностью, как к нам
-- Да. -- Сталин набил трубку махоркой и выпустил облако едкого дыма.
-- Для Британии это конец, вы знаете. Если бы Черчилль не был
капиталистическим эксплуататором, я испытывал бы к нему симпатию. Британцы
сделали очень важное дело, изгнав ящеров со своего острова, но чего они
добились в конце концов? Ничего
-- Они могут создать свое собственное атомное оружие, -- сказал
Молотов. -- Недооценка их возможностей себя не окупает.
-- Как это обнаружил, к своему расстройству, Гитлер, -- согласился
Сталин.
Со своей стороны Сталин тоже недооценил Гитлера, но Молотов не стал
заострять внимание на этом. Сталин некоторое время задумчиво посасывал
трубку, затем сказал:
-- Даже если они наделают бомб для себя, что в этом хорошего? Свой
остров они уже спасли и без бомб. Свою империю они не спасут и с бомбами,
потому что не могут доставить их в Африку или в Индию Значит, эти территории
останутся в руках ящеров
-- Это неоспоримо, -- отметил Молотов.
Недооценивать способности Сталина -- значит подвергать себя опасности.
Он всегда был грубым, он мог быть наивным, глуповатым, близоруким. Но когда
он бывал прав, как это частенько случалось, его правота получалась такой
захватывающей, что это возмещало все остальное.
-- Если германские фашисты вынудят ящеров оставить территорию, которую
оккупировали до вторжения инопланетян, будет интересно посмотреть, сколько
стран пожелает вернуться под власть нацистов.
-- Значительная часть оккупированной фашистами земли была нашей, --
сказал Молотов. -- Ящеры оказали нам услугу, изгнав их.
"Ручные" правительства, подчиняющиеся нацистам, существовали на севере
и вблизи румынской границы. Нацистские банды, на ступеньку более
организованные, чем партизаны, по-прежнему хозяйничали на большинстве
территорий, раньше контролировавшихся нацистами. Но эти проблемы были
решаемыми в отличие от смертельной опасности, исходившей вначале от
нацистов, а теперь -- от ящеров.
Сталин был согласен с Молотовым:
-- Лично меня не трогает, что ящеры остаются в Польше. В мирной
обстановке лучше иметь на нашей западной границе их, чем фашистов: если их
принудить к заключению мира, они, скорее всего, согласятся.
Однажды он уже недооценил Гитлера: повторения ему не хотелось. Молотов
с готовностью кивнул. Здесь он был согласен со своим хозяином.
-- Нацисты со своими ракетами, с их газом, парализующим дыхание, с их
бомбами из взрывчатого металла были бы очень неприятными соседями.
-- Да.
Сталин выпустил дым. Его глаза сузились. Он смотрел скорее сквозь
Молотова, чем на него. Это был не тот взгляд, которым он мысленно изгонял
ставшего неугодным фаворита. Он просто напряженно думал. Через некоторое
время он сказал:
-- Давайте будем гибкими, Вячеслав Михайлович. Давайте вместо
требования покинуть нашу территорию до начала переговоров предложим
перемирие на время проведения переговоров. Может быть, это сработает, может
быть, и нет. Если мы не будем подвергаться налетам и обстрелам, наша
промышленность и коллективные хозяйства получат возможность начать
восстановление.
-- Внесем это предложение сепаратно или попробуем продолжить создание
народного фронта людей против инопланетян-империалистов? -- спросил Молотов.
-- Вы можете проконсультироваться с американцами и немцами перед
отправкой предложения ящерам, -- сказал Сталин с видом человека,
оказывающего большую милость. -- По этому вопросу можете также
проконсультироваться с британцами, с японцами, с китайцами -- малыми
державами, -- добавил он, жестом руки выражая пренебрежение. -- Если они
захотят сделать ящерам такое же предложение одновременно, это будет
правильно и хорошо: мы двинемся вперед вместе. Если не захотят... мы все
равно двинемся вперед.
-- Как скажете, товарищ генеральный секретарь.
Молотов не был уверен, что это самый разумный курс, но, представив себе
выражение лица фон Риббентропа, когда он получит депешу, разъясняющую новую
советскую политику, -- а еще лучше выражение его лица, когда он будет
сообщать эту новость Гитлеру, -- решил, что новый курс того стоит.
-- Я сразу же начну готовить телеграмму.
* * *
Генрих Ягер был неплохим наездником. Но сегодня он не испытывал
никакого удовольствия от поездки верхом. Если требуется забираться на
лошадь, чтобы объехать штабы корпусов, это доказывает только одно: для
катания на автомобиле топлива не нашлось. У вермахта едва хватало топлива
для танков, а для посещения штабов имелись только две возможности -- ехать
на гнедой кобыле или на своих двоих.
Дорога в лесу разветвлялась. Ягер направил кобылу на юг, по правому
ответвлению. Оно вело не напрямик к расположению полка. Езда верхом давала,
в частности, то преимущество, что в отличие от "фольксвагена" лошади
водитель не требовался. Ягеру не хотелось, чтобы кто-нибудь знал, что он
повернул направо. В противном случае вскоре ему предстояла бы интимная
дискуссия с СС, СД, с гестапо, с абвером или другой службой безопасности или
разведкой, которая наложила бы на него лапу (не говоря уже о различных
тупых, острых, нагретых и проводящих электричество инструментах).
-- Зачем я делаю это? -- сказал он в тишине леса, нарушаемой лишь
далеким гулом артиллерийской стрельбы. Кобыла в ответ фыркнула.
Он чувствовал себя так, словно фыркнул и сам. Ответ был известен:
во-первых, долг по отношению к Анелевичу лично, во-вторых, Анелевич и его
еврейские борцы честно соблюли условия сделки, которую заключили с ним, и
уже за это не заслуживали испепеления, а в-третьих, он каждый раз внутренне
съеживался, вспоминая о том, что рейх делал с евреями в Восточной Европе до
прихода ящеров -- и продолжает делать на территориях, которые контролирует.
Он живо представлял себе пленников-евреев и гомосексуалистов, которые
работали на атомном котле под замком Шлосс Гогентюбинген, пока не умирали --
на что редко требовалось много времени.
Было ли это достаточным основанием, чтобы нарушить воинскую присягу?
Глава СС и лично фюрер дали задание Скорцени нанести атомный удар по Лодзи.
Кто такой полковник Ягер, чтобы утверждать, что они ошибались.
-- Человек, -- сказал он, отвечая на вопрос, не заданный вслух. -- Если
я не могу жить в ладу с самим собой, что хорошего в чем-то другом?
Временами ему хотелось отключить разум, сделаться бесчувственным ко
всем проявлениям войны. Он знал множество офицеров, которые знали об ужасах,
творимых рейхом на востоке, и не только отказывались думать о них, но
временами даже отрицали свое знание. Затем был Скорцени, который тоже знал о
них, но не осуждал. Ягера не устраивало ни то ни другое. Он не был ни
прячущим голову в песок страусом, ни фарисеем.
И поэтому он ехал теперь с автоматом на коленях, опасаясь патрулей
ящеров, германских патрулей, польских разбойников, еврейских разбойников...
и вообще всех. Чем меньше людей он встретит, тем лучше.
Выехав из леса на открытое пространство, он вздрогнул. Теперь его можно
было увидеть с расстояния в километры, а не за несколько метров. Конечно, в
эти времена немало людей разъезжает верхом, и многие из них в форме и с
оружием. И они не обязательно солдаты. Польша стала такой же, каким кино
показывало американский Дикий Запад. Нет, еще хуже -- у ковбоев не было
пулеметов и танков.
Его глаза обшаривали пространство. Никого. Двинулся вперед. До фермы
было недалеко. Он оставит послание, пустит кобылу рысью и вернется в полк
всего на час позже по сравнению с расчетным временем. Поскольку любые
способы передвижения в эти времена крайне ненадежны, никто над этим
опозданием не задумается.
-- Вот сюда мы и едем, -- тихо сказал он, узнав ухоженную рощу из
яблонь. Кароль передаст сообщение Тадеушу, Тадеуш сможет передать сообщение
Анелевичу, и все станет на свои места.
Впереди было тихо. Слишком тихо? У Ягера на затылке волосы встали
дыбом. Ни кур во дворе, ни блеяния овец, ни хрюканья свиней. Никого нет на
полях, нет и играющих маленьких детей возле дома. Как и большинство поляков,
Кароль растил целую кучу детей. Их всегда было видно -- или хотя бы слышно.
Но не сейчас.
Его лошадь фыркнула и шарахнулась в сторону, вокруг ее глаз
обозначились белки.
-- Спокойно, -- сказал Ягер, и лошадь успокоилась.
Но что-то пугало ее. Она шла вперед, но ноздри ее раздувались при
каждом выдохе.
Ягер тоже принюхался. Вначале он не заметил ничего необычного. Затем
почуял то, что беспокоило кобылу. Чувствовался слабый запах разложения,
словно домашняя хозяйка достала кусок говядины, слишком долго пролежавший в
холодильнике.
Он понимал, что ему следует повернуть лошадь и ускакать при первом же
запахе опасности. Но запах указывал и на то, что опасности здесь уже нет.
Она была -- и ушла, возможно, пару дней назад. Ягер подвел все сильнее
сопротивляющуюся кобылу к дому и привязал к столбу. Затем перевел
предохранитель "шмайссера" в положение автоматического огня.
В полуоткрытую входную дверь с жужжанием влетали и вылетали мухи. Ягер
пинком распахнул ее. От неожиданного шума кобыла вздрогнула и попыталась
убежать. Ягер вошел в дом.
Первые два тела лежали в кухне. Одна из дочерей Кароля, лет семи, была
застрелена в затылок -- как на казни. Здесь же лежала его жена, голая, на
спине. Между глазами у нее было пулевое отверстие. Кто-то ее изнасиловал, а
может быть, и неоднократно, прежде чем убить.
Закусив губу, Ягер вышел в гостиную. Здесь свою смерть нашли несколько
детей. Посетители надругались над одной из девочек, маленькой,
светловолосой, лет двенадцати: Ягер помнил, что она постоянно улыбалась,
точно так же, как мать. Черный хлеб, который он съел на завтрак, попытался
вырваться наружу. Сжав челюсти, он не справился с рвотным позывом.
Двери в спальню Кароля были широко распахнуты, как раздвинутые ноги ее
жены и дочери. Ягер вошел. На кровати лежал Кароль. Он был убит, но не
аккуратно и безразлично -- его убийцы потратили на свою работу немало
времени и труда. А Кароль перенес боль, очень много боли, прежде чем ему
позволили умереть.
Ягер отвернулся, ослабевший и напуганный. Теперь он знал, кто посетил
этот дом. Свой, так сказать, шедевр они подписали: на животе Кароля они
выжгли раскаленной кочергой эсэсовские руны. Следующий интересный вопрос:
что они успели выспросить до того, как отрезали ему язык? Он не знал имени
Ягера -- полковник-танкист называл себя Иоахимом, -- но если он описал
внешность Ягера, на то, чтобы вычислить, о ком идет речь, СС много времени
не потребуется.
Бессмысленно насвистывая, Ягер вышел из дома, отвязал кобылу и поехал
прочь. Куда ему теперь ехать? Может, лучше всего сбежать ради спасения
жизни? Если он сможет добраться до Лодзи, то Анелевич и евреи защитят его.
Как это ни иронично, но тем не менее, вероятно, было бы правильно.
В конце концов, вместо того чтобы ехать на юг, он повернул на север, в
расположение полка. Кароль и его семья мертвы уже несколько дней. Если бы СС
узнало о нем, его уже схватили бы. И черт с ними, с евреями, он должен
продолжать войну с ящерами.
Когда он прибыл на место, Гюнтер Грилльпарцер, оторвавшись от игры в
скат, спросил:
-- У вас что-то зеленое вокруг подбородка, сэр. С вами все в порядке?
-- Должно быть, я выпил плохой воды, -- ответил Ягер. -- Я соскакивал с
этого жалкого животного, -- он похлопал по шее лошади, -- и садился в кустах
каждые пять минут, и это в течение всего пути от штаба корпуса.
Это объясняло не только его бледность, но более позднее возвращение.
-- Галопирующее дерьмо не очень-то забавно, командир, -- сочувственно
сказал наводчик. Затем он расхохотался и показал на кобылу Ягера. --
Галопирующее дерьмо! Согласны, командир? Я пошутил, даже не заметив этого.
-- Жизнь временами именно так и выглядит, -- сказал Ягер.
Грилльпарцер почесал голову. Ягер уводил лошадь. Он проехал на ней
долгий путь: надо бы обиходить ее. Грилльпарцер пожал плечами и вернулся к
карточной игре.
* * *
Нье Хо-Т'инг и Хсиа Шу-Тао прошли контроль маленьких чешуйчатых
дьяволов и были пропущены в главную часть палатки на острове в сердце
Запрещенного Города.
-- Хорошо, что вы взяли меня с собой, -- сказал он, -- вместо...
Он не договорил.
"Вместо вашей женщины, которую я попытался изнасиловать", -- мысленно
закончил предложение Нье, хотя, наверное, не совсем так, как сказал бы его
помощник. Вслух он ответил:
-- У Лю Мэй болезнь, какие бывают у маленьких детей. Лю Хань попросила
у центрального комитета освобождения от этой обязанности, чтобы ухаживать за
девочкой. Разрешение на указанное освобождение было дано...
Хсиа Шу-Тао кивнул.
-- Женщины должны ухаживать за своим отродьем. Это -- одна из вещей, в
чем они хороши. Они...
Он снова оборвал фразу. И снова у Нье Хо-Т'инга не было трудностей с
возможным продолжением. "Они также хороши, чтобы лежать на них, что и
приводит к появлению отродья". Но Хсиа, хотя и мог так думать, промолчал.
Его образование, хотя и очень медленно, все же продвигалось.
-- У Лю Хань есть интересные проекты, которые осуществляются, -- сказал
Нье.
Хсиа Шу-Тао снова кивнул, но не стал расспрашивать. В отсутствие женщин
Хсиа проявлял недюжинный ум. Он не стал бы намекать на место, где находится
чешуйчатый дьявол Томалсс, в присутствии других маленьких чешуйчатых
дьяволов.
Нье думал, что к этому времени он уже будет передавать маленьким
дьяволам небольшие кусочки Томалсса, по одному за раз. Но так не получилось.
Захват маленького дьявола, который украл ребенка Лю Хань, прошел, как и было
запланировано -- даже лучше, чем планировалось, -- но женщина до сих пор не
осуществила жестокой мести, которую намечали они с Нье. Он удивлялся,
почему. Не похоже, чтобы она стала христианкой или сотворила еще какую-то
подобную глупость.
В палатке единственными предметами мебели, изготовленной людьми, были
два стула. Нье и Хсиа сели. Через мгновение вошли маленький чешуйчатый
дьявол по имени Ппевел и его переводчик, уселись за рабочим столом. Ппевел
разразился потоком шипений и щелчков, скрипов и покашливаний. Переводчик
превратил все это в довольно сносный китайский язык:
-- Помощник администратора восточного региона главной континентальной
массы отмечает, что один из вас выглядит иначе, чем на предыдущих
заседаниях. Кто отсутствует -- Нье Хо-Т'инг или Лю Хань?
-- Отсутствует Лю Хань, -- ответил Нье.
У маленьких дьяволов были такие же трудности в узнавании людей, как у
людей с дьяволами.
Ппевел заговорил снова:
-- Мы подозреваем связь между нею и исчезновением исследователя
Томалсса.
-- Ваш и мой народы находятся в состоянии войны, -- ответил Нье
Хо-Т'инг. -- Мы соблюдали перемирие, на которое пошли в обмен на ребенка Лю
Хань. Больше от нас ничего требоваться не должно. Подозревайте все, что
хотите.
-- Вы нахальны, -- сказал Ппевел.
Это высказывание империалистического эксплуататора -- маленького
чешуйчатого дьявола -- едва не вызвало у Нье Хо-Т'инга громкий смех. Он
этого не сделал -- он находился здесь по делу. Он сказал:
-- Мы узнали, что вы, чешуйчатые дьяволы, серьезно рассматриваете
перспективу прекращения огня без ограничения времени для обсуждения вашего
ухода с территории миролюбивого Советского Союза и других государств.
-- Эти требования находятся в процессе обсуждения, -- ответил Ппевел
через переводчика. -- Но к вам они не имеют никакого отношения. Из Китая мы
не уйдем ни при каких обстоятельствах.
Нье посмотрел на него с унынием. Сам Мао Цзэдун приказал ему добиться
включения в переговоры Китая -- а точнее, Народно-освободительной армии. Для
него стал потрясением отказ маленьких чешуйчатых дьяволов еще до того, как
он высказал предложение. Это напомнило Нье надписи, которые европейские
иностранные дьяволы помещали в своих колониальных парках: "Собаки и китайцы
не допускаются".
-- Вы пожалеете об этом решении, -- сказал он, когда к нему вернулся
дар речи. -- То, что мы делали до сих пор, было только булавочными уколами
по сравнению с тем, что мы можем сделать.
-- То, что вы можете сделать, действительно булавочный укол по
сравнению разрушениями, которые создает бомба из взрывчатого металла, --
ответил Ппевел. -- У вас ее нет. Мы достаточно сильны, чтобы удерживать эту
землю, что бы вы ни делали. Мы будем ее удерживать.
-- Если так, мы превратим вашу жизнь в настоящий ад, -- с горячностью
ответил Хсиа Шу-Тао -- Вы будете выходить на улицу -- кто-то может
выстрелить в вас. Вы садитесь в автомобиль, грузовик или танк -- вы можете
наехать на мину. Вы едете из одного города в другой -- кто-то может ударить
по дороге из миномета. Вы доставляете продовольствие в город -- вам придется
проверять, не отравлено ли оно.
Нье не хотелось, чтобы его помощник высказывал маленьким дьяволам
пустые угрозы. Лю Хань здесь знали лучше: она была, как однажды понял Нье к
своему замешательству, мастером упрашивать -- до того момента, пока она не
подготовится, чтобы обрушиться на цель всеми силами. Но с обуревавшими Хсиа
чувствами Нье был согласен.
На Ппевела это не подействовало.
-- А чем это отличается от того, что вы делаете сейчас? -- спросил он.
-- Мы удерживаем центры сосредоточения населения, мы удерживаем дороги между
ними. Используя их, мы можем удерживать и сельскую местность.
-- Попробуйте, -- сказал ему Нье Хо-Т'инг. Этот рецепт применяли японцы
при оккупации северо-восточного Китая. Его нельзя использовать при нехватке
личного состава. -- Вы можете обнаружить, что цена, которую вы должны
заплатить, выше, чем вы можете себе позволить.
-- Мы терпеливы, -- ответил Плевел. -- В конце концов мы измотаем вас.
Вы, Большие Уроды, слишком торопливы для длительных кампаний.
Нье Хо-Т'инг привык считать торопливыми европейцев и японцев,
безнадежно не способными иметь дело с Китаем. Он не считал себя тупым
бесчувственным варваром. Направив на Ппевела палец, он отчеканил:
-- Вы потеряете здесь, в Китае, бойцов больше, чем от бомбы из
взрывчатого металла. Для вас лучше обсуждать мирный уход ваших сил теперь,
чем видеть их уничтоженными по частям.
-- Угрозы говорить легко, -- сказал Ппевел. -- Осуществить их труднее.
-- Завоевания иногда тоже легко получаются, -- ответил Нье. -- Но
удержать завоеванное труднее. Если вы останетесь здесь, вам придется иметь
дело не только с Народно-освободительной армией, вы это знаете. Гоминьдан и
восточные дьяволы -- японцы -- будут сражаться бок о бок с нами. Если для
войны потребуется поколение или больше, мы примем это как необходимость.
Он был уверен, что говорит правду о гоминьдане. Чан Кайши предал
китайскую революцию, но он был обычным коварным политиком. Даже после
японского завоевания он сохранил большую часть сил для борьбы с
Народно-освободительной армией, подобно тому как Мао сохранил свои силы для
борьбы с ним. Оба видели необходимость в продолжительной войне для
достижения своих целей.
Что собираются предпринять японцы, вычислить было труднее. Но,
несомненно, они ненавидят чешуйчатых дьяволов и будут биться с ними жестоко,
пусть даже и без особой политической проницательности.
Ппевел сказал:
-- Как я уже сказал раньше, мы собираемся удерживать эту страну. Ваши
угрозы мы игнорируем. Ваши булавочные уколы мы игнорируем. Мы признаем
только настоящую силу. Вы слишком отсталы, чтобы сделать бомбу из
взрывчатого металла. Нам нет нужды бояться вас или того, что вы можете
сделать.
-- Может быть, мы не сможем сделать ее, -- прошипел Хсиа Шу-Тао, -- но
у нас есть союзники. Одна из таких бомб может уже появиться в китайском
городе.
На этот раз Нье мысленно одобрительно похлопал Хсиа по плечу. Это было
именно то, что следовало сказать. Нье знал -- хотя и не думал, что это
известно Хсиа, -- о послании Мао Сталину с просьбой передать ему первую же
бомбу, которая не понадобится самому Советскому Союзу для защиты в ближайшее
время.
Переводчик перевел. Ппевел подпрыгнул на своем стуле, словно сел на
что-то острое.
-- Вы лжете, -- сказал он.
Тем не менее переводчик говорил неуверенно. И Нье подумал, что и голос
Ппевела звучал не слишком твердо. Он пожалел, что с ним нет Лю Хань: она бы
лучше распознала тон маленького дьявола.
-- Разве мы лжем, когда говорим, что у нас есть союзники? -- ответил
Нье. -- Вы знаете, что это так. Соединенные Штаты были союзниками гоминьдана
и Народно-освободительной армии против японцев еще до того, как вы,
чешуйчатые дьяволы, пришли сюда. Советский Союз стал союзником
Народно-освободительной армии в борьбе против гоминьдана. И США, и Советский
Союз располагают бомбами из взрывчатого металла.
Он подумал, что шансы Китая получить одну из таких бомб невелики. Но он
не должен сообщать это Ппевелу. Чем скорее маленький дьявол поверит, что это
возможно, тем больше Народно-освободительная армия сможет выторговать.
И он убедил Ппевела. Это он видел. Высокопоставленный чешуйчатый дьявол
и его переводчик несколько минут говорили между собой. Наконец Ппевел
обратился к людям:
-- Я по-прежнему не верю вашим словам, но я доведу их до внимания моих
вышестоящих начальников. Они передадут вам свое решение о включении вас,
китайцев, в эти переговоры.
-- Для их собственной и для вашей пользы лучше, если они не будут
тянуть, -- еще раз по-крупному сблефовал Нье.
-- Они решат сами, а не когда нужно вам, -- ответил Ппевел.
Нье мысленно пожат плечами: не каждый блеф срабатывает. Он понял, что
они применят тактику затягивания. Маленькие дьяволы будут обсуждать и
обсуждать -- и затем скажут "нет". Ппевел продолжил:
-- На этом переговоры между нами на этот раз закончены. Вы свободны,
ожидайте решения моих вышестоящих.
-- Мы вам не слуги, чтобы уходить по вашему капризу, -- рассерженно
сказал Хсиа Шу-Тао.
Но переводчик не стал затрудняться переводом этой фразы: вместе с
Плевелом он удалился в заднюю часть огромной оранжевой палатки. В отсек,
который Нье считал залом переговоров, вошел вооруженный маленький дьявол --
чтобы убедиться, что китайцы не станут задерживаться.
До возвращения из Запрещенною Города в хриплую суматоху остальной части
Пекина, Нье молчал и был задумчив: частично из-за того, что ему требовалось
обмозговать высокомерные заявления Ппевела, а частично из опасения, что
маленькие чешуйчатые дьяволы подслушают, если он будет говорить с Хсиа
поблизости от их крепости.
Наконец он сказал:
-- Боюсь, что нам придется организовывать народный фронт с гоминьданом
и, может быть, даже с японцами, если
мы решим убедить маленьких дьяволов, что оставаться в Китае для них
означает больше неприятностей, чем выгод. Хсиа выглядел разочарованным.
-- У нас был народный фронт с гоминьданом против японцев. Это был
только шум да речи. На войне он значил немного и не удержал
контрреволюционеров от выступлений против нас.
-- И нас против них, -- сказал Нье, вспомнив некоторые собственные
подвиги. -- Возможно, этот народный фронт будет таким же, как прежний. Но
может быть, и нет. Позволительна ли роскошь борьбы друг с другом, когда
одновременно мы ведем войну с маленькими чешуйчатыми дьяволами? Сомневаюсь.
-- Сможем мы убедить гоминдановскую клику и японцев бороться с общим
врагом вместо того, чтобы биться друг с другом и с нами? -- парировал Хсиа.
-- В этом я тоже сомневаюсь.
-- И я тоже, -- с беспокойством сказал Нье. -- Но если не сможем, то
проиграем эту войну. Кто придет нам на помощь? Советский Союз? Они разделяют
нашу идеологию, но слишком увязли в борьбе, сначала с немцами, а теперь с
чешуйчатыми дьяволами. Что бы мы ни говорили Ппевелу, я не думаю, что в
ближайшее время Народно-освободительная армия получит от Советского Союза
бомбу из взрывчатого металла.
-- В этом вы правы, -- сказал Хсиа, плюнув в канаву. -- Сталин соблюдал
договор, который заключил с Гитлером, до тех пор, пока Гитлер не напал на
него. Если он заключит договор с маленькими чешуйчатыми дьяволами, то тоже
станет соблюдать его. Это значит, что нам придется вести длительную войну в
одиночку,
-- Тогда нам тем более нужен народный фронт -- настоящий народный
фронт, -- сказал Нье Хо-Т'инг.
Хсиа Шу-Тао снова плюнул, но в конце концов кивнул.
-- Бронебойный! -- рявкнул Ягер.
Башня "пантеры" разворачивалась -- хотя и не так быстро, как хотелось
бы Ягеру, -- нацеливая орудие танка на бронетранспортер ящеров. Корпус
"пантеры" скрывал холм перед ней, а башню хорошо маскировал кустарник: ящеры
не могли видеть, что здесь прячется танк.
-- Бронебойный! -- как эхо повторил Гюнтер Грилльпарцер, прижимаясь
лицом к прицелу длинной семидесятимиллиметровой пушки "пантеры".
Карл Мехлер вложил снаряд с отбрасываемым башмаком.
-- Врежь ему, Гюнтер, -- сказал заряжающий.
Ягеру, высунувшемуся по плечи из люка башни, грохот показался таким
сильным, будто наступил конец света. Генрих мигнул, когда из ствола вырвался
яркий язык пламени метровой длины. Внутри башни латунная гильза со звоном
ударилась в пол машины.
-- Попал! -- возбужденно закричал Грилльпарцер. -- Горит!
"Это хорошо, когда они горят", -- подумал Ягер.
Снаряды с отбрасываемым башмаком могут пробивать броню боковых стенок
корпуса танка ящеров. Если бы они не справлялись с более легкой броней
транспортеров пехоты, их не стоило бы применять.
-- Назад, -- сказал он Иоганнесу Друккеру через интерком.
Водитель включил заднюю передачу заранее. Теперь он повел машину назад
по склону холма на следующую подготовленную огневую позицию.
Другие танки его полка также били вдаль по объектам ящеров. Пехотинцы
прятались между деревьев и в развалинах зданий, ожидая удобного момента,
чтобы ударить ручными ракетами по технике врага. Пехотинцы ящеров делали то
же самое с германскими танками в начале своего нашествия. Было приятно
ответить врагу таким же оружием.
Над головой в сторону ящеров проносились с шумом товарного поезда
артиллерийские снаряды. За считанные дни вермахт отодвинул линию фронта на
несколько километров к востоку. Ящеры, похоже, не ожидали удара к северу от
Лодзи, и потери Ягера, хотя и по-прежнему ужасные, все же оказались меньше,
чем могли бы быть.
-- Надеюсь, мы их отвлекли, -- проговорил он про себя.
Он не намного лучше подготовился к этой атаке, чем ящеры -- к ее
отражению. Успех операции для практических целей значения не имел. Его
работа закончилась в тот момент, когда ящеры полностью сосредоточились на
его людях.
Тем временем очень тихо Отто Скорцени переправлял атомную бомбу на юг,
в Лодзь. Ягер не знал, как. Он не хотел знать. Он не хотел, чтобы они делали
это, но его не спрашивали.
Он задумался, дошло ли его сообщение до города. Парень, с которым он
встретился, и близко не внушал такого доверия, как Кароль: он был скрытным и
пугливым -- наполовину кролик, наполовину ласка. Однако он был живым, а
потому пришлось предпочесть его погибшему фермеру.
Гюнтер Грилльпарцер издал негодующее восклицание.
-- Они не лезут на рожон -- на наши пушки, -- как раньше, -- сказал он.
-- Долго же они этому учились, а? Британцы быстрее усвоили, еще в Северной
Африке. Даже русские быстрее научились, а это уже показатель.
На правом фланге противотанковая ракета ящеров попала в Pz-IV,
переползавший с одной скрытой позиции на другую. Танк вспыхнул, пламя
вырвалось из всех его люков, из башни выплыло кольцо черного дыма идеально
правильной формы. Никто из пяти членов экипажа не спасся.
Затем по германским танкам начала бить артиллерия ящеров.
Ягер решил, что пора дать сигнал к окончанию боевой операции. Ящеры
теперь не были столь расточительны в использовании особых снарядов,
разбрасывающих мины, как в начале войны, но время от времени применяли их.
Ему не хотелось потерять половину своего танкового парка из-за подбитых
гусениц.
А люди просто обрадовались передышке. Когда Гюнтер Грилльпарцер развел
костерок, он повернулся к Иоганнесу Друккеру и спросил:
-- У тебя никогда не было ощущения, что ты живешь уже слишком давно?
-- Не пори чепухи, -- ответил водитель. -- Просто по твоей могиле
прошел гусь.
-- Может, ты и прав, -- сказал Грилльпарцер. -- Надеюсь, что так. Но,
Иисус! Каждый раз, когда мы ввязываемся в бой с ящерами, я не верю, что
выйду из него целкой. В смысле целым.
Отто Скорцени обладал способностью материализовываться из воздуха,
словно дух из "Тысячи и одной ночи".
-- Ты еще молодой человек, -- сказал он. -- Целка в день -- это для
тебя маловато.
-- Не ожидал, что ты обернешься так скоро, -- сказал Ягер, когда
танкисты заржали.
-- Черт возьми, не ври -- ты вообще меня не ждал, -- со смехом сказал
Скорцени. -- Но мне надо было сообщить тебе новости, а по радио я их
передать не мог -- вот потому я здесь.
Он принял позу, которая, вероятно, изображала религиозного
проповедника. Ягер и представить не мог кого-то, кто был бы так мало похож
на Мартина Лютера. Эсэсовец подтолкнул его локтем. Они отошли от костра и
огромной надежной "пантеры". Тихим голосом Скорцени произнес:
-- Она на месте.
-- Я так и понял, -- ответил Ягер. -- Иначе ты все еще был бы в Лодзи.
Но как тебе удалось обстряпать дельце?
-- У нас свои методы, -- сказал Скорцени. -- Сколько-то имбиря ящерам,
сколько-то золотых монеток для поляков. -- Он рассмеялся. -- Некоторые из
них даже, возможно, выживут, чтобы успеть попользоваться добычей, но
немногие.
Снова став собой, он преобразился в самого страшного человека, какого
только знал Ягер.
-- Когда она взорвется? -- спросил он.
-- Когда я получу приказ, -- ответил Скорцени. -- Теперь, когда она
доставлена на место, все мои ребята в этой забавной черной форме отправятся
домой. Это будет мой личный спектакль. И знаешь? -- Он дождался, пока Ягер
покачает головой, и только затем договорил: -- Я и в самом деле с
удовольствием жду этого.
Нет, поистине страшным Скорцени становился, только дав волю словам.
* * *
Куча обломков, за которыми улегся Остолоп Дэниелс, была когда-то
дымовой трубой дома преуспевающего фермера, жившего примерно посредине между
Марблхедом и Фолл-Криком, штат Иллинойс. Он взглянул на Германа Малдуна,
лежащего за другой кучей таких же красных кирпичных обломков.
-- Мы нисколько не продвинулись вперед, -- сказал он. -- Мы не очистим
Миссисипи от ящеров и через неделю после Судного дня.
-- Да, -- угрюмо согласился Малдун. -- Они не очень-то согласны
отступать, не так ли?
-- Да уж, -- сказал Остолоп.
Все шло неплохо до тех пор, пока армия США не попыталась пойти в
наступление южнее Марблхеда. Они продвинулись на две мили и застряли.
Наступление поддерживали два десятка танков "Шерман" и несколько устаревших
танков "Ли". Пара "Шерманов" все еще была на ходу, но теперь их держали
подальше от тех мест, где их могли подбить ящеры. В определенном смысле
Остолоп понимал соображения командования. С другой стороны, не соглашался.
Какой смысл иметь танки, если боишься использовать их?
Справа от него за обгоревшим корпусом "Ли" минометный расчет открыл
огонь по позициям ящеров в нескольких сотнях ярдов к югу от фермерского
дома.
"Бум! Бум! Бум!" Эти маленькие хвостатые снарядики летели недалеко, но
разбрасывали вокруг множество взрывчатых и стальных осколков.
Ящеры не стали терять времени и тут же ответили. Остолоп приник к земле
и окопался. Рядом свистели не только мины: ящеры били и из пушек, причем,
вероятно, с такого расстояния, что американская артиллерия ответить им не
могла.
Под прикрытием этого огня пехота ящеров пошла вперед. Когда Остолоп
услышал хлопки автоматической винтовки "браунинга", он поднял голову и
принялся стрелять из своего "томпсона". Он не знал, попал он в кого-то из
ящеров или нет. "Браунинг" на таком расстоянии мог бить наверняка, но
стрелок с "томпсоном" мог рассчитывать хотя бы ранить кого-нибудь только при
большом везении. И все же ящеры залегли. Уже ради этого стоило открывать
преждевременный сильный огонь.
-- Не похоже, что они скоро поднимутся, -- прокричал Малдун, перекрывая
грохот.
-- Согласен, -- сказал Дэниелс. -- Им хочется немного переждать в
обороне. И знаешь? На их месте я тоже был бы рад подзадержаться.
Через пару секунд после этого неподалеку взорвался крупный снаряд,
забросав их землей, ошеломив и наполовину оглушив.
Остолоп оглянулся на окоп ярдах в двадцати от них, чтобы убедиться,
уцелел ли его радист. Парень двигался и не кричал, и Дэниелс сделал вывод,
что ничего непоправимого с ним не произошло. Он подумал: не стоит ли
потребовать у командования ударить по позициям ящеров химическими снарядами
с ипритом, чтобы заставить их отступить?
Он уже собирался крикнуть приказ радисту, как вдруг обстрел
прекратился. Он с опаской выглянул из-за кирпичной кучи. Что еще за фокус
они затеяли? Может, они думают, что американцы так глубоко прячутся в
окопах, что не заметят атакующих, пока те не подойдут вплотную? Если они
после более двух лет тяжелых боев не поняли, что при этом происходит, то
теперь поймут.
Но ящеры больше не наступали. Сам собой затих огонь из стрелкового
оружия с обеих сторон.
-- Дошло до них, наверное, -- сказал про себя Остолоп.
-- Эй, лейтенант, гляньте-ка на это! -- Герман Малдун показал в сторону
боевых порядков ящеров. Там размахивали чем-то белым, привязанным к палке.
-- Просят переговоров или что-то в этом роде.
-- Может, хотят забрать раненых? -- предположил Дэниелс. -- Раз или два
у меня с ними уже было такое. Не думал, что еще раз придется: если они
заключают перемирие, они соблюдают его до конца оговоренного срока. -- Он
повысил голос: -- Не стреляйте, ребята! Я иду на переговоры с этими
чешуйчатыми сукиными сынами. -- Когда стрельба со стороны американцев
стихла, он повернулся к Малдуну. -- У тебя есть что-нибудь белое, Герман?
-- Есть сопливчик, веришь или нет.
Малдун, распираемый гордостью, вытащил из кармана носовой платок:
немногие пехотинцы могли бы похвастаться этим.
Он был не особенно белым, но Остолоп решил, что сойдет. Он поискал, к
чему бы его привязать. Ничего не найдя, пару секунд помялся, затем встал,
размахивая платком над головой. Ящеры не стреляли.
Он пошел по ничейной земле между позициями. Навстречу ему шел ящер.
Остолоп успел отойти не так уж далеко, когда радист заорал:
-- Лейтенант! Лейтенант Дэниелс, сэр!
-- Чтобы там ни было, Логан, оно подождет, -- крикнул Остолоп через
плечо. -- Я сейчас занят.
-- Но, сэр...
Остолоп игнорировал призыв и продолжал идти. Если он повернется и
пойдет назад, ящеры могут подумать, что он переменил решение и перемирия не
будет, и начнут стрелять в него.
Чужак с белым флагом приблизился к нему футов на десять и остановился.
Остолоп сделал то же самое. Он вежливо поклонился: как солдат, ничего, кроме
уважения, он к ящерам не испытывал.
-- Лейтенант Дэниелс, армия США, -- сказал он. -- Вы говорите
по-английски?
-- Йесссс...
Ящер произнес слово длинным шипением, но Остолоп без труда понял его.
"Тоже хорошо", -- подумал он: он не знал ни слова на языке ящеров. Чужак
продолжил.
-- Я -- Чуук, лидер малой боевой группы, флот вторжения Расы.
-- Рад познакомиться, Чуук. Мы примерно в одном ранге.
-- Да, я тоже так считаю, -- сказал ящер. -- Я пришел сказать вам, что
установлено прекращение огня между флотом вторжения Расы и вашей армией США.
-- Мы согласны, -- не стал спорить Остолоп. -- На какое время вы
предлагаете перемирие? Скажем, до наступления темноты? Этого будет
достаточно обеим сторонам, чтобы собрать пострадавших и немного поваляться
-- передохнуть, -- добавил он, подумав, что ящер не может разобрать сленг.
-- Вы не понимаете меня, лейтенант Дэниелс, -- сказал Чуук. -- Это
прекращение огня между флотом вторжения Расы и вашей армией США. Между всей
армией США и всей частью флота завоевания здесь, на малой континентальной
массе. Объявлено Атваром, главнокомандующим флотом вторжения. Есть согласие
не-императора ваших США, какое бы имя он ни носил. Прекращение огня с
настоящего времени на этом месте: не двигаться вперед, не двигаться назад.
Времени для отмены прекращения огня не установлено. Вы слышите, лейтенант
Дэниелс? Вы понимаете?
-- Да, -- отрешенно ответил Остолоп. -- Боже правый.
Он не помнил, когда в последний раз испытывал похожие чувства. Может
быть, в ноябре 1918-го, но тогда прекращения огня ждали. А сейчас это был
гром среди ясного неба. Он обернулся и изо всех сил заорал:
-- Логан!
-- Сэр? -- донесся слабый голос радиста с расстояния в сто пятьдесят
ярдов.
-- У нас перемирие с ящерами?
-- Да, сэр. Я пытался сказать вам, сэр, как только получил сообщение,
но вы...
Остолоп снова повернулся к Чууку. Ящер уже передал ему сообщение.
Следовало дать ему формальный ответ, чтобы чужак знал, что его поняли
правильно.
-- Я слышу вас, лидер малой боевой группы Чуук. И я понимаю вас. У нас
здесь, как повсюду в США, наступило прекращение огня, без ограничения
времени.
-- Истинно так, -- сказал Чуук. -- Здесь то, что мы имеем. Это
прекращение огня не только с вами. Оно также с СССР, -- Остолопу
понадобилась секунда, чтобы понять: ящер имеет в виду Россию, -- а еще с
дойчевитами.
Остолоп и здесь быстро сообразил, какая страна имеется в виду.
-- Боже, -- благоговейно сказал он. -- Вы смешали всех в одну кучу, а
это целых полмира. -- Он подметил еще кое-что. -- Вы ведь заключили
перемирие со странами, которые ответили атомным взрывом на ваши бомбежки.
-- Истинно, -- снова сказал Чуук. -- Разве мы глупцы, чтобы идти на
перемирие с империями, которые мы победили?
-- Если смотреть с вашей позиции, то, полагаю, вы правы, -- отметил
Остолоп.
Он подумал: что будет с Англией? Чуук ничего не сказал об англичанах, а
Остолоп восхищался ими с тех пор, как видел в деле во Франции во время
войны, которая должна была покончить с войнами навсегда. Что ж, ящеры
однажды попробовали захватить Англию и получили по морде. Возможно, они
чему-то научились.
Чуук сказал:
-- Вы -- хорошие бойцы, Большие Уроды. Это я говорю вам обоснованно.
Это -- истинно. Мы пришли на Тосев-3 -- на эту планету, этот мир, мы думали,
мы победим, и победим быстро. Мы не победили быстро. Вы воюете хорошо.
-- Вы и сами неплохие вояки. -- Остолоп повернул голову. -- Один из
ваших ребят попал мне прямо сюда. -- Он показал на челюсть слева.
-- Мне повезло. Меня не подстрелили. Многие самцы, которые есть мои
друзья, они подстрелены, -- сказал Чуук.
Остолоп кивнул. Каждый фронтовик понимающе относится к таким рассказам.
-- Мы ведь бойцы, вы и я. -- Чуук издал свистящий выдох облегчения. --
Я думаю теперь один раз, теперь еще раз, что бойцы Расы, бойцы на кончике
языка боя, эти бойцы больше похожи на Больших Уродов, чем другие самцы
далеко от боя. Вы слышите, лейтенант Дэниелс? Вы понимаете?
После каждого вопроса он забавно покашливал.
-- Лидер малой боевой группы Чуук. я слышу вас хорошо, -- Остолоп. -- И
я понимаю вас хорошо. Что вы говорите, когда что-то просто правильно? Вы
говорите "истинно", не так ли? Истинно, Чуук.
-- Истинно, -- согласился Чуук.
Он заговорил в какой-то предмет, размерами не больше книжки. Сразу
после этого ящеры начали вставать и высовывать носы из-за укрытий. "Это у
него с собой радиостанция, -- понял Остолоп, -- и у каждого из его солдат.
Чертовски хорошая штука. Хорошо бы и нам иметь такие".
Он обернулся и помахал своим людям. Один за другим они тоже стали
подниматься с земли. Последним показался из укрытия Герман Малдун. Остолоп
нисколько не осуждал его. В него столько раз стреляли, что он, вероятно, с
трудом поверил, что это не хитрость. Да и Остолоп тоже не поверил бы, не
стой он здесь -- такой уязвимый, если ящеры совершат какую-нибудь подлость.
Настороженно, не выпуская оружия, люди и ящеры приближались друг к
другу. Некоторые пытались говорить с противниками, хотя самцы Чуука знали
английский куда хуже, чем он, и лишь немногие из американцев хоть что-то
знали на линго ящеров. Это было неплохо. Не нужно много слов, чтобы убедить
собеседника, что сейчас вы никого не хотите убивать, хотя еще пять минут
назад собирались. Остолоп наблюдал такие сцены на ничьей земле во Франции в
1918 году. Лишь немногие его товарищи могли говорить с "боша-ми", но и этого
было достаточно.
Конечно, в те времена янки (Дэниелс вспомнил, как он злился, когда
французы принимали его за янки) и боши обменивались куревом и пайками. Он
обменялся пайком только раз. Просто чудо, что немцы так чертовски хорошо
воевали, питаясь такими отбросами.
Он не мог представить, что увидит здесь что-то подобное. Ящеры не
курили, а их еда была еще хуже, чем у бошей. Но оглядевшись, он обнаружил,
что некоторые из его парней чем-то меняются с ящерами. Что ж такого могло у
них быть интересного для ящеров?
Чуук тоже наблюдал за окружающим, хотя голова его была почти
неподвижной, а поворачивались только глаза. Остолоп подумал, не собирается
ли он остановить неофициальную торговлю. Вместо этого ящер спросил:
-- Вы, лейтенант Дэниелс, не имеете с собой каких-либо плодов или
пирожных с тем, что вы, Большие Уроды, называете "имбирь"?
В голове Остолопа словно вспыхнул свет. Он слышал, что ящеры чертовски
падки на это зелье.
-- Боюсь, что нет, лидер малой боевой группы. -- Вот ведь не повезло.
Подумать только, какие интересные штуки могли дать ящеры в обмен! -- Но,
похоже, у кого-то из моих парней есть.
Теперь он понял, почему кое-кто из ребят носил с собой продукты с
имбирем. Выходит, они скрытно торговали с ящерами. В любое другое время это
привело бы его в ярость. Но если смотришь на торговлю после заключения
перемирия, разве рассердишься?
-- Йес-с. Истинно, -- сказал Чуук.
Нетерпеливо подпрыгивая на каждом шагу, он поспешил прочь своей смешной
походкой, чтобы посмотреть, что у американцев есть на продажу. Остолоп
улыбнулся ему вслед.
* * *
По голубому небу лениво ползли пухлые облака. Солнце стояло высоко и
давало приятное тепло, а то и жару. Это был прекрасный день для прогулок
рука об руку с девушкой, в которую вы -- влюблены? Дэвид Гольдфарб не
употреблял этого слова в разговоре с Наоми Каплан, но все чаще повторял его
мысленно в эти последние несколько дней.
С другой стороны, мысли Наоми, казалось, фокусировались на политике и
войне, а не любви.
-- Ведь ты же в королевских ВВС, -- с негодованием сказала она. -- Как
ты можешь не знать, достигнуто у нас перемирие с ящерами или нет?
Он рассмеялся.
-- Как я могу не знать? Нет ничего проще: мне об этом не говорят. Чтобы
делать свою работу, мне не нужно знать про перемирие -- вот достаточная
причина не сообщать мне этого. Все, что я знаю: я не слышал шума ни одного
самолета ящеров -- и не слышал ни об одном самолете ящеров над Англией --
после начала их перемирия с янки, русскими и нацистами.
-- Это и есть перемирие, -- настаивала Наоми. -- Это и должно быть
перемирием. Гольдфарб пожал плечами:
-- Может быть, да, а может быть, и нет. Согласен, я не знаю и ни об
одном нашем самолете, который бы направлялся бомбить континент, но в
последнее время мы и так нечасто это делали -- чудовищно возросли потери.
Может быть, у нас что-то вроде неформальной договоренности: ты не трогаешь
меня -- я не трогаю тебя, но мы не все переносим на бумагу из опасения
раскрыть, что мы делаем -- или, наоборот, не делаем.
Наоми нахмурилась.
-- Это неправильно. Это недостойно. Это непорядочно.
В этот момент ее высказывание выглядело поистине немецким. Гольдфарб
прикусил язык, чтобы не сказать об этом вслух.
-- Соглашения ящеров с другими нациями заключены официально и
накладывают на участников определенные обязательства. Почему этого не
сделано в отношении нас?
-- Я же сказал, что наверняка не знаю, -- сказал Гольдфарб. -- Хочешь
услышать мои предположения? -- Когда она кивнула, он продолжил: --
Американцы, русские и нацисты -- все они использовали супербомбы такого же
типа, какими располагают ящеры. Мы подобных не создали. Может быть, в их
глазах мы не заслуживаем перемирия, потому что у нас бомб нет. Но когда они
попытались завоевать нас, они узнали, что нас нелегко победить. И поэтому
они оставили нас в покое, не объявляя об этом.
-- Полагаю, возможно, -- отметила Наоми после серьезных размышлений. --
Но все равно это непорядочно.
-- Может быть, -- сказал он. -- Неважно, что это такое, но я рад, что
сирены воздушной тревоги не орут ежедневно или дважды в день, а то и каждый
час.
Он ожидал, что Наоми скажет: такая нерегулярность налетов тоже означает
беспорядок. Но вместо этого она показала на малиновку с ярко-красной
грудкой, преследовавшую стрекозу.
-- Вот это единственный вид летательного аппарата, который я хотела бы
видеть в небе.
-- Хм-м, -- произнес Гольдфарб. -- Мне больше по душе приятный полет
самолета "Метеор", но я был бы несправедлив, если бы не признал твоей
правоты.
Некоторое время они шли молча, довольные обществом друг друга. На
обочине дороги с цветка на цветок с жужжанием перелетала пчела. Гольдфарб
обратил внимание на этот звук и на незасеянное поле: вблизи от Дувра их было
несколько.
Наоми -- очевидно, между прочим и не имея в виду ничего конкретно --
заметила:
-- Моим отцу и матери ты нравишься, Дэвид.
-- Я рад, -- ответил он, и вполне правдиво. Если бы Исааку и Леа
Капланам он не понравился, то не гулял бы сейчас с их дочерью. -- Мне они
тоже нравятся.
Это тоже была правда: они нравились ему так, как молодому человеку
могут нравиться родители девушки, за которой он ухаживает.
-- Они считают тебя серьезным, -- продолжила Наоми.
-- В самом деле? -- спросил Гольдфарб, чуть насторожившись.
Если под серьезностью они разумели: он не будет стараться соблазнить их
дочь, -- значит, они не знали его так хорошо, как им казалось. Он это уже
пробовал. Впрочем, может быть, они знали Наоми, потому что у него ничего не
вышло. И тем не менее он не ушел разозленный из-за того, что она отказалась
спать с ним. Поэтому он и считается серьезным? Может, и так. Он решил, что
должен что-нибудь сказать.
-- Я думаю, это хорошо, что их не беспокоит, откуда я -- или, я бы
сказал, откуда мои отец и мать.
-- Они считают тебя английским евреем, -- ответила Наоми. -- И я тоже.
-- Наверное, так. Я ведь родился здесь.
Сам он никогда не думал о себе как об английском еврее, и не потому,
что его родители сбежали из Варшавы из-за погромов еще до Первой мировой
войны. Евреи Германии свысока смотрели на своих восточноевропейских
соплеменников. Когда Наоми предстанет перед его родителями, станет
совершенно ясно, что они совсем не то, чем в ее представлении являются
английские евреи. Если... Он задумчиво заговорил:
-- Моим отцу и матери ты тоже понравишься. Если я получу отпуск и ты на
день отпросишься в пабе, не согласишься ли ты съездить в Лондон и
познакомиться с ними?
-- Мне бы этого очень хотелось, -- ответил она, затем наклонила голову
набок и посмотрела на него. -- А как ты представишь меня им?
-- А как бы ты хотела? -- спросил он.
Наоми покачала головой: это не ответ. "Честно", -- подумал он. Он
прошел еще пару шагов, прежде чем рискнуть задать несколько иной вопрос:
-- А что, если я представлю тебя как свою невесту?
Наоми остановилась. Глаза ее широко раскрылись.
-- Ты именно это имеешь в виду? -- медленно проговорила она.
Гольдфарб кивнул, хотя внутри чувствовал себя так, как иногда в
"ланкастере", делающем неожиданный противозенитный маневр.
-- Мне этого очень хотелось бы. -- И она шагнула в его объятья.
Ее поцелуй снова вернул Дэвида к норме, зато закружилась голова. Когда
одна его рука мягко легла на ее грудь, она не оттолкнула ее. Вместо этого
она вздохнула и прижала его руку плотнее. Приободрившись, он сдвинул другую
руку с ее талии на правую ягодицу -- и она тут же, повернувшись ловко, как
танцовщица, вырвалась из его рук.
-- Рано, -- сказала она. -- Пока не надо. Мы скажем моим родителям. Я
познакомлюсь с твоими матерью и отцом -- этого же хотят и мои мать и отец.
Мы найдем раввина, чтобы он поженил нас. И вот тогда. -- Ее глаза
заблестели. -- И я тебе говорю -- не только ты испытываешь нетерпение.
-- Хорошо, -- сказал он. -- Может быть, нам следует сказать твоим отцу
и матери прямо сейчас.
Он повернулся и зашагал в сторону Дувра. Чем скорее он устранит все
препятствия, тем скорее она перестанет вырываться из его объятий. Казалось,
ноги его не чувствовали под собой земли на всем пути обратно в город.
* * *
Голос Мордехая Анелевича прозвучал ровно, как польские долины, и
твердо, как камень:
-- Я не верю вам. Вы лжете.
-- Прекрасно. Пусть будет так, как вы сказали.
Польский фермер доил корову, когда Анелевич нашел его. Он отвернулся от
еврейского лидера, переключившись на работу.
"Ссс! Ссс! Ссс!" Струи молока били в помятое жестяное ведро. Корова
попыталась отойти.
-- Стой ты, глупая сука, -- прорычал поляк.
-- Но послушайте, Мечислав, -- запротестовал Мордехай. -- Это ведь
просто невозможно, скажу вам. Как могли нацисты переправить бомбу из
взрывчатого металла в Лодзь так, чтобы об этом не знали ни мы, ни ящеры, ни
польская армия?
-- Я ничего не знаю, -- ответил Мечислав. -- Был слух, что они это
сделали. Я должен сказать вам, что кто-то находился в доме Лейба в
Хрубешове. Означает это для вас что-нибудь?
-- Может быть, да, может быть, нет, -- сказал Анелевич с глубочайшим
безразличием, какое только мог изобразить.
Он не хотел, чтобы поляк знал, как это его потрясло. Генрих Ягер
останавливался у еврея по имени Лейб, когда перевозил из Советского Союза в
Германию взрывчатый металл. Следовательно, сообщение подлинное: кто еще мог
бы знать об этом? Подробность была не такого рода, чтобы о ней упомянули в
отчете. Мордехай настороженно спросил:
-- Что еще вы слышали?
-- Она где-то в гетто, -- сказал Мечислав. -- Не имею ни малейшего
представления, где именно, поэтому не теряйте времени на расспросы. Если бы
не перемирие, всем вам, жидам, сейчас бы уже поджаривали пятки в аду.
-- Я вас тоже люблю, Мечислав, -- сказал Анелевич. Поляк хмыкнул, не
понимая. Мордехай топнул ногой по грязи.
-- Что это за человек? -- спросил Мечислав.
Мордехай не ответил ему -- возможно, вообще не слышал. Как Скорцени
переправил бомбу из взрывчатого металла в Лодзь, минуя всех? Как он доставил
ее в еврейский район? Как он выбрался оттуда потом? Хорошие вопросы, беда
только в том, что у Мордехая не было ответа ни на один.
И еще один вопрос перекрывал все остальные. "Где бомба?"
Это беспокоило его на протяжении всего пути обратно в Лодзь -- как
застрявший между зубами кусочек хряща беспокоит язык. Этот хрящ все еще
досаждал ему, когда он вошел в помещение пожарной команды на Лутомирской
улице. Соломон Грувер копался в моторе пожарной машины.
-- Отчего такое вытянутое лицо? -- спросил он, отрываясь от работы.
Он был далеко не единственным, кто мог услышать разговор. Менее всего
Анелевич хотел бы посеять в гетто панику.
-- Пойдем со мной наверх, -- сказал он как можно более обыденным тоном.
Длинное лицо Грувера помрачнело. Он вообще выглядел угрюмым --
кустистые брови, резкие черты лица и густая седеющая борода. Когда он
мрачнел, то выглядел так, будто только что умер его лучший друг. Он положил
ключ и последовал за Мордехаем в комнату наверху, где обычно встречались
руководители еврейского Сопротивления.
На лестнице он тихо сказал:
-- Берта здесь. Она узнала что-то интересное -- что именно, я не знаю
-- и сейчас как раз рассказывает. Может она знать о том, что принесли вы?
-- Лучше, чтобы так, -- сказал Анелевич. -- Если мы не сможем
справиться с этим сами, нам придется оповестить банду Румковского, а может
быть, даже ящеров, хотя это уж самое последнее дело.
-- Ой! -- Брови Грувера зашевелились. -- Что бы это ни было, оно должно
быть плохим.
-- Нет, не плохим, -- сказал Мордехай.
Грувер бросил на него вопросительный взгляд.
-- Хуже, -- уточнил Анелевич, когда они добрались до верха лестницы.
Грувер заворчал. Каждый раз, когда Анелевич отрывал ногу от потертого
линолеума, он задумывался, успеет ли снова поставить ее на пол. Это уже было
не в его власти. Если Отто Скорцени нажмет кнопку или щелкнет выключателем
на радиопередатчике, то Мордехай Анелевич исчезнет, и, возможно, так быстро,
что не успеет понять, что он уже мертв.
Он рассмеялся. Соломон Грувер уставился на него.
-- Вы принесли такую весть и еще нашли что-то забавное?
-- Возможно, -- ответил Анелевич.
Именно в эту минуту Скорцени должен быть очень огорчен. Он рисковал
жизнью, переправляя бомбу в Лодзь (Анелевич знал, какое мужество для этого
требовалось), но по времени он просчитался. Он не сможет взорвать ее сейчас,
не разрушив только что достигнутое перемирие между ящерами и рейхом.
Два серьезного вида еврея вышли из комнаты.
-- Мы позаботимся об этом, -- пообещал один из них Берте Флейшман.
-- Благодарю, Михаил, -- сказала она и почти натолкнулась на Анелевича
и Грувера. -- Привет! Я не ожидала увидеть вас здесь.
-- Мордехай наткнулся на что-то интересное, -- сказал Соломон Грувер.
-- Что -- один бог знает, потому что он не говорит. -- Он посмотрел на
Мордехая. -- Во всяком случае, пока не говорит.
-- Теперь скажу, -- сказал Анелевич.
Он вошел в комнату. Когда Грувер и Берта Флейшман вошли за ним, он
закрыл дверь и мелодраматическим жестом повернул ключ. У Берты брови
поползли на лоб -- как только что у Грувера.
Мордехай говорил минут десять, передавая как можно точнее то, что
сказал ему Мечислав. Когда он закончил, он понял, что этого слишком мало.
-- Я не верю ни единому слову. Это просто проклятые нацисты стараются
нас распугать и заставить разбежаться, как цыплят на птичьем дворе. --
Грувер покачал головой, повторяя: -- Я не верю ни слову.
-- Я бы тоже не поверил, если бы сообщение направил нам кто-то другой,
а не Ягер, -- сказал Анелевич. -- Если бы не он, вы знаете, что сделала бы с
нами бомба с нервно-паралитическим газом. -- Он повернулся к Берте. -- А что
думаете вы?
-- Насколько я себе представляю, не имеет значения, верно это или нет,
-- ответила она. -- Мы должны действовать так, как будто она существует, не
так ли? Мы не можем позволить себе игнорировать это.
-- Фу! -- сказал с отвращением Грувер. -- Мы потратим время и силы и
чего мы достигнем? Ничего.
-- Возможно, вы правы, и искать нечего, -- сказал Мордехай. -- Но
предположим -- только предположим, -- вы ошибаетесь, и бомба находится
здесь. Что тогда? Может быть, мы найдем ее. Это было бы хорошо: заполучив
свою собственную бомбу, мы могли бы управлять ящерами и нацистами. Может
быть, ее найдут ящеры, используют это как оправдание и взорвут где-то еще
какой-то город -- посмотрите, что случилось с Копенгагеном. Или, может быть,
ее не найдем ни мы, ни ящеры. Представьте себе, что сорвались переговоры о
перемирии! Все, что требуется Скорцени, так это включить передатчик и...
Соломон Грувер поморщился.
-- Ладно. Вы убедили меня, черт бы вас побрал. Теперь мы должны
попытаться найти эту проклятую штуку -- если, как я сказал, ее можно найти.
-- Она где-то здесь, в нашей части города, -- сказал Анелевич, словно
его и не прерывали. -- Как мог эсэсовец переправить ее сюда? Где он мог ее
спрятать, если он это сделал?
-- Насколько она велика? -- спросила Берта. -- От этого может зависеть,
куда он мог ее поместить.
-- Она не может быть маленькой и не может быть легкой, -- ответил
Анелевич. -- Если бы так, то немцы могли бы доставлять эти бомбы на
самолетах или на ракетах. Поскольку они этого не делают, значит, бомбу
нельзя спрятать за чайником в вашей кухне.
-- Разумная мысль, -- отметил Грувер. -- Это существенный аргумент.
Количество мест, где может оказаться бомба -- если она вообще есть, --
ограничено.
Он упрямо отказывался признать, что такое возможно.
-- Поблизости от фабрик, -- сказала Берта Флейшман. -- Это место, с
которого надо начать.
-- Да, одно место, -- сказал Грувер. -- Большое такое место. Здесь,
вокруг гетто, десятки фабрик. Сапоги, патронные гильзы, рюкзаки -- мы делали
множество вещей для нацистов и по-прежнему делаем большинство из них для
ящеров. И где именно вы хотели бы начать?
-- Я скорее начат бы не с них, -- сказал Анелевич. -- Как вы сказали,
Соломон, они слишком велики. У нас может не оказаться достаточно времени.
Вероятно, все зависит от того, как скоро ящеры и нацисты рассорятся. Какое
же наиболее вероятное место, куда эсэсовский негодяй мог спрятать большую
бомбу?
-- А как можно определить, какое место он счел подходящим? -- спросил
Соломон Грувер.
-- Он не мог долго находиться в Лодзи. Он хотел спрятать эту штуку на
короткое время, убежать и затем взорвать. Ему не требовалось прятать ее
очень долго или очень хорошо. Но тут наступило перемирие, которое усложнило
его жизнь -- и, может быть, спасло наши.
-- Если только это не трепотня, чтобы заставить нас побегать, -- сказал
Грувер.
-- Если бы! -- заметил Анелевич.
-- Я знаю, что мы должны проверить, -- сказала Берта Флейшман. --
Кладбище и поля гетто южнее него.
Грувер и Анелевич обернулись к ней. В воздухе грязной комнаты словно
повис вопрос.
-- Если бы я делал эту работу, то выбрал бы именно это место, --
воскликнул Мордехай. -- Лучше не придумать -- ночью спокойно, в земле уже
много готовых ям...
-- В особенности на полях гетто, -- сказала Берта, вдохновленная
случайно сделанным предположением. -- Там так много братских могил, еще со
времен, когда свирепствовали болезни и голод. Кто обратит внимание на одну
новую могилу?
-- Да, если она где-нибудь и прячется, то именно отсюда надо начать
поиски.
-- Я согласен, -- сказал Мордехай. -- Берта, это чудесно. Если даже ты
не права, ты заслуживаешь комплимента.
Он нахмурился, раздумывая, действительно ли она воспримет его слова как
комплимент. Он почувствовал облегчение, когда понял, что не ошибся.
Она улыбнулась ему в ответ. Когда она улыбалась, она переставала быть
незаметной и безымянной. Она не была красивой -- в обычном смысле этого
слова, -- но улыбка придавала ей странное очарование. Она быстро стала
серьезной.
-- Нам понадобятся бойцы, а не просто землекопы, -- сказала она. --
Если мы найдем эту ужасную вещь, кое-кто захочет забрать ее у нас. Я имею в
виду ящеров.
-- Ты снова права, -- сказал Анелевич. -- Когда мы слили
нервно-паралитический газ из нацистской бомбы, то причинили им много опасных
неприятностей. Если у нас будет эта бомба, мы перестанем быть просто
неприятностью, мы обретем настоящую силу.
-- Но не тогда, когда она находится в яме под землей, -- сказал Грувер.
-- Пока она там, мы можем только взорваться вместе с нашими врагами. Это
лучше, чем Масада, но все равно скверно. Совсем скверно. Если мы сможем
вытащить бомбу и переправить ее, куда захотим, -- хорошо. По крайней мере,
для нас.
-- Да, -- выдохнул Мордехай.
Картины решительных действий пронеслись в его голове -- ущерб ящерам и
обвинение в том нацистов, тайная переброска бомбы в Германию и настоящая
месть за то, что сделал рейх с польскими евреями. Но тут в мечты вмешалась
действительность -- как это всегда и бывает.
-- Есть только одна бомба -- если она вообще есть. Мы должны найти ее,
мы должны извлечь ее из земли, если она там, -- вы правы и в том и в другом,
Соломон, -- прежде чем сможем думать, что делать с ней дальше.
-- Если мы отправимся из гетто вместе с половиной бойцов, остальные
люди поймут, что мы преследуем какую-то цель, если даже не поймут, какую
именно, -- сказал Грувер. -- Мы не хотим этого, не так ли? Сначала найдем,
затем посмотрим, сможем ли мы ее вытащить без лишнего шума. Если не
сможем... -- Он пожал плечами.
-- Мы пройдем через кладбище и поля гетто, -- заявил Анелевич: если он
здесь командир, он приказывает. -- Если мы что-нибудь найдем, то решим, что
делать дальше. Если же ничего не найдем, -- он тоже пожал плечами, -- мы
тоже решим, что делать дальше.
-- А если кто-нибудь спросит нас, что мы делаем там, как мы ему
ответим? -- спросил Грувер.
Он был большим мастером находить проблемы. С решением проблем у него
было хуже.
Хороший вопрос. Анелевич почесал голову. Им потребуется объяснение,
причем достаточно безвредное и убедительное. Берта Флейшман предложила:
-- Мы можем сказать людям, что подыскиваем места, где никто не
похоронен, чтобы можно было вырыть в этих местах могилы на тот случай, если
нам придется воевать внутри города.
Анелевич поразмышлял над этим, затем кивнул -- как и Соломон Грувер.
-- Это лучше, чем то, что приходило в голову мне. Послужит неплохим
прикрытием на ближайшие дни, хотя -- бьюсь об заклад -- там не так уж много
свободного места.
-- Слишком много могил, -- тихо сказала Берта.
Мужчины склонили головы.
Кладбище и поля гетто рядом с ним находились в северо-восточном углу
еврейского района Лодзи. Здание пожарной команды на Лутомирской улице
располагалось на юго-западе -- в двух, может быть в двух с половиной,
километрах от него.
Начался мелкий дождь. Анелевич благодарно взглянул на небеса: дождь
обеспечил им большую скрытность.
Белобородый раввин читал похоронную молитву над телом, завернутым в
простыню: дерево для гробов уже давно сделалось роскошью. Позади него, среди
небольшой толпы скорбящих, стоял сгорбленный человек, прижимая обе руки к
лицу, чтобы скрыть рыдания. Может быть, это его жена уходила в грязную
землю? Мордехай никогда не узнает.
Он и его товарищи шли между надгробий -- некоторые стояли прямо, другие
покосились, словно пьяные, -- в поисках свежей земли. Трава кое-где на
кладбище была по колено: за ним плохо ухаживали с тех пор, как немцы
захватили Лодзь, почти пять лет назад.
-- Она поместится в обычную могилу? -- спросил Грувер, задержавшись
возле одной, которой не могло быть более недели.
-- Не знаю, -- ответил Анелевич. Он сделал паузу. -- Нет. Наверное,
нет. Я видел обычные бомбы размером с человека. Самолет такие бомбы
поднимает. Та, что есть у немцев, должна быть больше.
-- Тогда мы напрасно теряем здесь время, -- сказал пожарный. -- Нам
надо идти на поля гетто, к братским могилам.
-- Нет, -- сказала Берта Флейшман. -- Там, где бомба, -- это не должно
выглядеть, как могила. Они могли сделать вид, как будто там был ремонт труб
или что-то еще.
Грувер потер подбородок, затем согласился:
-- Вы правы.
Пожилой человек в длинном черном пальто сидел возле могилы, старая
шляпа, надвинутая на глаза, защищала его лицо от дождя. Он закрыл
молитвенник, который читал, и сунул его в карман. Когда Мордехай и его
товарищи проходили мимо, он кивнул им, но не заговорил.
Прогулка по кладбищу не выявила никаких новых раскопов размером больше
обычных могил. Грувер, на лице которого было написано: "а что я вам
говорил?", Мордехай и Берта направились на юг -- в сторону полей гетто.
Здесь могильных памятников было меньше, и многие из них, как сказал
Соломон Грувер, означали, что в одной могиле погребено множество тел:
мужчины, женщины, дети, умершие от тифа, от туберкулеза, от голода, может
быть -- от разбитых сердец. На многих могилах росла трава. Теперь дела
обстояли заметно лучше. После ухода нацистов времена изменились, и могилы
были Теперь одиночными, а не братскими.
Берта задержалась перед одним крупным захоронением: единственным
надгробием служила обычная доска, отмечающая место вечного упокоения
несчастных там, внизу, да и она повалилась. Нагнувшись, чтобы выправить ее,
Берта нахмурилась.
-- Что это такое? -- спросила она.
Мордехай не мог видеть, что привлекло ее внимание, пока не подошел
ближе. А подойдя, тихо присвистнул. Вдоль доски тянулся провод с изоляцией
цвета старого дерева, его держали два загнутых гвоздя. Гвозди были ржавыми,
так что держали плохо. Провод заканчивался на верхнем крае доски, но шел
снизу, из-под земли.
-- Радиоантенна, -- пробормотал он и дернул. Она не поддавалась. Он
рванул изо всех сил. Проволока оборвалась, и он качнулся назад. Он раскинул
руки, чтобы удержаться от падения. -- Что-то внутри, явно постороннее, --
сказал он.
-- Не может быть, -- проговорил Соломон Грувер. -- Земля-то совсем не
тронутая... -- Он умолк, не договорив, и опустился на колени, не беспокоясь
о том, что сделает мокрая трава с его брюками. -- Посмотрите! -- удивленно
воскликнул он.
Мордехай Анелевич опустился рядом и снова присвистнул.
-- Дерн был вырезан кусками, а затем уложен обратно, -- сказал он,
проводя рукой по стыку. Если бы дождь был сильнее и земля размягчилась,
обнаружить это было бы невозможно. По-настоящему восхитившись, Анелевич
пробормотал: -- Они сделали мозаику и, когда все закончили, уложили кусочки
обратно в том же порядке.
-- А где же земля? -- потребовал ответа Грувер, как будто Анелевич сам
украл ее. -- Если они закопали эту штуку, у них должна была остаться лишняя
земля -- и ее надо было бросить по сторонам ямы, когда они ее копали.
-- А что, если они сначала расстелили брезент и выбрасывали землю на
него? -- предположил Мордехай. -- Вы не представляете себе, какими
аккуратными и предусмотрительными могут быть нацисты, когда делают что-то
подобное. Посмотрите, как они замаскировали антенну. Они не оставляют ни
малейшей возможности обнаружить что-нибудь важное.
-- Если бы эта доска не повалилась... -- потрясенно сказала Берта
Флейшман.
-- Бьюсь об заклад, она так и стояла, когда эсэсовские ублюдки были
здесь, -- сказал ей Анелевич. -- Если бы не ваш зоркий глаз, обнаруживший
антенну...
Он изобразил аплодисменты и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. Она и
в самом деле становится необычной, когда улыбается, подумал он.
-- Где же земля? -- повторил Соломон Грувер, упорствуя в своих
подозрениях и не замечая застывших в немой сцене товарищей, -- Что они с ней
сделали? Они не могли ее высыпать всю обратно.
-- Хотите, чтобы я угадал? -- спросил Мордехай. Пожарный кивнул. --
Если бы я проводил эту операцию, я погрузил бы землю в ту же телегу, в
которой привез бомбу, и отвез бы ее прочь. Накрыл бы брезентом -- и никто бы
ничего не заподозрил.
-- Думаю, вы правы. Думаю, именно так они и сделали. -- Берта Флейшман
посмотрела на оторванную проволоку. -- Теперь бомба не сможет взорваться?
-- Не думаю, -- ответил он. -- По крайней мере, теперь они не смогут
взорвать ее по радио, что уже хорошо. Если бы им не требовалась антенна, они
не стали бы ее здесь ставить.
-- Слава богу, -- сказала она.
-- Так, -- сказал Грувер с таким выражением, словно он по-прежнему не
верит им. -- Значит, теперь у нас есть своя бомба?
-- Если мы разберемся, как взорвать ее, -- ответил Анелевич. -- Если мы
сможем вытащить ее отсюда так, чтобы не заметили ящеры. Если мы сможем
перевезти ее так, чтобы -- боже упаси -- не взорвать ее вместе с собой. Если
мы сможем все это сделать, тогда мы получим собственную бомбу.
* * *
Со лба Ауэрбаха лил пот.
-- Давай же, дорогой. Ты и раньше это делал, помнишь? Давай! Такой
сильный мужчина, как ты, может сделать все, что захочет.
Ауэрбах внутренне собрался, вздохнул, буркнул про себя -- и с усилием,
для которого ему потребовалась вся энергия без остатка, тяжело поднялся на
костыли. Пенни захлопала в ладоши и поцеловала его в щеку.
-- Боже, как тяжело, -- сказал он, с трудом дыша.
Может быть, он проявил легкомыслие, может быть, он слишком долго лежал,
но ему показалось, что земля заколыхалась у него под ногами, как пудинг.
Обходясь одной ногой и двумя костылями, он чувствовал себя неустойчивым
трехногим фотографическим штативом.
Пенни отошла от него на пару шагов, к выходу из палатки.
-- Иди ко мне, -- сказала она.
-- Не думай, что я уже могу, -- ответил Ауэрбах.
Он пробовал костыли всего лишь в третий или четвертый раз. Начать
передвигаться на них было так же тяжело, как завести старый мотор "Нэша" в
снежное утро.
-- О, бьюсь об заклад, ты сможешь.
Пенни провела языком по губам. От полного внутреннего опустошения она
перешла в состояние полного бесстыдства, минуя промежуточные стадии.
Ауэрбах иногда задумывался, не две ли это стороны одной и той же
медали. Но именно сейчас времени размышлять у него не было. Она позвала:
-- Если подойдешь ко мне, вечером я...
То, что сказала она, притянуло бы к ней мужчину, пострадавшего даже
сильнее, чем Ауэрбах. Он наклонился, подпрыгнул на здоровой ноге, выбросил
вперед костыли, подтянул тело, поймал равновесие, выпрямился, затем повторил
это еще раз и оказался рядом с ней.
Снаружи раздался сухой голос:
-- Это лучшее побуждение к физиотерапии, о котором я когда-либо слышал.
Ауэрбах едва не упал. Пенни ойкнула и стала цвета свеклы, растущей в
Колорадо повсюду.
По тому, как начало жечь его собственное лицо, Ауэрбах решил, что и он
такого же цвета.
-- Ух, сэр, это не... -- начал он, но тут его язык запнулся.
В палатку вошел доктор. Это был молодой парень, не из местных и не из
плененных ящерами врачей.
-- Послушайте, меня не волнует, что вы собираетесь делать, не мое это
дело. Вот если от этого вы, солдат, начнете ходить, то это меня уже
касается. -- Он рассудительно сделал паузу. -- По моему профессиональному
мнению, после такого предложения и Лазарь бы поднялся и пошел.
Пенни покраснела еще больше. У Ауэрбаха же опыта общения с армейскими
докторами было побольше. Они всегда старались привести вас в замешательство
и делали это довольно успешно. Он спросил:
-- А кто вы, сэр?
У доктора на погонах были золотые дубовые листья.
-- Меня зовут Хэйуорд Смитсон...
Доктор вопросительно замолчал.
Ауэрбах назвал себя и свой чин. Затем и Пенни Саммерс, заикаясь,
назвала свое имя, истинное. Ауэрбах не удивился, что здесь она называла себя
вымышленным именем. Майор Смитсон продолжил:
-- Теперь, когда действует перемирие, я прибыл из Денвера с инспекцией,
чтобы проверить, как ящеры заботятся о раненых пленных. Я вижу, вы получили
казенные костыли. Это хорошо.
-- Да, сэр, -- ответил Ауэрбах. Его голос был слабым и сиплым, словно
после пятидесяти пачек "Кэмела", выкуренных за полтора часа. -- Я получил их
позавчера.
-- Их дали неделю назад, -- сказала Пенни, -- но Ране -- извините,
капитан Ауэрбах -- совсем не мог двигаться до позавчерашнего дня.
Ауэрбах ожидал, что Смитсон снова вернется к обсуждению предложенного
Пенни средства заставить раненого ходить, но, к его облегчению, Смитсон
оказался милосердным. Может быть, еще раз пошутить показалось ему излишним.
-- Вас ранили в грудь и в ногу, да? И они вас вытащили?
-- Да, сэр, -- ответил Ауэрбах. -- Они сделали для меня все, что могли,
ящеры и люди, которые помогали им. Правда, временами я чувствовал себя
подопытным кроликом, но теперь я на своих двоих -- впрочем, пока на одной,
-- вместо того чтобы занимать место на городском кладбище.
-- Больше бодрости, капитан, -- сказал Смитсон. Он вынул из кармана
блокнот с листами, сшитыми спиралью, авторучку и что-то записал. -- Должен
сказать, на меня произвели благоприятное впечатление те возможности,
которыми располагают ящеры. Они делали для пленных все, что только могли.
-- Они хорошо обращались со мной, -- сказал Ауэрбах. -- Это все, что я
могу вам сказать. Вчера я вышел из этой палатки в самый первый раз.
-- А как вы, мисс... э-э... Саммерс? -- спросил майор Смитсон. --
Полагаю, капитан Ауэрбах не единственный пациент, которого вы выходили?
Ауэрбах искренне надеялся, что является единственным пациентом,
которого Пенни лечила таким своеобразным способом. Он боялся, не заметила ли
она некоторой двусмысленности в вопросе, и ему стало приятно, когда он
понял, что нет.
-- О нет, сэр. Я работала во всем лагере. Они и в самом деле делали
все, что в их силах. Я считаю так.
-- У меня тоже создалось такое впечатление, -- сказал, кивнув, Смитсон.
-- Они делали все, что могли, но я думаю, они были ошеломлены. -- Он устало
вздохнул. -- Думаю, сейчас весь мир ошеломлен.
-- И много здесь раненых, сэр? -- спросил Ауэрбах. -- Как я сказал, я
немногое видел из того, что за пределами палатки, и никто не рассказывал
мне, что здесь, в Карвале, так много раненых пленников. -- Он бросил взгляд
на Пенни, казавшийся осуждающим. Для других медсестер, для измученных
врачей-людей и для ящеров он был всего лишь одним из раненых военнопленных
-- для нее же, как он полагал, он значил нечто большее.
Но Смитсон ответил невнятно:
-- Это не только раненые солдаты, капитан. Это... -- Он покачал головой
и не стал объяснять. -- Вы стоите на ногах уже некоторое время. Почему бы не
выйти и не посмотреть самому? Рядом с вами будет доктор, и кто знает, что
мисс Саммерс сделает для вас или с вами после этого?
Пенни снова вспыхнула. Ауэрбаху хотелось врезать доктору в зубы за
такие разговоры о женщине в ее присутствии, но он был бессилен. И ему было
любопытно, что произошло в мире за пределами палатки, и он уже постоял на
ногах какое-то время, не свалившись.
-- Хорошо, сэр, ведите, -- сказал он, -- но не слишком быстро, я ведь
не собираюсь выиграть состязание в скорости ходьбы.
Хэйуорд Смитсон и Пенни подняли входной клапан двери, чтобы Ране мог
выйти наружу и осмотреться. Он двигался медленно. Когда он вышел на солнце,
то остановился, мигая, пораженный яркостью света. И слезы, которые потекли
из его глаз, были вызваны не солнцем, а радостью: он вышел из заточения,
пусть даже совсем ненадолго.
-- Идемте, -- сказал Смитсон, пристраиваясь слева от Ауэрбаха.
Пенни Саммерс немедленно пристроилась по другую сторону от раненого.
Медленная процессия двинулась по проложенной ящерами дороге между рядами
палаток, скрывавших раненых людей.
Может быть, здесь и не было такого уж большого количества раненых, но
все же для них потребовался целый палаточный городок. Ауэрбах время от
времени слышал человеческие стоны, доносившиеся из ярко-оранжевых скользких
куполов. Доктор и медсестра поспешили увести Ауэрбаха подальше. Это
показалось ему неприятным. Смитсон поцокал языком.
По тому, как он говорил, здесь могла находиться половина Денвера, но --
не похоже. Ауэрбах терялся в догадках, пока не добрался до перекрестка
своего ряда палаток с другим, перпендикулярным. Если посмотреть от
перекрестка в одну сторону, то можно было увидеть то, что осталось от
небольшого городка Карваля -- другими словами, почти ничего. А если
посмотреть в другую сторону, наблюдалась совсем другая картина.
Он не мог и предположить, сколько беженцев поселилось в примыкающем к
ровным рядам палаток городке, построенном из всякого хлама.
-- Это просто новый Гувервилль, -- сказал он, недоверчиво рассматривая
его.
-- Это хуже, чем Гувервилль, -- мрачно ответил Смитсон. -- В
большинстве Гувервиллей для строительства хижин использовались ящики, доски
и листовой металл. Здесь, в центре этого ничто, таких материалов осталось
немного. Но люди все равно идут сюда, за многие мили.
-- Я видела, как все это происходит, -- сказала Пенни, кивнув. -- Здесь
есть пища и вода для пленных, поэтому люди идут сюда в надежде тоже получить
что-нибудь. Людям больше некуда деться, поэтому они продолжают прибывать.
-- Боже, -- проговорил Ауэрбах своим скрежещущим голосом. -- Просто
чудо, что они не пробуют проникнуть в палатки и украсть то, чего не хотят
дать им ящеры.
-- А помнишь стрельбу прошлой ночью? -- спросила Пенни. -- Двое людей
попытались проделать это. Ящеры пристрелили их, как собак. Не думаю, что еще
кто-нибудь попытается незаметно пробраться туда, куда не допускают их ящеры.
-- Незаметно для ящеров пробраться сюда в любом случае нелегко, --
сказал доктор Смитсон.
Ауэрбах посмотрел на себя, на свое побитое тело, которое он должен
таскать до конца жизни.
-- Так и есть, я сам убедился в этом. И тайно сбежать от них тоже
нелегко.
-- А в Денвере есть доктора-ящеры, которые присматривают за своими
пленными сородичами?
-- Да, и это входит в условия перемирия, -- ответил Смитсон. -- И я,
пожалуй, хотел бы остаться в городе, чтобы посмотреть на их работу. Если мы
не будем воевать, они смогут двинуть нашу медицину на столетие вперед за
ближайшие десять-пятнадцать лет. Нам надо так многому научиться! -- Он
вздохнул. -- Но эта работа тоже важна. Мы можем даже наладить
крупномасштабный обмен раненых людей на раненых ящеров.
-- Это было бы неплохо, -- сказал Ауэрбах.
Затем он посмотрел на Пенни, лицо ее отражало крайнее напряжение. Она
ведь не была раненым военнопленным. Она снова повернулась к Смитсону.
-- А не воевавших людей ящеры отпустят?
-- Не знаю, -- ответил доктор. -- Но я понимаю, почему вы спрашиваете.
Если дойдет до обмена -- гарантий никаких, -- я узнаю, что я смогу сделать
для вас. Ну, как?
-- Благодарю вас, сэр, -- сказал Ауэрбах, и Пенни кивнула.
Взгляд Ауэрбаха скользнул по брезентовым палаткам, старым телегам и
шалашам из кустарника, где обитали американцы, явившиеся в Карваль, чтобы
просить милостыню у ящеров. Невозможная мысль -- как удар в зубы: что война
сделала со страной! Он оглядел себя.
-- Знаете что? Я, в конце концов, не так уж плох.
* * *
Гудение самолета человеческого производства над Каиром заставило Мойше
Русецкого поспешить к окну его номера-камеры, чтобы посмотреть на машину. И
действительно, в небе летел самолет, окрашенный в лимонный цвет в знак
перемирия.
-- Интересно, кто в нем? -- обратился он к Ривке.
-- Ты сказал, Молотов уже здесь, -- ответила она, -- так что остается
фон Риббентроп, -- ту! на обоих лицах отразилось отвращение, -- и
американский министр иностранных дел, не помню, как его.
-- Маршалл, -- сказал Мойше. -- И по какой-то причине он называется
государственным секретарем.
Он поглощал, как губка, всякие пустяки: именно благодаря этому он так
легко учился в медицинской школе. Если бы его интересы лежали в какой-либо
другой области, он мог бы стать замечательным yeshiva-bucher [Ученым (ид.)].
Он снова повернулся к окну. Желтый самолет снижался, заходя на посадку на
аэродром к востоку от города.
-- Это не "Дакота". Думаю, что Маршалл прилетит на "Дакоте". Так что
это, вероятно, немецкий самолет.
Ривка вздохнула.
-- Если увидишь Риббентропа, скажи ему, что каждый еврей в мире желает
ему холеры.
-- Если он этого еще не знает, то он глуп, -- сказал Мойше.
-- Все равно скажи ему это, -- продолжила его жена. -- Раз у тебя будет
возможность сказать, не упусти ее. -- Гул моторов затих. Ривка несколько
натянуто рассмеялась. -- Надо привыкать к этому звуку, как само собой
разумеющемуся. Слышать его здесь, слышать его сейчас -- это очень странно.
Мойше кивнул.
-- Когда мирные переговоры только начинались, ящеры настаивали, чтобы
все прилетали сюда на их самолетах. Я полагаю, что им не хотелось, чтобы
нацисты -- или кто-нибудь еще -- послали сюда самолеты с грузом бомб вместо
дипломатов. Атвар был очень смущен, когда немцы, русские и американцы -- все
сказали "нет". Ящеры и в самом деле не понимали, что все переговоры ведутся
на равных. Ничего подобного раньше у них не было, они ведь привыкли
диктовать.
-- Будет исполнено, -- сказала она на шипящем языке чужаков. Каждый,
кто долго находился рядом с ними, знал эту фразу. Она продолжила на идиш. --
Вот так они думают. Это, наверное, их единственный образ мышления.
-- Я знаю, -- ответил Мойше. Он говорил так, словно бился головой в
стену. -- Слишком хорошо знаю.
Через громкоговорители муэдзины призвали правоверных к молитве. Каир
ненадолго притих. Еще один ярко-желтый самолет пролетел низко над городом к
аэропорту.
-- Вот это "Дакота", -- сказала Ривка, подойдя к стоящему у окна Мойше.
-- Значит, Маршалл теперь тоже здесь.
-- Значит, это он, -- ответил Мойше. Он почувствовал себя так, словно
расставлял фигуры на шахматной доске, как когда-то в Варшаве, и только что
поставил в надлежащее место последние две фигуры. -- Посмотрим, что будет
дальше.
-- Что ты скажешь Атвару, если он вызовет тебя и спросит, что ты
думаешь об этих людях? -- спросила Ривка.
Мойше изобразил несколько щелчков и хлопков.
-- Благородный адмирал?
Ривка бросила на него предостерегающий взгляд, означавший: "не старайся
быть забавным". Он вздохнул:
-- Не знаю. Я даже не понимаю, зачем он вызывает меня и задает свои
вопросы. Я не был...
Ривка поспешным жестом остановила его. Мойше замолк. Он собирался
сказать, что никогда не был возле людей такого уровня. Ривка была права.
Ящеры наверняка прослушивали каждое его слово. Если они не понимали,
насколько мелкой пташкой он является, не стоит разубеждать их. Подумав, он
решил, что, изображая себя более важным, чем на самом деле, он добьется
лучшего обращения с собой и большей безопасности.
И действительно, через пару часов в номер отеля вошел Золрааг и
объявил:
-- Вас вызывают в штаб благородного адмирала Атвара. Вы идете
немедленно.
-- Будет исполнено, благородный господин, -- ответил Мойше.
Ящеры определенно не собирались обращаться с ним как с равным. Они
говорили ему, куда идти и что делать, и он подчинялся.
Охранники не казались жаждущими пристрелить его, как это было, когда
ящеры перевезли его в Каир. Но они по-прежнему обращались с ним грубо и
возили в бронированной военной машине, самом негодном для человека средстве
передвижения из всех, когда-либо изобретенных.
На пути к штабу Атвара Золрааг заметил:
-- Ваша проницательность в отношении политических стратегий, которые
могут быть использованы, представляет интерес для благородного адмирала.
Поскольку вы сами возглавляли не-империю, то подготовлены к важным
переговорам с другими такими же тосевитскими самцами.
-- Это определенно лучше, чем быть расстрелянным, -- мрачно сказал
Мойше.
Он был рад, что научился держаться соответствующим образом. Да,
короткое время после прихода ящеров он возглавлял евреев в Польше, пока не
понял, что не может больше подчиняться захватчикам. Представить, что он
возвысился до уровня Гитлера, Халла и Сталина, -- для этого надо было иметь
очень живое и богатое воображение. Насколько он знал, все, что было меньше
планеты, ящеры считали слишком мелким, чтобы беспокоиться о незначительных
отличиях. Для него эти отличия вовсе не были незначительными, но он -- слава
богу! -- не был ящером.
Атвар накинулся на него сразу же, едва он вошел в уставленную машинами
комнату, которую занимал главнокомандующий.
-- Если мы заключим соглашение с этими самцами, как вы считаете, они
будут соблюдать его? -- потребовал он ответа, заставив Золраага перевести
его слова на польский и немецкий.
Он говорил с человеком, который сам видел, как Польшу разодрали на
части Германия и СССР, заключившие свое секретное соглашение, и как они
начали войну между собой менее чем через два года после этого, несмотря на
то что соглашение формально еще действовало. Осторожно подбирая слова, Мойше
ответил:
-- Они будут соблюдать его -- но только до тех пор, пока соглашение
будет соответствовать их интересам.
Адмирал разразился нераспознаваемыми звуками. Золрааг снова перевел:
-- Значит, вы говорите, что эти тосевитские самцы вообще ненадежны?
По правилам, которых придерживались ящеры, ответ должен был быть --
"нет". Мойше не считал, что такой прямой ответ помог бы остановить войну. Он
сказал:
-- Вы можете предложить многое, что будет в их интересах. Если,
например, вы и они договоритесь об условиях вывода ваших самцов из их стран,
они, вероятно, будут соблюдать любые соглашения, которые предотвратят
возвращение Расы.
Судя по усилиям Золраага в Варшаве, ящеры имели о дипломатии весьма
смутное представление. Факты, очевидные для любого человека, даже для не
имеющего опыта правителя -- например, для самого Мойше, -- временами
поражали чужаков, как настоящее открытие. А временами, несмотря на искреннее
желание понять, они были не в состоянии сделать это.
Так и теперь -- Атвар сказал:
-- Но если мы уступим требованиям этих настойчивых тосевитов, мы внушим
им мысль о равенстве с нами. -- Через мгновение он добавил: -- А если они
поверят в равенство с нами, то вскоре они начнут думать, что они превосходят
нас.
Последнее замечание напомнило Мойше о том, что ящеры вовсе не дураки:
они могут быть невежественны в том. как одна нация обращается с другой, но
они не глупы. Игнорировать различие было бы смертельно опасно. Мойше
осторожно сказал:
-- То, что вы уже сделали, должно отчетливо доказать им, что они не
превосходят вас. А то, что они сделали против вас, должно показать вам, что
и вы не превосходите их, как вы думали вначале, когда пришли в этот мир.
Когда ни одна сторона не превосходит другую, разве не лучше договариваться,
чем воевать?
После того как Золрааг перевел, Атвар уставился на Русецкого
уничтожающим взглядом:
-- Когда мы пришли на Тосев-3, то думали, что вы, Большие Уроды, все
еще те варвары с копьями, какими вас показывали наши космические зонды. Но
очень скоро мы обнаружили, что мы не в такой степени превосходим вас, как мы
считали, когда погружались в холодный сон на время полета. Это самое
неприятное открытие, когда-либо сделанное Расой. -- Он добавил усиливающее
покашливание.
-- Здесь ничто не остается неизменным, тем более -- на долгое время, --
сказал Мойше.
Некоторые польские евреи старались остановить время, чтобы жить так,
как они жили до эпохи Просвещения и до того, как по Европе прошла
промышленная революция. Они даже думали, что у них это получилось -- пока
нацисты не обрушили на них все худшее в современном мире.
Мойше говорил с гордостью. Это не могло оставить равнодушным
главнокомандующего флотом вторжения. Атвар возбужденно ответил:
-- В этом-то и беда ваша, тосевиты. Вы слишком изменчивы. Возможно, мы
заключим сейчас мир с вами, с такими, какие вы есть. Но будете ли вы такими,
какие вы сейчас, когда прибудет флот колонизации? Можно посомневаться.
Какими вы будете? Чего будете хотеть? Что вы будете знать?
-- У меня нет ответов на эти вопросы, благородный адмирал, -- тихо
сказал Мойше.
Он подумал о Польше, у которой была большая армия, хорошо
подготовленная для войны на том уровне, какой был привычен на одно поколение
раньше. Против вермахта поляки бились храбро -- и тщетно: за какие-то две
недели они пришли к позорному разгрому. Они просмотрели то, как изменились
правила войны.
-- У меня тоже нет ответов на эти вопросы, -- сказал Атвар.
В отличие от польской армии он. по крайней мере, ощущал возможность
изменений. Они пугали его больше, чем набожных евреев, которые старались не
замечать ни Вольтера, ни Дарвина, ни Маркса, ни Круппа, ни Эдисона и братьев
Райт. Адмирал продолжил:
-- Я должен быть уверен, что этот мир останется в целости и будет готов
к заселению самцами и самками из флота колонизации.
-- Этот вопрос вы должны задать себе, благородный адмирал, -- сказал
Мойше, -- хотите ли вы иметь часть мира, готового для заселения, или же
весь, но в руинах?
-- Истинно, -- сказал Атвар. -- Но возникает и другой вопрос: если мы
теперь оставим вам, тосевитам, часть земной поверхности этого мира на ваших
условиях, то для чего вы используете образовавшуюся базу в промежутке
времени от данного момента до прибытия флота колонизации? Следует ли нам
закончить войну теперь, но заложить яйца для следующей, более
крупномасштабной? Вы сами тосевит, ваши соплеменники сделали немного, но
вели одну войну за другой. Как вы себе это представляете?
Мойше предположил, что должен быть благодарен адмиралу за то, что тот
использует его в качестве звучащего учебника вместо того, чтобы просто
расстрелять. И он был благодарен, пока Атвар не задал еще один вопрос, не
имевший ответа.
-- Временами одна война обусловливает другую. Последняя большая война,
которую мы вели, началась тридцать лет назад. Она посеяла семя для этой
новой. Но мир с другими свойствами может удержать мир от такой войны.
-- Может, -- печальным эхом отозвался главнокомандующий. -- Но я не
могу принять "может". Мне нужна определенность, а ее нет в вашем мире. Даже
вы, Большие Уроды, не можете договориться. Возьмите Польшу, где вы жили, а
Золрааг был администратором. Немцы считают ее своей, потому что они там
были, когда Раса пришла на То-сев-3. СССР претендует на половину ее по
соглашению, которое, по их словам, нарушила Германия. А местные тосевиты
утверждают, что она не принадлежит ни одной из этих не-империй, но только им
самим. Если мы покинем Польшу, кому по справедливости мы должны вернуть ее?
-- Польша, благородный адмирал, -- это место, которое, я надеюсь, вы не
покинете, -- сказал Мойше.
-- Несмотря на то, что вы сделали все, чтобы затруднить наше пребывание
там? -- спросил Атвар. -- Вы можете иметь яйцо, Мойше Русецкий, или же
детеныша. Но одновременно и то и другое иметь вы не можете.
-- Я понимаю, -- сказал Мойше, -- но Польша -- это особый случай.
-- На Тосев-3 все случаи особые -- спросите Больших Уродов, -- ответил
Атвар. -- Еще одна причина ненавидеть этот мир.
Вячеслав Молотов выпил очередной стакан чая со льдом, сделав посредине
этого процесса паузу -- чтобы проглотить пару соляных таблеток. Жара в Каире
была невероятной, нервирующей, даже смертельно опасной: один из его
помощников полковник НКВД Серов, который говорил на языке ящеров бегло, как
никто другой в Советском Союзе, пострадал от теплового удара и теперь
поправлялся в госпитальной палате с кондиционированным воздухом. Госпиталь
устроили англичане для лечения своих соотечественников, пострадавших таким
же образом.
Ни отель "Семирамида", в котором поселились советская делегация и
другие дипломаты-люди, ни отель "Шепхед", где проходили переговоры, не могли
похвастаться кондиционированием. Советская делегация держала постоянно
включенными вентиляторы, и поэтому все бумаги требовалось придавливать,
чтобы они не разлетелись по комнате. Даже когда вентиляторы работали,
воздух, который они гнали, был горячим.
Во время переговоров вентиляторы не включались. Ящеры, как, к своему
неудовольствию, обнаружил Молотов, еще когда впервые летал на один из их
космических кораблей для обсуждения военных вопросов с адмиралом Атваром,
наслаждались жарой. До того как полковник Серов пал жертвой служебного
долга, он докладывал, что ящеры постоянно говорят о том, какая хорошая в
Каире погода -- почти такая, как у них дома.
Молотов подошел к шкафу и вынул темно-синий галстук. Застегивая ворот
рубашки, он позволил себе краткий мученический вздох: здесь, в Каире, он
позавидовал ящерам с их телом, покрытым всего лишь краской. Затягивая узел
галстука, он подумал, что имеет преимущество перед большинством коллег. У
него была тонкая шея, что позволяло воздуху циркулировать под рубашкой.
Большинство советских представителей имели обличье быка, двойные подбородки
и жирные складки на шеях. Для них тесный воротник и затянутый галстук
становились невыносимой пыткой.
На мгновение он подумал, как наслаждаются пленные ящеры в трудовых
лагерях СССР к северо-востоку от Ленинграда и в северных областях Сибири. И
как они еще будут наслаждаться, когда придет февраль.
-- Точно так, как я сейчас наслаждаюсь Каиром, -- проговорил он,
проверяя в зеркале, ровно ли повязан галстук.
Удовлетворенный, он надел шляпу и спустился по лестнице, чтобы
дождаться транспортного средства ящеров, которое должно доставить его на
очередное заседание.
Его переводчик, похожий на птицу человечек по имени Яков Донской, уже
расхаживал по холлу отеля. Он расцвел улыбкой, увидев подходившего Молотова.
-- Доброе утро, товарищ народный комиссар, -- сказал он. Для него
появление Молотова означало, что все встало на свое место.
-- Доброе утро, Яков Вениаминович, -- ответил Молотов и внимательно
посмотрел на часы. Ящеры...
Точно в назначенное время бронированное транспортное средство
остановилось перед отелем. Он все ждал, что когда-нибудь ящеры опоздают, но
этого никогда не случалось. Донской сказал:
-- Я уже некоторое время нахожусь здесь. Риббентроп уехал сорок минут
назад, Маршалл -- примерно через двадцать минут. Что было раньше, не знаю.
Ящеры перевозили людей-дипломатов по отдельности. Молотов предполагал,
что тем самым они не позволяли им договариваться между собой. Эта тактика
давала им определенные преимущества. Люди не решались слишком свободно
общаться между собой и в самом отеле. НКВД обследовало комнату Молотова на
предмет подслушивающих устройств. Он был уверен, что другие разведывательные
службы проделали то же самое в помещениях своих руководителей. Но он
настолько же был уверен, что они ничего не нашли. Ящеры в этом виде
технологии слишком далеко ушли от человечества.
Он повернулся к Донскому.
-- Скажите ящерам, что было бы "культурно", если они бы устроили в
машине сиденья, более подходящие к формам нижней части тела человека.
Донской обратился к ящеру с наиболее замысловатой раскраской, но не на
их языке, а на английском, на котором велись переговоры. Это был родной язык
Джорджа Маршалла и Энтони Идена, фон Риббентроп и Шигенори Того говорили на
нем достаточно бегло. Иден и Того формально не были участниками переговоров,
но ящеры разрешили им присутствовать на заседаниях.
Ящер ответил Донскому на английском, который для Молотова звучал так
же, как родной язык чужаков. Переводчик, однако, понял ответ -- ведь это
была его работа. Он перевел:
-- Струксс говорит: "нет". Он говорит, что мы должны быть благодарны им
за то, что они ведут с нами переговоры вообще, и нечего просить у них того,
чего они не могут обеспечить.
-- Скажите ему, что он "некультурный", -- сказал Молотов. -- Скажите,
что он -- невежественный варвар и что даже нацисты, которых я ненавижу,
больше понимают в дипломатии, чем его род, и что его вышестоящие начальники
узнают о его высокомерии. Переведите ему мои слова в точности.
Донской заговорил по-английски. Ящер издал жуткий шипящий звук, затем
ответил.
-- Он говорит, причем с таким видом, что делает огромную уступку, что
он посмотрит, можно ли что-нибудь сделать. Я понимаю это так, что он
сделает, как вы сказали.
-- Очень хорошо, -- самодовольно сказал Молотов. В определенном
отношении ящеры были очень схожи с его собственным народом: если вы убедите
кого-то, что ваше положение выше, он будет пресмыкаться перед вами, но будет
тиранить вас, если выше по рангу сочтет себя.
Бронированная машина -- гораздо менее шумная и менее пахнущая, чем ее
аналоги человеческого производства, -- затормозила перед отелем "Шепхед",
где помещалась штаб-квартира Атвара. Молотову показалось забавным и
показательным, что ящеры выбрали для себя отель, который имел самый высокий
статус во времена британского колониального режима.
Он вышел из машины ящеров с облегчением, и не только потому, что
сиденье не соответствовало его телу, но и потому, что внутри было еще жарче.
Струксс повел его и Якова Донского в комнату заседаний, в которой остальные
представители людей сидели, изнемогая от жары, в ожидании, когда соизволит
появиться Атвар. Джордж Маршалл попивал ледяной чай и обмахивался веером,
который он, вероятно, привез из дома. Молотов пожалел, что не захватил с
собой или не приобрел подобное приспособление. Мундир Маршалла выглядел
свежим и накрахмаленным.
Молотов через Донского попросил слугу-египтянина, маячившего в углу
зала, подать ледяного чая. Неудивительно, что тот оказался знающим
английский язык. Поклонившись Молотову -- который сохранял спокойное
выражение лица, презирая себя за такую уступку, -- он поспешил удалиться,
чтобы тут же вернуться с высоким запотевшим бокалом. Молотову хотелось
прижать бокал к щеке, прежде чем пить, но он удержался. Веер был бы более
пристойным.
Через несколько минут появился Атвар, сопровождаемый ящером с гораздо
менее замысловатой раскраской -- своим переводчиком. Делегаты-люди встали и
поклонились. Ящер-переводчик обратился к ним на английском, который казался
гораздо более правильным, чем тот, на котором говорил Струксс. Яков Донской
перевел Молотову:
-- Адмирал Атвар с признательностью воспринимает вежливость и
благодарит за это.
Фон Риббентроп пробормотал что-то на немецком языке, который Донской
тоже понимал.
-- Он сказал, что им следовало бы проявить больше вежливости по
отношению к нам теперь и вообще отнестись к нам с большей вежливостью с
самого начала.
Как и почти все, что говорил нацистский министр иностранных дел,
заявление было в равной степени верно и бесполезно. Фон Риббентроп, плотного
сложения, в тесном воротнике и с белым лицом, был похож на вареную свинину с
голубыми глазами. Насколько представлял себе Молотов, у него и мозги были,
как у вареной свинины, Но ради интересов народного фронта он удержался от
колкости.
Донской стал переводить слово за словом.
Иден спросил Атвара:
-- Должен ли я понимать, что мое присутствие здесь означает: Раса
распространяет прекращение огня и на Великобританию точно так, как на других
участников войны, представленных за этим столом?
Красивый англичанин -- второе "я" Черчилля -- уже задавал свой вопрос
раньше, но не получал прямого ответа. На этот раз Атвар ответил.
Переводчик-ящер, только что переводивший вопрос Идена, теперь передал
по-английски ответ Атвара.
-- Благородный адмирал в своей щедрости решил, что перемирие
распространяется и на ваш остров. Оно не распространяется ни на одну из
других территорий вашей империи за морем от вас и от этого острова.
Энтони Иден, хотя и умел сохранять невозмутимость, все же не дотягивал
до уровня Молотова. Советский министр иностранных дел без труда обнаружил
его ужас. Как и предсказывал Сталин, Британская империя уже мертва, и ее
смерть возвестило зелено-коричневое существо ростом с ребенка, с острыми
зубами и поворачивающимися на бугорках глазами. "Несмотря на весь ваш
героизм, диалектика приговаривает вас к свалке истории, -- подумал Молотов.
-- Даже и без ящеров это все равно случилось бы".
Джордж Маршалл:
-- Для нас, адмирал, перемирия недостаточно. Мы хотим, чтобы вы ушли с
нашей земли, и мы подготовились к тому, чтобы нанести еще больший ущерб
вашим соплеменникам, если вы не покинете землю добровольно и быстро.
-- Германский рейх высказывает то же самое требование, -- заявил фон
Риббентроп помпезно. -- Фюрер настаивает на полном освобождении территории,
добровольно находившихся под покровительством рейха и его союзников, включая
Италию, на момент, когда вы и ваш народ прибыли из глубин космоса.
Как считал Молотов, ни одна из стран не находилась под покровительством
рейха добровольно. Однако не это беспокоило его в данный момент. Прежде чем
Атвар ответил фон Риббентропу, Молотов резко сказал:
-- Большая часть территорий, на которые предъявляют свои требования
немцы, была незаконно отторгнута от миролюбивых рабочих и крестьян
Советского Союза, которому, как справедливо требует товарищ Сталин,
генеральный секретарь коммунистической партии большевиков, они и должны быть
возвращены.
-- Если вы, тосевиты, не можете договориться, где проходят границы
ваших империй и не-империй, почему вы ждете, что мы сделаем это за вас? --
спросил Атвар.
Фон Риббентроп посмотрел на Молотова, который ответил ему каменной
невозмутимостью. Они оба могли быть союзниками в борьбе против ящеров, но
друзьями -- ни теперь, ни в будущем -- они не будут никогда.
-- Может быть, -- сказал Шигенори Того, -- поскольку такая ситуация
нетипична, то оба государства людей согласятся на то, чтобы Раса оставила за
собой некоторую территорию между ними, которая служила бы буфером и помогала
бы в установлении и поддержании мира во всем нашем мире.
-- Необходимо уточнить границы этой территории, но в принципе идея
приемлема для Советского Союза, -- сказал Молотов. С учетом германских
успехов не только с бомбами из взрывчатого металла, но и с
нервно-паралитическим газом и управляемыми ракетами большого радиуса
действия, Сталин хотел бы иметь буфер между советской границей и фашистской
Германией. -- Поскольку Раса уже находится в Польше...
-- Нет! -- сердито прервал его фон Риббентроп. -- Для рейха это
неприемлемо. Мы настаиваем на полном выводе, и мы продолжим войну, пока не
добьемся этого. Так заявил фюрер.
-- Фюрер много чего заявлял, -- не без удовольствия сказал Энтони Иден.
-- Например, "Судеты -- последняя территориальная претензия, которая есть у
меня в Европе". Заявление вовсе не означает соответствия реальности.
-- Если фюрер обещает войну, то он ее начинает, -- ответил фон
Риббентроп, и это возражение Молотову показалось более удачным, чем можно
было ожидать от Риббентропа.
Джордж Маршалл кашлянул, затем сказал:
-- Если уж мы перешли на цитаты, джентльмены, то позвольте привести
цитату из Бена Франклина, подходящую к нынешним обстоятельствам. "Мы должны
все быть в одной связке, или же нас повесят по отдельности".
Яков Донской прошептал перевод Молотову, затем добавил:
-- На английском это игра слов, которую я не могу передать по-русски.
-- К черту игру слов, -- ответил Молотов. -- Скажите им, что Франклин
прав, и Маршалл тоже прав. Если мы собираемся образовать народный фронт
против ящеров, то надо забыть об удовольствии целиться друг в друга. -- Он
дождался, когда Донской закончит перевод, затем добавил, но уже для самого
переводчика:
-- Если я лишен удовольствия сказать Риббентропу то, что я о нем думаю,
я хотел бы, чтобы и никто другой этого тоже не мог сделать. Это не
переводите.
-- Да, Вячеслав Михайлович.
Он посмотрел на комиссара иностранных дел. Молотов пошутил? Его лицо
отрицало это. Но лицо Молотова всегда и все отрицало.
* * *
Уссмак поднял топор, взмахнул им и почувствовал отдачу в руки, когда
лезвие врезалось в ствол дерева. С шипением он высвободил лезвие и ударил
снова. Чтобы срубить дерево при такой работе, понадобится вечность, и он
скорее умрет от голода, чем сможет выполнить норму, которую Большие Уроды
СССР установили для самцов Расы.
Нормы были такие же, как для людей Когда до своего позорного плена
Уссмак думал о Больших Уродах, то на первом месте было именно слово "Уроды".
Теперь он понял, что значит "Большие". Все инструменты, которые ему и его
товарищам дали охранники, были рассчитаны на их род, а не на ящеров. Они
были большие, тяжелые и неудобные. Самцов из СССР это не волновало.
Бесконечный тяжкий труд при недостаточном питании вел к смерти пленников
одного за другим. Охранников это тоже не волновало.
В короткий момент ярости Уссмак нанес сильнейший удар по дереву.
-- Нам надо продолжать отказываться от работы, и пусть нас за это
убьют, -- сказал он. -- Мы умрем в любом случае.
-- Истинно, -- сказал другой самец неподалеку. -- Вы были нашим
старшим. Почему вы поддались русским? Если бы мы держались вместе, мы
заставили бы их дать то, чего мы хотели. Было бы хорошо иметь больше пищи и
меньше работы.
Как и Уссмак, он утратил так много плоти, что кожа свисала с костей.
-- Я боялся за наш дух, -- сказал Уссмак. -- Я был дураком. Наш дух
будет потерян здесь довольно скоро, что бы мы ни делали.
Самец приостановил работу -- и охранник поднял автомат, прорычав
предупреждение. Охранники не трудились изучать языка Расы -- они считали,
что их и так поймут, и горе тому, кто не поймет. Самец снова поднял топор.
Взмахнув им, он сказал:
-- Мы можем попробовать еще одну забастовку.
-- Можем, конечно, -- сказал Уссмак, но голос его прозвучал неуверенно.
Самцы из третьего барака один раз попробовали, но проиграли. Больше они
никогда не выступят единой группой. Уссмак был уверен в этом.
Вот что он получил за мятеж против вышестоящих. Какими бы гадкими ни
представлялись они ему, самые худшие из них были в сто, в тысячу, в миллион
раз лучше, чем его теперешние вышестоящие, на которых он горбатился. Если бы
он знал тогда то, что знает сейчас... Его рот открылся в горьком смехе. Это
то самое, что старые самцы всегда говорят молодым, только вошедшим в жизнь.
Уссмак не был старым, даже с учетом времени, проведенного в холодном сне,
когда флот летел на Тосев-3.
-- Работать! -- заорал охранник на своем языке. Усиливающего
покашливания он не добавил, так что фраза звучала предположением. Однако
игнорирование этого предположения могло стоить жизни.
Уссмак ударил по стволу дерева. Летели щепки, но дерево падать
отказывалось. Если он не срубит его, они вполне могут оставить его здесь на
весь день. Звезда Тосев оставалась в небе почти все время в этот сезон
тосевитского года, но все равно не могла согреть воздух после недавних
холодов.
Он нанес еще два сильных удара. Дерево вздрогнуло, затем с треском
повалилось. Уссмак почувствовал что-то вроде веселья. Если самцы быстро
распилят дерево на куски, которые требуют охранники, то смогут получить
почти достаточно еды.
Набравшись храбрости, он на своем спотыкающемся русском языке спросил
охранника:
-- Правда, что есть перемирие?
Этот слух достиг лагеря с новой партией заключенных Больших Уродов.
Может быть, охранник проникнется к нему добрым отношением после того, как он
срубил дерево, и даст ему прямой ответ.
Так и оказалось, Большой Урод сказал:
-- Да.
Он достал из мешочка на поясе измельченные листья, завернул их в листок
бумаги, зажег один конец, а второй взял в рот. Это было удивительно для
Уссмака, поскольку дым разрушительно действовал на легкие. Вероятно, это не
могло быть так приятно, как, например, имбирь.
-- Мы будем свободны? -- спросил Уссмак. Тосевитские заключенные
говорили, что это может случиться по условиям перемирия. Они знали об этом
гораздо больше, чем Уссмак. А ему оставалось только надеяться.
-- Что? -- спросил охранник. -- Что? Вы будете свободны? -- Он сделал
паузу, чтобы вдохнуть дым и выпустить его в виде горького белого облака.
Затем он снова сделал паузу, чтобы издать несколько лающих звуков, которые
Большие Уроды использовали для выражения смеха. -- Свободны? Вы? Говно!
Уссмак знал, что это слово означает определенный вид выделений из тела,
но не понимал, как это может относиться к его вопросу. Охранник сделал свой
ответ лучше, грубее, яснее:
-- Вы будете свободны? Нет! Никогда! -- Он засмеялся громче, что
по-тосевитски означало "веселее". И как бы отвергая саму эту мысль, он навел
автомат на Уссмака. -- А теперь работать!
Уссмак продолжил работу. Когда наконец охранники разрешили самцам Расы
вернуться в бараки, он поплелся назад заплетающимися шагами: и от усталости,
и от отчаяния. Он знал, что это опасно. Он уже видел самцов, которые теряли
надежду и вскоре умирали. Но знать об опасности не значит удержаться от
опасного действия.
Они выполнили дневную норму. Паек из хлеба и соленых морских созданий,
который выдавали Большие Уроды, был слишком мал, чтобы выдержать еще один
день изнурительной тяжкой работы, но именно его они и получали.
Уссмак взобрался на жесткие неудобные нары сразу после еды и тут же
провалился в густую душную пелену сна. Он знал, что не сумеет восстановить
силы к тому времени, когда самцов выведут утром наружу. Завтра будет то же,
что и вчера, может быть, немного хуже, но вряд ли лучше.
Так пройдет следующий день, и еще один, и еще, и еще... Освободиться? И
снова лающий хохот охранника зазвенел в его слуховых перепонках. Когда сон
охватил его, он подумал: как приятно было бы никогда не просыпаться...
* * *
Людмила Горбунова смотрела на запад, и не потому что надеялась увидеть
вечернюю звезду (в любом случае Венера тонула в лучах солнца), -- просто в
бездумной тоске.
Справа и сзади прозвучал голос:
-- Вы не слетали бы сейчас еще с одним заданием на позиции вермахта, а?
Она дернулась -- не слышала, как подошел Игнаций. Но ни возмущения, ни
смущения не чувствовала. Менее всего ей хотелось показать свое состояние, в
особенности когда речь шла о нацистском полковнике-танкисте. "Немецком
полковнике-танкисте", -- мысленно поправила она себя. Для нее это звучало
приятнее -- а кроме того, мог ли быть убежденным фашистом человек, назвавший
врученную ему медаль "жареным яйцом Гитлера"? Она сомневалась, хотя и
понимала, что объективность ее сомнительна.
-- Вы не ответили мне, -- сказал Игнаций.
Ей хотелось притвориться, будто партизанский начальник ничего не
сказал, но это было бы глупо. Кроме того, поскольку на русском он говорил
лучше, чем любой другой поляк, игнорировать его -- означало отрезать
возможность разговаривать с единственным человеком, хорошо ее понимавшим.
Поэтому она постаралась сказать правду, но так, чтобы это не выглядело
согласием:
-- Чего мне хочется, не имеет никакого значения. Но ведь между немцами
и ящерами перемирие, так ведь? Если у немцев есть разум, то они не сделают
ничего такого, что заставило бы ящеров потерять терпение и возобновить
войну.
-- Если бы у немцев был разум, то разве они были бы немцами? --
парировал Игнаций.
Людмила не решилась бы брать уроки фортепьяно у такого циничного
учителя. Впрочем, возможно, война раскрыла, его истинное призвание. После
паузы -- для того чтобы она успела понять его слова -- он продолжил:
-- Я думаю, что немцы одобрят любые неприятности в тех областях Польши,
которые они не контролируют.
-- Вы и в самом деле так считаете?
Людмила сама смутилась, с какой нетерпеливостью она задала свой вопрос.
Игнаций улыбнулся. Изогнулись губы на полном лице, не типичном для
страны, где лица большей частью сухощавые, слабо осветились глаза... Эту
улыбку трудно было назвать приятной. Она ничего не рассказала ему о встрече
с Ягером: это было только ее дело и ничье больше. Но независимо от того,
рассказывала она ему или нет, он, похоже, сделал какие-то собственные
заключения, и замечательно точные.
-- Я на самом деле стараюсь -- естественно, не разглашая особо,
раздобыть некоторое количество германских противотанковых ракет. Для вас
представляет интерес задача доставить их сюда, если я смогу договориться?
-- Я буду делать то, что потребуется, чтобы принести победу рабочим и
крестьянам Польши в борьбе против чужаков-империалистов, -- ответила
Людмила. Временами риторика, которой она обучалась с детства, очень
выручала. Кроме того, произнося заученные фразы, она успевала поразмыслить.
-- Вы уверены, что везти ракеты по воздуху -- лучший способ доставки?
По-моему, безопаснее и легче везти их окольными дорогами и тропами.
Игнаций покачал головой.
-- Ящеры патрулируют все закоулки и дальние углы даже активнее, чем во
время больших боев на фронтах. Да и нацисты не хотят, чтобы кого-то поймали
с противотанковыми ракетами, ведь это показало бы, что они попали в Польшу
после начала перемирия, и дало бы ящерам повод для возобновления военных
действий. Но если вы привезете сюда ракеты по воздуху так, что с земли этого
никто не заметит, то мы сможем использовать их, как захотим: кто сможет
доказать, когда мы их раздобыли?
-- Понятно, -- медленно проговорила Людмила; ей и в самом деле стало
понятно. У нацистов в этом деле интерес был прямой, в то время как Игнаций,
похоже, сам не знал другого способа выкрутиться. -- А что будет, если меня
собьют, когда я буду доставлять вам ракеты?
-- Мне будет недоставать вас и самолета, -- ответил партизанский вожак.
Людмила посмотрела на него с ненавистью. Его ответный взгляд был
ироническим и пустым. Она подумала, что он вряд ли о ней пожалеет, несмотря
на то, что она со своим самолетом составляла военно-воздушные силы
партизанского отряда. Может быть, он захотел заставить ее лететь, чтобы
избавиться от нее... нет, это глупо. У него нашлось бы немало простых
способов. К чему жертвовать бесценным "физлером"?
Он поклонился ей: буржуазное притворство, которое он сохранил даже
здесь, в окружении чисто пролетарском.
-- Будьте уверены, я дам вам знать, как только получу сообщение, что
план осуществляется и что я убедил германские власти в отсутствии риска. А
сейчас я оставляю вас любоваться красотой солнечного заката.
Закат был красив, хотя ее и передернуло от интонаций Игнация. Небо было
окрашено в розовый, оранжевый, золотой цвета, облака на нем казались
охваченными пламенем. И хотя эти же цвета были у огня и крови, она не думала
о войне. Она размышляла о том, что должна сделать через несколько коротких
часов, когда солнце взойдет снова. Как пойдет ее жизнь завтра, через месяц,
через год?
Она словно разрывалась пополам. Одна половина требовала возвращения в
Советский Союз любым способом. Притяжение родины оставалось сильным. Но
одновременно она задумывалась над тем, что с ней станет, если она вернется.
Ее досье должно быть уже под контролем, поскольку известно, что она связана
с немцем Ягером. Сойдет ли ей с рук перелет в иностранное государство --
оккупированное ящерами и немцами -- по приказанию германского генерала?
Вдобавок она находится в Польше уже несколько месяцев и до настоящего
времени даже не попыталась вернуться. Если у следователя НКВД будет
настроение выискивать во всем подозрительное -- как это часто случалось
(противное сухое лицо полковника Лидова мелькнуло перед ее внутренним
взором), -- то они отправят ее в гулаг, не задумываясь.
Другая половина стремилась к Ягеру. Но и этот вариант не казался
разумным. Вместо НКВД у нацистов было гестапо. Они тоже будут рассматривать
Ягера через увеличительное стекло. Они и с ней обойдутся сурово и, может
быть, даже более варварски, чем народный комиссариат внутренних дел. Она
старалась представить, что проделывают в НКВД с пленными нацистами. Гестапо
вряд ли поступает мягче с советскими гражданами.
Значит, она не может отправиться на восток. И тем более она не может
отправиться на запад. Ей оставалось лишь то место, где она находилась, и
этот вариант также был неприятным. Игнаций так и не стал ее командиром, за
которым можно идти в бой с песней.
Пока она стояла, думала и смотрела, золото на небе погасло. Горизонт
стал оранжевым, края купола неба -- розовыми. Облака на востоке превратились
из огненных языков в плывущие хлопья. Наступала ночь.
Людмила вздохнула.
-- На самом деле я хочу одного, -- сказала она в пространство, -- уйти
куда-нибудь -- одной или с Генрихом, если он захочет, -- и забыть эту войну
и что она вообще когда-то началась. -- Она рассмеялась. -- И раз уж я желаю
этого, почему бы мне не пожелать заодно и луну с неба?
* * *
Томалсс расхаживал взад и вперед по бетонному полу камеры. Его когти
стучали по твердой неровной поверхности. Он подумал, сколько времени
понадобится, чтобы проделать на полу канавку или даже протереть бетон
насквозь до земли, -- тогда бы он прорыл отверстие в земле и сбежал.
Конечно, это зависело от того, насколько толстым был бетон. Если
тосевиты положили лишь тонкий слой его, понадобится не больше трех или
четырех сроков жизни.
В небольшие узкие вертикальные окна его камеры проникало очень мало
света. Окна были помещены слишком высоко, чтобы он мог выглянуть наружу -- и
чтобы кто-то из Больших Уродов смог посмотреть внутрь. Ему объяснили, что
если он поднимет крик, его без лишних слов пристрелят. Он поверил.
Предостережение вполне соответствовало характеру тосевитов.
Он пытался вести счет дням, царапая черточки на стене. Не получилось.
Он забыл однажды сделать отметку -- или подумал, что потерял день, -- и на
следующее утро нарисовал две черточки вместо одной -- только затем, чтобы
впоследствии решить, сбился он в конце концов или все-таки не сбился... В
результате его самодельный календарь оказался неточным, а потому
бесполезным. Точно он теперь знал только одно: он здесь навсегда.
-- Чувствительное лишение, -- сказал он. Если никто снаружи не
подслушивал его, он говорил сам с собой. -- Да, чувствительное лишение: этот
эксперимент, который проклятая самка Лю Хань проделывает со мной. Как долго
я смогу не испытывать ничего и не допустить повреждения рассудка? Не знаю.
Надеюсь, что и не узнаю.
Что предпочтительнее -- постепенный переход в безумие, когда он
наблюдает за каждым своим шагом вниз, или быстрое убийство? Этого он тоже не
знал. Он даже начал задумываться, не следует ли предпочесть физические
мучения, которые Большие Уроды, как и положено варварам, изобретали не
задумываясь. Если пытки начинают казаться привлекательными -- разве это не
путь в безумие?
Он сожалел, что благополучно перенес холодный сон на борту космического
корабля, что увидел проклятый Тосев-3, что повернул глаза в сторону этой Лю
Хань, что наблюдал, как скользкий окровавленный детеныш появляется из
генитального отверстия между ее ног, жалел -- о, как он об этом жалел! --
что взял этого детеныша и стал изучать...
Эти сожаления, конечно, были бесплодны. Он лелеял их постоянно. И никто
не смог бы отрицать, что они были в высшей степени рациональны и разумны,
являясь продуктом работы соприкасающегося с действительностью разума.
Он услышал резкий металлический щелчок и почувствовал, как слегка
дрогнула постройка, в которой он находился. Он слышал шаги в комнате перед
камерой и стук закрывающейся внешней двери. Кто-то открывал замок,
удерживавший его в заточении. Замок щелкнул со звуком, отличным от того, с
каким открылся наружный.
Внутренняя дверь, скрипя петлями, которым требовалось масло,
отворилась. Томалсс радостно задрожал -- так сильно хотелось ему поговорить
с кем-нибудь, пусть даже с Большим Уродом.
-- Благород... ная госпожа, -- проговорил он, узнав Лю Хань.
Она не сразу ответила ему. В одной руке она держала автомат, другой
прижимала к бедру детеныша. Томалсс с трудом узнал в детеныше существо,
которое он изучал. Когда детеныш принадлежал ему, он не надевал на него
никакой одежды, исключая необходимый предмет, охватывавший тело посредине,
-- чтобы предотвратить расплескивание выделений по лаборатории.
Теперь же -- теперь Лю Хань одела детеныша в сияющие ткани ярких
цветов. Даже в черных волосах детеныша были привязаны кусочки лент.
Украшение поразило Томалсса, как глупое и ненужное: сам он просто заботился
о том, чтобы волосы были чистыми и неспутанными.
Детеныш некоторое время смотрел на него. Наверное, вспоминал? Он не мог
это проверить: его исследования прервались прежде, чем он смог изучить
подобные вещи. Он даже не мог узнать, сколько времени уже находится здесь.
-- Мама? -- спросил детеныш по-китайски без вопросительного
покашливания. Маленькая ручка показала на Томалсса. -- Это? -- И снова
вопрос был задан на тосевитском языке, без намека на то, что он учился языку
Расы.
-- Это маленький чешуйчатый дьявол, -- ответила Лю Хань, также
по-китайски. Она повторила: -- Маленький чешуйчатый дьявол.
-- Маленький чешуйчатый дьявол, -- как эхо повторил детеныш. Слова были
произнесены не совсем правильно, но даже Томалсс, чье знание китайского
языка было далеко от превосходного, без труда понял его.
-- Хорошо, -- сказала Лю Хань и сморщила свое подвижное лицо в
выражении, которое Большие Уроды использовали, чтобы показать дружественное
расположение.
Детеныш не ответил такой же гримасой. Он не делал этого и когда
находился у Томалсса, -- может быть, из-за того, что некому было подражать.
Дружеская мина сошла с лица Лю Хань.
-- Лю Мэй почти не улыбается, -- сказала она. -- В этом я обвиняю вас.
Томалсс понял, что самка дала детенышу имя, напоминающее ее
собственное. "Семейные отношения среди тосевитов критичны", -- напомнил он
сам себе, вновь на мгновение превратившись из пленника в исследователя.
Затем он увидел, что Лю Хань ждет ответа. Полагаться на терпение Большого
Урода с автоматом в руках не следовало. Он поспешил заговорить:
-- Может быть, я и виноват, благородная госпожа. Возможно, детенышу
требовался образец для подражания. Я не могу улыбаться, поэтому я не мог
служить образцом. Нам подобные вещи оставались неизвестными, пока мы не
встретились с вами.
-- Вам не следовало браться за изучение их, -- ответила Лю Хань. -- А в
первую очередь вы не должны были забирать у меня Лю Мэй.
-- Благородная госпожа, я жалею, что взял детеныша, -- сказал Томалсс и
подтвердил это усиливающим покашливанием.
Детеныш -- Лю Мэй, напомнил он себе -- завозился на руках у Лю Хань,
словно вспомнил что-то знакомое.
-- И я не могу отменить то, что сделал. Слишком поздно.
-- Слишком поздно для многих вещей, -- сказала Лю Хань, и он подумал,
что она собирается пристрелить его на месте. Лю Мэй снова заерзала у нее на
руках. Лю Хань посмотрела на маленькую тосевитку, вышедшую из ее тела. -- Но
еще не поздно для всего остального. Вы видите, что Лю Мэй становится
настоящей человеческой личностью, она одета в соответствующую человеческую
одежду, говорит на человеческом языке.
-- Да, я это вижу, -- ответил Томалсс. -- Она очень... -- Он не знал
по-китайски слово "приспособляющаяся" и стал придумывать, как выразить иначе
то, что он имел в виду. -- Если меняется способ ее жизни, то она меняется
вместе с ним очень быстро.
Тосевитская приспособляемость донимала Расу с того дня, когда флот
вторжения пришел на Тосев-3. Еще одному примеру приспособляемости не было
причин удивляться.
Даже в сумрачной маленькой камере глаза Лю Хань заблестели.
-- Вы помните, когда вы возвращали мне моего ребенка, вы
злорадствовали, потому что растили ее, как маленького чешуйчатого дьявола,
чтобы она не стала достойным человеческим существом? Вот то, что вы тогда
сказали.
-- Видимо, я был неправ, -- сказал Томалсс. -- Я жалею, что сказал это.
Мы, Раса, постоянно обнаруживаем, что о вас, тосевитах, мы знаем гораздо
меньше, чем нам кажется. В этом одна из причин, почему я взял детеныша:
постараться узнать побольше.
-- Одна из вещей, которую вы узнали, -- вам вообще не следовало брать
ее! -- возмущенно отреагировала Лю Хань.
-- Истинно! -- воскликнул Томалсс и снова добавил усиливающее
покашливание.
-- Я принесла сюда Лю Мэй, чтобы показать вам, насколько неправы вы
были, -- сказала Лю Мэй. -- Вам, маленьким чешуйчатым дьяволам, не нравится,
когда вы неправы.
В голосе ее слышалась насмешка: Томалсс достаточно хорошо знал, как
говорят тосевиты, и был уверен в своем истолковании. Она продолжала
по-прежнему насмешливым тоном:
-- Вы не были достаточно терпеливым. Вы не подумали о том, что
произойдет, когда Лю Мэй побудет среди людей некоторое время.
-- Истинно, -- снова сказал Томалсс, на этот раз тихо.
Каким глупцом он был, насмехаясь над Лю Хань и не задумываясь о
возможных последствиях. Подобно тому как Раса недооценивала Больших Уродов в
целом, точно так же он недооценил эту самку. И теперь, как и вся Раса, он
расплачивался за ошибку.
-- Я скажу вам кое-что еще, -- сказала Лю Хань. Очевидно, она хотела
его напугать. -- Вы, маленькие чешуйчатые дьяволы, вынуждены были
согласиться на переговоры о мире с различными нациями человечества, потому
что понесли слишком большой урон в боях.
-- Я не верю вам, -- сказал Томалсс.
Она была его единственным источником информации здесь -- она легко
может приносить ложные сведения, чтобы сломить его моральный дух.
-- Меня не волнует, верите ли вы. Это -- истина, несмотря ни на что, --
ответила Лю Хань.
Ее безразличие заставило его задуматься. Возможно, он ошибся -- но,
может быть, это так и было задумано.
-- Вы, маленькие чешуйчатые дьяволы, по-прежнему угнетаете Китай.
Пройдет не так много времени, и вы поймете, что это -- тоже ошибка. Вы
наделали большое количество ошибок, здесь и по всему миру.
-- Может быть, это и так, -- отметил Томалсс. -- Но я здесь ошибок не
делаю. -- Он поднял ногу и топнул в бетонный пол. -- Если я ничего не могу
делать, то и ошибок у меня нет.
Лю Хань несколько раз хохотнула по-тосевитски.
-- В таком случае вы останетесь превосходным самцом на долгое время.
Лю Мэй принялась плакать. Лю Хань стала поднимать и опускать детеныша,
успокаивая его куда успешнее, чем это получалось у Томалсса.
-- Я хотела показать вам, насколько вы неправы. Подумайте об этом как о
части вашего наказания.
-- Вы умнее, чем я думал, -- с горечью сказал Томалсс. Не хуже ли
думать о своей собственной глупости? Пока он этого не знал. Здесь, в камере,
у него достаточно времени поразмышлять обо всем.
-- Скажите это другим маленьким дьяволам -- если я вас когда-нибудь
отпущу, -- сказала Лю Хань.
Она пятилась, держа его под прицелом автомата, пока не захлопнула за
собой дверь.
Он смотрел ей вслед. Отпустит она когда-нибудь его? Он понял, что
сказанное имело целью подействовать на его разум. Это на самом деле так? Или
нет? Сможет он убедить ее? Если сможет, то как? Если он будет беспокоиться
об освобождении, это повредит его рассудок, но как ему удержаться от этих
мыслей?
Она оказалась гораздо умнее, чем он думал.
* * *
Сэм Игер стоял на первой базе: он только что отбил мяч влево. Сидевшая
в канавке за первой базой Барбара захлопала в ладоши.
-- Приличный удар, -- сказал защитник базы, коренастый капрал по
фамилии Грабовски. -- Значит, вы раньше играли в мячик, не так ли? Я имею в
виду как профессионал.
-- Много лет, -- ответил Сэм. -- Если бы не ящеры, я и сейчас продолжал
бы. У меня обе челюсти искусственные, верхняя и нижняя, поэтому в армию меня
не брали, пока все не пошло к черту.
-- Да, я слышал, что и с другими парнями такое случалось, -- ответил
Грабовски, кивая. -- Я понял так, что вы привыкли играть на парковых
любительских площадках вроде этой?
Поле не показалось Игеру любительской площадкой. Это было обычное
игровое поле, похожее на сотни других, хорошо ему знакомых: крытая трибуна,
справа и слева сидячие места под открытым небом, рекламные плакаты на
ограждении поля -- теперь жухлые, осыпающиеся, побитые, потому что в
Хот-Спрингсе некому и нечего рекламировать.
Грабовски не успокаивался:
-- Черт возьми, мне кажется, так должно выглядеть поле для игры в поло.
В городских парках тоже было жарко.
-- Все зависит от того, как вы смотрите на вещи, -- сказал Сэм.
Хлоп!
Парень сзади него отбил мяч. Сэм размахнулся для второго удара: в такой
игре, как эта, игрок на его позиции редко сможет подыграть. Но на этот раз
получилось. Он мягко переправил мяч на вторую базу.
Там стоял Ристин. Ящер собирался перебросить мяч на первую базу,
поставив Игера перед выбором: увернуться или получить мячом между глаз. Сэм
бросился на землю. Мяч попал в рукавицу Грабовски, когда солдат, ударивший
по низкому мячу, был все еще в шаге от "мешка".
-- Готов! -- закричал пехотинец, изображавший судью. Игер поднялся и
вытер подбородок.
-- Приличная двойная игра, -- сказал он Ристину, перед тем как уйти с
поля, -- сам не смог бы сыграть лучше.
-- Я благодарю вас, благородный господин, -- ответил Ристин на своем
языке. -- Это хорошая игра, в которую вы, тосевиты, играете.
Вернувшись к скамье, Сэм схватил полотенце и вытер потное лицо. Играть
в мяч в Хот-Спрингсе летом -- все равно что играть прямо в горячем
источнике.
-- Игер! Сержант Сэм Игер! -- позвал кто-то с трибун.
Не похоже, чтобы кричал кто-то из толпы зрителей -- если можно назвать
толпой три или четыре десятка людей. Видимо, его ищут.
Он высунул голову из канавки.
-- Да, в чем дело?
К бортику подбежал парень с серебряными полосками лейтенанта на
погонах:
-- Сержант, у меня приказ доставить вас прямо сейчас обратно в
госпиталь.
-- Хорошо, сэр, -- ответил Сэм. Лейтенант не рассердился, услышав
неуставной ответ, и Сэму это понравилось. -- Позвольте мне только избавиться
от шипов и надеть уличную обувь. -- Он поспешно переобулся, одновременно
крикнув товарищам по команде: -- Вам придется подыскать мне замену.
Он снял свою бейсбольную кепку и надел военный головной убор. Брюки
испачкались, но почистить их сейчас возможности не было.
-- Мне тоже пойти? -- спросила Барбара, когда он направился к
лейтенанту. Она пересадила Джонатана с колен на плечо и стала подниматься.
Но Игер покачал головой.
-- Тебе лучше остаться, дорогая, -- сказал он. -- Похоже, мне
приготовили какое-то задание. -- Он увидел, как офицер взялся руками за
пояс, и это показалось ему плохим знаком. -- Я лучше пойду.
Они быстрым шагом, почти бегом направились к главному госпиталю армии и
флота. Поле Бена Джонсона находилось в парке Уиттингтон, на западном конце
Уиттингтон-авеню. Они прошли мимо старой католической школы, по Бэтхаус-Роу
и вышли к госпиталю.
-- А что же случилось-то? -- спросил Игер, когда они вошли внутрь.
Лейтенант не ответил, но повел его к помещениям для высших чинов. Сэм
забеспокоился. Не попал ли он в какую-то неприятность, и если так, то
насколько она велика? Чем дальше вдоль дверей офисов они шли, тем большим
казался ему масштаб неприятности.
На двери с узорчатым стеклом была приклеена карточка с надписью,
сделанной на пишущей машинке: "Кабинет командира базы". Игер сдерживал
волнение. И не мог справиться с ним.
-- Хокинс. сэр, -- сказал лейтенант, отдавая честь капитану за столом,
заваленным бумагами. -- Сержант Игер доставлен согласно приказу.
-- Благодарю вас, Хокинс. -- Капитан поднялся из-за стола. -- Я доложу
генерал-майору Доновану. -- Он исчез в кабинете. Выйдя через мгновение, он
оставил дверь открытой. -- Входите, сержант.
-- Есть, сэр.
Как жаль, что лейтенант не дал ему возможности привести себя в порядок,
прежде чем предстать перед двухзвездным генералом. Пусть за глаза его и
называют "диким Биллом", вряд ли он одобрит пот, грязь и запах,
показывавшие, что Игер только что бегал в жаре и сырости.
Но ничего уже не поделать. Сэм вошел в дверь, и адъютант закрыл ее за
ним. Отдав честь, он доложил:
-- Сержант Сэмюель Игер, сэр, явился по вашему приказанию.
-- Вольно, сержант, -- сказал Донован, ответив на приветствие.
Ему было лет шестьдесят, голубые глаза и печать Ирландии на лице. На
груди его красовалось не меньше двух банок "фруктового салата" [Орденские
планки. -- Прим. ред.], в том числе и голубая ленточка с белыми звездами.
Глаза Игера раскрылись. Просто так почетную медаль конгресса не дают. Едва
он оправился от удивления, как Донован удивил его еще больше, бегло
заговорив на языке ящеров:
-- Я приветствую вас, тосевитский самец, который так хорошо понимает
самцов Расы.
-- Я приветствую вас, благородный господин, -- автоматически ответил
Игер на этом же языке. Он перешел на английский. -- Я не знал, что вам
известен их _линго_.
-- Мне полагается знать все. Это моя работа, -- ответил Донован без
малейшего намека на шутку. -- Но конечно, все не получается, -- сказал он,
скривившись. -- И тем не менее это моя работа. Вот почему я послал за вами.
-- Сэр? -- вежливо удивился Игер.
"Но ведь я ничего не знаю".
Донован порылся в бумагах на столе. Отыскав нужную, он посмотрел на нее
через нижнюю часть бифокальных очков.
-- Вы были переведены сюда из Денвера вместе с вашей женой и двумя
ящерами, Ульхассом и Ристином. Правильно? -- Ответа Игера он ждать не стал.
-- Это было до того, как вы стали учить Ристина играть в бейсбол, так?
-- Да, сэр, -- сказал Игер. Кажется, Дикий Билл в самом деле знал все.
-- Хорошо, -- сказал генерал. -- Вы были прикомандированы к денверскому
проекту уже давно, не так ли? Еще когда вы находились в Чикаго. Правильно?
-- На этот раз он дождался кивка Игера. -- Это значит, что вы знаете об
атомных бомбах больше, чем кто-либо другой в Арканзасе. Правильно?
-- Я ничего о них не знаю, сэр, -- ответил Игер. -- Я ведь не физик.
Хм, сэр, допустимо ли мне говорить с вами на эту тему? Все держалось в
строжайшем секрете.
-- Допустимо. Больше того, я вам приказываю, -- ответил Донован. -- Но
меня радует, что вы озабочены вопросами секретности, сержант, поскольку я
собираюсь сказать вам кое-что, о чем категорически запрещается говорить за
пределами этой комнаты, пока я не разрешу. Вы поняли?
-- Да, сэр, -- сказал Сэм.
Судя по суровому тону коменданта базы, нарушив запрет, Сэм вполне мог
оказаться у стенки с завязанными глазами, и никто тогда не побеспокоился бы
предложить ему сигарету.
-- Хорошо, -- повторил Донован. -- Вы, вероятно, теряетесь в догадках,
какая чертовщина вам предстоит и зачем я вас сюда вытащил. Правильно? --
Ответ не требовался. -- Причина проста: у нас здесь только что появилась
одна из этих атомных бомб, и я хочу знать о ней как можно больше.
-- Здесь, сэр? -- удивился Сэм.
-- Я уже сказал. Ее отправили из Денвера до объявления перемирия, затем
она была в дороге. Имеет смысл подумать над этим, а? Чтобы переправить ее
сюда, должны были воспользоваться кружным путем. Ее нельзя было бросить на
полпути или оставить на ничейной земле, где ящеры при определенном везении
могли найти ее. Теперь это наше дитя.
-- Да, сэр, полагаю, я понял, -- ответил Игер. -- Но разве при ней не
было кого-то из Денвера, кто знал бы о ней все?
-- Им пришлось плохо, -- сказал Донован. -- Секретность и еще раз
секретность. Эта штука доставлена с печатной инструкцией, как ее подготовить
к взрыву, с таймером и радиопередатчиком. Вот так. Готовился приказ
доставить ее к цели, затем быстро отступить и взорвать при необходимости.
-- Я расскажу вам, что смогу, сэр, но подобно тому, как я сказал
раньше... э-э, как я сказал раньше, -- основы правильной речи Сэм освоил,
женившись на Барбаре, -- я не знаю всего, что нужно знать.
-- Это моя работа, сержант, а не ваша. Так что говорите.
Донован наклонился вперед, приготовившись внимательно слушать.
Сэм рассказал ему все, что знал об атомных бомбах, о теории и практике.
Кое-что он по крохам собрал в научных статьях пресловутого журнала
"Эстаундинг", еще до нашествия ящеров; несколько больше сведений он
почерпнул, делая переводы для Энрико Ферми и других физиков Металлургической
лаборатории, а также из их разговоров между собой.
Донован ничего не записывал. Поначалу это возмущало Игера. Затем он
понял, что генерал не хочет оставлять никаких письменных следов. Стало ясно,
насколько серьезно генерал относился к делу.
Когда он закончил, Донован задумчиво сказал:
-- Хорошо, сержант. Благодарю вас. Это проясняет одну из моих главных
забот: мне надо остерегаться этой штуки под ногами не больше, чем любого
другого оружия. Я так и думал, но с оружием, таким новым и таким мощным,
вовсе не хочется рисковать головой из-за простого недопонимания.
-- Теперь я понимаю смысл вопроса, -- согласился Игер.
-- Хорошо. Следующий вопрос: вы участвуете и в ракетных делах, с
Годдардом. Можем мы установить эту штуку на ракету и пустить, куда нам надо?
Она весит десять тонн или около того.
-- Нет, сэр, -- сразу ответил Сэм. -- Новая ракета, которую мы делаем,
может нести одну тонну. Доктор Годдард работает над тем, как увеличить
грузоподъемность, но... -- Голос его упал.
-- Но он болен, и кто знает, сколько он еще проживет? -- закончил
Донован, -- И кто знает, сколько времени потребуется, чтобы построить
большую ракету после того, как ее сконструировали, а? Хорошо. А есть
возможность сделать атомные бомбы поменьше, чтобы их можно было поставить на
ракеты, которые мы имеем? Это еще один путь решения проблемы.
-- Честно, я не знаю, сэр. Если это может быть сделано, то бьюсь об
заклад, в Денвере над этим работают. Но не знаю, смогут они справиться или
нет.
-- Ладно, сержант. Это хороший ответ, -- сказал Донован. -- Если бы вы
знали, сколько людей стараются стать важными персонами и сделать вид, что
знают больше, чем на самом деле... Черт возьми, не стоит нагружать вас этими
пустяками. Вы свободны. Если мне понадобятся ваши мозги из-за этого жалкого
адского устройства, я снова вызову вас. Надеюсь, не потребуются.
-- Я тоже на это надеюсь, -- сказал Сэм. -- Поскольку это означало бы
нарушение перемирия.
Он отдал честь и вышел из кабинета Донована.
Генерал-майор не стал придираться к его форменной одежде. "Неплохой
парень", -- подумал Сэм.
* * *
Германский майор в порту Кристиансанда рылся в огромном
ящике-картотеке.
-- Бэгнолл, Джордж, -- сказал он, вынув одну из карточек. -- Скажите
ваш личный номер, пожалуйста.
Бэгнолл выпалил число по-английски, затем медленно повторил по-немецки.
-- Данке, -- поблагодарил майор; он носил фамилию Капельмейстер и
обладал на редкость немузыкальным голосом. -- А теперь, летчик-инженер
Бэгнолл, скажите, не нарушили ли вы слово, данное подполковнику Хеккеру в
Париже в позапрошлом году? То есть: применяли вы с тех пор оружие против
германского рейха? Говорите только правду, ответ у меня имеется.
-- Нет, не применял, -- ответил Бэгнолл.
Он почти поверил Капельмейстеру -- офицер-нацист в заштатном норвежском
городке, вытащив карточку, назвал имя человека, которому он давал это
обещание. Его поразила доведенная до абсурда тевтонская дотошность.
Удовлетворенный, немец написал что-то на карточке и сунул ее обратно в
ящик. Затем он проделал ту же процедуру с Кеном Эмбри. Закончив с Кеном, он
вытащил несколько карточек и назвал Джерому Джоунзу имена людей из экипажа
"ланкастера", с которыми служили тогда Эмбри и Бэгнолл, а затем спросил:
-- Который из них вы?
-- Никто, сэр, -- ответил Джоунз и назвал имя и личный номер.
Майор Капельмейстер прошелся по картотеке.
-- У каждого второго англичанина -- имя Джоунз, -- пробормотал он. --
Однако я не нахожу Джоунза, под описание которого вы подходили бы. Очень
хорошо. Прежде чем вы сможете проследовать в Англию, вы должны подписать
обязательство не выступать против германского рейха никогда в будущем. Если
вы будете схвачены во время или после нарушения этого обязательства, вам
придется плохо. Вы поняли?
-- Я понял, что вы сказали, -- ответил Джоунз. -- Я не понимаю,
_почему_ вы об этом говорите. Разве мы не союзники против ящеров?
-- В настоящее время между рейхом и ящерами действует перемирие, --
ответил Капельмейстер. Улыбка его была неприятной. -- Должен быть заключен
мир. Тогда понадобится уточнить взаимоотношения с вашей страной, вы
согласны?
Трое англичан посмотрели друг на друга. Бэгнолл не задумывался, что
означает перемирие для людей. Судя по выражению лиц, ни Эмбри, ни Джоунз
тоже не думали об этом. Чем больше всматриваешься в предмет, тем сложнее он
кажется. Джоунз решил уточнить:
-- А если я не подпишу обязательство, тогда что?
-- Вы будете считаться военнопленным со всеми привилегиями и льготами,
положенными военнопленным, -- сказал майор.
Джоунз помрачнел. Привилегии и льготы ныне были весьма сомнительны.
-- Дайте мне ручку для росписи кровью, -- сказал он и расписался на
карточке.
-- Данке шен, -- снова поблагодарил майор Капельмейстер, когда
англичанин вернул карточку и ручку. -- Сейчас, как вы правильно заметили, мы
-- союзники, и с вами будут обращаться соответствующим образом. Разве это не
правильно?
Все трое были вынуждены согласиться. Путешествие через союзную с
Германией Финляндию, нейтральную, но благосклонную к желаниям Германии
Швецию и оккупированную немцами Норвегию было быстрым, продуманным и
приятным, насколько это возможно во времена всеобщей беды.
Пока Капельмейстер искал карточки, Бэгноллу представилось, как копии их
совершали свое путешествие в каждую деревушку, где стояли на страже
нацистские солдаты и бюрократы. Если Джером Джоунз отступится от своего
слова, его настигнет возмездие везде, где хозяйничает рейх.
После того как обязательство оказалось в его руках и было упрятано в
бесценную картотеку, майор превратился из раздражительного чиновника в
любезного:
-- Теперь вы свободны и можете подняться на борт грузового судна
"Гаральд Хардрад". Вам повезло. Погрузка корабля почти закончена, и скоро он
направится в Дувр.
-- Много прошло времени с тех пор, как мы в последний раз видели Дувр,
-- сказал Бэгнолл. -- А у ящеров нет привычки обстреливать суда, идущие в
Англию? С нами ведь они формально перемирия не заключали?
Капельмейстер покачал головой.
-- Не совсем так. Неформальное перемирие, которое они установили с
Англией, похоже, удерживает их от обстрелов.
Трое англичан вышли из учреждения и направились в доки, где стоял
"Гаральд Хардрад". В доках пахло солью, рыбой и угольным дымом. У сходней
стояли немецкие часовые. Один из них побежал к Капельмейстеру, чтобы
проверить, можно ли англичанам подняться на борт. Он вернулся, помахал
рукой, и остальные солдаты отступили в сторону.
Бэгнолла с товарищами поместили в такой крохотной каюте, что, будь у
нее красные стены, она могла бы сойти за лондонскую телефонную будку. Но
после долгой отлучки он готов был с радостью висеть на вешалке для шляп,
лишь бы добраться домой.
Но сидеть взаперти в каюте он не желал. Бросив свои скудные пожитки на
койку, он вышел на палубу. Немцы в форме закатывали на судно по сходням
небольшие запаянные металлические баки. Когда первый бак оказался на палубе,
солдат перевернул его и поставил на дно. Обнаружилась аккуратная надпись по
трафарету: Норск Гидро, Веморк.
-- Что в нем? -- спросил Бэгнолл. Его немецкий стал почти совершенным;
человек из другой страны мог бы принять его за немца, но только не настоящий
немец.
Парень в каске улыбнулся.
-- Вода, -- ответил он.
-- Если не хотите говорить, просто не говорите, -- пробурчал Бэгнолл.
Немец рассмеялся и, перевернув следующую бочку, помеченную точно так
же, поставил ее рядом с первой. Рассерженный Бэгнолл, топая по стальной
обшивке палубы, ушел прочь. Нацист захохотал ему вслед.
Позже бочки убрали куда-то в трюм, где Бэгнолл не мог их видеть. Он
рассказал эту историю Эмбри и Джоунзу, а те принялись немилосердно
подшучивать над товарищем, спасовавшим перед немцем.
Густой черный дым повалил из трубы "Гаральда Хардрада", когда буксиры
вытащили его из гавани Кристиансанда. Пароходу предстояло путешествие по
Северному морю в Англию. И хотя Бэгнолл возвращался домой, все же лучше бы
было обойтись без моря. Джорджа никогда не укачивало даже на самых худших
маневрах уклонения в воздухе, но здесь постоянные удары волн в борт судна
заставляли его раз за разом перегибаться через борт. Его товарищи больше не
насмехались -- они были тут же, рядом с ним. И некоторые матросы тоже. Этот
факт не улучшал самочувствия Бэгнолла, но зато примирял с судьбой: беда не
приходит одна -- в этой поговорке немало правды.
Пару раз над судном пролетали реактивные самолеты ящеров, так высоко,
что их следы в воздухе было легче рассмотреть, чем сами машины. У "Гаральда
Хардрада" имелись зенитки на носу и корме. Как и все на борту, Бэгнолл знал,
что против самолетов ящеров они бесполезны. Ящеры, однако, не снижались для
осмотра или атаки. Перемирие, формальное или неформальное, действовало.
Бэгнолл несколько раз замечал на западе облачные горы, принимая их за
берега Англии: он смотрел глазами сухопутного человека, еще и наполовину
ослепленными надеждой. Но вскоре облака рассеивались и разрушали иллюзию. И
наконец он заметил нечто неподвижное и нерассеивающееся.
-- Да, это английский берег, -- подтвердил матрос.
-- Он прекрасен, -- сказал Бэгнолл.
Эстонский берег показался ему прекрасным, когда он уплывал прочь. Этот
же казался прекрасным, потому что он приближался. На самом деле оба
ландшафта были очень похожи: низкая, плоская земля, медленно поднимающаяся
из мрачного моря.
Затем вдали, у самого океана, он разглядел башни Дуврского замка. От
этого близость к дому стала невыразимо реальной. Он повернулся к Эмбри и
Джоунзу, стоявшим рядом.
-- Интересно, Дафна и Сильвия все еще работают в "Белой лошади"?
-- Можно только надеяться, -- сказал Кен Эмбри.
-- Аминь, -- эхом отозвался Джоунз. -- Было бы неплохо встретить
женщину, которая не смотрит на тебя так, словно собирается пристрелить, а
будет просто спать с тобой. -- Его вздох был полон тоски. -- Помнится, здесь
попадались подобные женщины, но это было так давно, что я начинаю забывать.
Подошел буксир -- помочь "Гаральду Хардраду" пришвартоваться к пирсу,
переполненному людьми. Как только швартовы на носу и корме привязали судно к
пирсу, как только были уложены сходни, на борт ринулась орда одетых в твид
англичан с безошибочно определяемой внешностью ученых. Они вцеплялись в
каждого немца, задавая единственный вопрос то по-английски, то по-немецки:
-- Где она?
-- Где что? -- спросил одного из них Бэгнолл.
Услышав несомненно английский выговор, тот ответил без малейшего
колебания:
-- Как что, вода, конечно же!
Бэгнолл почесал в затылке.
* * *
Повар вылил черпак супа в миску Давида Нуссбойма. Он зачерпнул суп с
самого дна большого чугунного котла -- много капустных листьев и кусков
рыбы. Пайка хлеба, которую он вручил Нуссбойму, была полновесной, может,
даже и потяжелее. Это был тот же черный хлеб, грубый и жесткий, но теплый,
недавно из печи и с приятным запахом. Чай был приготовлен из местных
кореньев, листьев и ягод, но в стакан повар добавил достаточно сахара, чтобы
получилось почти вкусно.
И тесниться во время еды ему больше не приходилось. Клерки, переводчики
и прочие служащие питались раньше основной массы зэков. Нуссбойм с
отвращением вспомнил толкучку, в которой он должен был локтями защищать
отвоеванное пространство; несколько раз его сталкивали со скамьи на пол.
Он сосредоточился на еде. С каждым глотком супа в него втекало
благополучие. Он был почти сыт. Он отпил чая, наслаждаясь каждой частицей
растворенного сахара, текущей по языку. Когда живот полон, жизнь выглядит
неплохо -- некоторое время.
-- Ну, Давид Аронович, как вам нравится разговаривать с ящерами? --
спросил Моисей Апфельбаум, главный клерк полковника Скрябина. Он обратился к
Нуссбойму на идиш, но тем не менее назвал его по имени-отчеству, что везде в
СССР было проявлением показной вежливости, хотя в гулаге, где отчество
отбрасывалось даже на русском, казалось абсурдным.
Тем не менее Нуссбойм ответил в его стиле:
-- По сравнению со свободой, Моисей Соломонович, это не так много. По
сравнению с рубкой леса...
Он не стал продолжать. Ему не надо было продолжать.
Апфельбаум кивнул. Это был сухощавый человек средних лет, с глазами,
казавшимися огромными за стеклами очков в стальной оправе.
-- О свободе вам нет нужды беспокоиться, тем более здесь. В гулаге есть
вещи и похуже, чем рубка леса, поверьте мне. Неудачники роют канал. Можно
быть неудачником, но можно быть умнее. Хорошо быть умным, не так ли?
-- Пожалуй, да, -- ответил Нуссбойм.
Клерки, повара и доверенные зэки, которые обеспечивали функционирование
гулага -- потому что вся система рухнула бы за несколько дней, если не
часов, если бы НКВД само делало всю работу, -- представляли во многом лучшую
компанию, чем зэки из прежней рабочей бригады. Пусть даже многие из них были
убежденными коммунистами ("большими роялистами, чем сам король", --
вспомнилось ему), такими же приверженцами принципов Маркса-Энгельса-Ленина,
как и те, кто сослал их сюда, но они были по большей части образованными
людьми. С ними Давиду было куда проще, чем с обычными преступниками,
составлявшими большинство в бригадах.
Теперь у него была легкая работа. За нее он получал больше еды. Он мог
бы считать себя -- нет, не счастливым: надо быть сумасшедшим, чтобы быть в
гулаге счастливым, -- но он был довольным, насколько это возможно. Он всегда
верил в сотрудничество с власть имущими, кто бы это ни был -- польское
правительство, нацисты, ящеры, а теперь и НКВД.
Но когда зэки, с которыми он прежде работал, шаркая ногами, шли в лес в
начале тяжкого рабочего дня, они бросали на него такие взгляды, что кровь
стыла в жилах. Со времен учебы в хедере ему на память приходили слова "мене,
мене, текел упарсин". Он чувствовал вину за то, что ему легче, чем его
бывшим товарищам, хотя разумом понимал, что, работая переводчиком у ящеров,
он приносит гораздо больше пользы, чем срубая очередную сосну или березу.
-- Вы не коммунист, -- сказал Апфельбаум, изучая его своими
увеличенными глазами. Нуссбойм согласился. -- Тем не менее вы остаетесь
идеалистом.
-- Может, и так, -- сказал Нуссбойм.
Ему хотелось добавить: "Вам-то какое дело?" Но он промолчал -- он не
такой дурак, чтобы оскорблять человека, имеющего легкий и доверительный
доступ к коменданту лагеря.
Мозоли на его руках уже начали размягчаться, но он знал, как легко в
его руках могут снова оказаться топорище и ручки пилы.
-- Это необязательно идет вам на пользу, -- сказал Апфельбаум.
Нуссбойм пожал плечами.
-- Если бы все шло мне на пользу, разве я был бы здесь?
Апфельбаум сделал паузу, чтобы отпить своего эрзац-чая, затем
улыбнулся. Его улыбка была настолько очаровывающей, что в душе у Нуссбойма
зашевелилось подозрение.
-- И снова хочу напомнить вам, что есть вещи гораздо хуже, чем то, что
вы имеете сейчас. От вас даже не требовали доносить на товарищей из вашей
старой бригады, не так ли?
-- Нет, слава богу, -- сказал Нуссбойм и поспешно добавил: -- И я
никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из них сказал что-то, о чем стоило бы
донести.
После этого он полностью сосредоточился на миске с супом. К его
облегчению, Апфельбаум больше не давил на него.
И он не особенно удивился, когда через два дня полковник Скрябин вызвал
его к себе в кабинет и сказал:
-- Нуссбойм, до нас дошел слух, который касается тебя. Я думаю, что ты
скажешь мне, правда это или нет.
-- Если это касается ящеров, гражданин полковник, я сделаю все, что в
моих силах, -- сказал Нуссбойм в надежде отвести беду.
Не повезло. На самом деле он и не ждал, что повезет.
-- К сожалению, дело не в этом. Нам сообщили, что заключенный Иван
Федоров неоднократно после поступления в лагерь высказывал антисоветские и
мятежные мнения. Ты знал Федорова, я думаю? -- Он дождался кивка Нуссбойма,
-- Есть доля истины в этих слухах?
Нуссбойм попытался обратить все в шутку:
-- Товарищ полковник, вы можете мне назвать хотя бы одного зэка,
который не сказал чего-то антисоветского под настроение?
-- Это не ответ, -- сказал Скрябин. -- Ответ должен быть точным. Я
повторяю: слышал ты когда-нибудь, чтобы заключенный Федоров высказывал
антисоветские и мятежные мнения? Отвечай "да" или "нет".
Он говорил по-польски, в легкой и, казалось, дружеской манере, но
оставался столь же непреклонным, как раввин, вдалбливающий ученикам трудное
место из Талмуда.
-- Я не помню, -- сказал Нуссбойм. Если "нет" означало ложь, а "да" --
неприятности, что оставалось делать? Тянуть время.
-- Но ты сказал, что такие вещи говорит каждый, -- напомнил Скрябин. --
Ты должен знать, относился он к числу таких болтунов или же был исключением?
"Будьте вы прокляты", -- подумал Нуссбойм. А вслух сказал:
-- Может быть, он говорил, а может быть, и нет. Я вам говорил, мне
трудно запомнить, кто что когда сказал.
-- Когда ты говоришь о ящерах, с памятью у тебя все в порядке, --
сказал полковник Скрябин. -- Ты всегда очень аккуратен и точен. -- Он
швырнул Нуссбойму через стол напечатанный на машинке листок. -- Вот. Просто
подпиши это, и все будет так, как должно быть.
Нуссбойм посмотрел на листок с отвращением. Он немного понимал устный
русский язык, поскольку многие слова были близки к их польским эквивалентам.
Но буквы чужого алфавита никак не складывались в слова.
-- Что здесь говорится? -- подозрительно спросил он.
-- Что несколько раз ты слышал, как заключенный Федоров высказывал
антисоветские мнения, и ничего более.
Скрябин протянул ему ручку с пером. Нуссбойм взял ручку, но медлил
поставить подпись на нужной строке. Полковник Скрябин погрустнел.
-- А я так надеялся на вас, Давид Аронович, -- имя и отчество Нуссбойма
он произнес гулко, словно бил в погребальный колокол.
Быстрым росчерком, который, казалось, ничего не имел общего с его
разумом, Нуссбойм подписал донос и швырнул его обратно Скрябину. Он понял,
что ему следовало закричать на Скрябина, прежде чем человек из НКВД заставил
его предать Федорова. Но, привыкнув всегда соглашаться с власть имущими, вы
не думаете о последствиях, пока не станет слишком поздно. Скрябин взял
бумагу и запер ее на замок в своем столе.
На ужин в тот вечер Нуссбойм получил дополнительную миску супа. Он съел
все до капли, и каждая капля имела вкус пепла.
Атвар пожалел, что не пристрастился к имбирю. Ему требовалось хоть
что-то, чтобы укрепить свой дух, прежде чем продолжить торг с целой комнатой
Больших Уродов, вооруженных серьезными аргументами. Повернув оба глаза к
Кирелу, он сказал:
-- Если мы будем должны заключить мир с тосевитами, то придется пойти
на большинство уступок, на которых они первоначально настаивали.
-- Истинно, -- меланхолически согласился Кирел. -- Они определенно
самые неутомимые спорщики, с которыми когда-либо встречалась Раса.
-- Они такие. -- Атвар изогнул тело от отвращения. -- Даже те, с
которыми нам нет нужды вести настоящие переговоры, -- британцы и японцы
продолжают свои бесконечные увертки, в то время как две китайские клики
одновременно настаивают на том, что заслуживают присутствия здесь, хотя,
кажется, ни одна из них не соглашается признать другую. Сумасшествие!
-- А немцы, благородный адмирал? -- спросил Кирел. -- Из всех
тосевитских империй и не-империй их государство, кажется, создает Расе
больше всего проблем.
-- Я восхищаюсь вашим даром недооценки, -- едко заметил Атвар. -- Посол
Германии кажется темным даже для тосевита. He-император, которому он служит,
по всей видимости, протух, как неоплодотворенное яйцо, оставленное на
полгода под солнцем. Или можете лучше истолковать его попеременно
сменяющиеся угрозы и просьбы? -- Дожидаться ответа главнокомандующий ящеров
не стал. -- И тем не менее из всех тосевитских империй и не-империй немцы
кажутся самыми передовыми в области технологии. Можете вы распутать этот
парадокс?
-- Тосев-3 -- это мир, полный парадоксов, -- ответил Кирел. -- Среди
них еще один теряет способность удивлять.
-- Это тоже истинно. -- Атвар испустил усталый свистящий выдох. --
Боюсь, что какой-то из них рано или поздно приведет к несчастью. И я не
знаю, какой именно, а очень хотел бы знать.
Заговорил Пшинг:
-- Благородный адмирал, наступило время, назначенное для продолжения
дискуссий с тосевитами.
-- Благодарю вас, адъютант, -- сказал Атвар, хотя ни малейшего чувства
благодарности он сейчас не испытывал. -- Пунктуальные твари, должен
заметить. Вот халессианцы, хотя уже столько времени в нашей империи,
постарались бы опоздать даже на собственную кремацию, если бы смогли. -- Его
рот раскрылся в ехидной усмешке. -- Теперь я бы сделал то же самое, если б
мог.
Атвар с сожалением отвернул глаза от самцов и вместе со своим
переводчиком вошел в зал, где его ожидали представители тосевитов. Они сразу
же поднялись с мест, изображая уважение.
-- Скажите им, чтобы они сели и мы смогли продолжить, -- сказал Атвар
переводчику. -- Скажите это вежливо.
Переводчик, самец по имени Уотат, перевел его слова на английский.
Тосевиты вернулись к своим креслам и сели в обычном порядке. Маршалл,
американский самец, и Иден, его британский двойник, всегда сидели рядом,
хотя Иден формально не являлся официальным участником этих переговоров.
Дальше сидели Молотов и фон Риббентроп от Германии. Того от Японии, подобно
Идену, был скорее наблюдателем, чем участником переговоров.
-- Мы начинаем, -- сказал Атвар.
Тосевитские самцы наклонились вперед -- вместо того чтобы сидеть
выпрямившись, что они обычно предпочитали. Такой наклон, как уже знал Атвар,
означает интерес и внимание. Он продолжил:
-- В большинстве случаев мы в принципе согласились уйти с территории,
контролировавшейся к моменту нашего прибытия на Тосев-3 США, СССР и
Германией. Мы сделали это, несмотря на требования, которые мы получили от
нескольких групп Больших Уродов, сводившиеся к тому, что СССР и Германия
неправомерно владеют некоторыми из этих территорий. Ваши не-империи
достаточно сильны, чтобы поддерживать договоренность с нами, и это дает
приоритет вашим требованиям.
Фон Риббентроп выпрямился и смахнул воображаемую пылинку с одежды,
закрывающей его торс.
-- Он самодовольный, -- сказал Уотат Атвару, поворачивая один глаз,
чтобы показать на германского посла.
-- Он -- дурак, -- ответил Атвар. -- Но вам не надо говорить ему этого:
если вы дурак, то, услышав об этом, никакой выгоды вы не получите. Теперь я
возобновляю обсуждение... По причине нашей снисходительности мы соглашаемся
также вывести наших самцов из северной территории, которая, кажется, не
является частью ни США, ни Англии...
Название он забыл. Маршалл и Иден вместе напомнили его:
-- Канада!
-- Да, Канада, -- сказал Атвар.
Большая часть этой территории была слишком холодной, чтобы представлять
какую-то ценность для Расы при любых обстоятельствах. Маршалл, похоже,
считал ее для каких-то практических целей частью США, хотя она и обладала
суверенитетом. Атвар в полной мере не осознавал этого, но для него данный
вопрос был сейчас маловажным.
-- Теперь вернемся к нерешенному вопросу, на котором данные переговоры
прервались на нашем прошлом заседании, -- сказал Атвар, -- вопросу о Польше.
-- Польша целиком должна быть нашей! -- громко сказал фон Риббентроп.
-- Никакое другое решение невозможно и неприемлемо. Так заявил фюрер.
Уотат пояснил:
-- Это титул германского не-императора.
-- Знаю, -- ответил Атвар.
-- У меня больше нет нужды дискутировать по этому вопросу, -- закончил
свою речь германский посол.
Заговорил Молотов. Это был единственный тосевитский посол, который не
пользовался английским.
-- Этот взгляд неприемлем для рабочих и крестьян СССР, которые
притязают на восточную половину этого региона. Я лично достиг договоренности
по этой территории с германским министром иностранных дел; исторически она
принадлежит нашей стране.
Атвар отвернул глаза от обоих спорящих Больших Уродов и попробовал
другой ход:
-- Может быть, мы разрешим полякам и польским евреям создать свои новые
не-империи, расположенные между землями ваших не-императоров.
Молотов промолчал, а фон Риббентроп ответил:
-- Как я уже сказал, фюрер считает это нетерпимым. Ответ -- "нет".
Адмиралу хотелось расслабиться длинным шипящим выдохом, но он
воздержался. Большие Уроды, несомненно, изучают его поведение так же
внимательно, как он и его штат исследователей и психологов изучают их.
Он попробовал зайти с другой стороны:
-- Тогда, возможно, для Расы целесообразнее остаться сувереном над
территорией, называемой Польшей.
Предлагая это, он понял, что идет навстречу амбициям тосевита Мойше
Русецкого. Теперь он видел, что Мойше Русецкий глубоко понимал своих
собратьев Больших Уродов.
-- В принципе для Советского Союза это приемлемо, в зависимости от
установления точных границ оккупированной территории, -- сказал Молотов.
Уотат тихим голосом добавил свой комментарий:
-- Тосевиты СССР считают немцев не более приятными соседями, чем мы.
-- Истинно, -- сказал Атвар, обрадовавшись, но не показывая этого
Большим Уродам.
Фон Риббентроп повернул голову к Молотову и несколько секунд смотрел на
него. Атвар пришел к выводу, что немцем владеет гнев -- или результаты
изучения Расой мимики и жестов тосевитов не представляют никакой ценности.
Но фон Риббентроп заговорил без неуместной страстности:
-- Мне жаль повторяться, но это неприемлемо для Германии и для фюрера.
Польша находилась под германским суверенитетом -- и должна в него вернуться.
-- Это неприемлемо для Советского Союза, -- сказал Молотов.
-- Советский Союз сейчас не контролирует ни метра польской земли --
ситуация изменилась, -- парировал фон Риббентроп. Он снова повернулся к
Атвару. -- Польша должна быть возвращена Германии. Фюрер абсолютно ясно
сказал, что не пойдет на уступки, и предупреждает о тяжелых последствиях,
если его справедливые требования не будут удовлетворены.
-- Он угрожает Расе? -- спросил Атвар.
Германский посол не ответил. Атвар продолжил:
-- Вам, немцам, следует помнить, что у вас наименьшая территория из
всех участвующих в переговорах сторон. Понятно, что мы можем уничтожить вас,
не повреждая планету Тосев-3 настолько, чтобы она стала не пригодной для
флота колонизации. Ваша непримиримость в данном вопросе соблазняет нас пойти
на эксперимент.
Отчасти это был блеф. У Расы не имелось столько ядерного оружия, чтобы
превратить Германию в радиоактивный шлак, какой бы притягательной ни
казалась такая перспектива. Однако Большие Уроды не знали, что у Расы есть и
чего нет.
Поэтому Атвар надеялся, что его угроза подействует. Маршалл и Того
склонились над своими бумагами и принялись неистово записывать. Адмирал
подумал, что это, вероятно, выдает их возбужденное состояние. Иден и Молотов
сидели неподвижно. Атвар уже привык к бесстрастному поведению Молотова. С
Иденом он впервые имел дело длительное время; Иден поразил его своей
компетентностью, но имел на переговорах слабую позицию.
Фон Риббентроп сказал:
-- Значит, война может возобновиться, господин главнокомандующий. Когда
фюрер высказывает решимость в любом спорном вопросе, следует принимать то,
что он говорит как должное. Должен ли я информировать его, что вы начисто
отвергаете его справедливые требования? Если так, я предупреждаю вас, что не
могу отвечать за последствия.
Его короткий тупоконечный язык высунулся и смочил вывернутые слизистые
оболочки, окружавшие небольшой рот тосевитов. Это, как утверждали ученые
Расы, являлось признаком нервного возбуждения у Больших Уродов. Но почему
фон Риббентроп нервничает? Может быть, потому, что он сам блефует по приказу
своего не-императора. Или потому, что германский лидер на самом деле
возобновит военные действия, если его требования вернуть Польшу будут
отвергнуты?
Атвар подбирал слова с большей тщательностью, чем мог ожидать жалкий
тосевит:
-- Скажите этому самцу, что его требования на всю Польшу отвергаются.
Скажите ему еще, что со стороны Расы перемирие между нашими силами и
германскими будет соблюдаться, пока мы занимаемся другими нерешенными
вопросами. И еще: если немцы первыми нарушат перемирие, то Раса ответит
силой. Вы поняли?
-- Да, господин адмирал, я понял, -- ответил фон Риббентроп, выслушав
Уотата. -- Как я сказал, у фюрера нет привычки угрожать попусту. Я передам
ему ваш ответ. Затем мы все будем ждать его ответа. -- Большой Урод снова
облизал свои мягкие розовые губы. -- Я сожалею, высказывая это, но думаю,
что долго ждать не придется.
* * *
Майор Мори вручил Нье Хо-Т'ингу чашку чая, над которой поднимался
легкий парок.
-- Благодарю вас, -- сказал Нье, наклоняя голову.
Японец, по его понятиям, действовал учтиво. Нье по-прежнему считал его
восточным империалистическим дьяволом, который, однако, умел быть вежливым.
Мори ответил полупоклоном.
-- Я недостоин вашей благодарности, -- ответил он на испорченном
китайском.
Под маской фальшивой униженности японец скрывал свою наглость. Нье
предпочитал иметь дело с маленькими чешуйчатыми дьяволами. Они без уверток
показывали себя такими, какие они есть.
-- Вы уже решили, какой курс выгоден для вас? -- спросил Нье.
Осматривая лагерь японцев, он подумал, что решение очевидно. Восточные
дьяволы были оборваны, голодны и начинали испытывать недостаток в
боеприпасах, которые были единственным средством, позволявшим отнимать
продовольствие у местных крестьян. Нашествие маленьких чешуйчатых дьяволов
прервало движение поездов снабжения. Японцы были более дисциплинированы, чем
просто шайка бандитов, но разница постоянно уменьшалась.
Однако их майор дал совсем не такой ответ, какого ожидал Нье:
-- Я должен сказать вам, что мы не можем присоединиться к тому, что вы
называете народным фронтом. Маленькие дьяволы формально не прекратили войну
против нас, но они и не ведут боев с нами. Если мы нападем на них, кто может
сказать, на что их это спровоцирует?
-- Иными словами, вы объединяетесь с ними против прогрессивных сил
китайского народа.
Майор Мори рассмеялся ему в лицо. Нье ответил пристальным взглядом. Он
думал о многих возможных реакциях японца, но такой не ожидал.
Мори сказал:
-- Думаю, вы заключили соглашение с гоминьданом. И это превратило их из
реакционных контрреволюционных псов в прогрессивных. Прекрасный магический
трюк, должен заметить.
Москит зажужжал и укусил Нье в запястье. Шлепая по руке, Нье успел
собраться с мыслями. Он надеялся, что, если и покраснел, то не настолько,
чтобы японец это заметил. Наконец он заговорил:
-- По сравнению с маленькими чешуйчатыми дьяволами реакционеры
гоминьдана прогрессивны. Я отмечаю это, хотя и не люблю их. По сравнению с
маленькими чешуйчатыми дьяволами более прогрессивны даже вы, японские
империалисты. Я тоже отмечаю это.
-- Аригато [Спасибо (яп.). -- Прим. перев.], -- сказал майор, вежливо и
сардонически поклонившись.
-- Мы раньше выступали вместе против чешуйчатых дьяволов. -- Нье знал,
что это, мягко говоря, преувеличение. Но японцы, все вместе и каждый в
отдельности, были гораздо лучшими солдатами, чем солдаты и
Народно-освободительной армии, и гоминьдана. Если бы отряд Мори вступил в
местный народный фронт, то маленьким чешуйчатым дьяволам не поздоровилось
бы. Поэтому Нье сделал еще одну попытку:
-- Артиллерийские снаряды, которыми вы снабдили нас. сослужили хорошую
службу, и маленькие дьяволы понесли большие потери.
-- Лично я рад, что это так, -- ответил Мори. -- Но в то время, когда
вы получали от меня эти снаряды, маленькие дьяволы и Япония находились в
состоянии войны. Сейчас, похоже, положение другое. Если мы присоединимся к
нападениям на чешуйчатых дьяволов и нас опознают, то все шансы на мирный
договор будут уничтожены. Без прямого приказа с Родных Островов я этого
делать не буду, что бы я ни чувствовал сам.
Нье Хо-Т'инг поднялся на ноги.
-- Тогда я возвращаюсь в Пекин.
В этих словах сквозило скрытое предупреждение: если японцы не позволят
ему вернуться или застрелят его, то целью китайских атак станут они, а не
маленькие дьяволы.
У Мори, хоть он и был всего лишь восточным дьяволом, хватило мозгов
понять предупреждение. Он тоже встал и поклонился Нье.
-- Как я сказал, я лично желаю вам удачи в борьбе против маленьких
чешуйчатых дьяволов. Но когда речь идет о нуждах страны, личные желания
должны отступить.
Будь он марксистом-ленинцем, он выразился бы другими словами, но смысл
остался бы прежним.
-- Я тоже не испытываю к вам личной неприязни, -- попрощался Нье.
Он выбрался из японского лагеря, расположенного где-то в сельской
местности, и направился в Пекин.
Земля на дороге рассыпалась под его сандалиями. Стрекозы пролетали
мимо, выполняя маневры, недоступные никакому истребителю. Крестьяне и их
жены гнули спины на пшеничных и просяных полях, занимаясь бесконечной
прополкой. Если бы Нье был художником, а не солдатом, он остановился бы,
чтобы сделать наброски.
Но он думал вовсе не об искусстве. Он думал о том, что японцы майора
Мори слишком долго находятся поблизости от Пекина. Маленькие чешуйчатые
дьяволы, если бы когда-нибудь им пришло такое в голову, могут использовать
японцев против народного фронта точно так же, как гоминьдан использовал
войска ящеров против Народно-освободительной армии. Это позволит маленьким
дьяволам воевать с китайцами, не подставляя под пули свои войска.
Он ничего не имел против японского майора, нет. Он уважал его, как
солдата, но это лишь ухудшало ситуацию: потенциально японец представлял
большую опасность. Острая, как бритва, логика диалектики вела к неизбежному
заключению: гнездо Мори должно быть ликвидировано как можно скорее.
-- Это даже к лучшему, -- громко сказал Нье.
Никто его не слышал, кроме пары уток, плававших в пруду. Если маленькие
чешуйчатые дьяволы имеют достаточно соображения, чтобы понимать косвенные
намеки, то исчезновение возможных союзников даст им понять, что народный
фронт ведет против них не только пропагандистскую кампанию, но и активно
действует.
Он добрался до Пекина к полуночи. Вдали слышались выстрелы. Кто-то
боролся за дело прогресса.
-- Что вы делаете здесь в столь поздний час? -- спросил
охранник-человек у ворот города.
-- Иду к своему кузену.
Нье протянул фальшивое удостоверение личности и сложенную банкноту.
Охранник вернул удостоверение, но не деньги.
-- Тогда проходите, -- сипло сказал он. -- Но если я увижу вас
поблизости в поздний час, то подумаю, что вы вор. Тогда вам плохо придется.
Он взмахнул дубинкой с шипами, наслаждаясь своей крохотной властью.
Нье изо всех сил старался не рассмеяться в лицо охраннику. Вместо этого
он нагнул голову, словно испугавшись, и поспешил мимо стража в город. До
общежития было недалеко.
Когда он пришел к себе, Лю Хань гонялась за Лю Мэй по пустой столовой.
Лю Мэй визжала от восторга. Она принимала это за веселую игру. Лю Хань
выглядела так, словно вот-вот упадет. Она погрозила дочери пальцем:
-- Ты пойдешь спать, как хорошая девочка, или я отдам тебя обратно
Томалссу.
Лю Мэй не обращала внимания. По усталому вздоху Лю Хань было видно, что
она не ожидала от Лю Мэй такого неповиновения.
Нье Хо-Т'инг спросил:
-- Что ты собираешься делать с маленьким чешуйчатым дьяволом по имени
Томалсс?
-- Я не знаю, -- сказала Лю Хань. -- Хорошо, что ты вернулся, но
трудные вопросы задашь в другой раз. А сейчас я слишком устала не только
чтобы думать, но даже смотреть. -- Она подбежала и выдернула Лю Мэй из-под
опрокидывающегося стула. -- Невозможная дочь!
Лю Мэй решила, что это забавно.
-- Как там чешуйчатый дьявол, достаточно наказан? -- настаивал Нье.
-- Он никогда не будет наказан достаточно за то, что он сделал со мной,
с моей дочерью, с Бобби Фьоре и другими мужчинами и женщинами, имен которых
я даже не знаю, -- яростно выкрикнула Лю Хань. Затем она несколько
успокоилась. -- Почему ты спрашиваешь?
-- Потому что вскоре может быть полезно предъявить самого маленького
дьявола или его тело их властям, которые обосновались здесь, в Пекине.
-- Это должно быть решение центрального комитета, а не только мое, --
сказала, нахмурившись, Лю Хань.
-- Знаю.
Нье смотрел на нее с настороженностью. Она далеко ушла от крестьянки,
горюющей из-за украденного ребенка. Когда стирались классовые различия,
когда предоставлялись и поощрялись возможности развить свои способности,
занять более высокий пост в Народно-освободительной армии, -- случались
удивительные вещи. Примером была сама Лю Хань. Вряд ли в своей деревне она
вообще знала о существовании центрального комитета. Теперь она умела
манипулировать им не хуже, чем ветеран партии.
-- Я не стал поднимать этот вопрос перед комитетом. Я хотел вначале
узнать твое мнение.
-- Благодарю за заботу о моем личном мнении, -- сказала она и
посмотрела на Нье, размышляя. -- Я не знаю. Полагаю, что я могла бы
согласиться с любым решением, если оно поможет нашему делу против маленьких
чешуйчатых дьяволов.
-- Говоришь как женщина партии! -- воскликнул Нье.
-- Может быть, и так, -- сказала Лю Хань. -- Я должна согласиться с
общим решением. Разве не так?
-- Так, -- согласился Нье Хо-Т'инг. -- Ты получишь инструкции, раз ты
этого хочешь. Я буду горд проинструктировать тебя лично.
Лю Хань кивнула. Нье сиял. Вовлекая в партию нового члена, он испытывал
такие же ощущения, как миссионер, привлекший в лоно церкви новообращенного.
-- Однажды, -- сказал он ей, -- ты займешь достойное место и будешь
давать инструкции, а не получать их.
-- Это было бы прекрасно, -- сказала Лю Хань.
Она смотрела сквозь него -- видимо, заглядывая в будущее. От этого
взгляда Нье занервничал: не видит ли она, как приказывает что-то ему?
Его улыбка сползла с лица. Если она будет прогрессировать с прежней
скоростью, такая перспектива не кажется совсем уж невероятной.
* * *
Топот конских копыт и стук железных шин двуколки всегда возвращали
Лесли Гровса во времена до Первой мировой войны, когда эти звуки были
обычными при перемещении из одного места в другое. Когда он отметил это,
генерал-лейтенант Омар Брэдли покачал головой.
-- Не совсем так, генерал, -- сказал он. -- В те времена дороги на
удалении от городов не были замощены.
-- Вы правы, сэр, -- согласился Гровс. Он нечасто уступал в спорах
кому-либо, даже атомным физикам, которые временами приходили скандалить в
управление Металлургической лаборатории, но на этот раз должен был
согласиться. -- Я вспоминаю, тогда маленькие городки считали себя средними,
а средние города -- большими, если у них были замощены все пригородные
дороги.
-- Именно, -- сказал Брэдли. -- Ведь когда я был мальчишкой, а вас еще
не было, никто и не знал ни об асфальте, ни о бетоне. Грунтовые дороги
гораздо лучше для лошадиных копыт. Это было более легкое время во многих
отношениях. -- Он вздохнул, как любой человек средних лет, вспоминающий о
днях своей юности.
Почти любой. Лесли Гровс был инженером до мозга костей.
-- Грязь, -- сказал он, -- Пыль. Фартуки на коленях, чтобы не
измазаться по уши, пока добираешься до нужного места. Навоза столько, что не
отгребешь палкой. А сколько мух! Мне бы в то в старое доброе время --
нормальный закрытый "паккард" на хорошем, ровном и прямом отрезке шоссе!
Брэдли хмыкнул:
-- У вас нет уважения к старым добрым временам.
-- К черту добрые старые времена, -- сказал Гровс. -- Если бы ящеры
явились в старые добрые времена, они разметали бы нас на кусочки так быстро,
что и не заметили бы.
-- Не стану спорить. А уж выходить среди зимы из домика с двумя дырками
и окошком в форме полумесяца было совсем не забавно. -- Он наморщил нос. --
А если подумать, то и в жару тоже было не лучше. -- Он громко расхохотался.
-- Да, генерал, к черту старые добрые дни. Нам и сегодняшних забот хватит.
-- Он показал вперед, поясняя, что он имеет в виду.
Гровс никогда раньше не посещал лагеря беженцев. Конечно, он знал о
них, но не больше. Он не чувствовал за собой вины: он делал очень много и
еще сколько-то сверх того. Если бы не он, США к этому времени уже проиграли
бы войну и уж точно не сидели бы почти как равные с ящерами за столом
переговоров.
Но жизнь в лагерях легче не становилась. Гровс был защищен от тяжелой
жизни тех, кто попал в жернова войны. Благодаря важности Металлургической
лаборатории он всегда имел в достатке еду и крышу над головой. Большинство
людей не были так удачливы.
О войне часто судят по кинохронике. Но в ней худшее обычно не
показывают. Люди на экране -- черно-белые. И вы не ощущаете их запаха.
Ветер дул им в спину, но от лагеря пахло так, как от многократно
увеличенного домика, о котором вспомнил Брэдли.
Люди в кадрах кинохроники не бегут к вам, как стадо живых скелетов, с
огромными глазами на лице, кожа на котором натянута, как на барабане, и с
вытянутыми просящими руками.
-- Пожалуйста, -- звучало снова, снова и снова. -- Еды, сэр? Денег,
сэр? Чего-нибудь, что у вас есть, сэр?
От просьбы истощенной женщины у Гровса покраснели уши.
-- Можем ли мы сделать для этих людей хоть что-то в дополнение к тому,
что мы уже делаем, сэр? -- спросил он.
-- Не представляю, -- ответил Брэдли. -- Вода им подается. Но я не
знаю, как снабжать их пищей, если у нас ее нет.
Гровс посмотрел на себя. Его живот был по-прежнему объемистым. Все, что
поступало сюда, в первую очередь шло армии, а не беженцам и не жителям
Денвера, работа которых не имела значения для военной машины. Этого требовал
здравый, холодный, логический расчет. Рациональный, как он знал. Но быть
рациональным трудно, в особенности здесь.
-- Но ведь теперь перемирие. Как скоро мы начнем привозить зерно с
севера? -- спросил он. -- Ящеры не станут бомбить товарные поезда, как они
это делали раньше.
-- Это так, -- согласился Брэдли, -- но во время наступления на город
они превратили железные дороги в кашу.
Инженеры до сих пор стараются исправить положение. Но даже если поезда
и пойдут, то возникает вопрос, где взять зерно. Ящеры до сих пор удерживают
большую часть нашей хлебной корзины. Может быть, у канадцев есть запасы.
Чешуйчатые ублюдки, похоже, не так сильно тряхнули их, как нас.
-- Им нравится теплая погода, -- сказал Гровс. -- Есть места получше,
чем север штата Миннесота.
-- Вы правы, -- сказал Брэдли. -- Но наблюдать, как умирают люди,
здесь, в центре Соединенных Штатов, это самое последнее дело, генерал.
Никогда не думал, что доживу до дня, когда мы, для того чтобы доставить то
малое, что можем, будем использовать вооруженную охрану против воров. И это
ведь на нашей территории! А что творится в районах, которые ящеры удерживали
последние два года? Как много людей умерло только потому, что ящеры и не
подумали накормить их?
-- Слишком много, -- сказал Гровс. -- Сотни тысяч? Должно быть.
Миллионы? Меня это не удивит.
Брэдли кивнул.
-- Если даже мы выдавим ящеров из США и они оставят нас на время одних
-- это самое большое, на что мы можем надеяться, -- какая страна нам
достанется? Меня это очень беспокоит. Помните Хуай Лонг, отца Кофлина и
технократов? Человек с пустым желудком будет слушать любого дурака, который
пообещает ему трехразовое питание, а у нас таких людей множество.
Как бы иллюстрируя его слова, к лагерю беженцев подъехали три телеги,
запряженные лошадьми. Люди в хаки и касках со всех сторон окружили телеги.
Примерно у половины из них были автоматы, у остальных -- винтовки с
примкнутыми штыками. Волна голодных людей остановилась на приличном
расстоянии от солдат.
-- Трудно отдать приказ стрелять на поражение в голодающих людей, чтобы
предотвратить разграбление ваших телег с продовольствием, -- угрюмо сказал
Брэдли. -- Если я такого приказа не отдам, продовольствие получат быстрые и
сильные, а больше никто. Не могу этого допустить.
-- Да, сэр, -- согласился Гровс,
Под жесткими и внимательными взглядами американских солдат их штатские
сограждане встали в очередь, чтобы получить по пригоршне зерна и бобов. По
сравнению с этой пайкой суповые кухни времен Великой депрессии были
пятизвездочными ресторанами с фирменными блюдами на голубых тарелках. Тогда
еда была дешевой и простой, но ее было много -- если только вы могли
перебороть свою гордость и принять благотворительный дар.
Теперь же... Глядя на изгибающуюся змеей очередь, Гровс задумался. Он
был так занят делом спасения страны, что высказанный генералом Брэдли вопрос
никогда не возникал у него: какую же страну он спасал?
Чем больше смотрел он на лагерь беженцев, тем меньше ему нравился
ответ, к которому он пришел.
* * *
Впервые в жизни Вячеславу Молотову понадобились все силы, чтобы
сохранить каменное выражение лица.
"Нет! -- хотелось ему закричать на Иоахима фон Риббентропа. -- Пусть
все идет, как идет! Нам надо решить так много вопросов! Если ты нажмешь
слишком сильно, то станешь жадной собакой из сказки, той, что бросила кость
в реку, чтобы схватить ее отражение в воде".
Но германский министр иностранных дел поднялся на ноги и заявил:
-- Польша была территорией германского рейха до того, как Раса пришла в
этот мир, и потому должна быть возвращена рейху. Так сказал фюрер.
Гитлер всегда был очень похож на собаку из сказки. Он понимал только
свои интересы, все остальное для него исчезало из реальности. Если бы он
довольствовался миром с Советским Союзом, пока не покончит с Британией, он
мог бы дурачить Сталина еще какое-то время и только потом неожиданно напасть
и таким образом не ввязываться в войну на два фронта. Но он не стал ждать.
Он не мог ждать. За СССР ему пришлось расплачиваться. Разве он не видит, что
за ящеров придется расплачиваться куда страшнее?
Очевидно, что он этого не видит. Здесь находится его министр
иностранных дел, выжимающий из себя слова, обидные для его
противников-людей. Сказанные в адрес ящеров, гораздо более могущественных,
чем Германия, эти слова поразили Молотова своим буквально клиническим
безумием.
Через своего переводчика Атвар сказал:
-- Это предложение неприемлемо для нас, потому что оно неприемлемо для
многих других тосевитов, беспокоящихся об этом регионе. Оно только разожжет
конфликт в будущем.
-- Если вы немедленно не вернете нам Польшу, то это разожжет конфликт
сейчас, -- воскликнул фон Риббентроп.
Главнокомандующий ящеров издал примерно такой же звук, какой издает
проколотая камера.
-- Можете передать фюреру, что Раса готова испытать удачу.
-- Я так и сделаю, -- сказал фон Риббентроп и выскочил из зала
заседаний в отеле "Шепхед".
Молотову захотелось побежать за ним и позвать его назад.
"Подожди, дурак!" -- безмолвный крик отдавался в его голове.
Мегаломания Гитлера может утянуть на дно, где вскоре окажется Германия,
и всех остальных. Даже страны, обладающие бомбами из взрывчатого металла и
ядовитым газом, могут причинить ящерам всего лишь большие неприятности --
пока не научатся доставлять это оружие дальше линии фронта.
Советский комиссар иностранных дел колебался. Может быть, наглое
поведение Риббентропа означает, что гитлеровцы располагают таким методом? Он
не верил в это. Ракеты их лучше, чем у кого бы то ни было, но настолько ли
они мощны, чтобы забросить десять тонн на сотню, а может быть, и на тысячу
километров? Советские ракетные специалисты заверили его, что нацисты не
могут опередить их _настолько_.
А если они ошибаются... Молотов не задумывался над тем, что случится,
если они ошибаются. Если немцы научатся забрасывать бомбы из взрывчатого
металла на сотни и тысячи километров, то они с одинаковым успехом смогут
бомбить и Москву, и ящеров.
Он переборол свое нарастающее возбуждение. Если бы у нацистов были
такие ракеты, они не были бы такими настойчивыми в вопросе с Польшей. Они
могли бы запускать свои бомбы из Германии и затем захватить Польшу просто на
досуге. На этот раз ученые, пожалуй, правы.
Однако... Гитлер в своих действиях руководствовался скорее эмоциями,
чем здравым смыслом.
Что, если нацистская доктрина -- всего лишь извращенная романтика? Если
вам чего-то хочется, это означает, что вещь должна стать вашей, а это, в
свою очередь, означает, что у вас есть право -- и даже обязанность -- пойти
и забрать ее. А если кто-нибудь имеет наглость сопротивляться, вы растопчете
его. Имеет значение только ваша воля.
Но если человек ростом в полтора метра и весом в пятьдесят килограммов
захочет того, что принадлежит человеку ростом в два метра и весящему сто
килограммов, и попытается взять это, результатом будут его расквашенный нос
и выбитые зубы -- независимо от силы желания. Гитлеровцы этого не поняли,
хотя нападение на Советский Союз должно было их чему-то научить.
-- Заметьте, товарищ адмирал, -- сказал Молотов, -- что уход
германского министра иностранных дел не означает, что остальные участники
переговоров отказываются обсуждать с вами остающиеся расхождения.
Яков Донской перевел эти слова на английский, Уотат -- на язык ящеров.
Если повезет, то чужаки втопчут гитлеровцев в грязь и избавят СССР от
большой проблемы.
* * *
-- Ягер! -- закричал Отто Скорцени. -- Тащи сюда свой тощий зад. Надо
кое о чем поговорить.
-- О чем с тобой говорить, кроме твоих манер медведя, мучающегося
зубной болью? -- парировал Ягер.
Он не поднялся с места. Он был занят штопкой носка, и это была трудная
работа, потому что приходилось держать его дальше от лица, чем он привык. За
последнее время он стал более дальнозорким. Рано или поздно человек
рассыпается, даже если его и не подстрелят. Это происходит само собой.
-- Извините меня, ваше великолепное полковничество, милорд фон Ягер, --
сказал Скорцени, наполняя свой голос густым сахарным сиропом, -- не будете
ли вы так милостивы и благосклонны, чтобы удостоить вашего покорного и
послушного слугу кратчайшим отрезком вашего драгоценнейшего времени?
Ругаясь, Ягер поднялся на ноги.
-- Знаешь, Скорцени, а мне больше понравилось: "Тащи сюда свой тощий
зад".
Штандартенфюрер СС хмыкнул.
-- Я так и думал. Идем. Прогуляемся немного.
Это означало, что у Скорцени есть новость и он не хочет, чтобы ее
услышал кто-то еще. И она предположительно означает, что где-то должен
разверзнуться очередной ад, причем, скорее всего, прямо здесь. Почти
плачущим голосом Ягер протянул:
-- А мне так нравилось перемирие.
-- Жизнь трудна, -- сказал Скорцени, -- и наша работа состоит в том,
чтобы делать ее еще труднее -- для ящеров. Твой полк ведь все еще силен,
правда? Как скоро вы можете быть готовы врезать нашим чешуйчатым приятелям в
рыло?
-- Мы отправили примерно половину "пантер" в ремонтный центр для
восстановления, -- ответил Ягер. -- Топливопроводы, новые люки для башен,
прокладки топливных помп... Мы воспользовались перемирием, чтобы заменить
все, что успеем, но поскольку оно продлилось, мы стали ремонтировать все
остальное. Никто не говорил мне, что оно будет нарушено.
-- Я тебе говорю, -- сказал эсэсовец. -- Сколько времени нужно группе,
чтобы выйти на полную боевую готовность? Вам ведь нужны эти "пантеры", так
ведь?
-- Да, пожалуй, -- ответил Ягер. -- Они вернутся через десять дней --
или через неделю, если кто-то, умеющий раздавать затрещины, навалится на
ремонтников.
Скорцени закусил губу.
-- Доннерветтер! Если я насяду на них как следует -- как думаешь, за
пять дней танки вернутся на фронт? Это мой крайний срок, и у меня нет
возможности нарушить его. Если к этому времени "пантер" здесь не будет, ты,
старик, двинешься без них.
-- Двинусь -- куда? -- спросил Ягер. -- Почему ты мне приказываешь? В
смысле почему ты, а не командир дивизии?
-- Потому что я получаю приказы от фюрера и от рейхсфюрера СС, а не от
генерал-майора в жестяной каске, командующего ничтожным корпусом, --
самодовольно ответил Скорцени. -- Вот что произойдет, как только вы будете
готовы выступить, а артиллеристы займутся своим делом: я взорву Лодзь к
чертовой матери, а вы -- и все остальные -- наброситесь на ящеров, которые
будут стараться понять, что произошло. Другими словами, война
возобновляется.
Ягер подумал, попало ли его сообщение евреям в Лодзи? Если так,
интересно, смогли они отыскать бомбу, которую эсэсовец спрятал где-то там? И
главное:
-- Что сделают ящеры, если мы взорвем Лодзь? Они отвечали городом на
каждую бомбу, которую мы взрывали в ходе войны. Сколько городов они
разрушат, если мы применим такую бомбу, нарушив перемирие?
-- Не знаю, -- ответил Скорцени. -- Я знаю, что никто не просил меня
беспокоиться по этому поводу, а потому и не собираюсь. У меня есть приказ
взорвать Лодзь в ближайшие пять дней, так что целая толпа длинноносых жидов
улетит в небо вместе с ящерами. Мы научим ящеров и тех, кто к ним
подлизывается, тому, что мы слишком страшные, чтобы препятствовать нам.
-- Если взорвать евреев, то чему это научит ящеров? -- Ягер почесал
голову. -- Почему ящеры станут беспокоиться о том, что случится с евреями? И
с кем мы воюем -- с евреями или с ящерами?
-- Черт возьми, мы находимся в состоянии войны с ящерами, -- ответил
Скорцени, -- и мы всегда воюем с евреями, так ведь? Ты это знаешь. Ты
достаточно плакал и стонал об этом. Поэтому мы взорвем кучу жидов и кучу
ящеров, и фюрер будет так счастлив, что станцует джигу, как он сделал, когда
мы свалили лягушатников в девятьсот сороковом году. Итак -- максимум пять
дней. Ты будешь готов выступить?
-- Если мои танки вернутся из мастерских, то да, -- сказал Ягер. -- Как
я сказал, кто-то должен подстегнуть механиков.
-- Я позабочусь об этом, -- пообещал эсэсовец, широко и злобно
улыбаясь. -- Как думаешь, они не зашевелятся быстрее, если под ними
загорится земля?
Ягер не рискнул бы биться об заклад, ставя на то, что Скорцени не
высказался в буквальном смысле слова.
-- Я им разъясню, что если они не обрадуют меня, то будут отвечать
перед Гиммлером. С кем лучше иметь дело, со мной или с маленьким школьным
учителем в очках?
-- Хороший вопрос, -- сказал Ягер.
Если рассматривать Скорцени просто как человека, то он куда страшнее
Гиммлера. Но Скорцени -- всего лишь Скорцени. Гиммлер же олицетворяет
организацию, которую возглавляет, и эта организация придает ему устрашающие
черты совсем другого масштаба.
-- Правильный ответ: лучше, чтобы никто из нас двоих не разозлился, не
говоря уже о том, чтобы разозлились оба вместе, -- сказал Скорцени, и Ягер
вынужден был согласиться. -- Как только бомба взорвется, вы двинетесь на
восток. Кто знает, ящеры могут удивиться так сильно, что ты ухитришься
раньше времени посетить свою русскую подругу. Как тебе это нравится? -- Он
покачал бедрами вперед и назад, намеренно неприлично.
-- Мне доводилось слышать идеи, которые мне нравились меньше, -- сухо
ответил Ягер. Скорцени гулко расхохотался.
-- Бьюсь об заклад, так и было. На самом деле. -- И без предупреждения
он задал совершенно другой вопрос. -- Она еврейка, эта твоя русская?
Он спросил это самым обычным тоном, каким полицейский сержант
интересуется у подозреваемого в краже, где он был в одиннадцать часов ночи.
-- Людмила? -- спросил Ягер, испытывая облегчение оттого, что может
говорить правду. -- Нет.
-- Хорошо, -- сказал эсэсовец. -- Я так и думал, но хотел знать
наверняка. Значит, она не рассердится на тебя, если Лодзь взлетит на воздух,
правильно?
-- Не думаю, -- ответил Ягер.
-- Это прекрасно, -- сказал Скорцени. -- Да, это прекрасно. Тогда и
тебе будет хорошо. Помни, пять дней. Ты получишь свои танки, или кто-то
пожалеет, что вообще родился на свет.
Посвистывая на ходу, он направился в лагерь.
Ягер последовал за ним, но медленнее, стараясь не выдать своей
задумчивости. СС разрубила на части польского фермера, узнав, что он был
замешан в передаче сведений евреям в Лодзь. А теперь Скорцени спрашивает, не
еврейка ли Людмила. Скорцени, конечно, не знает всего, иначе некто Ягер уже
не был бы командиром полка. Но подозрения росли, как ростки, пробивающие
толщу гнилых листьев.
Ягер подумал, не следует ли передать в Лодзь еще одно сообщение через
Мечислава, но решил, что сейчас не стоит испытывать судьбу. Он надеялся, что
евреи уже получили его предупреждение и нашли бомбу. Надежда эта частично
родилась из стыда за позорное отношение к евреям, которое практиковал рейх,
а частично из страха: что ящеры сделают с Германией, если немцы взорвут
атомную бомбу в то время, когда идут переговоры о перемирии? Сказать, что
они воспримут это с неудовольствием, было бы очень мягко.
Познакомившись с Мордехаем Анелевичем, Ягер понял, что евреи нашли в
нем прекрасного руководителя. Если он узнал, что Скорцени спрятал в Лодзи
бомбу, он перевернет землю и небо, чтобы отыскать ее. Ягер сделал все, что
только было в его силах, чтобы предупредить евреев.
Через пять дней Скорцени нажмет кнопку. Может быть, покажется, что
поднялось новое солнце -- как это было под Бреслау. А может быть, вообще
ничего не произойдет.
И что тогда сделает Скорцени?
* * *
Разгуливать в полный рост на виду у ящеров казалось неестественным.
Остолоп Дэниелс обнаружил, что непроизвольно подыскивает ближайшую воронку
от снаряда или кучу обломков, за которой можно укрыться, если снова
раздастся стрельба.
Но стрельба не возобновлялась. Один из ящеров помахал ему чешуйчатой
рукой. Он ответил тем же. Такого перемирия на его памяти еще не было. Тогда,
в 1918-м, стрельба остановилась из-за того, что бошей сильно прижали. Теперь
не то -- ни одна сторона не уступила другой. Он думал, что бои могут
возобновиться в любое время. Но пока они не начинались и, возможно, и не
начнутся. Он надеялся, что не начнутся. Он уже навоевался на две жизни.
Двое его людей купались в речке неподалеку. До перемирия в течение
длительного времени ни у кого не было возможности поддерживать чистоту. В
условиях фронта вы остаетесь грязным, в основном из-за опасности быть
подстреленным, когда вы открываете свое тело воде и воздуху. Через некоторое
время вы перестаете ощущать запах, который исходит от вас: все остальные
пахнут точно так же. Теперь Остолоп начал привыкать к отсутствию вони.
С севера, со стороны Кинси, донесся шум двигателя внутреннего сгорания.
Остолоп обернулся и посмотрел на дорогу. К ним подъезжал большой штабной
"додж", на таких имели привычку разъезжать офицеры, пока бензина не стало
слишком мало, чтобы повсюду болтаться на автомобиле. Появление его было
признаком уверенности начальства в том, что перемирие продлится еще.
Так же уверенно на антенне штабной машины трепетал трехзвездный флаг. У
парня, стоявшего за пулеметом в задней части машины, на каске тоже были
нарисованы три звезды. На поясе у него болтались два револьвера с костяными
ручками.
-- Выше головы, ребята, -- воззвал Остолоп. -- К нам с визитом
пожаловал генерал Паттон.
Паттон славился своей жестокостью и любил демонстрировать ее всем и
каждому. Дэниелс надеялся, что он не станет доказывать ее, выпустив пару
пулеметных лент в сторону ящеров.
Штабная машина затормозила. Колеса еще не остановили вращение, а Паттон
уже соскочил с машины и направился к Остолопу, который оказался ближе всех.
Остолоп встал по стойке смирно и отдал честь, подумав, что ящеры наверняка
взяли на мушку этого агрессивного вида пришельца.
Беда только в том, что, начав стрелять в Паттона, они выстрелят и в
него.
-- Вольно, лейтенант, -- сказал Паттон сухим тоном. Он показал через
линию фронта на пару ящеров, занимавшихся каким-то своим делом. -- Значит,
это враги, лицом к лицу. Уродливые дьяволы, не так ли?
-- Да, сэр, -- сказал Остолоп. -- Конечно, то же самое они говорят о
нас, сэр. Называют нас Большими Уродами, я имею в виду.
-- Да, я знаю. Каждый видит свою красоту, как говорится. Мне они,
лейтенант, кажутся уродливыми сукиными сынами, и если они называют меня
уродом, что ж, слава богу, я считаю это комплиментом.
-- Да, сэр, -- снова ответил Остолоп.
Паттон, похоже, не был склонен к стрельбе по окружающему ландшафту, за
что Остолоп был ему чрезвычайно благодарен.
-- Они соблюдают правила перемирия в этом районе? -- спросил генерал.
Казалось, он может начать войну снова, если ответ будет отрицательным.
Но Остолоп отрапортовал:
-- Так точно, сэр. Надо отдать справедливость ящерам: когда они берут
обязательство, они исполняют его. Лучше, чем немцы и японцы, и, может быть,
русские, насколько мне известно.
-- Вы говорите так, словно уже сталкивались с этим, лейтенант...
-- Дэниелс, сэр. -- Остолоп едва не рассмеялся. Он был примерно в
возрасте Паттона. Если ты не набрался опыта, приближаясь к шестидесятилетию,
то какого черта ты жил? -- Я прошел через мясорубку под Чикаго, сэр. Каждый
раз, когда мы договаривались с ящерами остановить огонь, чтобы собрать
раненых и все такое, они точно соблюдали договор. Может, они и ублюдки, но
ублюдки честные.
-- Чикаго. -- Паттон сделал кислую мину. -- Это была не война,
лейтенант, это была бойня, она обошлась им дорого, еще до того, как мы
применили против них атомное оружие. Их величайшее преимущество по сравнению
с нами -- быстрота и мобильность, и как они ими воспользовались? Никак, они
их отбросили прочь, лейтенант, и увязли в бесконечных уличных боях, где
человек с автоматом так же хорош, как ящер с автоматической винтовкой, а
человек с бутылкой "коктейля Молотова" может разделаться с танком, который
на открытой местности способен раздавить дюжину наших "шерманов", даже не
вспотев. Точно так же воевали и нацисты в России. Они тоже были дураками.
-- Да, сэр.
Дэниелс чувствовал себя мальчишкой, слушающим рассказы о том, как
выбрать лучший момент для захвата мяча и пробежки. Паттон знал военное дело
так, как Остолоп бейсбол.
Генерал принялся развивать тему:
-- И ящеры не учатся на своих ошибках. Если бы не их нашествие и немцы
прорвались бы к Волге, можете вы предположить, что немцы были бы такими
глупыми, что стали бы пытаться захватить Сталинград, отвоевывая дом за
домом? Как вы считаете, лейтенант?
-- Сомневаюсь, сэр, -- сказал Остолоп, в жизни ничего не слышавший о
Сталинграде.
-- Конечно, они не стали бы! Немцы -- умные солдаты, они учатся на
своих ошибках. Но после того как мы отогнали ящеров от Чикаго позапрошлой
зимой, что они сделали? Они снова поперли вперед, прямо в мясорубку. И
заплатили за это. Вот поэтому-то, если переговоры пойдут, как надо, им
придется убраться со всей территории США.
-- Будет чудесно, если это случится, сэр, -- сказал Остолоп.
-- Нет, -- сказал Паттон. -- Чудесно было бы убить каждого из них или
изгнать их из нашего мира совсем.
"Чего у него не отнимешь, -- подумал Остолоп, -- так это масштаба".
-- Поскольку мы не можем сделать этого, то нам придется научиться жить
вместе с ними в дальнейшем. -- Паттон махнул в сторону ящеров. -- Как,
братание происходит мирно, лейтенант?
-- Да, сэр, -- ответил Дэниелс. -- Иногда переходят сюда для --
полагаю, это можно назвать так -- профессионального разговора, сэр. Иногда
просят имбиря. Вероятно, вы знаете об этом.
-- О да, -- хмыкнув, сказал Паттон. -- Я знаю. Приятно было узнать, что
грешки есть не только у нас. Некоторое время меня это удивляло. И чем же они
платят за имбирь?
-- Ух, -- сказал Остолоп. Говорить так генералу лейтенант не должен,
поэтому он поспешил продолжить: -- Всякую всячину, сэр. Иногда сувениры,
всякий хлам, ничего не значащий для них, как это было у нас, когда мы
продавали бусины индейцам. У них есть самоприлипающие бинты, которые куда
лучше наших.
Глаза Паттона заблестели.
-- Они когда-нибудь предлагали спиртные напитки за имбирь, лейтенант?
Такое случалось?
-- Да, сэр, случалось, -- осторожно ответил Остолоп, гадая, не
обрушатся ли на него в следующий миг небеса.
Паттон медленно кивнул. Его глаза по-прежнему буравили Дэниелса.
-- Хорошо. Если бы вы ответили мне иначе, я подумал бы, что вы лжец.
Ящеры не любят виски -- я говорил вам, что они глупцы Они пьют ром. И даже
джин. Но шотландское, бурбон или ржаное? Они не прикасаются к виски. Поэтому
когда они добывают что-то, им не нужное, и меняют на то, чего им хочется, то
считают себя в выигрыше.
-- У нас не было проблем с пьяными и хулиганами, сэр, -- сказал
Остолоп, что было достаточно близко к истине. -- Я не препятствую тому,
чтобы ребята выпили по глотку во внеслужебное время, и не только во время
перемирия, но они всегда готовы к бою.
-- Вы выглядите как человек, который достаточно повидал, -- сказал
Паттон. -- Не могу пожаловаться на то, как вы обращаетесь со своими людьми,
если они, как вы говорите, готовы к бою. Армия ведь не занимается
подготовкой бойскаутов, так ведь, лейтенант Дэниелс?
-- Нет, сэр, -- быстро ответил Остолоп.
-- Правильно, -- прорычал Паттон. -- Нет. Это не значит, что
аккуратность и чистота не имеют значения для дисциплины и морали. Я рад
видеть ваше обмундирование чистым и хорошо починенным, лейтенант, и еще
больше меня радует вид купающихся людей. -- Он показал на солдат в речке. --
Очень часто люди на передовой считают, что армейские правила не относятся к
ним. Они ошибаются и иногда нуждаются в напоминании.
-- Да, сэр, -- сказал Дэниелс, вспоминая, каким грязным был он сам и
его форма, когда он наконец пару дней назад выбрал время помыться.
Он порадовался, что поблизости не оказалось Германа Малдуна -- Паттону
достаточно было бы одного взгляда, чтобы отправить его на гауптвахту.
Кстати, у самого Паттона подбородок был тщательно выбрит, форма -- чистая и
с отутюженными складками, а начищенные ботинки раздражающе блестели.
-- Судя по тому, что я увидел, лейтенант, у вас превосходная позиция.
Будьте настороже. Если наши переговоры с ящерами пойдут так, как надеются
гражданские власти, мы двинемся вперед и возвратим оккупированные территории
Соединенных Штатов. Если же они сорвутся, то мы схватим ящеров за морду и
дадим им под хвост.
-- Да, сэр, -- снова сказал Остолоп.
Паттон еще раз стальным взглядом посмотрел на ящеров и вспрыгнул в
штабную машину. Водитель завел мотор. Из выхлопной трубы вырвался едкий дым.
Большой шумный "додж" укатил прочь.
Остолоп облегченно вздохнул. Он пережил немало встреч с ящерами, а
теперь он пережил и встречу с собственным начальством. Как подтвердит любой
солдат на фронте, собственные генералы опасны для вас, по крайней мере в той
же степени, что и враг.
* * *
С немалым неудовольствием Лю Хань слушала дискуссию членов центрального
комитета о том, как привлечь на сторону Народно-освободительной армии массу
крестьян, наводнивших Пекин и желавших работать на маленьких чешуйчатых
дьяволов на уцелевших фабриках.
Ее неудовольствие стало заметным, потому что Хсиа Шу-Тао остановился на
середине своего доклада о новой пропагандистской листовке и ядовито заметил:
-- Сожалею, но мы, кажется, докучаем вам.
В голосе его сожаления не прозвучало; он жалел разве что о ее
присутствии здесь. Прежнюю презрительную наглость после неудавшейся попытки
изнасиловать Лю Хань он внешне не проявлял. Может быть, урок, который он
тогда получил, пошел ему на пользу. Во всяком случае, с той поры он подобных
попыток не повторял.
-- Все, что я услышала, показалось мне очень интересным, -- ответила Лю
Хань, -- но вы в самом деле думаете, что это вызовет интерес у крестьянина,
у которого в мыслях только -- набить свой живот и животы детей?
-- Эта листовка была подготовлена специалистами по пропаганде, --
сказал Хсиа снисходительным тоном. -- Почему вы позволяете себе заявлять,
что вы знаете больше, чем они?
-- Потому что я крестьянка, а не специалист по пропаганде, -- сердито
ответила Лю Хань. -- Если бы кто-то подошел ко мне и на манер христианских
миссионеров начал бы проповедовать о диктатуре пролетариата и необходимости
захвата средств производства, я не поняла бы, о чем он говорит, и не
захотела бы учиться этому. Я думаю, что ваши специалисты по пропаганде --
представители буржуазии и аристократии, далекие от истинных чаяний рабочих и
особенно крестьян.
Хсиа Шу-Тао вытаращил глаза. Он никогда не принимал ее всерьез, иначе
не рискнул бы напасть в тот злосчастный день.
Раньше он не замечал, как хорошо она овладела жаргоном коммунистической
партии. Лю Хань получила удовольствие от того, что повернула этот сложный
набор терминов против тех, кто их придумал.
Сидевший напротив Нье Хо-Т'инг спросил ее:
-- А как, по вашему мнению, сделать его пропаганду более эффективной?
Лю Хань оценила, с какой осторожностью ее любовник -- который был также
ее учителем в овладении учением коммунистической партии -- вмешался в спор.
Нье был старым товарищем Хсиа. Может быть, он проявил сарказм по отношению к
ней, поддерживая своего друга?
Она решила, что это не так, что вопрос был задан искренне.
-- Не учите крестьян идеологии. Большинство из них мало что поймет из
ваших слов. Вместо этого скажите им, что работа на чешуйчатых дьяволов
приносит народу вред. Скажите им, что те вещи, которые они помогают делать
маленьким дьяволам, будут использованы против их родственников, оставшихся в
деревне. Скажите им, что если они будут работать на чешуйчатых дьяволов, то
они и их родственники подвергнутся репрессиям. Это они могут понять. И если
мы потом разбомбим и сожжем фабрику или убьем рабочих, выходящих из нее, они
поймут, что мы говорим правду.
-- Однако они не проникнутся идеями, -- заметил Хсиа, и настолько
решительно, что Лю Хань подумала: не он ли написал большую часть текста
листовки, которую она критиковала?
Она посмотрела на него через стол.
-- Да? Ну и что? Гораздо важнее удержать крестьян от работы на
маленьких дьяволов. Если проще удержать их без пропаганды идей, то не стоит
и беспокоиться об этом. Нам не следует напрасно расходовать ресурсы, так
ведь?
Хсиа смотрел на нее сердито и удивленно. Год назад Лю Хань была
невежественной крестьянкой, но теперь она ушла очень далеко вперед. А можно
ли и других поднять так быстро до ее уровня политической сознательности? Она
сомневалась в этом. Она видела революционное движение изнутри, а другим эта
возможность может и не представиться.
Снова вмешался Нье:
-- Мы не можем ничего тратить понапрасну. Мы готовимся к длительной
борьбе, которая может продлиться целые поколения. Маленькие чешуйчатые
дьяволы хотят всех нас довести до уровня невежественных крестьян. Этого мы
не можем допустить, поэтому мы должны познакомить крестьянство с
определенной целью нашей программы. Та ли цель обсуждается сейчас -- это, я
должен заметить, другой вопрос.
Хсиа Шу-Тао выглядел так, словно его ткнули ножом. Даже старый друг не
поддержал его в полной мере.
-- Мы исправим все, как требуется, -- промямлил он.
-- Хорошо, -- одобрила Лю Хань. -- Это очень хорошо, благодарю вас.
Тот, кто победил, может проявить милость. Но -- не слишком.
-- Когда вы внесете изменения, то, пожалуйста, дайте мне взглянуть на
них, прежде чем отнесете документ к печатнику, -- добавила она.
-- Но...
Хсиа был готов взорваться от негодования. Однако, бросив взгляд на
сидящих вокруг стола, он заметил, как закивали другие члены центрального
комитета. Их Лю Хань убедила. Хсиа прорычал:
-- Если я дам вам текст, сможете ли вы прочитать его?
-- Я прочитаю его, -- ровным голосом ответила она. -- Было бы хорошо,
чтобы я смогла его прочитать, вы ведь это имели в виду? Рабочие и крестьяне,
для которых предназначается листовка, -- это ведь не ученые, которые должны
знать тысячи иероглифов. Послание должно быть сильным и простым.
Снова одобрительные кивки. Хсиа Шу-Тао наклонил голову в знак того, что
уступает. Но взгляд его был все еще чернее тучи. Лю Хань задумчиво
посмотрела на него.
Попытка изнасиловать ее была недостаточной для того, чтобы вычистить
Хсиа из центрального комитета, не говоря уже о партии. А как насчет
обструкционизма? Если он затянет с исправлениями или вообще не даст ей
исправленный текст листовки, что весьма вероятно, этого будет достаточно?
Она надеялась, что Хсиа выполнит свой долг как революционер, но
одновременно горела жаждой мести.
* * *
Атвар расхаживал взад и вперед по комнате, приспособленной -- хотя и не
очень удачно -- к потребностям Расы. Его короткий хвост рефлекторно
вздрагивал. Миллионы лет назад, когда не имевшие разума предки Расы были
длиннохвостыми плотоядными, охотившимися на равнинах Родины, это
подрагивание отвлекало жертву от другого конца тела -- того, который с
зубами. Если бы можно было так легко отвлечь Больших Уродов!
-- Как жаль, что мы не можем изменить наше прошлое, -- сказал он.
-- Благородный адмирал? -- Вопросительное покашливание Кирела показало,
что командир флагмана флота вторжения не уловил ход его мысли.
Адмирал объяснил:
-- Если бы мы больше воевали прежде, до образования единой империи,
наша военная технология в области оружия была бы более развитой. И мы
располагали бы лучшим оружием для завоевания других планет. То, что у нас
было, хорошо послужило нам против работевлян и халессианцев, и мы решили,
что так будет всегда. Тосев-3 стал крематорием для многих наших
предположений.
-- Истинно -- и неоспоримо истинно, -- сказал Кирел. -- Но если бы наши
внутренние войны длились дольше и велись более эффективным оружием, мы могли
уничтожить себя, а не объединиться под властью Императора.
Он опустил глаза. То же самое проделал и Атвар, испустив при этом
долгий шипящий выдох.
-- Только безумие этого мира заставляет меня исследовать гипотетические
варианты. -- Он снова прошелся по комнате, конец его толстого короткого
хвоста дергался вверх и вниз. В конце концов он вспылил. -- Командир,
правильно ли мы делаем, ведя переговоры с Большими Уродами и ради
практических целей соглашаясь уйти из нескольких их не-империй? Этот
поступок не имеет прецедентов, но ведь и с оппонентами, способными
производить свое собственное атомное оружие, мы также не встречались прежде.
-- Благородный адмирал, я верю, что это правильный курс, каким бы
болезненным он ни был, -- сказал Кирел. -- Если мы не можем завоевать всю
поверхность Тосев-3, не повреждая больших частей ее и не вынуждая Больших
Уродов продолжать ее разрушение, то лучше сохранить за собой некоторые
области и ожидать прихода флота колонизации. Мы получим возможность надежно
закрепиться и приготовиться к безопасному приему колонистов и ресурсов,
которые они доставят.
-- То же самое говорю себе и я, раз за разом, -- сказал Атвар. -- И мне
все еще трудно убедить себя в правильности нашего выбора. Видя, как тосевиты
за то короткое время, пока мы находимся здесь, усовершенствовали свою
технологию, я задумываюсь, как далеко они уйдут к моменту, когда флот
колонизации наконец достигнет пределов этого мира.
-- Компьютерные проекты показывают, что мы сохраним значительное
опережение, -- попытался утешить его Кирел. -- Другой возможный путь -- тот,
который предлагал изменник Страха: использовать наше ядерное оружие в
широких масштабах, чтобы принудить Больших Уродов к покорности, -- к
сожалению, испортит всю земную поверхность.
-- Я больше не доверяю компьютерным проектам, -- сказал Атвар. --
Слишком часто они не оправдывались: мы не настолько хорошо знаем Больших
Уродов, чтобы моделировать и экстраполировать их поведение с какой-либо
точностью. В остальном, однако, как вы сказали, остается в силе ироническая
закономерность: тосевитов гораздо меньше беспокоит разрушение значительной
части их мира, чем нас. Поэтому они позволяют себе вести с нами войну в
неограниченных масштабах, в то время как мы по необходимости вынуждены
отступать.
-- Позволяют себе? -- спросил Кирел. -- Отступать? Я не ослышался,
благородный адмирал, вы намереваетесь изменить политику?
-- Не стратегию, а лишь тактику, -- ответил Атвар. -- Если немцы,
например, осуществят свою угрозу, которую их лидер донес до нас через особь
фон Риббентропа, и возобновят ядерную войну против нас, то я буду
действовать так, как предупреждал, и основательно разрушу германскую
территорию. Это научит то, что останется от Германии, самому главному: с
нами не следует шутить -- и благотворно повлияет на поведение других
тосевитских не-империй.
-- Так и следует, благородный адмирал, -- согласился Кирел.
Он был достаточно тактичен, чтобы не отметить, как сильно этот план
напоминает план Страхи, и за это адмирал мысленно поблагодарил его.
-- Не могу, однако, представить, чтобы германские тосевиты пошли на
такой риск перед лицом наших ясных и безошибочных предупреждений.
-- И я тоже, -- сказал Атвар. -- Но во взаимоотношениях с Большими
Уродами единственной определенной вещью является неопределенность.
* * *
Генрих Ягер оглядывался по сторонам. Ему казалось, что это чудо.
Конечно, он не мог видеть все танки и другие бронированные машины своего
полка: они были укрыты вдоль линии фронта, будущей линии атаки. Но он
никогда не думал, что его подразделение снова выйдет на полную боевую
готовность, не ожидал, что получит полный запас топлива и боеприпасов.
Он перегнулся через край люка своей "пантеры" и кивнул Отто Скорцени.
-- Я не хотел, чтобы мы делали это, но если мы должны это сделать, мы
сделаем все, как следует.
-- Сказано солдатом, -- заметил эсэсовец, стоявший рядом со Скорцени.
Парни в черной форме за последние несколько дней скопились в ближних
тылах. Если разведка ящеров засекла их появление, то Ягер поведет свой полк
прямиком в мясорубку. Он думал, что ящеры не настолько сообразительны, и
надеялся, что не ошибается. Эсэсовец тем временем не замолкал:
-- Это долг каждого офицера, как и каждого солдата: подчиняться
приказам вышестоящих и фюрера, не задавая вопросов и независимо от личных
чувств.
Ягер с молчаливым презрением посмотрел вниз на это обутое в сапоги
невежество. Если довести его мысль до логического конца, то вермахт
превратится в скопище автоматов, таких же негибких, как русские или ящеры.
Если вы получили приказ, который не имеет смысла, вы уточняете его. Если в
нем по-прежнему отсутствует смысл или он может привести к очевидной
катастрофе, вы игнорируете его.
Чтобы поступать так, вам требуется сила воли. Отказываясь выполнять
приказ, вы рискуете карьерой. Но если вы убедите вышестоящих начальников,
что вы правы или что полученный вами приказ вызван непониманием ситуации, вы
выживете. Может быть, даже получите повышение.
Ягер же не просто не подчинился приказу. Если взглянуть на вещи с
определенной точки зрения, то окажется, что он оказывал помощь врагу. Так
решил бы любой эсэсовец, узнавший, что именно он сделал.
Поэтому он изучающе рассматривал тощего невысокого человека, стоявшего
рядом со Скорцени. Может, именно он ублажал себя с женой Кароля или его юной
дочерью, в то время как пара других держала несчастную? Может, это он
вырезал эсэсовские руны на животе польского фермера? Может, этот улыбающийся
молодчик только и ожидает, когда взорвется бомба, чтобы арестовать Ягера и
начать вырезать руны уже на нем?
Скорцени бросил взгляд на свои наручные часы.
-- Теперь уже скоро, -- сказал он. -- Когда рванет, мы двинемся вперед,
и сигнал будет передан армиям и на других фронтах. Ящеры еще пожалеют, что
не согласились на наши требования.
-- Так, а что будет потом? -- спросил Ягер, как раньше, все еще
надеясь, что отговорит Скорцени нажимать эту судьбоносную кнопку. -- Мы
можем быть уверены, что ящеры разрушат, по крайней мере, один город рейха.
Так они поступали каждый раз, когда кто-либо применял против них бомбу из
взрывчатого металла. Но теперь это будет не просто война -- нарушение
перемирия. Разве в ответ они не сделают кое-что похуже?
-- Не знаю, -- весело сказал Скорцени. -- И знаешь, старик, я бы не
стал обманываться. Все по земле ходим. Работа, которую мне поручил фюрер,
состоит в том, чтобы пнуть в яйца ящеров и евреев так сильно, как я только
могу. И это я собираюсь сделать. А что случится потом, пусть случается.
Тогда и начнем беспокоиться.
-- Вот это национал-социалистический образ мыслей, -- сказал другой
эсэсовец, улыбаясь Скорцени.
Скорцени даже не оглянулся на подпевалу. Вместо этого штандартенфюрер
направил свой взор вверх на Ягера. Не давая чернорубашечному коллеге и
намека на собственные мысли, он не скрывал их от полковника-танкиста. И если
он не считал все это "благочестивым трепом", Ягер съел бы свою форменную
фуражку.
И тем не менее даже если Скорцени не в восторге от лозунгов, под
которыми воюет, они представляют для него ценность.
Гитлер посылал его, как сокола, на избранных врагов. И подобно соколу,
он не задумывался над тем, куда и зачем он летит, а только о том, как
нанести самый сильный удар, когда он доберется до места
Ягер сам воевал по таким же принципам, пока то, что Германия сделала с
евреями в захваченных странах, ему не пришлось увидеть своими глазами. Он
понимал, что Германию остановило только нашествие ящеров. Когда глаза
открылись, то закрыть их снова нелегко. Ягер пытался, и у него не
получилось.
Он пытался также -- со всеми предосторожностями -- открыть глаза и
некоторым другим офицерам, включая Скорцени. Все они без исключения желали
оставаться слепыми -- ничего не видеть и не обсуждать. Он понял это. Он даже
симпатизировал им. Если вы отказываетесь замечать пороки вашего начальства и
вашей страны, то с каждодневной рутиной дел справляться становится легче.
Пока Ягер воевал только с ящерами, он легко подавлял свои сомнения.
Никто ни мгновения не сомневался, что ящеры -- смертельный враг, и не только
для Германии, но для всего человечества. Их следовало остановить во что бы
то ни стало. Но бомба из взрывчатого металла в Лодзи предназначалась не
только ящерам. Даже в первую очередь _не_ ящерам. Скорцени понимал это. Он
установил ее там после того, как не удалась его затея с предназначенной
евреям Лодзи бомбой с нервно-паралитическим газом. Это была его месть -- и
месть Германии евреям за то, что однажды они расстроили планы Гитлера.
Попробуй Ягер поступить по-человечески, ему пришлось бы плохо.
Скорцени, насвистывая, отошел в сторону. Затем он вернулся с переносной
рацией. Но ручной пульт, который прилагался к ней, был необычным. На нем
было всего два элемента -- выключатель и большая красная кнопка.
-- Я определяю время: одиннадцать ноль-ноль, -- сказал Скорцени,
взглянув еще раз на часы.
Второй эсэсовец поднес запястье правой руки к глазам.
-- Я подтверждаю: время -- одиннадцать ноль-ноль, -- официально заявил
он.
Скорцени захихикал.
-- Разве это не забавно? -- спросил он.
Второй эсэсовец посмотрел на него недоуменно -- этих слов в письменной
инструкции не было. Ягер только фыркнул. Он много раз видел, как безразлично
Скорцени относится к писаным приказам. Штандартенфюрер повернул выключатель
на 180 градусов.
-- Передатчик включен, -- сказал он.
-- Я подтверждаю, что передатчик включен, -- прогудел второй эсэсовец.
И тут Скорцени снова нарушил правила. Он привстал на цыпочки и дал
пульт в руки Ягеру:
-- Не будешь так любезен?
-- Я? -- Ягер едва не уронил пульт. -- Ты в своем уме? Боже мой, нет.
Он отдал пульт Скорцени. И только после этого подумал, что ему
следовало выпустить его из рук или ухитриться разбить о броню танка.
-- Ладно, пусть это тебя не беспокоит, -- сказал Скорцени. -- Я в
состоянии убить собственную собаку. Я в состоянии убить целую кучу сукиных
сынов.
Его большой палец вдавил красную кнопку.
Даже если бы погода была прохладной, от Вячеслава Молотова, ожидавшего
в холле отеля "Семирамида" бронированной машины ящеров, которая должна была
отвезти его в отель "Шепхед", все равно валил бы пар.
-- Идиотизм, -- пробормотал советский комиссар иностранных дел Якову
Донскому. Когда речь шла о фон Риббентропе, он не старался скрыть своего
презрения. -- Идиотизм, сифилитический парез или и то и другое вместе.
Скорее всего, и то и другое.
Фон Риббентроп, тоже дожидавшийся отъезда, находился в пределах
слышимости, но он не говорил по-русски. И даже если бы он говорил по-русски,
Молотов не изменил бы ни слова. Переводчик бросил взгляд на германского
министра иностранных дел, затем ответил почти шепотом:
-- Это действительно против правил, товарищ комиссар иностранных дел,
но...
Молотов сделал ему знак замолчать.
-- Не надо никаких "но", Яков Вениаминович. С тех пор как мы сюда
прибыли, ящеры собирали нас на заседания в одно и то же время. И чтобы ради
этого наглого нациста, потребовавшего заседания еще и в полдень... -- Он
покачал головой. -- Я считал, что только бешеные собаки и англичане выходят
на улицу в полуденную жару, а вовсе не немецкие бешеные собаки.
Прежде чем Донской успел сказать что-то в ответ, перед отелем
остановилось несколько машин для транспортировки личного состава. Ящерам,
похоже, пришлось не по нраву перевозить всех дипломатов-людей одновременно,
но фон Риббентроп не дат достаточного времени на организацию заседания, на
котором он настаивал, так что ничего другого ящеры предпринять не успели.
Когда участники заседания прибыли в штаб-квартиру Атвара,
охранники-ящеры постарались разделить их, чтобы Молотов не смог переговорить
с Маршаллом, Иденом или Того. Не дали они и шанса переговорить с фон
Риббентропом. Но это был напрасный труд: Молотову было нечего сказать
германскому министру иностранных дел.
Точно в полдень главнокомандующий ящеров вошел в зал, сопровождаемый
своим переводчиком. Через этого самца Атвар передал:
-- Итак, представитель не-империи Германии, я согласился на ваше
требование провести особое заседание в это особое время. Теперь вы
объясните, почему вы этого потребовали. Я буду слушать со всей
внимательностью.
Это означало -- "лучше, чтобы это было что-то хорошее". Даже через двух
переводчиков Молотов без труда понял смысл сказанного. До фон Риббентропа
эти слова донес только один переводчик, так что ему должно было быть вдвое
яснее.
Тем не менее он этого никак не выказал.
-- Благодарю вас, господин адмирал, -- сказал он, поднимаясь на ноги.
Из внутреннего кармана пиджака он вынул сложенный лист бумаги, развернул. --
Адмирал, я зачитаю вам заявление Адольфа Гитлера, фюрера германского рейха.
Когда он произносил имя Гитлера, его голос наполнился большим
благочестием, чем у Римского Папы (до того, как Папа превратился в
радиоактивную пыль), упоминающего Иисуса. А почему бы и нет? Фон Риббентроп
считал, что Гитлер непогрешим; когда он готовил германо-советский пакт о
ненападении, так грубо нарушенный фашистами впоследствии, он объявил на весь
мир: "Фюрер всегда прав". При этом он в отличие от дипломатов не обладал
достаточным двуличием, чтобы складно лгать.
Теперь же он напыщенным тоном читал по бумажке:
-- Фюрер заявляет, что, поскольку Раса недопустимо оккупирует
территорию, по праву принадлежащую Германии и отказывается покинуть эту
территорию, несмотря на незаконность оккупации, то рейх полностью оправдан в
принятии самых строгих мер против Расы и уже начал такие меры. Мы...
Молотов почувствовал, как у него что-то упало внутри. Таким способом
нацисты могут потребовать уступок от любого государства. Фашистский режим
начал новое замаскированное наступление, и теперь, следуя давно знакомому
образцу, привел обоснование новому неспровоцированному акту агрессии.
Тем временем фон Риббентроп продолжал:
-- ...подкрепляем наши законные требования взрывом новейшей бомбы из
взрывчатого металла и военными действиями, которые последуют за этим
взрывом. Бог даст германскому рейху победу, которую он заслужил. --
Германский министр иностранных дел сложил бумагу, убрал ее и выбросил вперед
правую руку в нацистском приветствии. -- Хайль Гитлер!
Энтони Иден, Шигенори Того и Джордж Маршалл выглядели такими же
потрясенными, как и Молотов. Вот он, народный фронт: Гитлер ни с кем не
проконсультировался, прежде чем снова начать военные действия. Он и очень
возможно, что и все остальные, должны будут заплатить за это.
Уотат закончил свои шипения, похлопывания и поскрипывания для Атвара.
Молотов ждал, что сейчас адмирал взорвется и пообещает ужасные разрушения в
Германии за то, что уже сделано. Комиссар иностранных дел должен был
встретить подобную реакцию с невозмутимостью.
Вместо этого Атвар произнес несколько слов, обращаясь к переводчику,
который и объявил громогласно:
-- Благородный адмирал повелел мне сказать вам, что он рассмотрит
данное заявление.
Пока Уотат переводил, командующий ящеров покинул зал.
Он вернулся через несколько минут и снова заговорил с переводчиком.
Одно за другим Уотат перевел его слова на английский. Одновременно Донской
переводил с английского на русский для Молотова:
-- Благородный адмирал удивляется, почему представитель не-империи
Германия заставил нас прийти сюда, чтобы выслушать заявление, не содержащее
в себе ни малейшего намека на реальность. На самом деле никакого атомного
взрыва не было ни на территории Германии, ни вблизи нее. Никакой необычной
военной активности среди германских войск не замечено. Благородный адмирал
спрашивает: не испортились ли мозги у вас, представитель фон Риббентроп, или
у вашего фюрера?
Фон Риббентроп уставился на Атвара. Молотов и остальные представители
смотрели на фон Риббентропа. Где-то произошло что-то значительное, и
произошло не так, как ожидалось, -- это было очевидно. Но что? И где?
* * *
Отто Скорцени давил на красную кнопку, пока не побелел ноготь на его
большом пальце. Генрих Ягер ждал, что южный горизонт осветится новым
краткоживущим солнцем и затем последует артподготовка. Он сказал через
переговорное устройство Иоганнесу Дрюккеру:
-- Будьте готовы запустить двигатель.
-- Яволь, господин полковник, -- ответил водитель.
Но новое солнце так и не взошло. Серый польский день продолжался
спокойно. Скорцени снова ткнул большим пальнем в кнопку. Ничего не случилось
-- Христос на кресте, -- пробормотал эсэсовец. Затем, чувствуя, что это
слишком слабо, чтобы удовлетворить его, добавил: -- Богом проклятый ублюдок
жрущей дерьмо суки.
Он еще раз нажал кнопку, прежде чем с отвращением швырнуть передатчик
на землю, и обернулся к чернорубашечнику, стоявшему рядом:
-- Дай мне запасной. Шнелль!
-- Яволь, герр штандартенфюрер!
Другой офицер СС поспешил прочь и спешно вернулся с передатчиком и
пультом, точно такими же, какие только что не сработали.
Скорцени щелкнул выключателем и нажал кнопку на новом пульте. И снова
бомба в Лодзи не взорвалась.
-- Дерьмо, -- устало проговорил Скорцени, словно более выразительные
ругательства потребовали бы от него слишком много сил.
Он было начал разбивать второй передатчик, но удержался.
Покачав головой, он сказал:
-- Что-то где-то грохнулось. Иди и передай на общей частоте:
"Баклажан".
-- "Баклажан"? -- Эсэсовец выглядел как пес, у которого отобрали
лакомую кость. -- Неужели мы должны?
-- Бьюсь об заклад на твою задницу, Макс, другого выхода нет, --
ответил Скорцени. -- Если бомба не взрывается, нам не двинуться. Она не
взорвалась. Теперь мы должны послать войскам сигнал отбоя, чтобы они знали,
что атака задерживается. Как только она взорвется, мы пошлем сигнал "Нож". А
теперь беги, черт тебя побери! Если какой-нибудь нетерпеливый идиот откроет
огонь из-за того, что не получил сигнала об отмене атаки, Гиммлер пустит
твои кишки на подтяжки.
Ягер никогда не видел, чтобы кто-либо двигался так быстро, как бедный
Макс.
-- Что теперь? -- спросил он Скорцени.
Он не часто видел этого крупного грубоватого австрийца в состоянии
нерешительности, но именно нерешительность овладела Скорцени.
-- Будь я проклят, если знаю. Может, какой-то могильщик, или как там
его называют жиды, обнаружил антенну, прикрепленную к могильному столбу, и
оторвал ее? Если ничего другого не случилось, то простое повторное
подключение исправит дело. А вот если что-то серьезнее, если евреи
обнаружили бомбу... -- Он покачал головой. -- Вот это совсем худо. По
каким-то странным причинам они совсем нас не любят.
И даже его смех, обычно неистово веселый, теперь прозвучал печально.
"По каким-то странным причинам". Только так Скорцени мог определить то,
что рейх сделал с евреями. Пожалуй, он подошел к истине ближе, чем
большинство германских офицеров, но все же недостаточно близко, по мнению
Ягера. Полковник спросил:
-- И что ты собираешься делать?
Скорцени посмотрел на него, как на идиота.
-- А как ты думаешь? Я собираюсь просочиться в Лодзь и заставить
сработать эту дрянь тем или другим способом. Как я сказал, надеюсь, что
проблема только в антенне. Но если не в ней и евреи разнюхали каким-то
образом о бомбе, мне будет весело.
-- Тебе нечего и думать идти туда самому, -- воскликнул Ягер. -- Если
евреи нашли ее, -- этого он и сам не знал наверняка, -- они превратят тебя в
кровяную колбасу.
Скорцени снова покачал головой.
-- Ошибаешься, Ягер. Это -- как говорят ублюдки из британской авиации
-- кусок пирога, вот что. Сейчас ведь перемирие, помнишь? Даже если жиды
украли бомбу, они не будут ее охранять, как зеницу ока. Зачем им эго? Они и
не заподозрят, что мы уже начали ее искать, потому что не могут
предположить, что мы собирались взорвать ее во время перемирия. -- Его
язвительность приобретала прежнюю силу. -- Конечно, нет. Мы -- хорошие
маленькие мальчики и девочки, правильно? С одним исключением: я нехороший
маленький мальчик.
-- M-м, я заметил, -- сухо сказал Ягер.
Теперь смех Скорцени был снова полон его злобного недовольства --
террорист быстро приходил в себя. И еще -- он чертовки хорошо размышлял на
ходу: каждое его слово казалось разумным.
-- Когда ты отправишься?
-- Вот только переоденусь, возьму пайки и позабочусь о паре вещей
здесь, -- ответил эсэсовец. -- Если бомба взорвется, она так даст в зубы
этим чешуйчатым сукиным сынам, что они это надолго запомнят.
Нелепо кокетливым жестом он сделал Ягеру ручкой и ушел.
С высоты купола "пантеры" Ягер смотрел ему вслед. Если его
подразделение находится в полной боевой готовности, может ли он уйти и
передать сообщение Мечиславу, чтобы тот кружными путями переправил его
Анелевичу? Ответ был прост и очевиден: уйти он не может. А значит, он ничего
не сможет сделать не только для тысяч евреев, которые превратятся в
грибовидное облако, но и для Германии. Чем ответят ящеры Фатерланду на взрыв
атомной бомбы во время перемирия? Ягер не знал. Да и не хотел знать.
Из нижней части башни "пантеры" Гюнтер Грилльпарцер спросил:
-- Сегодня представление отменяется, полковник?
-- Похоже, что так, -- ответил Ягер и затем не удержался: -- Хотя и не
скажу, что сожалею.
К его удивлению, Грилльпарцер сказал:
-- Аминь. -- После короткой паузы наводчик, похоже, решил, что
требуется какое-то объяснение. -- Видите ли, господин полковник, я не
сторонник жидов, но не похоже, чтобы теперь они нас тревожили в первую
очередь, вы понимаете, что я имею в виду? Вот ящерам я на самом деле хотел
бы дать пинка в зад, а не им. Они все равно все попадут в ад.
-- Капрал, по моему мнению, вам вполне подойдут красные лампасы на
брюки и генеральный штаб, -- сказал Ягер. -- Мне кажется, что у вас больше
здравого смысла, чем у большинства наших составителей планов, и это факт.
-- Если я им стану, значит, Германии помогает Бог, -- сказал
Грилльпарцер и рассмеялся.
-- Бог помогает Германии, -- согласился Ягер, но к смеху не
присоединился.
Остаток дня прошел словно в летаргическом сне. Ягер и его экипаж с
облегчением выбрались из своей "пантеры": каждый раз, выступая против
ящеров, вы бросаете кости, и раньше или позже на вас посмотрят "змеиные
глаза" ["Двойка", проигрышная комбинация игральных костей. -- Прим. ред.].
Где-то после полудня Отто Скорцени исчез. Ягер представил себе, как он
пробирается в Лодзь, с мешком за плечами и, скорее всего, прикрыв гримом
свой знаменитый шрам. Но под силу ли ему скрыть дьявольский блеск в глазах?
Ягер сомневался.
Иоганнес Дрюккер тоже исчез ненадолго, но вскоре вернулся с триумфом,
притащив столько колбасы, что ее хватило бы на ужин для всех.
-- Рыцарский крест этому человеку! -- воскликнул Гюнтер Грилльпарцер.
Повернувшись к Ягеру, он сказал с улыбкой: -- Прежде чем вы отправите меня в
генеральный штаб, господин полковник, я ведь тоже могу повеселиться, не так
ли?
-- Почему же нет? -- сказал Ягер. -- Почему бы и нет?
Когда сгустились сумерки, они развели костер и поставили на огонь
горшок, чтобы сварить колбасу. От вкусного пара, повалившего от горшка, у
Ягера потекли слюнки. Когда он заслышал приближающиеся шаги, то решил, что
идет экипаж другого танка, привлеченный запахом, в надежде получить свою
долю.
Но люди, которые подходили к костру, носили не форму танкистов, они
были в черной форме СС. "Значит, Макс и его друзья тоже не прочь попросить
колбаски?" -- удивленно подумал Ягер.
Макс вытащил из кобуры "вальтер" и направил в живот Ягеру. Эсэсовцы,
которые пришли с ним, взяли на прицел остальных танкистов.
-- Вы немедленно пойдете со мной, полковник, или я застрелю вас на
месте, -- сказал Макс. -- Вы арестованы за измену рейху.
* * *
-- Благородный адмирал, -- поздоровался Мойше Русецкий.
Он привык к встречам с Атваром. Он даже стал готовиться к ним. Чем
более полезным считал его Атвар, тем меньше вероятность того, что ему и его
семье придется расплачиваться за прежние выступления против ящеров. А
догадываться о ходах дипломатов великих держав было такой замечательной
игрой, что шахматы по сравнению с ней казались ребяческой забавой. Очевидно,
его догадки были гораздо точнее, чем у большинства ящеров. И поэтому вопросы
поступали бесконечным потоком. От него требовалось оценивать, как идут
переговоры, что вызывало восхищение у него самого: он был причастен к
секретам, известным лишь горстке людей. Атвар заговорил на своем языке.
Золрааг превратил его слова в обычную польско-германскую смесь:
-- Вам, конечно, известен тосевитский не-император Гитлер, и вы не
имеете хорошего мнения о нем -- я полагаю, это остается истинным?
-- Да, благородный адмирал. -- Мойше добавил усиливающее покашливание.
-- Хорошо, -- сказал Атвар. -- Из этого я делаю вывод, что тогда вы
выскажете более честное мнение о его действиях, чем, например, о действиях
Черчилля: ваша солидарность с другими Большими Уродами в отношении Гитлера
будет меньше. Это тоже правильно?
-- Да, благородный адмирал, -- повторил Мойше.
Напоминание о том, что Гитлер является его соплеменником, вовсе не
наполнило его радостью. Что бы ни говорили о ящерах, но они показали себя
лучшим народом, чем нацисты Адольфа Гитлера.
-- Очень хорошо, -- сказал Атвар через Золраага. -- Тогда такой вопрос:
как вы расцениваете поведение Гитлера и фон Риббентропа? Последний призывал
меня объявить о взрыве атомной бомбы и возобновлении военных действий
Германии против Расы, в то время как на самом деле этот взрыв и военные
действия -- исключая несколько эпизодов чуть активнее обычного -- не имели
места.
Мойше задумался.
-- Это в самом деле произошло, благородный адмирал?
-- Истинно, -- сказал Атвар слово, которое Русецкий понимал и на языке
ящеров.
Он задумался и почесал голову. Насколько он знал, в глазах Атвара этот
жест мог показаться грубым. Но с другой стороны, он был Большим Уродом, так
что в глазах Атвара он был грубым по определению. Он медленно проговорил:
-- Мне трудно поверить, что фон Риббентроп мог сделать такое заявление,
зная, что это неправда и что вы легко можете это проверить.
-- Таково ваше восприятие, -- сказал адмирал. -- Когда самец,
представитель Гитлера, сделал это заявление, я немедленно проверил и, найдя
его фальшивым, вернулся, чтобы проинформировать его об этом факте.
Единодушное мнение наших психологов -- мое заявление стало для него
сюрпризом. Теперь посмотрите сами.
По жесту Атвара Золрааг включил небольшой экран. Появилось изображение
фон Риббентропа, который выглядел одновременно наглым и напуганным. Ему
что-то говорили на пришепетывающем английском.
Глаза германского министра иностранных дел широко открылись, челюсть
отвисла, рука схватилась за край стола.
-- Благородный адмирал, этот человек в состоянии крайнего удивления, --
объявил Мойше.
-- Так мы и думали, -- согласился Атвар. -- Это поднимает следующий
вопрос: не является ли выдача фальшивой информации частью какого-то
нечестного плана гитлеровской стороны, или же эта информация должна была
быть правдивой? В любом случае, конечно, фон Риббентроп должен был считать
ее точной в тот момент, когда сообщал ее.
-- Да. -- Мойше снова почесал голову, стараясь определить, какую
возможную пользу мог получить Гитлер, умышленно обманывая своего министра
иностранных дел. -- Я прихожу к выводу, что немцы намеревались напасть на
вас.
-- Такое заключение сделали и мы, хотя и предупредили, что они сильно
пострадают, если предпримут такое нападение, -- сказал Атвар. -- Это
беспокоит: где-то на границе между нами и гитлеровскими войсками, а
возможно, за этой границей, вероятно, имеется ядерное оружие, которое по
какой-то причине не взорвалось. Мы искали его, но не нашли. После случая в
Эль-Искандрии у нас нет уверенности, что мы сможем найти его. Отсюда вопрос:
смирится ли Гитлер с неудачей и возобновит переговоры или все же постарается
взорвать бомбу?
Заглянуть внутрь мозгов Гитлера -- все равно что удалить ткань,
пораженную гангреной: отталкивающее, но необходимое дело.
-- Если немцы найдут способ взорвать бомбу, то я предполагаю, что они
это сделают, -- сказал Мойше. -- Но я должен повториться, что это всего лишь
предположение.
-- Оно совпадает с предположениями, которые сделали наши аналитики, --
сказал Атвар. -- Насколько оно точно, покажет только время, но я думаю, что
вы высказали мне лучшее и наиболее обоснованное суждение.
-- Истинно, благородный адмирал, -- сказал Мойше на языке Расы.
-- Хорошо, -- ответил ящер. -- Я придерживаюсь того мнения, что в
прошлом мы старались использовать вас в слишком широких пределах, и, как в
случае с любым инструментом, которым злоупотребляют, это вызвало трудности,
которых мы могли бы избежать, если бы вас держали в рамках, подходящих к
вашей ситуации. Кажется, это в значительной степени является причиной вашей
враждебности по отношению к нам и вашего выступления против нас.
-- В определенной степени дело обстоит именно так, -- согласился Мойше.
Это было наилучшее приближение к пониманию его характера, к которому
когда-либо приходили ящеры, и куда более предпочтительное, нежели
приравнивание его действий к измене.
-- Если нож ломается из-за того, что его использовали вместо лома,
разве виноват нож? -- продолжил Атвар. -- Нет, это ошибка того, кто
пользовался инструментом. Ввиду того, Мойше Русецкий, что ваша служба дала
лучшие результаты, когда вас стали использовать правильно, я склоняюсь к
тому, чтобы пересмотреть прошлые прегрешения. Когда переговоры между Расой и
тосевитами закончатся, возможно, мы возвратим вас на территорию, где вы были
повторно захвачены...
-- Благородный адмирал имеет в виду Палестину, -- добавил от себя
Золрааг. -- Названия, которые вы даете разным местам, создают нам
значительные трудности, в особенности когда к одному и тому же месту
относятся несколько названий.
Атвар продолжил:
-- Мы поселим вас там, как я сказал, с вашей самкой и детенышем и при
необходимости будем консультироваться с вами по тосевитским делам. Для нас
будет лучше признать с настоящего времени пределы вашей деятельности и не
заставлять вас добывать информацию или вести пропаганду, которую вы считаете
неприятной. Вы принимаете такое предложение?
Они хотят вернуть его в Палестину -- на Святую Землю -- вместе с
семьей? Они хотят использовать его как эксперта по человечеству без
принуждения и унижений? Он осторожно сказал:
-- Благородный адмирал, единственно, что меня беспокоит: все это звучит
слишком хорошо, чтобы быть истинным.
-- Это истина, -- ответил адмирал. -- Вы когда-нибудь видели, Мойше
Русецкий, чтобы Раса нарушала обещания, которые дала?
-- Я не видел такого, -- ответил Мойше. -- Но я видел, как Раса
приказывает, вместо того чтобы попробовать прийти к согласию.
Атвар вздохнул совершенно по-человечески.
-- На Тосев-3 это оказалось куда менее эффективным, чем мы бы желали. И
в связи с этим мы пробуем здесь новые методы, какими бы неприятными они нам
ни казались. Когда сюда прибудут самцы и самки флота колонизации, они,
несомненно, выскажут немало отрицательного в отношении нашей практики, но мы
зато сможем предложить им значительную часть поверхности живой планеты, на
которой можно поселиться. Принимая во внимание то, что могло бы случиться
здесь, это решение кажется мне приемлемым.
-- Я не вижу причин не согласиться с вами, благородный адмирал, --
сказал Мойше. -- Временами не каждый может получить все, что он хотел бы,
используя конкретную ситуацию.
-- С Расой такого еще никогда не случалось, -- сказал Атвар, снова
вздохнув.
От мировых проблем Мойше перешел к личным, сформулировав их одним
предложением:
-- Когда вы поселите меня и мою семью в Палестине, то мне хотелось бы
еще кое-чего.
-- Что же это? -- спросил адмирал.
Русецкий задумался, не слишком ли далеко он заходит в погоне за удачей,
но тем не менее рискнул:
-- Вы знаете, до захвата немцами Польши я учился на врача. Я хотел бы
продолжить эту учебу не только с людьми, но и с самцами Расы. Если будет
мир, то нам надо будет так многому научиться у вас...
-- Одна из моих главных забот в поддержании мирного сосуществования с
вами, Большими Уродами, это чему вы можете научиться у нас, -- сказал Атвар.
-- Вы уже узнали слишком много. Но я не считаю, что в медицине вы создадите
нам большую опасность. Очень хорошо, Мойше Русецкий, пусть будет так, как вы
сказали.
-- Благодарю вас, благородный адмирал, -- сказал Мойше. В каком-то
американском фильме прозвучало выражение, почему-то запомнившееся Русецкому:
"У этой сделки аромат розы". -- Роза, -- пробормотал он. -- Точно как роза.
-- Мойше Русецкий? -- спросил Атвар с вопросительным покашливанием:
Золрааг не смог перевести бормотание тосевита.
-- Мы заключили сделку, благородный адмирал, -- сказал Мойше, надеясь,
что у розы будет не слишком много шипов.
* * *
Страха отклонился от микрофона и снял наушники, которые плохо прилегали
к его слуховым перепонкам.
-- Еще одна радиопередача, -- сказал он, поворачивая один глаз в
сторону Сэма Игера. -- Я не вижу необходимости продолжать их, когда
переговоры между Расой и вами, Большими Уродами, идут так успешно. Вы не
можете себе представить, как вы должны были напугать этого тяжеловесного
старого Атвара, чтобы вообще заставить его пойти на переговоры.
-- Я рад, что он наконец уступил, -- сказал Сэм. -- Я сыт войной. Весь
этот мир сыт войной по горло.
-- Полумеры любого вида на Тосев-3 не приводят к успеху, -- согласился
Страха. -- Если бы в раскраске главнокомандующего флотом был я, мы привели
бы вас, тосевитов, к покорности быстрее и жестче.
-- Я знаю, -- кивнул Игер.
Беглый командир никогда не делал секрета из того, что предпочитает
кнут, а не пряник. Сэм вспомнил об американской атомной бомбе, спрятанной
где-то здесь, в Хот-Спрингсе, не более чем в нескольких сотнях ярдов от этой
душной маленькой студии. Конечно, он не мог рассказать Страхе об этой бомбе:
проговорись он -- и генерал Донован приколотит его скальп к стене. Поэтому
он заговорил о другом:
-- Три не-империи, способные делать атомные бомбы, стали бы серьезной
проблемой даже для вас.
-- Истинно так. Конечно, это так. -- Страха вздохнул. -- Когда наступит
мир -- если он наступит, -- что будет со мной?
-- Мы не вернем вас обратно Расе, чтобы они отомстили, -- сказал Сэм.
-- Мы уже поставили в известность ваших представителей в Каире. Это не очень
понравилось им, но они согласились.
-- Я уже знаю, -- ответил Страха. -- Значит, я буду жить всю жизнь
среди вас, тосевитов США? И как же я буду проводить время?
-- О! -- Сэм начал понимать, к чему клонит беглец. -- Некоторые самцы
Расы прекрасно устроились у нас. Весстил научил нас удивительно многому по
ракетной технике, а Ристин...
-- Превратился в Большого Урода, -- ядовито сказал Страха.
-- А как вы полагаете, что он должен был делать? -- спросил Сэм.
-- Он -- самец Расы. Он должен иметь достоинство помнить об этом, --
ответил Страха.
Через секунду Сэм сообразил, кого вдруг ему напомнил ящер: английского
сноба, который свысока смотрит на соотечественника, "ставшего местным" в
Танганьике, в Бирме или где-нибудь еще. Он видел немало кинофильмов о
джунглях с подобными персонажами. Беда в том, что он не мог объяснить это
Страхе без риска оскорбить его еще сильнее.
-- Может быть, когда мы заключим мир, то... -- Ему надо было
высказаться обиняком, но он сказал напрямую. -- Мы добьемся и амнистии.
-- Для таких, как Ристин, амнистия будет наверняка, -- сказал Страха.
-- Он получит ее, хотя она ему не нужна, чтобы наслаждаться жизнью. Для
таких, как Весстил, тоже возможна амнистия. Весстил многому вас научил --
это истинно, Сэм Игер, как вы сказали. Но он попал к вам, тосевитам, по
моему приказу. Он был пилотом моего челнока: когда я приказал, он был обязан
выполнить приказ, и он его выполнил. Несмотря на помощь, которую он оказал
вам, он может быть прощен. Но для меня, Сэм Игер, амнистии не будет. Я
попытался свалить адмирала Атвара, чтобы не дать ему проиграть войну с вами,
тосевитами. Я проиграл -- а он, выиграл ли он эту войну? Думаете, он
позволит мне жить на территории, которую получит Раса после наступления мира
-- если он наступит? Возможно, но я буду напоминать ему, что был прав, когда
подверг сомнению его действия, я одним своим видом буду напоминать ему, что
вторжение сорвалось. Нет. Если я еще должен жить, то должен жить среди вас,
Больших Уродов.
Сэм медленно наклонил голову. Изменники никогда не возвращаются домой;
похоже, что у ящеров дело обстоит так же, как у людей. Если бы Рудольф Гесс
прилетел обратно в Германию из Англии, разве встретил бы его Гитлер с
распростертыми объятиями? Вряд ли. Но Гесс в Англии был по крайней мере
среди своих соплеменников-людей. Здесь, в Хот-Спрингсе, Страха попал в такую
же ловушку, как человек, попавший в плен к ящерам, человек, которому суждено
провести остаток своих дней с ними -- или, точнее, на их Родине.
-- Мы сделаем все, что сможем, чтобы вам было удобно, -- обещал Игер.
-- В этом же ваши лидеры и вы заверяли меня с самого начала, -- ответил
Страха. -- И, насколько это в ваших возможностях, вы это сделали. Я не могу
жаловаться на ваши намерения. Но они распространяются только на настоящее
время, Сэм Игер. Если наступит мир, я останусь здесь как аналитик Расы и
пропагандист этой не-империи. Разве это не наиболее вероятный вариант?
-- Истинно, -- сказал Сэм. -- Вы заработали себе место здесь навсегда.
Вы не хотите заниматься этим?
-- Я буду -- и это все, что я могу сделать. Но вы меня не поняли, --
сказал Страха. -- Я останусь здесь, среди вас, тосевитов. Наверняка
останутся и несколько других самцов. И мы создадим нашу крошечную общину,
потому что мы принадлежим Расе. Наши глаза будут обращены к тому, что будет
делать здесь, на Тосев-3, основная часть Расы, и мы будем изучать это для
лидеров данной не-империи и никогда не станем частью ее. Как жить в таком
одиночестве? Возможно ли это? Я должен знать.
-- Извините, -- сказал Игер. -- Я сначала не понял.
Еще до того, как немцы завоевали Францию, в газетах писали о том, как
жили русские эмигранты в Париже. Если кто-нибудь из них уцелел, они
наверняка отнеслись бы к Страхе с симпатией: им довелось извне смотреть на
то, как большая часть их соотечественников строила что-то новое. Если это и
не было адом, то во всяком случае неплохой тренировочной площадкой.
Страха вздохнул.
-- Кроме того, через небольшое время -- по меркам, которыми пользуется
Раса, -- сюда прибудет флот колонизации. Будут инкубированы выводки яиц.
Будет ли среди них мое? Есть над чем посмеяться.
Его рот открылся -- и остался открытым.
У некоторых русских эмигрантов были русские жены, у других --
любовницы. Кому-то доставались жаждущие француженки. Страхе недоставало
самки-ящера не так, как мужчине недостает женщины: если Страха не видел
(вернее, не обонял) самку, он о ней и не думал. И тем не менее он продолжал
рассматривать Расу как единое целое, к которому уже никогда не будет
принадлежать.
-- Это трудно, командир, -- сказал Сэм.
-- Истинно, -- сказал Страха. -- Но когда я спускался в эту не-империю,
я не спрашивал, будет ли моя жизнь легкой, а только о том, будет ли она
продолжаться. Она продолжается. Она будет продолжаться и в тех
обстоятельствах, которые я для себя изберу. И скорее всего я буду долго
размышлять о том, правильное ли решение я принял.
Сэму хотелось сказать что-то подходящее к случаю, но ничего подобного в
своей жизни он не переживал.
* * *
Мордехай Анелевич равнодушно прошел мимо фабрики, на которой еще
несколько месяцев назад рабочие выпускали зимнюю одежду для ящеров. Затем
нацистская ракета попала прямо в здание. Теперь оно выглядело так, как любое
другое, которое разрушила бомба весом в одну тонну: сплошное крошево. Слава
богу, что ракета ударила во время ночной смены, когда людей было очень мало.
Анелевич осмотрелся. Улица была почти безлюдной. Он подтянул брюки,
будто поправляя их. Затем нырнул за полуразрушенную стену фабрики: это мог
сделать любой человек в поисках уединения, чтобы без помех облегчиться.
Из руин прозвучала фраза на идиш:
-- А, это вы. Нам не нравятся люди, которые забредают сюда, вы же
знаете.
-- И почему же, Мендель? -- сухо спросил Мордехай.
-- Потому что мы высиживаем яйцо и надеемся, что из него никогда ничего
не вылупится, -- ответил охранник тоном, куда менее сдержанным, чем тот,
которым он, вероятно, хотел бы ответить.
-- Зато теперь оно в нашем гнезде, а не там, куда его положили немцы,
-- ответил Анелевич.
Доставить бомбу сюда с полей гетто [Кладбище. -- Прим. ред.] тоже было
целой эпопеей, которую Мордехай не пожелал бы повторить ни за что в жизни.
Бомба была закопана неглубоко, иначе он и его товарищи не смогли бы вытащить
ее. Случилось так, что утром ящеры заметили зияющую яму. К счастью, их
удовлетворило вполне правдоподобное объяснение: в этой могиле были
похоронены умершие от холеры, и поэтому их пришлось эксгумировать и сжечь.
Как и подавляющее большинство ящеров, Буним был очень щепетилен в отношении
людских болезней.
Мордехай, скрытый во мраке разрушенной фабрики, выглянул наружу. Никто
из проходивших по улице людей не смотрел на него. Похоже, никто даже не
обратил внимания на то, что он так долго не выходит обратно. Он двинулся
дальше, внутрь здания. Путь был извилист и проходил между кучами кирпича и
обрушенными внутренними стенами здания, но за пределами видимости с улицы
обломки были расчищены.
Здесь в огромной корзине на особо прочной телеге покоилась бомба,
которую нацисты закопали на полях гетто. Потребовалось восемь лошадей, чтобы
привезти ее сюда, и если понадобится вывезти ее отсюда, снова потребуются
восемь крепких лошадей. Одной из причин того, что Мордехай выбрал для
укрытия именно это место, была конюшня, размещавшаяся за углом. Восемь самых
сильных тягловых лошадей, которых только сумело отыскать еврейское подполье,
содержались в постоянном ожидании, готовые при необходимости к быстрому
перегону на фабрику.
Словно по волшебству из тени появились двое охранников с автоматами
"шмайссер". Они кивнули Анелевичу. Он положил руку на бортик телеги.
-- Если бы была такая возможность, я увез бы эту проклятую штуку из
Лодзи совсем и поместил бы ее где-нибудь, где не так много ящеров.
-- Хорошо бы, -- сказал один из охранников, сухощавый, с бельмом на
глазу, по имени Хаим. -- Поместить ее куда-то, где и людей было бы поменьше.
А то любой, кто не из нас, может оказаться одним из "них".
Он не стал уточнять, кто такие "они". Скорее всего, не знал. Мордехай и
сам не знал, но разделял беспокойство Хаима. Враг твоего врага больше не
становился твоим другом -- он оставался врагом, только другого вида. Всякий,
кто обнаружил бы здесь бомбу -- ящеры, поляки, нацисты, даже евреи, которые
поддерживали Мордехая Хаима Румковского ("Разве не странное совпадение
имен?" -- подумал Анелевич), -- попытался бы забрать ее отсюда и
воспользоваться в своих интересах.
Анелевич снова легонько похлопал по корзине.
-- Если понадобится, мы сможем сыграть роль Самсона в храме [То есть
погибнуть вместе с врагами. -- Прим. перев.], -- сказал он.
Хаим и второй охранник кивнули. Этот второй спросил:
-- Вы уверены, что нацисты не смогут взорвать ее по радио?
-- Конечно, не смогут, Саул, -- ответил Анелевич. -- Мы абсолютно
уверены в этом. Но детонатор для ручного управления взрывом спрятан
неподалеку. -- Оба охранника кивнули: они знали, где именно. -- Бог
запрещает нам использовать его, вот и все.
-- Аминь, -- одновременно сказали Хаим и Саул.
-- Замечали что-нибудь по соседству? -- спросил Мордехай, как он
спрашивал каждый раз, когда приходил проверить бомбу. И, как всегда,
охранники покачали головами. Охрана корзины стала для них рутинным делом: ни
один не обладал богатым воображением. Анелевич знал, что его приход
доставляет им удовольствие.
Он направился к выходу на улицу, задержавшись, чтобы задать Менделю тот
же вопрос.
Мендель заверил его, что ничего необычного не заметил.
Анелевич убеждал себя, что беспокоится напрасно: никто, кроме
еврейского подполья -- и, конечно, нацистов, -- не знал, что в Лодзь
доставлена бомба, и никто, кроме нескольких его людей, не знает, где она
теперь. Нацисты не будут пытаться взорвать ее, тем более пока ящеры
соблюдают перемирие.
Он говорил себе это много раз. И все еще верил с трудом. После пяти лет
войны, сначала против немцев, затем сразу против немцев и ящеров, он с
трудом мог верить любым заверениям в безопасности.
Когда он вышел на улицу, то демонстративно поправил брюки, затем
посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, не присматривается ли кто-нибудь к
нему или к разрушенному зданию фабрики. Ничего не заметив, зашагал по улице.
Впереди него, метрах в пятнадцати, быстро шел высокий широкоплечий
человек со светло-каштановыми волосами. Он повернул за угол. Анелевич
последовал за ним, отметив только, что черное пальто коротковато прохожему:
полы его шлепали по икрам, вместо того чтобы закрывать лодыжки, как
полагалось. В Лодзи было немного таких крупных людей, что, без сомнения,
объясняло, почему этот человек не смог найти себе подходящее пальто. Ему
недоставало до двух метров всего шести или восьми сантиметров.
Нет, людей такого роста в гетто Анелевич почти не видел. Крупные,
мускулистые люди, которым требовалось много пиши, на скудном пайке погибали
быстрее, чем коротышки. Но такого высокого человека Анелевич видел не так
давно. Он нахмурился, стараясь вспомнить, где и когда это произошло. Один из
польских фермеров, временами передававший информацию евреям? Но его не было
в Лодзи. Анелевич был почти уверен.
И тут он побежал. Возле угла, за которым скрылся высокий человек, он
задержался, вертя головой туда-сюда.
Высокого нигде не было. Анелевич подбежал к следующему углу и снова
посмотрел во все стороны. По-прежнему никаких признаков высокого. С досады
он пнул камень мостовой.
Действительно ли на улицах лодзинского гетто появился Отто Скорцени или
ему привиделось? У эсэсовца не было разумных причин являться здесь, поэтому
Анелевич старался убедить себя, что увидел кого-то другого, такого же роста
и телосложения.
-- Это невозможно, -- проговорил он про себя. -- Если нацисты взорвут
Лодзь во время мирных переговоров, то один бог знает, что ящеры обрушат на
их головы: посеешь ветер, пожнешь бурю. Даже Гитлер вряд ли настолько
спятил.
Но как и от прошлых страхов, так и от этого опасения избавиться он не
мог. Если вдуматься, до какой же все-таки степени спятил Гитлер?
* * *
Дэвид Гольдфарб и Бэзил Раундбуш слезли с велосипедов и нетерпеливо
поспешили к таверне "Белая лошадь" -- как спешили бы к оазису в пустыне.
-- Жаль, что мы не можем взять с собой Мцеппса, -- заметил Раундбуш. --
Ты не хотел бы помочь бедному зануде провести вечер получше?
-- Я? -- спросил Гольдфарб. -- И не подумаю.
-- Похвальное поведение, -- сказал Раундбуш, кивая. -- Поступай так
всегда -- и ты далеко пойдешь, хотя если все время думать о том, чтобы не
думать, то это может испортить праздник, как думаешь?
У Гольдфарба хватило здравого смысла не впутываться в этот бесконечный
спор. Он распахнул дверь в "Белую лошадь" и окунулся в облако дыма и гул
голосов. Бэзил Раундбуш вошел и захлопнул дверь. После этого Гольдфарб
отодвинул в сторону черный занавес, закрывавший вход изнутри, и они вошли в
помещение.
Яркий электрический свет заставил их заморгать.
-- Мне здесь больше нравилось при факелах и отсветах очага, -- сказал
Дэвид. -- Придает атмосферу прошлого: чувствуешь, что Шекспир или Джонсон
могли бы заглянуть сюда, чтобы пропустить пинту пива вместе со всеми.
-- Загляни сюда Джонсон, одной пинтой не ограничилось бы, и это
совершенно точно. -- сказал Раундбуш. -- Все эти факелы возвращают нас в
восемнадцатое столетие, должен заметить. Но помни, старик, восемнадцатое
столетие было грязным и неприятным. Так что -- даешь электричество каждый
день!
-- Похоже, что так и будет, -- сказал Гольдфарб, направляясь к бару. --
Удивительно, как быстро можно восстановить электроснабжение в отсутствие
постоянных бомбежек.
-- Действительно, -- согласился Раундбуш. -- Я слышал, что если
перемирие продолжится, то вскоре будет отменено и затемнение. -- Он помахал
Наоми Каплан, которая стояла за стойкой. Она улыбнулась и помахала в ответ,
затем ее улыбка стала еще шире -- она увидела за спиной Раундбуша
низкорослого Гольдфарба. Раундбуш хмыкнул. -- Ты -- счастливый парень.
Надеюсь, ты знаешь это.
-- Можешь поверить, знаю, -- сказал Гольдфарб с таким энтузиазмом, что
Раундбуш рассмеялся. -- А если бы не знал, моя семья слишком часто
напоминает мне, чтобы я не забыл.
Его родители, братья и сестры одобрили Наоми. Он был уверен, что все
будет хорошо и дальше. К его огромному облегчению, она тоже с симпатией
отнеслась к ним, хотя их переполненная квартира в Ист-Энде была далека по
удобствам от комфорта верхушки среднего класса, в котором она выросла в
Германии -- до того, как Гитлер сделал жизнь евреев невозможной.
Они нашли очень узкое свободное место возле стойки и втиснулись в него,
локтями расширяя пространство. Раундбуш щелкнул серебряной монетой по
влажному полированному дереву.
-- Две пинты лучшего горького, -- сказал он Наоми и добавил еще
несколько монет. -- А это для вас, если не возражаете.
-- Благодарю вас, нет, -- сказала она и сдвинула лишние монетки обратно
к Раундбушу.
Остальные она смела в коробку под стойкой. Гольдфарбу хотелось, чтобы
она перестала работать здесь, но она получала гораздо больше, чем он.
Владелец "Белой лошади" мог поднимать цены, чтобы идти в ногу с инфляцией,
скачущей по британской экономике, и почти тут же повышать жалование. Скудное
жалование Гольдфарба, служащего королевских ВВС, отставало на несколько
бюрократических шагов. Когда его призвали в 1939 году, он мог думать, что
получает приличные деньги, -- теперь они почти равнялись нищете.
Он проглотил свою пинту и купил вторую. Наоми позволила ему взять пинту
и для нее, невзирая на протесты Бэзила Раундбуша.
Они уже подняли свои кружки, когда кто-то за спиной Гольдфарба спросил:
-- Кто эта твоя новая приятельница, старик?
Гольдфарб не слышал этого кентерберийского выговора уже целую вечность.
-- Джоунз! -- сказал он. -- Я не видел тебя так давно, что уж подумал,
что ты расстался с жизнью. -- Затем он бросил взгляд на товарищей Джерома
Джоунза, и его глаза расширились еще больше. -- Мистер Эмбри! Мистер
Бэгнолл! Я и не знал, что вы объявились дома!
Последовали представления. Джером Джоунз замигал от удивления, когда
Гольдфарб представил Наоми Каплан как свою невесту.
-- Счастливец! -- воскликнул он. -- Нашел себе прекрасную девушку, и
ставлю два против одного, что она не снайпер и не коммунистка.
-- Э-э... нет, -- сказал Дэвид. Он кашлянул. -- Я не ошибусь, если
предположу, что в недавнем прошлом ты не так уж плохо проводил время?
-- Ты и половины не предположишь! -- ответил специалист по радарам с
непривычной искренностью. -- Даже половины.
Гольдфарб узнал эту интонацию -- так говорят о местах и делах, о
которых не хочется вспоминать. Чем больше он думал об этом, тем больше ему
хотелось отвлечься.
К стойке бара вернулась Сильвия с подносом пустых кружек.
-- Боже мой, -- сказала она, взглянув на вновь прибывших. --
Посмотрите, кого ветер принес к нам. -- Она инстинктивно пригладила волосы.
-- Где же вы, парни, болтались? Я думала... -- Она не договорила, хотя ей в
голову явно пришла та же мысль, что и Гольдфарбу.
-- В прекрасном, романтичном Пскове. -- Джордж Бэгнолл закатил глаза.
-- Где это, как вы назвали? -- спросила Сильвия.
-- Если провести линию от Ленинграда до Варшавы, она пройдет недалеко
от Пскова, -- ответил Бэгнолл.
Гольдфарб мысленно представил себе карту.
Джером Джоунз добавил:
-- И все время, пока мы там были, единственное, что поддерживало нас,
так это воспоминания о "Белой лошади" и о работающих там прекрасных
заботливых девушках.
Сильвия посмотрела себе под ноги.
-- Принеси мне совок для мусора, -- сказала она Наоми. -- Тонем в
грязи. -- Она снова повернулась к Джоунзу. -- А ты даже более сдержан, чем
мне помнится.
Он улыбнулся, совершенно не смутившись. Бросив критический взгляд на
всех троих, Сильвия продолжила:
-- Вы были последними, кто видел меня за неделю до вашего отъезда.
Потом я слегла в постель с воспалением легких.
-- Я никогда не ревновал к микробам, -- сказал Джоунз.
Сильвия ткнула его локтем в ребра, достаточно сильно. Затем зашла за
стойку, сняла с подноса грязные кружки и принялась наполнять новые.
-- А где Дафна? -- спросил Кен Эмбри.
-- Я слышал, что в прошлом месяце она родила девочек-близнецов, --
ответил Гольдфарб, эффектно завершая последовательность вопросов.
-- Я бы сейчас кого-нибудь убил за кусочек бифштекса, -- сказал Бэгнолл
тоном, который никак нельзя было назвать шутливым. -- Никак не ожидал, что у
нас с едой хуже, чем на континенте. Черный хлеб, пастернак, капуста,
картошка -- то же самое, что ели немцы в последнюю зиму великой войны.
-- Если вы слишком сильно захотите бифштекса, сэр, то рискуете
погибнуть, -- сказал Гольдфарб. -- Владелец коровника в наши дни охраняет
его с винтовкой, и бандиты тоже легко добывают винтовки. Все обзавелись
винтовками, когда пришли ящеры, и далеко не все вернули их обратно. Вы ведь
знаете о перестрелках из-за еды? О них постоянно сообщают газеты и радио.
Сильвия кивком подтвердила согласие со сказанным.
-- Сейчас, как на Диком Западе, стрельба каждый день. Здесь, на берегу
океана, мы обходимся цыплятами и рыбой. Но говядина? Ее нет.
-- Куры тоже чего-то стоят, -- сказал Бэзил Раундбуш.
Гольдфарб промолчал, хотя с его крошечным жалованием у него было больше
оснований жаловаться, чем у офицера. Но если вы еврей, вы трижды подумаете,
прежде чем позволите другим думать о себе как о бедняке.
Джером Джоунз хлопнул себя по карману брюк.
-- В мире теперь деньги не самая большая забота, даже если
восемнадцатимесячное жалование свалилось на меня сразу. И между прочим,
денег оказалось больше, чем я ожидал. Сколько раз повышали вам жалование,
пока мы отсутствовали?
-- Три или четыре, -- ответил Гольдфарб. -- Но это не такие большие
деньги, как тебе кажется. Цены росли гораздо быстрее, чем жалование.
Несколько минут назад я как раз думал об этом.
Он посмотрел через стойку на Наоми, которая только что поставила кружку
перед одетым в прорезиненную одежду рыбаком, и тихо вздохнул. Как хорошо
было бы забрать ее отсюда и жить вместе на его жалование -- если бы его
хватало больше чем на одного человека.
Он поймал взгляд невесты. Она улыбнулась ему.
-- Угощаю всех моих друзей, -- сказал он, роясь в кармане и пытаясь
определить, какие скомканные банкноты там находятся.
По существующему с незапамятных времен обычаю после этого каждый обязан
был проставиться. Когда наступило время возвращаться в казарму, он пожалел,
что у его велосипеда нет радара. Завтра утром у него будет тяжелая голова,
но и с этим он тоже справится. С бифштексами, может быть, дело обстоит
неважно, но таблетки аспирина всегда найдутся.
* * *
Представители тосевитов уважительно поднялись с мест, когда Атвар вошел
в зал. Адмирал повернул один глаз в сторону Уотата.
-- Выскажите им подходящее приветствие, -- сказал он Уотату.
-- Будет исполнено, благородный адмирал, -- ответил переводчик и
переключился с прекрасного точного языка Расы на рыхлые неясности языка
Больших Уродов, который назывался английским.
Тосевиты отвечали один за другим, причем Молотов от СССР -- через
собственного переводчика.
-- Они говорят обычные вещи в обычной манере, благородный адмирал, --
доложил Уотат.
-- Хорошо, -- сказал Атвар. -- Я предпочитаю их обычные вещи в обычной
манере. На этой планете это само по себе уже необычно И говоря о необычном,
мы вернемся к вопросу о Польше. Скажите представителю из Германии, что мне
крайне не понравилась его недавняя угроза возобновления войны и что Раса
предпримет необыкновенно суровые меры, если такие угрозы повторятся в
будущем.
Уотат снова заговорил по-английски. Фон Риббентроп ответил на этом же
языке.
-- Благородный адмирал, за эту непристойную ошибку он оправдывается
неправильной расшифровкой инструкции от своего не-императора.
-- В самом деле? -- спросил Атвар. -- Действительно, этот самец может
оправдываться очень многими вещами, и некоторые из них могут даже быть
близки к правде. Скажите ему, что это хорошо, раз он просто ошибся. Скажите
ему, что его не-империя сильно пострадала бы, если бы он не ошибся.
На этот раз фон Риббентроп ответил более длинной речью и, очевидно, с
некоторым воодушевлением.
-- Он отрицает, что Германии требуется пугать Империю и Расу. Он
говорит, что, поскольку Раса ведет переговоры медленно, его не-империя имеет
право возобновить конфликтов то время и в таком виде, какие она выберет.
Однако он сожалеет, что неправильно информировал вас об этом времени и о
порядке возобновления.
-- Как это великодушно с его стороны, -- заметил адмирал. -- Скажите
ему, что мы не затягиваем переговоры. Укажите ему, что у нас уже есть основы
соглашений с СССР и США. Скажите ему, что непримиримая позиция его
собственного не-императора в отношении Польши привела к тупику в
переговорах.
Уотат снова перевел. Фон Риббентроп издал несколько звуков тосевитского
смеха, прежде чем ответить.
-- Он говорит, что любое соглашение с СССР не стоит листа бумаги, на
котором изложены его условия.
Фон Риббентроп еще не успел закончить, как Молотов заговорил на своем
языке, звучавшем для Атвара иначе, чем английский, но ничуть не лучше.
Переводчик Молотова обратился к Уотату, который доложил Атвару:
-- Он обвиняет немцев в нарушении когда-то заключенных соглашений и
приводит примеры. Хотите выслушать их полностью, благородный адмирал?
-- Не нужно, -- сказал ему Атвар. -- Я их уже слышал прежде и, если
понадобится, могу получить данные. Снова заговорил фон Риббентроп.
-- Он указывает, благородный адмирал, что у СССР имеется длинная
граница с Китаем, где продолжается конфликт местных Больших Уродов. Он также
указывает, что одна из борющихся китайских сторон идеологически близка
власти, управляющей СССР. Он спрашивает, можем ли мы поверить, что самцы
СССР перестанут снабжать своих единомышленников вооружением даже после
заключения соглашения с Расой.
-- Это интересный вопрос, -- сказал Атвар. -- Попросите Молотова
ответить.
Молотов говорил долго. Хотя Атвар не понимал его язык -- точно так же
как и английский, -- он заметил разницу в стиле между представителями
Германии и СССР. Фон Риббентроп был театральным, драматизирующим, склонным
превращать мелочи в крупные проблемы. Молотов выбрал противоположный подход:
адмирал не понимал, что он говорит, но речь тосевита звучала усыпляюще. Его
лицо было почти таким же неподвижным, как у самца Расы, что для Большого
Урода было очень необычно.
Уотат доложил:
-- Самец Молотов соглашается, что большое количество советского оружия
и боеприпасов уже находится в Китае: оно было послано в порядке помощи
китайцам или одной группе их для борьбы против японцев еще до нашего прихода
сюда. Далее он говорит, что по этой причине СССР не может считаться
виновным, если это оружие и боеприпасы будут обнаружены в Китае.
-- Обождите, -- сказал Атвар. -- СССР и Япония не были в состоянии
войны друг с другом, когда мы прибыли на этот жалкий шар из грязи. Тем не
менее Молотов подтверждает помощь китайцам против японцев?
-- Он подтверждает, благородный адмирал, -- ответил переводчик.
-- Тогда спросите его, почему мы не должны ожидать, что СССР будет
снабжать китайцев оружием против нас, хотя его не-империя не будет в
состоянии войны с нами.
Уотат перевел. Снова сработала цепочка: Молотов -- его переводчик --
Уотат -- Атвар.
-- Он говорит, что в отличие от японцев у Расы есть мощь и интерес
наказывать за любые подобные нарушения.
От такого захватывающего дух цинизма у адмирала вырвалось сильное
шипение. Тем не менее этот подход был достаточно реальным, чтобы сделать
возможной договоренность.
-- Скажите ему, что за нарушениями последуют наказания, -- сказал он,
добавив усиливающее покашливание.
-- Он признает правомерность вашего беспокойства, -- сказал Уотат.
-- Как хорошо с его стороны признать это, -- сказал Атвар. -- А теперь
вернемся снова к вопросу о Польше. Из тех, что остались у нас, он кажется
главным.
Едва договорив, он задумался, сохранится ли такое положение вещей в
будущем. Китай занимает гораздо большую площадь, и в нем живет гораздо
больше Больших Уродов, чем в Польше. Кроме того, у него очень длинная
граница с СССР, которую трудно перекрыть даже с использованием технологии
Расы. Раньше или позже самцы из СССР попробуют пойти на обман, а потом будут
отрицать, что они сделали это. Он чувствовал, что этого не избежать.
Попросил слова самец из Британии:
-- Прошу внимания!
Он был вежлив -- дождался приглашающего жеста Уотата и только затем
продолжил:
-- Я должен повторить, что правительство его величества, признавая
завоевание Расой значительной части нашей Империи, не может рассматривать
формальное признание этих завоеваний без гарантий перемирия, идентичного по
достоинству и в формальном отношении тому, которое вы уже заключили с
Соединенными Штатами, с Советским Союзом и Германией.
-- Поскольку завоевание остается реальным, то признание его не имеет
значения, -- ответил Атвар.
-- Великая история противоречит вам, -- сказал Иден.
По мнению Атвара, у Тосев-3 не было великой истории. Он не стал
указывать на это -- чтобы не раздражать Больших Уродов.
-- Вы должны знать, почему Британия не входит в перечень указанных вами
не-империй.
-- У нас нет атомного оружия, -- ответил британский самец. -- Но вы
должны знать, что так будет не всегда.
На мгновение Атвар заколебался: может, дать британцам формальное
перемирие, которого они домогались на переговорах, в ответ на остановку их
ядерной исследовательской программы? Но он промолчал: когда три тосевитские
не-империи уже обладают атомным оружием, еще одна ничего не изменит, даже
если британцы что-то выторгуют на этом предупреждении.
-- А Польша? -- спросил он.
-- Есть и должна быть нашей, -- заявил фон Риббентроп.
-- Нет!
Атвар понял это слово без помощи переводчиков: Молотов так часто его
использовал, что его можно было узнать безошибочно.
-- Раса будет некоторое время сохранять за собой те части Польши,
которые она теперь занимает, -- сказал адмирал. -- Мы продолжим дискуссии с
Германией, с СССР и даже с поляками и евреями в усилиях найти решение,
удовлетворяющее все стороны.
-- Генеральный секретарь Сталин дал мне инструкции согласиться на это,
-- сказал Молотов.
-- Фюрер не согласен, не согласится и не может согласиться, -- сказал
фон Риббентроп.
-- Я еще раз предупреждаю вас и фюрера: если вы возобновите войну
против Расы, а в особенности -- с ядерным оружием, ваша не-империя
пострадает самым страшным, как только можно представить себе, образом, --
сказал Атвар.
Фон Риббентроп не ответил, не закричал, даже не показал, что он
услышал.
Единственное, что всегда беспокоило Атвара больше, чем неповинующийся
неистовствующий Большой Урод, -- это молчащий Большой Урод.
* * *
Людмила Горбунова нажала на стартер "физлера". Двигатель "Аргус"
мгновенно ожил. Она не удивилась. Германская техника действовала безупречно.
Игнаций помахал ей. Она прибавила оборотов двигателю и кивнула в ответ.
Ей предстояло сильно разогнать "шторх", чтобы он оторвался от земли и не
врезался в деревья, стоящие впереди. Ее старый "У-2" никогда бы не смог
взлететь на столь малом пространстве.
Она кивнула еще раз. Партизаны вытащили деревянные колодки из-под
колес. В тот же миг Людмила отпустила тормоз. "Шторх" рванулся вперед. Она
потянула ручку на себя -- и нос машины скачком задрался вверх. Через стекло
пола кабины были видны деревья: темные тени их мелькнули внизу так близко,
что казалось, только протяни руку -- и коснешься. Поляки, обозначавшие
свечами край свободного пространства, задули их.
Машина с гудением летела вперед, Людмила не хотела подниматься выше.
Пока она находилась над территорией ящеров, ее вполне могли сбить как врага.
Ирония судьбы: для ощущения безопасности ей требовалось перелететь на
удерживаемую немцами территорию.
Но безопасность была не единственным ее желанием. Координаты места
приземления означали, что ей предстоит сесть на ту самую полосу, которой она
уже пользовалась. Если повезет, там ее будет ждать Генрих Ягер.
Справа в темноте блеснули вспышки выстрелов. Что-то попало в фюзеляж
сбоку -- звук был как от камня, ударившего в железную крышу. Людмила
прибавила газу, заставив "шторх" убраться как можно скорее.
Но навигацию ей это усложнило. На большей скорости ей понадобится
меньше времени, чтобы долететь до места. Насколько? Она стала прикидывать,
но первая прикидка показалась ей ошибочной, и она задумалась снова. Взгляд
на часы заставил ее всмотреться вниз в поисках посадочной площадки.
Она надеялась, что ей не придется заходить на второй круг. Если она
будет летать над немцами слишком долго, они вполне могут открыть по ней
огонь, а если круг сделать слишком большим, она может снова оказаться над
территорией, удерживаемой ящерами.
Вот она! Как и прежде, фонари, обозначавшие границы посадочной полосы,
были маленькими и тусклыми, но она заметила их. Выпустив огромные закрылки
"шторха", она резко уменьшила скорость полета -- словно нажала на тормоз
автомобиля, мчащегося по шоссе. Легкий самолетик, чуть дернувшись, замер в
пределах обозначенной фонарями площадки так, что еще оставался порядочный
запас места.
Людмила открыла дверь кабины. Она выбралась на крыло, затем спрыгнула
на землю. К "шторху" приблизились люди. Но был ли среди них Ягер, в темноте
она не смогла разобрать.
Зато они ее узнали.
-- Вы видите, Гюнтер? -- сказал один из них. -- Это летчица.
Он придал слову окончание женского рода, как это делал временами Ягер и
как часто делал Георг Шульц (тут она задумалась -- но только на мгновение,
-- что же могло случиться с Шульцем и Татьяной; вот уж кто стоил друг
друга).
-- Да, вы были правы, Иоганнес, -- ответил другой немец. -- Это только
показывает, что никто не может ошибаться все время.
В ответ в темноте кто-то фыркнул.
"Гюнтер, Иоганнес..."
-- Скажите, вы ведь из экипажа танка полковника Ягера, так ведь? --
тихо спросила Людмила. -- Он -- он тоже здесь?
Она не изображала безразличия: они не могли не знать об ее отношении к
Ягеру. Но тут она словно натолкнулась на невидимую стену.
-- Нет, его здесь нет, -- сказал один из них -- ей показалось, Гюнтер.
Он отвечал ей едва ли не шепотом, словно желая, чтобы его слова не
распространились дальше пределов, ограниченных размахом крыльев "шторха".
Холод пробежал по спине Людмилы.
-- Скажите, -- попросила она, -- с ним беда? Он мертв? Это произошло до
перемирия? Скажите мне!
-- Он не мертв -- пока, -- ответил Гюнтер еще тише, чем прежде. -- Он
даже не пострадал. И это произошло не в бою с ящерами. Это случилось три дня
назад.
-- Что случилось? -- спросила Людмила.
Гюнтер, словно ошалелый, молчал. Через мгновение, когда Людмила уже
собиралась выхватить пистолет и выбить из Гюнтера ответ любой ценой, другой
член экипажа по имени Иоганнес сказал:
-- Фройляйн, его арестовало СС.
-- Боже мой! -- прошептала Людмила. -- Почему? Что он сделал? Может,
это из-за меня?
-- Будь я проклят, если мы знаем, -- ответил Иоганнес. -- Эта мелкая
хилая эсэсовская свинья явилась, направила на него пистолет и увела. Вонючий
чернорубашечный ублюдок -- не знаю, кем он себя считает -- арестовал нашего
лучшего командира!
Его сотоварищи хором забормотали ругательства в тот же адрес.
Один из них сказал:
-- Пошли, ребята, нам ведь надо загрузить этот самолетик боеприпасами.
-- Должно быть, это из-за меня, -- сказала Людмила. Ее всегда
беспокоило, не привяжется ли к ней НКВД из-за Ягера, а вместо этого его
схватила его же служба безопасности. И это потрясло ее своей страшной
несправедливостью. -- И его никак нельзя освободить?
-- У СС? -- с крайним удивлением протянул тот, кто приглашал товарищей
заняться погрузкой боеприпасов в "шторх".
Похоже, что нацисты наделили своих сторожевых псов такой же страшной,
почти сверхъестественной силой, которую русские люди приписывали НКВД.
Но танкист по имени Гюнтер отозвался:
-- Христос на кресте, а почему бы и нет? Думаете, Скорцени будет просто
сидеть и разрешит, чтобы что-нибудь случилось с полковником Ягером,
независимо от того, кто его схватил? Уверен, что нет. Он -- эсэсовец, но
все-таки настоящий солдат, а не сволочной дорожный полицейский в черной
рубахе. Мы будем последним дерьмом, если не освободим нашего полковника, мы
не заслуживаем быть танкистами. Пошли!
Эта идея захватила его.
Но тот осторожный снова спросил:
-- Хорошо, мы освободим его. И что он будет делать потом?
Несколько секунд все молчали. Потом Иоганнес испустил звук, который
можно было бы принять за приглушенный взрыв хохота. Он показал на "физлер".
-- Мы вытащим его, сунем в самолет, и летчица улетит с ним отсюда хоть
к чертям собачьим. Раз у СС есть к нему дело, вряд ли он захочет остаться
здесь, это точно.
Танкисты столпились возле него, пожимая руку и хлопая по плечу. Людмила
присоединилась к ним. Затем спросила:
-- А вы при этом не подвергнетесь опасности?
-- Подождите-ка, -- сказал Иоганнес. Он отошел в сторону от "шторха" и
громко объявил: -- Летчик сказал, что в моторе неисправность. Мы пойдем
искать механика.
И они ушли, растворившись в ночи.
Оставшись одна, Людмила подумала, не загрузить ли часть боеприпасов в
"шторх" своими силами. Но потом передумала. Ведь ей могут понадобиться все
запасы топлива, которые есть у легкой машины, и лишний вес на борту только
уменьшит их.
Где-то в темноте пиликал сверчок. Ожидание затягивалось.
Рука сама потянулась к ручке "Токарева", висевшего на поясе. Если
начнется перестрелка, она сразу же побежит в ту сторону. Но тишину ночи
нарушали только насекомые.
Один из солдат, стоявший с фонарем для обозначения посадочной площадки,
обратился к ней:
-- Аллес гут, фройляйн? [Все в порядке, барышня? (нем.) -- Прим.
перев.]
-- Йа, -- ответила она, -- аллеc гут. [Да... все хорошо (нем.)]
Какая же она лгунья!
По земле затопали сапоги, быстро приближаясь... Людмила оцепенела. В
этой пропитанной запахом трав ночи она видела только движущиеся силуэты. Она
даже не могла сосчитать, сколько их, пока они не приблизились. Один, два,
три, четыре... пять!
-- Людмила!
Что это? Это он? Голос Ягера.
-- Да! -- по-русски ответила она, забыв о немецком.
Что-то блеснуло. Один из танкистов, сопровождавших Ягера, несколько раз
воткнул в землю нож -- наверное, чтобы очистить его, -- и затем убрал в
ножны. Когда он заговорил, оказалось, что это Гюнтер:
-- Увозите отсюда полковника, летчица. Тех, кто нас видел, уже нету...
-- Он погладил ножны, в которых покоился его нож. -- А все остальные здесь
-- из нашего полка. Нас никто не выдаст -- ведь мы сделали то, что
следовало, и все тут.
-- Вы просто сумасшедшие, и все тут, -- сказал Ягер с теплотой в
голосе. Его подчиненные окружили его, пожимая руки и обнимая его с добрыми
пожеланиями. Это могло бы показать Людмиле, какой он офицер, если бы она не
составила бы себе представления раньше.
Она показала на темные очертания ящиков с патронами.
-- Вам придется как-то избавиться от них, -- напомнила она танкистам.
-- Ведь я их должна была увезти.
-- Мы побеспокоимся об этом, летчица, -- пообещал Гюнтер. -- Обо всем
позаботимся. Не беспокойтесь. Может, мы и преступники, но не совсем
тупоголовые.
Остальные танкисты тихим гомоном подтвердили свое согласие.
Людмиле хотелось верить, что немецкая дотошность распространяется и на
преступление. Она потянула Ягера за плечо, чтобы отделить от его товарищей,
и показала на открытую дверцу кабины "физлера".
-- Влезай и садись на заднее сиденье, туда, где пулемет.
-- Лучше, если бы пользоваться им не потребовалось, -- ответил он,
взбираясь на крыло, чтобы войти в кабину.
Людмила последовала за ним. Она опустила дверь и захлопнула ее. Ткнула
в кнопку стартера. Мотор заработал. Посмотрела, как разбегались солдаты, и
порадовалась, что ей не пришлось никого просить крутнуть пропеллер.
-- Ты пристегнулся? -- спросила она Ягера. Когда он ответил "да", она
пустила "шторх" вперед по полю: ускорение могло выкинуть пассажира с
сиденья, если он не был привязан.
Как обычно, легкой машине потребовалась самая малость, чтобы взлететь.
После заключительного сильного удара шасси о землю "шторх" прыгнул в воздух.
Ягер наклонился в сторону, чтобы посмотреть вниз, на посадочную полосу. То
же самое проделала и Людмила, хотя увидеть можно было немного. Теперь, когда
они были в воздухе, люди, стоявшие внизу с фонарями, начали гасить их.
Через плечо она спросила:
-- С тобой все в порядке?
-- Почти да, -- ответил он. -- Они не успели пустить против меня свои
самые сильные средства -- не были уверены, насколько крупным изменником я
стал. -- Он горько рассмеялся, -- Гораздо большим, чем они могли себе
представить, должен тебе сказать. Куда мы летим?
Людмила разворачивала "шторх" на восток.
-- Я собиралась доставить тебя в партизанский отряд, в котором я
нахожусь уже некоторое время. Думаю, что там никто за тобой не придет и не
отыщет, потому что это за много километров от территории, занятой немцами.
Разве плохо?
-- Не годится, -- ответил он, снова удивив ее. -- Ты можешь отвезти
меня в Лодзь? Если хочешь, высади меня там и лети к партизанам. Но мне надо
обязательно попасть туда.
-- Зачем? -- Она почувствовала в своем голосе печаль. Ведь появилась
возможность наконец быть вместе, и вот... -- Что может быть столь важного в
Лодзи?
-- Долгая история, -- ответил Ягер и по-офицерски кратко рассказал суть
дела. И чем больше он говорил, тем шире раскрывались глаза Людмилы. Нет, СС
арестовало его не из-за нее, вовсе нет... -- И если я не попаду в Лодзь,
Скорцени может взорвать город вместе со всеми людьми и ящерами в нем. И если
это произойдет, что будет с перемирием? Что станет с Фатерландом? И что
будет со всем миром?
Несколько секунд Людмила не давала ответа. Затем очень тихо она
сказала:
-- Как бы ты себя ни называл, но ты -- не изменник.
Она несколько увеличила высоту полета, прежде чем совершить вираж. На
Шкале компаса на приборной доске машины побежали цифры, остановившись на
"юго-юго-восток".
-- В Лодзь мы отправимся вместе, -- сказала Людмила.
Томалсс спал, когда открылась наружная дверь здания, где он содержался.
Резкий щелчок замка внутренней двери заставил его вскочить на ноги с
твердого пола, его глаза завертелись в разные стороны, он не мог понять, что
происходит. Из узкого окна, которое предназначалось для освещения и
проветривания места его заточения, сейчас никакой свет не проникал.
Его охватил страх. До этого Большие Уроды никогда не приходили сюда
ночью. Как любой самец Расы, он считал нарушение непрерывности повседневной
рутины предвещающей и содержащей угрозой. Он счел, что именно это изменение
воспринял бы как зловещее даже тосевит.
Дверь распахнулась. Вошел не один, а целых три Больших Урода. У каждого
в одной руке был фонарь, в котором горело какое-то пахучее масло или жир, а
во второй -- автомат. Фонари были примитивные -- примерно такие, какими, по
представлению Расы, могли обладать жители Тосев-3. Автоматы, к сожалению,
примитивными не были.
В тусклом мерцающем свете Томалссу потребовалось время, чтобы узнать Лю
Хань.
-- Благородная госпожа, -- выдохнул он наконец.
Она стояла, глядя на него без единого слова. Он уже вверил свой дух
Императорам прошлого, уверенный, что они позаботятся о нем лучше, чем
властители Расы заботились о его теле, пока он был жив.
-- Стоять! -- выкрикнула сердито Лю Хань.
Томалсс ждал, что оружие в ее руке изрешетит его. Но вместо этого она
положила автомат на пол. Затем вытащила что-то, спрятанное на поясе ее
тканой одежды, закрывавшей ноги: это был мешок из грубой тяжелой ткани.
Пока двое самцов держали Томалсса под прицелом, Лю Хань надела мешок
ему на голову. Он стоял оцепеневший, не осмеливаясь сопротивляться.
"Если они сейчас начнут стрелять в меня, то я не узнаю, что оружие
начало действовать, пока пули не попадут в меня", -- подумал он.
Лю Хань затянула мешок у него на шее, но не слишком туго, чтобы он не
задохнулся.
-- Он может видеть? -- спросил один из самцов. Затем он обратился к
Томалссу: -- Ты можешь видеть, жалкий чешуйчатый дьявол?
Томалсс действительно был жалким.
-- Нет, благородный господин, -- правдиво ответил он. Лю Хань толкнула
его. Он едва не упал. Когда он восстановил равновесие, она положила руку ему
на спину.
-- Вы пойдете в том направлении, которое я укажу, -- сказала она
сначала по-китайски, а потом на языке Расы. -- Только в том направлении. --
Она добавила усиливающее покашливание.
-- Будет исполнено, -- выдохнул Томалсс.
Может, они выводят его наружу, чтобы застрелить где-нибудь в другом
месте. Но если так, то почему они не сказали ему? Может, для того, чтобы
насладиться его страхом? Большие Уроды весьма изобретательны в том, как
причинить боль.
Лю Хань снова подтолкнула его, на этот раз менее сильно. Он шагал
вперед, пока она не сказала: "Теперь налево", -- подкрепив слова тем, что
передвинула руку по его спине в соответствующую сторону. Он повернул налево.
Почему бы нет? В той черноте, в которой он оказался, это направление было не
хуже любого другого. Чуть спустя Лю Хань сказала:
-- Направо.
Томалсс повернул направо.
Он не представлял, где находится. А если бы и знал, то быстро и
безнадежно заблудился бы. Он поворачивал налево и направо, налево и направо
десятки раз, через разные промежутки времени и в разных последовательностях.
Улицы Пекина были очень тихими. Он предполагал, что время сейчас где-то
между полуночью и утренней зарей, но не был уверен. Наконец Лю Хань сказала:
-- Стойте.
Томалсс остановился, полный дурных предчувствий. Значит, момент
наступил? Где это? Лю Хань отвязала веревку, стягивавшую мешок, и сказала:
-- Досчитаете до ста на своем языке, громко и медленно. Затем снимете
мешок. Если вы его снимете раньше, то умрете сразу же. Вы поняли?
-- Д-да, благородная госпожа, -- дрожащим голосом ответил Томалсс. --
Будет исполнено. Один... два... три... -- Он считал как можно медленнее. --
Девяносто восемь... девяносто девять... сто.
Он поднял руки, ожидая, что пули тут же растерзают его, и сбросил мешок
резким конвульсивным движением.
Никто не выстрелил. Его глаза, озираясь, осматривали все вокруг. Он был
один в начале одного из бесчисленных пекинских хутунов. Он швырнул мешок на
землю. Мягкое "шлеп!" было единственным звуком, донесшимся до его слуховых
перепонок. По-прежнему настороженно он шагнул из хутуна на примыкавшую
улицу.
К своему удивлению, он узнал ее. Это была Нижняя Наклонная улица,
по-китайски "Сиа Сиех Тиех". На ней находились развалины Чан Чун Су -- храма
Вечной Весны. Теперь он знал, как добраться до штаб-квартиры Расы в центре
Пекина. Он не знал, позволено ли ему это, но решил, что должен попытаться.
Нижняя Наклонная улица даже шла в нужном направлении.
Вскоре он натолкнулся на патруль самцов Расы. Прежде чем опознать
своего, патруль едва не пристрелил Томалсса на том месте, где его отпустили
тосевиты. Какая ирония была бы в таком завершении его карьеры! Но когда он
сказал им, кто он, они поспешили доставить его в тщательно укрепленную
цитадель, которую Раса сохранила за собой в том месте, которое раньше
называлось Запрещенным Городом.
Его прибытие стало настолько важным событием, что даже разбудили
Ппевела. Вскоре помощник администратора по восточному региону главной
континентальной массы вошел в комнату, где Томалсс впервые за много дней
наслаждался достойной пищей, и сказал:
-- Я рад видеть вас снова свободным, исследователь-аналитик. Тосевиты
информировали нас вчера, что выпустят вас, но они не особенно надежны в
своих утверждениях.
-- Истинно, благородный господин, насколько я знаю, это очень верно, --
сказал Томалсс с усиливающим покашливанием. -- Они не сообщили, почему они
отпускают меня? Мне они никогда ничего не объясняли. -- Не дожидаясь ответа,
он набросился на блюдо жареных червей, поставленное перед ним поварами. Хотя
черви были высушены перед отправкой на Тосев-3 и затем снова возвращены в
прежний вид, на вкус они были такими же, как на Родине.
-- По их сообщениям, частично в виде жеста доброй воли и частично в
качестве предостережения: это так типично для Больших Уродов -- стараться
сделать и то и другое одновременно. -- И словно в подтверждение его слов
откуда-то издалека донеслись звуки стрельбы. -- Они говорят, что это покажет
нам, как они могут действовать по своей воле в этом и других городах этой
не-империи: отпускать, кого захотят, захватывать, кого захотят, убивать,
кого захотят. Они предупреждают нас, что борьба за интеграцию Китая в
Империю будет проиграна.
До того, как он опустился на поверхность Тосев-3, и даже до своего
пленения Томалсс счел бы это смехотворным и нелепым. Теперь же...
-- Они решительны, благородный господин, они одновременно
изобретательны и удивительно хорошо вооружены. Я боюсь, что они будут
создавать нам неприятности многие годы, а может быть, и несколько поколений.
-- Так может быть, -- согласился Плевел, удивив Томалсса.
-- Когда я был пленником, самка Лю Хань заявила, что Раса даровала
некоторым тосевитским не-империям перемирие. Разве такое может быть?
-- Может. И есть, -- сказал Ппевел. -- Есть не-империи, способные
производить свое собственное ядерное оружие. Они пускают его в ход против
нас. Китай -- все его соперничающие стороны -- такого оружия не имеет и
исключен из перемирия. Это обижает китайцев, потому они удваивают силу своей
борьбы с нами, добиваясь, чтобы включили в перемирие и их.
-- Значит, Раса обращается с варварами-тосевитами как с равными? --
Томалсс поднял глаза к потолку с удивлением и унынием. -- Даже слыша это из
ваших уст, благородный господин, я с трудом могу поверить в это.
-- Тем не менее это истинно, -- ответил Ппевел. -- Мы вели переговоры
даже с этими китайцами, хотя и не согласились на уступку, которой добились
другие не-империи. Нам придется делить власть на этой планете до прибытия
флота колонизации. А может быть, и после тоже. Не хочу предполагать, как это
будет. Это решение адмирала, а не мое.
У Томалсса закружилась голова, как будто он проглотил слишком много
тосевитской травы, которую многие самцы находили такой заманчивой. Слишком
многое изменилось, пока он был узником! Ему придется плотно поработать,
чтобы приспособиться к тому, что постоянно беспокоит Расу. Он сказал:
-- Тогда нам требуется вести еще более масштабные поиски понимания
самой природы Больших Уродов.
-- Истинно, -- согласился Ппевел. -- Когда вы физически оправитесь от
последствий своих тяжких испытаний, исследователь-аналитик, мы обеспечим вам
со всеми возможными предосторожностями нового тосевитского детеныша, с
которым вы сможете продолжить вашу прерванную работу.
-- Благодарю вас, благородный господин, -- сказал Томалсс глухим
голосом. После того, что случилось с ним, когда он работал с последним
детенышем -- Лю Мэй, он понял, что работа, которая когда-то поглощала его,
не стоит связанных с ней опасностей. -- С вашего милостивого позволения,
благородный господин, я буду вести эту работу на борту звездного корабля, в
лаборатории, а не здесь, на поверхности Тосев-3.
-- Это можно организовать, -- сказал Ппевел.
-- Благодарю вас, благородный господин, -- повторил Томалсс.
Он надеялся, что расстояние между поверхностью и кораблями в космосе
защитит его от Больших Уродов, их дикой мести, обусловленной семейными и
сексуальными особенностями. Он надеялся на это -- хотя и без прежней
уверенности, характерной для него в первые дни пребывания на Тосев-3, когда
победа казалась такой быстрой и легкой. Он радовался, вспоминая тогдашнюю
уверенность, и понимал, что ничего подобного больше не будет.
* * *
Пациенты и беженцы столпились вокруг замысловато раскрашенного ящера с
электрическим мегафоном в руках. Ране Ауэрбах двигался медленно и осторожно
-- только так он и мог перемешаться, -- стараясь занять по возможности
наиболее удобное место. И хотя передвигавшихся с такими же трудностями было
довольно много, он все же подобрался к оратору довольно близко, почти до
окружавших его вооруженных охранников.
Он поискал глазами Пенни Саммерс и заметил ее в толпе на
противоположной стороне. Он помахал ей, но она его не увидела.
Электрифицированный мегафон издавал странные звуки. Какой-то стоявший
вблизи ребенок засмеялся. Затем ящер заговорил на довольно сносном
английском:
-- Теперь мы оставляем это место. Раса и правительство этой не-империи
здесь, в Соединенных Штатах, мы теперь заключаем соглашение. Войны больше
нет. Раса оставит землю Соединенных Штатов. Это включает также этот город
Карваль, штат Колорадо.
Дальше он говорить не смог. По толпе пронеслись шум, радостные крики.
Какая-то женщина запела "Боже, благослови Америку". Со второго куплета к ней
присоединились все присутствовавшие. Слезы заливали глаза Ауэрбаха. Ящеры
уходят! Победа! И даже полученная рана вдруг показалась стоившей того.
Когда пение закончилось, ящер продолжил:
-- Теперь вы свободны.
И снова крики радости:
-- Теперь мы уйдем.
Ауэрбах издал клич повстанцев, хотя получилось больше похоже на приступ
кашля, чем на дикий вопль, который ему хотелось изобразить, но все равно
вышло неплохо.
Ящер продолжил:
-- Теперь вы свободны, теперь мы уходим -- теперь мы больше не берем на
себя заботы о вас. Мы уходим, мы оставляем заботу о вас не-империи
Соединенных Штатов. О вас будут заботиться они или никто. Мы уходим. Это
все.
Охранникам-ящерам пришлось угрожать оружием, чтобы люди расступились и
дали пройти оратору и им самим. В течение нескольких путающих секунд Ауэрбах
опасался, что они начнут стрелять. Когда люди стоят такой плотной толпой,
это может привести к настоящей бойне.
Медленным шагом он направился в сторону Пенни Саммерс. На этот раз она
заметила его и пошла к нему гораздо быстрее, чем перемещался он сам.
-- Что именно сказал этот чешуйчатый ублюдок? -- спросила она. -- Вроде
бы ящеры поднимаются с места и оставляют нас одних?
-- Они не могут сделать этого, -- сказал Ауэрбах. -- Ведь здесь тысячи
людей, и среди них такие, как, например, я, совсем плохие ходоки. Что же нам
делать, идти, что ли, к американским позициям у Денвера?
Он рассмеялся абсурдности этой идеи.
Но ящерам она вовсе не казалась абсурдной. Они погрузились на грузовики
и бронетранспортеры и после полудня укатили из Карваля прочь, направляясь на
восток, туда, где находились их космические корабли. К заходу солнца Карваль
снова стал городом людей.
Это был довольно большой город, оставленный без какого-либо управления.
Ящеры увезли с собой столько припасов, сколько смогли погрузить на свой
транспорт. За оставшееся началась настоящая война. Пенни удалось раздобыть
несколько черствых бисквитов, и она поделилась ими с Ран-сом. В результате в
животах у них бурчало не так сильно, как могло бы.
Слева, не так далеко от палатки выздоравливающих, чтобы нельзя было
расслышать, кто-то произнес:
-- Мы должны вздернуть всех этих вонючих ублюдков, которые лизали
ящерам хвосты, когда те были здесь. Подвесим их за яйца, вот что.
Ауэрбах содрогнулся. Это было сказано холодным и равнодушным тоном. В
Европе людей, которые сотрудничали с нацистами, таких как Квислинг, называли
коллаборационистами. Ауэрбаху и в голову не приходило, что кому-то в США
понадобится думать о коллаборационистах.
Пенни забеспокоилась:
-- От этого могут быть неприятности. Любой, кто захочет свести счеты,
сможет обвинить человека в сотрудничестве с ящерами. Кто сможет определить,
что правда, а что нет? Семьи будут враждовать столетиями.
-- Ты, вероятно, права, -- .сказал Ране. -- Но раньше нас ждут другие
неприятности. -- Он размышлял как солдат. -- Ящеры убрались отсюда, а армия
сюда не пришла. Мы съедим все, что есть в Карвале, самое позднее к исходу
завтрашнего дня и что будем делать дальше?
-- Уйти в Денвер, я думаю, -- ответила Пенни. -- Что еще нам остается?
-- Не много, -- ответил он. -- Но идти -- как? Это же сотни миль, да?
-- Он показал на костыли, лежавшие возле его койки. -- Ты вполне можешь
дойти одна, без меня. Я встречусь с тобой там через месяц, может, через
шесть недель.
-- Не глупи, -- сказала ему Пенни. -- Теперь ты ходишь гораздо лучше,
чем прежде.
-- Знаю, но все еще недостаточно хорошо.
-- Ты справишься, -- уверенно сказала она. -- А кроме того, я не хочу
оставлять тебя, дорогой.
Она задула мерцающую свечу, освещавшую их палатку. В темноте он услышал
шуршание одежды. Когда он потянулся к ней, рука нащупала теплую нагую плоть.
Чуть позже она подпрыгивала верхом на нем, и они оба стонали от экстаза и,
как он думал, от отчаяния -- а может, отчаяние владело лишь Рансом. Затем
она, не одеваясь, уснула возле него в палатке.
Он проснулся еще до восхода солнца и разбудил ее.
-- Раз уж мы собираемся сделать это, -- сказал он, -- лучше тронуться в
путь как можно раньше. Мы сможем немало пройти, пока не станет слишком
жарко, и отдохнем в течение самого жаркого времени дня.
-- Мне это кажется правильным, -- сказала Пенни.
Небо на востоке только розовело, когда они тронулись в путь. И они были
далеко не первыми, кто уходил из Карваля. В одиночку и небольшими группами
люди шли, одни -- на север, другие -- на запад, а несколько неприкаянных душ
шагали напрямую без дорог на северо-запад. Будь Ауэрбах в лучшем состоянии,
он так бы и поступил. Теперь же они с Пенни выбрали запад: в лошадиной реке
вода, вероятнее всего, еще есть -- в отличие от остальных потоков, которые
им пришлось бы пересечь, если идти на север.
Он шел на костылях гораздо увереннее, чем прежде, но все равно медленно
и устало. Мужчины и женщины постоянно обгоняли его и Пенни. Беженцы из
Карваля растянулись по дороге, насколько хватал глаз.
-- Некоторые из них умрут прежде, чем мы дойдем до Денвера, -- сказал
он.
Эта перспектива расстроила его гораздо меньше, чем могло бы случиться
до ранения. Генеральную репетицию встречи с Угрюмым Потрошителем он уже
пережил: само же представление вряд ли будет намного хуже.
Пенни показала в небо. Кружившиеся в нем черные тени не были ни
самолетами ящеров, ни даже людскими самолетиками. Это были стервятники,
кружившие в свойственном их роду терпеливом ожидании. Пенни не сказала
ничего. Этого не требовалось. Ране думал, как стервятник будет обклевывать
его кости.
Потребовалось два дня, чтобы дойти до Лошадиной. Он понимал, что если
бы она пересохла, его путь вскоре закончился бы навсегда. Но люди толпились
на берегу, тянувшемся до пересечения с шоссе 71. Вода была теплой и грязной,
и футах в двадцати от них какой-то идиот мочился в реку. Ауэрбах не стал
обращать внимания. Он вдоволь напился, сполоснул лицо, затем снял рубашку и
намочил ее. Так будет прохладнее.
Пенни обрызгала водой свою блузку. Мокрая ткань прилипла к телу,
подчеркивая формы. Ауэрбах смог бы оценить это, не будь он смертельно
усталым. И все же он кивнул и сказал:
-- Хорошая идея. Идем.
Они двинулись на север по шоссе 71 и на следующий день утром добрались
до Панкин-Центра. Здесь они снова нашли воду. Местный житель с печальными
глазами сказал им:
-- Хотелось бы дать вам поесть, люди, у вас такой вид, что вам надо
поесть. Но те, кто прошел раньше, оставили нас без всего, что у нас было.
Удачи вам.
-- Я же говорил тебе, иди одна, -- сказал Ауэрбах.
Пенни игнорировала его ворчание.
Тяжесть тела на костыли, затем на ногу -- так он устало ковылял на
север.
К концу дня он пришел к мысли, что стервятники уже повязывают салфетки
на шеи, готовясь к вкусному ужину из загорелого кавалерийского капитана. Он
рассчитал, что если упадет и умрет, то Пенни сможет идти быстрее и доберется
до Лаймона прежде, чем ее прикончат жара, жажда и голод.
-- Я люблю тебя, -- прокаркал он, не желая умирать, не сказав этих
слов.
-- Я тебя тоже люблю, -- ответила она. -- Вот почему я иду с тобой.
Он засмеялся, но прежде, чем он успел сказать что-то еще, он услышал
веселый крик. Балансируя на одной ноге и с одним костылем, он сказал в
радостном недоумении:
-- Армейская повозка.
Запряженные в нее лошади были самыми красивыми животными, которых он
когда-либо видел.
Повозка была уже набита людьми, но солдаты заставили потесниться
сидевших сзади и дали ему и Пенни крекеров и фляжку с водой.
-- Мы доставим вас в центр переселенцев, -- пообещал один из солдат, --
там о вас позаботятся.
На это ушла еще пара дней, но теперь на пути были пункты снабжения.
Ауэрбах проводил время, размышляя, что представляет собой переселенческий
центр. Солдаты этого тоже не знали. Когда наконец они добрались до места, он
сразу все понял: это было просто другое название лагеря беженцев, во много
раз большего, чем жалкое запущенное прибежище на окраине Карваля.
-- Сколько времени мы пробудем здесь? -- спросил он у жалкого клерка,
который вручил Пенни постели для двоих и направил в огромную оливкового
цвета общую палатку, одну из многих в длинном ряду.
-- Это один бог знает, дружище, -- ответил капрал. -- Войну можно было
остановить, но легче пока не будет. Хотя все меняется. Добро пожаловать в
Соединенные Штаты новой и не очень совершенной модели. Если повезет, от
голода не умрете.
-- Постараемся, -- сказала Пенни, и Ауэрбах вынужденно кивнул в знак
согласия.
Они вместе отправились знакомиться с новыми Соединенными Штатами.
* * *
Генрих Ягер не выглядел чужим на улицах Лодзи в своей зеленой рубашке и
черных брюках танкиста. Множество людей носили те или иные предметы
германского обмундирования, и если его одежда была в лучшем состоянии, чем у
большинства людей, это мало что значило. Свой полковничий китель он закопал,
как только выбрался из "шторха". Офицер вермахта -- не самая популярная
фигура, тем более здесь.
Людмила шагала рядом с ним. Ее одежда -- крестьянская куртка и брюки,
должно быть, принадлежавшие польскому солдату, -- была скорее мужской, чем
женской, но никто, исключая близоруких ящеров, не спутал бы ее с мужчиной,
даже посмотрев на автоматический пистолет на поясе. Ни брюки, ни оружие не
привлекали особого внимания. Многие женщины были одеты в брюки вместо юбки
или платья, и большинство, хотя и не все -- особенно женщины с еврейской
внешностью -- имели огнестрельное оружие.
-- Вы вообще-то Лодзь знаете? -- спросила Людмила. -- Вы знаете, как
найти человека, которого мы разыскиваем?
Она была слишком умна, чтобы называть имя Мордехая Анелевича там, где
их вполне могли подслушать.
Ягер покачал головой.
-- Нет и нет. -- Он говорил тихо: заговоривший на немецком, будь то
германский офицер или просто немец, вряд ли мог рассчитывать на
доброжелательное отношение в Лодзи ни у евреев, ни у поляков, ни у ящеров.
-- Но я думаю, что мы его найдем. В своем роде это большой человек здесь.
Он почти решил обратиться с вопросом к полицейскому. У него был выбор
из двух вариантов: польские полицейские в темно-синих мундирах или евреи с
повязками, оставшимися с времен германской администрации, и в кепи, которые
делали их абсурдно похожими на французских "фликов". Но потом он от этой
идеи отказался. Вместо этого они с Людмилой продолжали идти по Стодолнянской
улице на север, пока не добрались до еврейского квартала. Даже теперь он был
переполнен людьми. Каким он был под властью рейха, Ягер страшился себе и
представить.
На улицах в этой части города еврейских полицейских из комической оперы
было гораздо больше. Ягер старался их игнорировать и надеялся, что и они
распространят на него подобную милость. Он кивнул парню с дикой копной волос
и внушительной курчавой рыжеватой бородой, державшему винтовку "маузер" в
руках и имевшему вторую винтовку за спиной, причем грудь его крест-накрест
опоясывали пулеметные ленты, заполненные латунными патронами: типичный
еврейский бандит. Он вполне мог знать, где найти Анелевича.
-- Я ищу Мордехая, -- тихо сказал Ягер.
Парень осознал, что слышит чистый немецкий язык, глаза его слегка
расширились.
-- Да? В самом деле? -- переспросил он на идиш, проверяя, понимает ли
его Ягер. Ягер кивнул в знак того, что понимает. Тогда еврейский боец
прищурился: -- Значит, вы ищете Мордехая. Ну и что? А он вас ищет?
-- Наверняка да, -- ответил Ягер. -- Имя "Скорцени" для вас что-нибудь
значит?
Оно значило. Борец оцепенел.
-- Это вы? -- спросил он, делая такое движение винтовкой, будто
собрался направить ее на Ягера. Затем он поправил себя, -- Нет, вы не можете
быть Скорцени. Он как будто выше меня, а вы ниже.
-- Вы правы. -- Ягер показал на Людмилу. -- Вот она -- настоящий
Скорцени.
-- Ха! -- сказал еврей. -- Вы шутите. Ладно, забавник, идемте со мной.
Посмотрим, захочет ли Мордехай встретиться с вами. С вами обоими, -- уточнил
он, видя, как Людмила прильнула к Ягеру.
Как оказалось, далеко идти не пришлось. Ягер узнал в кирпичном здании,
к которому они приближались, помещение пожарной команды. Их сопровождающий
заговорил по-польски с седобородым человеком, возившимся с пожарной машиной.
Седой ответил на том же языке. Ягер смог разобрать только "Анелевич".
Людмила перевела:
-- Думаю, они говорят, что он наверху, но я не совсем уверена.
Она оказалось права. Еврей заставил их идти перед собой -- разумная
предосторожность, которую и Ягер бы не счел лишней. Они прошли через зал в
небольшую комнатку. В ней за столом сидел Мордехай Анелевич рядом с
некрасивой женщиной. Он что-то писал, но остановился, когда вновь пришедшие
предстали перед ним.
-- Ягер! -- воскликнул он, -- какого черта вы здесь делаете?
-- Вы знаете его? -- В голосе бородатого еврея слышалось разочарование.
-- Он говорит, что знает что-то о Скорцени.
-- Послушаем. -- Анелевич бросил взгляд на Людмилу. -- Кто эта ваша
подруга?
Она ответила за себя сама, с нескрываемой гордостью:
-- Людмила Владимировна Горбунова, старший лейтенант советских ВВС.
-- Советских ВВС? -- Губы Анелевича безмолвно повторили ее слова. -- У
вас странные друзья, Ягер, например, я и она. Что бы сказал Гитлер, если бы
узнал о них?
-- Он сказал бы, что я -- мертвое мясо, -- ответил Ягер. -- Впрочем,
поскольку я бежал из-под ареста за измену, он уже сказал это. А сейчас я
хочу удержать его от взрыва Лодзи, а может, и ящеров, чтобы они в отместку
не взорвали Германию. Хорошо это или плохо, но она, несмотря ни на что, мое
отечество. Скорцени не беспокоит, что будет потом. Он взорвет эту штуку
только потому, что кто-то приказал ему сделать это.
-- Ты был прав, -- сказала женщина, сидевшая рядом с Анелевичем. --
Значит, ты действительно видел его. А я-то думала, что ты беспокоишься по
пустякам.
-- Хорошо бы так, Берта, -- ответил он с тревогой и любовью в голосе.
Он снова перевел взгляд на Ягера. -- Я не думал, что... кто-нибудь, -- он,
вероятно, собирался сказать что-то вроде "даже вы, проклятые нацисты", но
сдержался, -- способен взорвать бомбу во время переговоров о перемирии. Вы
понимаете? -- Его взгляд отвердел. -- Вы сказали, что вас арестовали за
измену? Геволт! [Точного аналога в русском языке, пожалуй, не имеет. Можно
перевести с идиш как "Какой кошмар!!!" -- Прим. ред.] Они обнаружили, что вы
передавали нам сведения?
-- Да, это они узнали, -- ответил Ягер, устало кивая. После его
освобождения все так стремительно менялось, что он был не в состоянии
держать в голове все сразу. Позднее -- если настанет это "позднее" и не
обернется сумасшествием -- он постарается понять, что все это значит. --
Кароль мертв. -- Еще одно воспоминание, которое ему вообще не хотелось бы
удержать в памяти. -- На самом деле они не представляли, как много всего я
сообщил вам. Если бы они знали хоть одну десятую, то к тому моменту, когда
мои парни пришли выручать меня, я валялся бы на полу по кускам, -- а если бы
и мои парни знали эту самую десятую, они не пришли бы.
Анелевич всмотрелся в него и тихо сказал:
-- Если бы не вы, мы ничего не знали бы о бомбе, она бы взорвалась, и
один бог знает, что произошло бы потом.
Он говорил, будто сожалея, что Ягера спасли его люди, не знающие, что
он сделал: он понимал, насколько трудно офицеру принять это.
-- Вы говорите, что видели Скорцени? -- спросил Ягер, и Анелевич
кивнул. Ягер поморщился. -- Вы должны были найти бомбу. Он сказал, что она
была спрятана на кладбище. Вы ее переместили после того, как нашли?
-- Да, и это было нелегко, -- сказал Анелевич, вытирая лоб рукавом,
чтобы показать, насколько тяжело. -- Мы также вытащили детонатор -- не
только радиоуправляемый выключатель, но и ручное устройство, -- так что
Скорцени не сможет взорвать ее, даже если найдет и доберется до нее.
Ягер предостерегающе поднял руку.
-- Не зарекайтесь. Он может найти детонатор, который вы вытащили, а
может принести с собой другой. Не следует недооценивать то, что он может
сделать. И не забудьте -- я работал с ним.
-- Если у него будет детонатор, который можно использовать только
вручную, -- медленно проговорила Людмила по-немецки, -- он ведь не взорвет
себя вместе со всеми остальными? А если понадобится, пойдет он на это?
-- Хороший вопрос. -- Анелевич перевел взгляд с нее на Ягера. -- Вы
знаете его лучше. -- Это прозвучало осуждающе. -- Ну? Может он?
-- Я знаю две вещи, -- ответил Ягер. -- Первое: он вполне может сделать
что-то, чтобы взорвать ее вручную и тем не менее сбежать, -- нет, я не
представляю, как это сделать, но он -- может. Второе: вы не только
рассердили его, вы довели его до ярости, когда его бомба с
нервно-паралитическим газом не взорвалась. Он относит это на ваш счет. Кроме
того, у него есть приказ. И что бы вы о нем ни говорили, он смелый человек.
Если окажется, что он сможет взорвать ее только вместе с собой, он вполне
может пойти на это.
Мордехай Анелевич кивнул с удрученным видом.
-- Я боялся, что вы скажете именно это. С людьми, которые приносят себя
в жертву за идею, гораздо труднее иметь дело, чем с теми, кто хочет жить
ради нее. -- Он невесело хмыкнул. -- Ящеры жаловались, что слишком много
людей готовы стать жертвами. Теперь я понимаю, что они чувствуют.
-- Что вы собираетесь делать с нами теперь, когда мы здесь? -- спросила
Людмила.
-- Это еще один хороший вопрос, -- сказала женщина, Берта, сидящая
рядом с Анелевичем. Она с нежностью посмотрела на него; Ягер подумал, не
женаты ли они. Кольца у нее не было, но это ничего не значило. -- Что нам
делать с ними?
-- Ягер -- солдат, и хороший солдат, он знает Скорцени и знает, как
работает его голова, -- сказал руководитель евреев. -- Если бы он не был
надежным раньше, то не был бы здесь и сейчас. Мы дадим ему оружие, и пусть
он помогает нам охранять бомбу.
-- А что со мной? -- возмущенно спросила Людмила. Ягер был уверен, что
она не успокоится. Ее рука скользнула к рукоятке автоматического пистолета.
-- Я -- солдат. Спросите Генриха. Спросите нацистов. Спросите ящеров.
Анелевич поднял руку в успокаивающем жесте.
-- Я верю, -- ответил он, -- но сначала -- первоочередные дела.
Да, он был хорошим руководителем, лучше, чем представлял себе Ягер. Он
знал, как расставить приоритеты. Он также знал, когда можно посмеяться, что
и доказал тотчас же. -- И вы, вероятно, пристрелили бы меня, если бы я
попытался отделить вас от полковника Ягера. Так. Все в порядке. Вермахт,
красные ВВС, куча бешеных евреев, мы все заодно, правильно?
-- Заодно, -- согласился Ягер. -- Вместе мы спасем Лодзь или вместе
превратимся в дым. Примерно так.
* * *
Самец тряс Уссмака.
-- Поднимайтесь, старший самец! Вы должны подняться, -- настойчиво
сказал Ойяг, добавив усиливающее покашливание. -- Уже был сигнал подъема.
Если вы не выйдете, вас накажут. Весь барак будет наказан, если вы
откажетесь.
Очень медленно Уссмак начал распрямляться. У Расы считалось, что
вышестоящие ответственны за нижестоящих и должны защищать их интересы. Так
продолжалось несчетные тысячелетия. Там, на Родине, это, несомненно,
продолжалось и сейчас. Здесь, на Тосев-3, Уссмак был изгоем. Это ослабляло
его связи с группой, хотя некоторые в ней тоже были мятежниками. А сам он
был умирающим изможденным изгоем. Когда вы уверены, что ваша жизнь будет
недолгой, и когда вы уверены в том, что вам не хочется ее длить, групповая
солидарность истончается.
Ему удалось подняться на ноги и выбраться наружу, на утреннюю
перекличку. Тосевитские охранники, которые, вероятно, не могли определить
точное количество пальцев, дважды пересчитывая их на каждой руке,
пересчитали самцов Расы четыре раза, прежде чем убедились, что ни у кого за
ночь не выросли крылья и он не улетел. После этого они разрешили заключенным
идти на завтрак.
Он был скудным, даже по жалким меркам тюремного лагеря. Но Уссмак не
доел свою маленькую порцию.
-- Ешьте, -- убеждал его Ойяг. -- Как вы сможете выдержать еще день
работы, если не будете есть?
Уссмак задал встречный вопрос:
-- Как я могу выдержать еще день работы, даже если я поем? Так или
иначе, но я не голоден.
Это заставило другого самца тревожно зашипеть.
-- Старший самец, вы должны сообщить об этом врачам Больших Уродов.
Может быть, они смогут дать вам что-то, чтобы улучшить ваш аппетит и
состояние.
У Уссмака открылся рот.
-- Может быть, новое тело? И новый дух?
-- Вы не можете есть? -- спросил Ойяг. Усталый жест Уссмака показал:
нет, не может. Его компаньон, такой же жалкий и тощий, как он сам,
застеснялся, но быстро справился со смущением. -- Тогда можно я съем вашу
порцию?
Поскольку Уссмак не дал отрицательного ответа, этот самец проглотил его
пишу.
Словно во сне Уссмак вышел в лес вместе со своей бригадой.
Он поднял топор и начал медленно рубить дерево с бледной корой. Он
рубил его изо всех сил, но успех был незначительным.
-- Работай лучше, ты! -- заорал на него по-русски тосевитский охранник.
-- Будет исполнено, -- ответил Уссмак.
Он рубил еще, но охраннику результат казался по-прежнему
неудовлетворительным. В первые дни пребывания в лагере он задрожал бы от
страха. А теперь же он чувствовал лишь раздражение в своих тощих боках. Они
поместили его сюда. Что бы они ни делали, может ли быть хуже?
Он поплелся обратно в лагерь на обед. Как он ни устал, но съесть сумел
самую малость. И снова кто-то быстро доел остатки его обеда. Когда же,
слишком скоро, наступило время возвращаться в лес, он споткнулся, упал и не
смог подняться. Его поднял другой самец, направляя и подталкивая к
тосевитским деревьям.
Уссмак поднял топор и снова стал рубить дерево с бледной корой. Как он
ни старался, лезвие топора откалывало от ствола лишь небольшие щепки. Он был
слишком слаб и слишком апатичен, чтобы сделать больше. Если он не срубит
дерево, если бригада не распилит его на правильные куски, они не выполнят
свою норму и получат только штрафной паек.
"Ну и что?" -- подумал Уссмак: он не в состоянии съесть обычный паек,
зачем тогда беспокоиться о том, что он получит меньше?
Конечно, все остальные самцы тоже получат меньше. Но он не волновался о
других. Настоящий самец Расы не должен был так себя вести -- он это помнил.
Но он начал отдаляться от Расы, когда тосевитский снайпер убил Вотата,
командира его первого танка. Имбирь делал вещи и похуже. Из-за имбиря он
потерял еще один хороший экипаж, из-за имбиря он возглавил мятеж, на который
возлагал такие надежды. А результат... вот этот. Нет, больше он не настоящий
самец.
Он слишком сильно устал и опустил топор. "Передохну секунду", --
подумал он.
-- Работать! -- закричал охранник.
-- Дерьмо? -- сказал Уссмак, добавив вопросительное покашливание.
Ворча, Большой Урод отвел в сторону ствол своего оружия и покивал
головой вверх и вниз, дав разрешение. Охранники позволяли очистить чрево --
почти всегда. Это была одна из немногих вещей, которую они позволяли.
Спотыкаясь, Уссмак медленно отошел от дерева в кусты. Он присел, чтобы
облегчиться. Но ничего не случилось -- и неудивительно, он ведь был пустым
внутри. Он попытался подняться, но вместо этого повалился на бок. Он сделал
вдох. Чуть позже еще один. А через какое-то время еще.
Мигательные перепонки скользнули по его глазам. Веки опустились и
закрылись. В свои последние мгновения он подумал, примут ли Императоры
прошлого его дух, несмотря на все то, что он совершил? Вскоре он это узнает.
* * *
Поскольку ящер не вышел из кустов, Юрий Андреевич Пальчинский пошел
искать его. Ему пришлось продираться сквозь кусты, а ящер все не откликался
на зов.
-- Эта вонючая тварь заплатит, -- пробормотал он.
Затем он нашел Уссмака, споткнувшись об его тело и едва не упав лицом
вниз. Он выругался и занес ногу, чтобы дать ящеру хорошего пинка, но
остановился. К чему лишние усилия? Проклятая тварь была уже мертвой.
Он поднял Уссмака, закинул на плечо -- он весил всего ничего -- и понес
обратно в лагерь. Там сбоку была канава, в которую бросали зэков, умерших от
голода или уработавшихся до смерти в течение этой недели. Это было последнее
тело, поверх многих других.
-- На следующей неделе придется рыть новую канаву, -- пробормотал
Пальчинский.
Он пожал плечами. Это была не его забота. Забота бригады. Он повернулся
спиной к могиле и направился в лес.
* * *
-- Мы показали, что можем быть милосердными, -- заявила Лю Хань. -- Мы
отпустили одного чешуйчатого дьявола обратно к соплеменникам, несмотря на
его преступления против рабочих и крестьян. -- "Это я отпустила его,
несмотря на его преступления против меня, -- добавила она про себя. -- Никто
не скажет, что я не ставлю интересы партии, интересы Народно-освободительной
армии выше своих собственных". -- Через несколько дней истекает срок
перемирия, о котором мы договорились с чешуйчатыми дьяволами. Они
по-прежнему отказывают нам в переговорах о более масштабном перемирии. Мы
покажем им, что можем быть и сильными, как драконы. Они еще пожалеют, что не
пошли на уступки.
Он села на место. Члены пекинского центрального комитета сомкнулись в
кружок, обсуждая ее выступление. Нье Хо-Т'инг сказал что-то новичку,
красивому молодому человеку с пухлыми щеками, имя которого она не
расслышала. Тот покивал и посмотрел на Лю Хань восхищенным взглядом. Она
задумалась: восхитился он ее словами или ее телом? -- "Деревенский увалень",
-- подумала она, забыв на мгновение, как недавно сама была крестьянкой,
далекой от политики.
С другой стороны от Нье сидел Хсиа Шу-Тао. Он поднялся с места. Лю Хань
была уверена, что он не утерпит. Если бы она сказала, что Янцзы течет с
запада на восток, он все равно стал бы спорить, потому что это сказала она.
Нье Хо-Т'инг предостерегающе поднял палец, но Хсиа все равно ринулся в
бой:
-- Рвение так же полезно в деле революции, как и осторожность. Излишней
агрессивностью мы можем вынудить маленьких дьяволов к мощному ответу.
Кампания мелких беспокоящих действий, мне кажется, принесет лучший
результат, чем резкий переход от перемирия к полномасштабной войне.
Хсиа оглядел комнату, оценивая реакцию слушателей. Несколько человек
согласно кивнули, но другие, среди которых были четверо или пятеро его
сторонников, сидели молча, с каменными лицами. Лю Хань внутренне улыбнулась,
сохраняя внешнее безразличие. Ведь она подготовила почву, прежде чем начать
борьбу. Будь у Хсиа Шу-Тао хоть крупица здравого смысла, он должен был бы
понять это заранее. А теперь по лицу его прошла судорога, почти такая, как
тогда, когда Лю Хань ткнула коленом в его мужские части.
К ее удивлению, увалень, сидевший возле Нье Хо-Т'инга, взял слово:
-- Хотя войну и политику нельзя разделить в одно мгновение, все же
иногда необходимо показать противнику, что сила в конечном итоге исходит из
ствола оружия. С моей точки зрения, надо силовыми методами показать
маленьким чешуйчатым дьяволам, что их оккупация временна и в конце концов
закончится. Таким образом, как убедительно показала товарищ Лю Хань, мы
нанесем им ряд мощных ударов в тот самый момент, когда закончится срок
перемирия, соразмерив наши действия с их ответом.
Он говорил не как увалень, он говорил как образованный человек, может
быть, даже поэт. И теперь сидящие за столом закивали, одобряя его слова.
-- Как всегда, Мао Цзэдун анализирует четко, -- сказал Нье Хо-Т'инг. --
Его точка зрения наиболее обоснована, и мы будем выполнять программу борьбы
против маленьких чешуйчатых дьяволов, как он указывает.
И снова члены пекинского центрального комитета закивали, словно
какой-то кукольник потянул за ниточки, привязанные к их головам. Лю Хань
кивнула, как все. Ее глаза раскрылись от удивления: выходит, перед ней был
человек, возглавлявший революционное дело по всему Китаю! Мао Цзэдун высоко
оценил ее слова!
Он посмотрел на нее в ответ, сияя, словно Хо Тэй, маленький толстый
божок удачи, в которого коммунисты не верили, но которого Лю Хань не могла
изгнать из своей памяти. Да, он одобрил ее слова. Лицо его это отчетливо
выражало. Но другое тоже: он смотрел на нее, как мужчина смотрит на женщину,
не так грубо, как Хсиа Шу-Тао, но тоже раздвигая ее ноги -- одними глазами.
Что, в сущности, то же самое.
Она подумала, как ей отреагировать. У нее и раньше возникали сомнения в
близости с Нье Хо-Т'ингом как идеологического, так и личного порядка. Ее не
очень удивил интерес, проявленный к ней Мао: многие члены центрального
комитета, возможно даже большинство, испытывали большее вожделение к
революции, чем к женщинам. Хсиа был ужасным примером, почему это правило
приносило, скорее, пользу. Но с Мао наверняка случай особый.
Она слышала, что он женат. Даже если бы он захотел ее, даже если бы
потащил в постель, жену ради нее он не бросит... актрису, если ей не
изменяет память. Каким влиянием она будет обладать в роли любовницы и стоит
ли это того, чтобы предложить свое тело? Странно, раньше она и не думала ни
о чем подобном: благодаря ящерам она имела слишком много интимных связей с
нежеланными мужчинами. Но Мао показался ей привлекательным еще до того, как
она поняла, кто он.
Она улыбнулась ему, совсем чуть-чуть. Он тоже улыбнулся, вежливо. Нье
Хо-Т'инг ничего не заметил. Он, видимо, склонялся к тому, чтобы ничего не
видеть: она временами думала, что является для него скорее удобством, чем
любовницей. Иностранный дьявол Бобби Фьоре как личность был для нее гораздо
более значимым.
Так что же делать? Частично это зависело от Мао. Но Лю Хань древней
женской мудростью поняла, что если она вызовет интерес к себе, то он,
вероятно, ляжет с ней.
Хочется ли ей этого? Трудно сказать наверняка. Перевесит ли выгода риск
и осложнения? Прямо сейчас она решить не могла. Коммунисты мыслили в
масштабах лет, пятилетних планов, десятилетий борьбы. Она ненавидела
маленьких дьяволов, но они были слишком сильны, чтобы можно было отмахнуться
от них, как от глупцов. С их точки зрения или даже с точки зрения партии,
бросаться в обольщение, не просчитав последствий, было глупостью и только.
Она снова улыбнулась Мао. Может быть, это не имело смысла, во всяком
случае сейчас. Кто знает, сколько времени он здесь пробудет? Раньше она
никогда его в Пекине не видела и может больше никогда не увидеть. Но не
исключено, что он вернется. Если он вернется, надо, чтобы он вспомнил ее. А
пока -- сколько бы это "пока" ни длилось, ей надо принять решение. Времени у
нее достаточно. И что бы она ни решила, выбор должен остаться за нею.
* * *
Мордехай Анелевич играл в кошки-мышки с тех самых пор, когда немцы
захватили Польшу, начав Вторую мировую войну. И в каждой войне, будь то с
немцами, с ящерами и с тем, что Мордехай Хаим Румковский считал законной
еврейской администрацией в Лодзи, и в натравливании друг на друга ящеров и
немцев он был мышью, действовавшей против гораздо более мощных и крупных
противников.
Теперь он оказался в роли кота, хотя не особенно задумывался над этим.
Где-то прятался Отто Скорцени. Где -- он не знал. Не знал и того, насколько
Скорцени осведомлен. Не знал, что задумал эсэсовец. И все это ему не
нравилось.
-- Что бы вы сделали, если бы были на месте Скорцени? -- спросил он
Генриха Ягера.
Ягер не только был немцем, но и неоднократно работал вместе с этим
необыкновенным диверсантом. Вопрос поставил немца в неловкое положение.
Разумом Анелевич понимал, что Ягер не сторонник избиения евреев. А вот
эмоционально...
Танкист-полковник почесал голову.
-- Если бы я выполнял это задание вместо Скорцени, я залег бы и вел
себя тихо, пока не понял бы. что наступил подходящий момент, а потом ударил
бы резко и сильно. -- Он сердито хмыкнул. -- Но как поступит он, сказать не
могу. У него свой подход к делу. Иногда мне кажется, что он потерял
рассудок, -- а потом оказывается, что это вовсе не так.
-- После меня его никто больше не видел, -- сказал Анелевич,
нахмурившись. -- Он мог исчезнуть с лица земли -- но это слишком сильно
сказано, не так ли? Может, он действительно глубоко залег?
-- Но не надолго, -- заметил Ягер. -- Если он найдет бомбу, он
попытается взорвать ее. Конечно, теперь уже поздно и после взрыва серьезного
наступления не будет. Но ждать он не станет.
-- Детонатор мы вынули, -- сказал Анелевич. -- В бомбе его нет, хотя
если понадобится, мы можем снова быстро вставить его.
Ягер пожал плечами.
-- Это не имеет значения. Скорцени был бы глупцом, если бы не захватил
с собой еще один, -- а он далеко не глупец. Кроме того, он еще и инженер и
знает, как установить детонатор.
Сам обучавшийся на инженера, Анелевич поморщился -- не хотел иметь
ничего общего с эсэсовцем.
-- Он может набрать себе людей в Лодзи, -- спросила
Людмила Горбунова, -- или, скорее, действует в городе один?
Анелевич посмотрел на Ягера. Тот снова пожал плечами.
-- Город оставался в руках рейха в течение долгого времени. Здесь еще
остались немцы?
-- Вы имеете в виду время, когда он назывался Лицманнштадтом? --
спросил Мордехай и покачал головой, не дожидаясь ответа. -- Нет, после
прихода ящеров мы заставили арийских колонистов собрать пожитки и уехать. То
же сделали и поляки. Но знаете что? Кого-то из немцев мы могли при этом и
упустить.
Ягер пристально посмотрел на него. Анелевич почувствовал, как запылали
его щеки. Не время сводить счеты с немецким солдатом. Тем более -- с этим. И
надо помнить это, как бы трудно ни было.
-- Значит, немцев немного, так? -- уточнил Ягер. -- Если их хоть
сколько-то осталось, Скорцени их найдет. Возможно, у него есть связи с
поляками, они ведь тоже не любят вас, евреев.
Он что, тоже решил свести счеты? У Мордехая уверенности не было. Даже
если и так, то он, в общем-то, прав.
-- Но поляки, -- сказала Людмила, -- если помогут Скорцени, то взорвут
сами себя.
-- Это вы знаете, -- ответил Ягер. -- И я знаю. А поляки могут и не
знать. Если Скорцени скажет: "Тут спрятана большая бомба, которая уничтожит
всех евреев, а вас -- не тронет", -- они могут ведь и поверить ему.
-- Он умело врет? -- спросил Анелевич, стараясь разглядеть этого
противника сквозь паутину бесконечной пропагандистской кампании, которую
рейх развел вокруг имени Скорцени.
Но тут Ягер невольно заговорил, как рупор геббельсовской
пропагандистской машины.
-- Он хорош во всем, что касается диверсий, -- ответил он без тени
иронии и тут же привел пример -- Однажды он отправился в Безансон с мешком
имбиря для подкупа ящеров и вернулся на их танке.
-- Я в это не верю, -- сказала Людмила, прежде чем отреагировал
Анелевич.
-- Это так, веришь ты или нет, -- сказал Ягер. -- Я сам был там и
видел, как его голова высовывается из люка водителя. Я сам не верил, мне
казалось, он отправился туда, чтобы покончить с собой, не больше. Я ошибся.
И с тех пор я его никогда больше не недооценивал.
Анелевич передал его слова, далекие от ободрения, Соломону Груверу и
Берте Флейшман. Углы губ Грувера опустились еще ниже, придав ему более
мрачный, чем обычно, вид.
-- Не может он быть так хорош, -- сказал бывший сержант. -- Если он
таков, значит, он Бог, а это невозможно. Он просто человек.
-- Нам надо прислушаться к полякам, -- сказала Берта. -- Если у них
что-то происходит, мы должны узнать об этом как можно скорее.
Мордехай ответил ей благодарным взглядом. Она воспринимала ситуацию так
же серьезно, как он сам. Учитывая уравновешенность, которую она постоянно
проявляла, ее слова были весомым подтверждением его правоты.
-- Прислушаемся. Ну и что? -- сказал Грувер. -- Если он такой умный, мы
ничего не услышим. Мы не обнаружим его, пока он сам не захочет быть
обнаруженным, и мы не будем знать, что он затеял, пока он не нанесет удар.
-- Все это верно и тем не менее не означает, что мы должны сидеть сложа
руки, -- сказал Анелевич. Он ударил ладонью по боку пожарной машины,
ушибившись. -- Если бы только я был уверен, что это он! Если бы я вышел на
несколько секунд раньше, я увидел бы его лицо. Если, если, если... -- все
это угнетало его.
-- Одно то, что он может находиться в Лодзи, должно вызвать у нас
тревогу, -- сказала Берта. -- Кто знает, что он мог натворить, раз проник
сюда так, что мы не узнали об этом?
-- Он повернул за угол, -- сказал Анелевич, мысленно представляя себе
эту картину, словно прогоняя кусок кинопленки. -- Он повернул за угол, потом
за второй, очень быстро. Я должен был после этого угадать, в какую сторону
он пошел, -- и ошибся.
-- Перестань биться головой о стену, Мордехай, -- сказала Берта. --
Этим уже не поможешь, и ты сделал все, что мог.
-- Именно так, -- прогудел Грувер. -- Несомненно.
Анелевич едва ли слышал его. Он смотрел на Берту Флейшман. Никогда
раньше, насколько он помнил, она не называла его по имени. Он бы это
запомнил, совершенно точно.
Она смотрела на него. И немного покраснела, когда взгляды их
встретились, но не отвела глаз. Он знал, что нравится ей. И она ему тоже.
Когда не улыбалась, она была некрасивой и кроткой. В его постели бывали
женщины гораздо более привлекательные. Ему вдруг показалось, что он слышит
низкий голос Соломона Грувера: "Ну и что?" Воображаемый Грувер был прав. Он
спал с этими женщинами и наслаждался с ними, но ни на мгновение не
задумывался, что с какой-то из них проведет свою жизнь. Но Берта...
-- Если только мы пройдем через это... -- сказал он. Эти слова уже
составляли целое предложение, надо было только знать, как истолковать их.
Берта Флейшман знала.
-- Да. Если у нас получится, -- ответила она, и это был полный ответ.
Живой Соломон Грувер был не таким внимательным к происходящему вокруг,
чем воображаемый в голове у Анелевича.
-- Если мы пройдем через все это, -- сказал он, -- то надо будет что-то
сделать с этой штукой и не оставлять ее лежать там, где она находится. Но
если мы сейчас начнем ее перевозить, то только привлечем к ней внимание и
дадим шанс этому психу Скорцени.
-- Все правильно, Соломон, -- буквально каждое слово, -- торжественно
согласился Мордехай и расхохотался. Через мгновение к нему присоединилась
Берта.
-- Что тут смешного, -- возмутился Грувер с видом оскорбленного
достоинства. -- Я что, сказал шутку, боже упаси, не понимая ее?
-- Боже упаси, -- сказал Анелевич, рассмеявшись еще громче.
* * *
Когда Джордж Бэгнолл и Кен Эмбри шли к Дуврскому колледжу, над головой
раздался рев реактивных двигателей. Бэгнолл готов был автоматически
броситься в ближайшую яму, но удержался и посмотрел вверх. И сразу же
рациональная часть его разума убедилась: там, в небе, летали "метеоры", а не
истребители-бомбардировщики ящеров.
-- Ничего себе! -- вырвалось у Эмбри, подавившего точно такой же
рефлекс. -- Нас не было каких-то полтора года, а ощущение такое, словно мы
не в сорок четвертом году, а в девяносто четвертом.
-- Да нет же, -- сказал Бэгнолл. -- У нас они были, когда мы улетали,
но очень мало. Теперь "харрикейнов" вы вообще не увидите, и "спитфайры" тоже
выводятся из строя как можно быстрее. Новый смелый мир создается вокруг нас,
и тут не ошибешься.
-- Но место для экипажа бомбардировщика еще осталось -- по крайней
мере, на ближайшие двадцать минут, -- сказал Эмбри. -- На "ланкастеры" они
пока реактивные двигатели не ставят. А все остальное уже сделали... -- Он
покачал головой. -- Неудивительно, что нас снова отправили в школу Мы почти
такие безграмотные, словно всю жизнь летали только на "сопвич-кэмэлах". Беда
в том, что мы пока вообще ни на чем не летаем.
-- А Джоунзу еще хуже, -- сказал Бэгнолл. -- Мы-то остались при тех же
машинах, хотя все правила и поменялись. А вот радары его пришли буквально из
другого мира.
-- То же самое относится к системам наведения бомб, -- сказал Эмбри,
когда они поднялись по бетонным ступенькам и направились по коридору к
учебному классу.
Лектор, лейтенант по имени Константин Джордан, уже писал что-то на
классной доске, хотя до начала занятия оставалась минута или две. Прежде чем
сесть, Бэгнолл осмотрелся. Большинство учащихся были бледными, с
одутловатыми лицами, некоторые явно перемогали боль. И понятно -- кроме
таких редкостных личностей, как Бэгнолл и Эмбри, люди, так долго
находившиеся вне службы, что им потребовались курсы повышения квалификации,
оправлялись после тяжелых ранений. У двоих на лицах были страшные шрамы:
какие еще прятались под формой, можно было только предполагать.
За мгновение до того, как часы на башне пробили одиннадцать, лейтенант
Джордан повернулся к аудитории и начал лекцию:
-- Как я заметил в конце предыдущего занятия, то, что ящеры называют
"скелкванк", вызвало революцию в вопросе наведения авиабомб. Свет от
"скелкванка" в отличие от обычного, -- он показал на электрическую лампочку,
-- является организованным, так сказать. Он весь одной и той же частоты,
одинаковой амплитуды, в одинаковой фазе. У ящеров есть несколько способов
создания такого света. Мы работаем сейчас над тем, чтобы выбрать наиболее
подходящие для нас. Но мы отвлеклись. Нам попало достаточное количество
генераторов света "скелкванка", чтобы оборудовать ими многие
бомбардировщики, и вот поэтому вы здесь.
Карандаш Бэгнолла забегал по листку записной книжки. Нередко Джордж
делал паузу, чтобы встряхнуть руку и избавиться от писчего спазма. Все было
для него новым и жизненно важным -- теперь он понял значение термина,
впервые услышанного им в Пскове. Удивительные вещи можно делать с помощью
света "скелкванка"!
Джордан тем временем продолжал говорить:
-- Итак, мы освещаем цель светом лампы "скелкванка". Сенсорная головка,
соответствующим образом настроенная на него, управляет крыльями
стабилизатора авиабомбы и направляет ее на цель. Пока свет падает на цель,
наведение продолжает действовать. Мы все видели, как это используется против
нас, и гораздо чаще, чем могли себе представить. Кроме того, мы пользуемся
захваченными сенсорными головками, которых имеется ограниченное количество,
но мы ищем пути и способы выпускать и их. Да, мистер Мак-Брайд? У вас
вопрос?
-- Да, сэр, -- ответил офицер-летчик, поднявший руку. -- Этот новый
боеприпас очень хорош, сэр, но когда мы летим на боевое задание против
ящеров, как нам приблизиться на такое расстояние, чтобы была какая-то
надежда добраться до цели? Их оружие поражает нас на гораздо большем
расстоянии, чем наше. Поверьте мне, сэр, я знаю, что говорю.
Это был один из тех двоих, у которых половину лица занимали отек и
шрам.
-- Это большая трудность, -- согласился Джордан. -- Мы также ищем
возможности скопировать управляемые ракеты, которыми ящеры сбили так много
наших самолетов, но это оказалось сложной работой, несмотря на помощь
пленных ящеров.
-- Лучше пока с ними не воевать, вот все, что я могу сказать, --
ответил Мак-Брайд, -- иначе у нас вообще не останется летчиков. Без ракет,
которые были бы сравнимы с их ракетами, мы просто закуска, не более.
Бэгнолл никогда не думал о себе как о бутерброде-канапе, но описанное
очень походило на правду. Он желал бы выступить против люфтваффе на
"ланкастере", снаряженном бомбами со "скелкванком" и ракетами, чтобы сбивать
"мессершмитты" прежде, чем они набросятся на бомбардировщик. Через мгновение
он подумал, что однажды сможет вылететь на задание против немцев с таким
вооружением. Но если оно будет у него, то может появиться и у них.
Лейтенант Джордан продолжал лекцию еще несколько минут после того, как
колокол пробил полдень. Такая была у него привычка. Наконец он отпустил
своих учащихся с предупреждением:
-- Завтра у вас будет опрос по всему материалу, который мы прошли на
этой неделе. Тех, кто получит плохие отметки, мы превратим в жаб и отправим
ловить черных тараканов. Удивительно, что творит технология в наши дни, не
так ли? Встречаемся после ланча.
Когда Бэгнолл и Эмбри вышли в коридор, собираясь пойти в кафетерий на
невзыскательный, но бесплатный ланч, к ним обратился Джером Джоунз:
-- Не возражаете против обеда с моим другом?
Его другом оказался ящер, представившийся на шипящем английском языке:
Мцеппс. Когда Бэгнолл узнал, что до плена тот был техником по радарам, он
охотно позволил ему присоединиться к их группе. Разговор с ящером казался
необычным, даже более необычным, чем его первая напряженная встреча с
германским подполковником в Париже, буквально через несколько дней после
прекращения боев между короной и нацистами.
Но несмотря на странную внешность, Мцеппс вскоре поразил его поведением
настоящего офицера, оставшегося без места службы: он гораздо больше
беспокоился о своей работе, чем о том, как вписаться в общую картину.
-- Вы, Большие Уроды, все время ищете "почему, почему, почему", --
жаловался он. -- Кого интересует, почему? Просто работайте. Почему -- это не
важно.
-- До него никак не доходит, -- заметил Джоунз, -- что если мы
перестанем искать "почему, почему, почему", то будем не в состоянии
бороться, когда сюда явятся его чешуйчатые когорты.
Бэгнолл раздумывал над этими словами, пока они с Кеном Эмбри шли
обратно в класс лейтенанта Джордана. Он думал о теории и ее практическом
применении. Из сказанного Мцеппсом следовало, что ящеры редко используют
подобный способ обучения. "Что" для них важнее, чем "почему".
-- Удивляюсь, почему это так, -- проговорил он.
-- Почему -- что? -- спросил Эмбри. и Бэгнолл понял, что он заговорил
вслух.
-- В общем-то, ничего, -- ответил он. -- Просто потому что люди.
-- В самом деле? -- спросил Эмбри. -- По мне -- так и не скажешь.
Летчики, сидевшие в классе, удивленно уставились на Кена и Джорджа,
входивших в дверь. Почему-то эти двое хохотали как ненормальные.
* * *
Солнечные лучи, проникшие между планками жалюзи в окне, попали на лицо
Людмилы Горбуновой и разбудили ее. Протирая глаза, она села в постели. Она
не привыкла спать в постели. После одеял, расстеленных на сырой земле,
настоящий матрац казался упаднически мягким.
Она окинула взглядом квартиру, которую Мордехай Анелевич предоставил ей
и Ягеру. Туалет в ней был далек от идеала, старые обои отваливались от стен
-- Анелевич извинился за это. Казалось, люди Лодзи постоянно извиняются
перед пришельцами за то, как здесь у них плохо. Но Людмиле их жизнь не
показалась такой уж плохой. Она постепенно начала понимать, что проблема
заключается в том, что с чем сравнивать. Они привыкли ко всему тому, что
здесь было до войны. Она привыкла к Киеву. Это значит...
На этом она прервала размышления, потому что проснулся Ягер. Он
проснулся быстро и сразу. Она уже видела это за последнюю пару ночей. Она
просыпалась точно так же. И до войны с ней такого не было. Она задумалась,
было ли так с Ягером.
Он потянулся к ней и положил руку на ее голое плечо. Затем почему-то
хмыкнул.
-- Что тут забавного? -- спросила она, слегка рассердившись.
-- Вот это, -- ответил он, показывая рукой на квартиру. -- Все. И мы.
двое людей, которые ради любви к друг другу убежали прочь от всего, что
привыкли считать важным. И никогда снова мы не сможем вернуться к нему. Мы
-- как говорят дипломаты? -- перемещенные лица, вот мы кто. Как в сюжете из
дешевого романа. -- И по привычке быстро перешел к рассуждениям. -- Могло бы
так получиться, если бы не эта маленькая деталь -- бомба из взрывчатого
металла, внесшая суматоху в наши жизни?
-- Да, если бы не она...
Людмиле не хотелось вставать и одеваться. Здесь, лежа обнаженной на
простынях вместе с Ягером, она могла верить в то, что в Лодзь их привела
только любовь, а измена и страх не только за судьбу города, но и за весь мир
-- ничто по сравнению с любовью.
Вздохнув, она выбралась из постели и начала одеваться. С таким же
вздохом, но на октаву ниже, к ней присоединился Ягер. Едва они закончили
одеваться, как кто-то постучал в дверь. Ягер снова хмыкнул: возможно, у нею
были амурные мысли, но их пришлось отбросить. Так или иначе, они должны были
ответить стоящему за дверью. Хорошо хоть, что им не пришлось прерываться.
Ягер открыл дверь с такой настороженностью, словно ожидал увидеть в
коридоре Отто Скорцени. Людмила не представляла себе, возможно ли такое, но
ведь она не видела, сколько невозможных проделок Скорцени, о которых
рассказывал Ягер, оказывалось реальностью.
Скорцени за дверью не оказалось. Там стоял Мордехай Анелевич с
винтовкой "маузер" за спиной. Он снял ее с плеча и приставил к стене.
-- Знаете, что я предлагаю? -- сказал он. -- Нам следует дать знать
ящерам -- в виде слуха, понимаете? -- что Скорцени был в городе. Если они и
их марионетки начнут искать его, ему придется зашевелиться и что-то
предпринять, вместо того чтобы прятаться.
-- Но вы этого еще не сделали, не так ли? -- резко спросил Ягер.
-- Я только сказал, что стоило бы, -- ответил Анелевич. -- Нет,
пожалуй, если ящеры узнают, что Скорцени здесь, они начнут размышлять, что
он здесь делает, -- и начнут следить за ним. Мы не можем допустить этого --
иначе первый ход останется за ним: у него белые фигуры
-- Вы играете в шахматы? -- спросила Людмила.
За пределами Советского Союза, как она обнаружила, немногие люди играли
в шахматы. Ей пришлось использовать русское слово -- как сказать по-немецки,
она не знала.
Анелевич понял.
-- Да, играю, -- ответил он. -- Не так хорошо, как мне бы хотелось, но
так все говорят.
Ягер по-своему истолковал ситуацию:
-- Что вы делаете -- в противоположность тому, что вы упорно не хотите
делать, я имею в виду?
-- Я понял вас, -- ответил Анелевич с ехидной улыбкой. -- Я выставил на
улицы столько вооруженных людей, сколько мог, и я устраиваю проверки всем
домовладельцам, кто не связан непосредственно с ящерами, чтобы узнать, не
прячут ли они Скорцени. Вот так на настоящий момент... -- Он щелкнул
пальцами, чтобы показать, что он сделал на настоящий момент.
-- А бордели вы проверяли? -- спросил Ягер.
Это было еще одно немецкое слово, которого Людмила не знала. Когда она
переспросила, что оно значит, она вначале подумала, что Ягер шутит. Затем
она поняла, что он исключительно серьезен.
Мордехай Анелевич снова щелкнул пальцами, на этот раз расстроено.
-- Нет, но я должен был сообразить, -- сказал он, рассердившись на
себя. -- Бордель вполне мог стать для него хорошим укрытием, не так ли? --
Он слегка поклонился Ягеру. -- Благодарю. Сам я об этом не подумал.
Людмила до этого тоже не додумалась бы. Мир за пределами Советского
Союза, помимо роскоши, имел и неизвестные ей формы разложения. "Декаденты",
-- снова подумала она. Что ж. Ей надо привыкать к этому. На родину ей не
вернуться, ни теперь, ни когда-либо -- если только она не предпочтет
бесконечные годы в гулаге или, что более вероятно, быстрый конец от пули в
затылок. Она отбросила прежнюю жизнь так же бесповоротно, как Ягер -- свою.
Оставался вопрос: смогут они вместе построить новую жизнь здесь? Другого
выбора у них не было?
Если они не остановят Скорцени, ответ окажется удручающе очевидным.
Анелевич сказал:
-- Я возвращаюсь в помещение пожарной команды: мне надо выяснить
некоторые вопросы. Меня не особенно беспокоят "нафкех"... проститутки, --
уточнил он, когда увидел, что ни Людмила, ни Ягер не поняли слово на идиш,
-- но кто-то займется и ими. Мужчины -- эго мужчины, даже евреи. -- И он
вызывающе посмотрел на Ягера.
Немец, к облегчению Людмилы, не стал возмущаться.
-- Мужчины -- это мужчины, -- миролюбиво согласился он. -- Разве я был
бы здесь, если бы думал иначе?
-- Нет, -- сказал Анелевич. -- Мужчины -- это мужчины, даже немцы.
Он прикоснулся пальцем к полям своей шляпы, взял на плечо винтовку и
поспешил прочь.
Ягер вздохнул.
-- Похоже, легко не будет, как бы сильно мы этого ни желали. Даже если
мы задержим Скорцени, мы все равно останемся изгнанниками. -- Он рассмеялся.
-- Мы окажемся в гораздо худшем положении, чем изгнанники, если ко мне снова
привяжется СС.
-- Я только что подумала то же самое, -- сказала Людмила. -- Только
имела в виду не СС, а НКВД, конечно.
Она весело улыбнулась. Если два человека подумали одновременно об одном
и том же, значит, они хорошо подходят друг другу. Для нее в Генрихе Ягере
сосредоточился весь мир, и она не верила, что если двое так хорошо подходят
друг другу, то она может остаться в одиночестве. Ее взгляд скользнул в
сторону постели. Улыбка чуть изменилась. Здесь они хорошо подходили друг
другу, это точно.
Затем Ягер сказал:
-- Что ж, это неудивительно. У нас нет ничего другого, кроме
предположений, не так ли? Мы здесь -- и Скорцени.
-- Да, -- сказала Людмила, раздосадованная своим плохим немецким, и
перешла на русский. То, что она приняла за добрый знак, для Ягера было лишь
банальностью. И ей стало досадно, что она не смогла скрыть, как закружилась
ее голова.
На столе лежал ломоть черного хлеба. Ягер отправился в кухню и
возвратился, держа нож с костяной ручкой, которым разделил хлеб надвое. Он
протянул Людмиле половину и без малейшей иронии сказал:
-- Германский сервис во всей красе.
Это он пошутил? Или ожидал, что она поймет его буквально? Она
размышляла все время, пока ела свой завтрак. Ее тревожило, как, в сущности,
мало знает она о человеке, которому помогла спастись и чью судьбу она
связала со своей Ей не хотелось думать об этом.
Когда она улетела вместе с ним, он чудом вырвался из лап СС. Конечно,
тогда у него не было оружия. После того как он попал в Лодзь, Анелевич дал
ему "шмайссер" -- в знак доверия, причем даже большего, чем он мог бы
допустить. Ягер потратил много времени, используя масло, щетки и тряпки,
чтобы привести автомат в состояние, которое он счел достойным боевых
условий.
Теперь он начал проверять его снова. Наблюдая за тем, каким напряженным
стало его лицо, Людмила фыркнула -- и от восхищения, и от досады. Поскольку
он не поднял взгляда, она фыркнула снова и громче. Это отвлекло его и
напомнило, что он не один. Она сказала:
-- Иногда я думаю, что вы, немцы, должны жениться на машинах, а не на
людях. Шульц, сержант, -- ты ведешь себя точно так же. как он.
-- Если ты заботишься о своих инструментах как следует, то они
позаботятся о тебе, когда это понадобится, -- автоматически проговорил Ягер,
будто рассказывал таблицу умножения. -- Если они нужны тебе, чтобы остаться
в живых, то лучше как следует позаботиться о них, а иначе будет поздно
упрекать себя за небрежение.
-- Дело не в том, что ты делаешь. Дело в том, _как_ ты это делаешь:
словно в мире нет больше ничего, только ты и машина, какая бы она ни была, и
ты слушаешь только ее. За русскими я никогда такого не замечала. Шульц все
делал точно так же. Он хорошо думал о тебе. Возможно, он старался быть
похожим на тебя.
Похоже, это позабавило Ягера, проверявшего действие взводного
механизма: он кивнул сам себе и надел "шмайссер" через плечо.
-- Ты как-то говорила мне, что он тоже нашел русскую подругу?
-- Да. Я не думаю, что у них все получилось так хорошо, как у нас, но
все равно -- да.
Людмила не стала рассказывать ему, сколько времени потратил Шульц,
пытаясь стянуть с нее брюки, до встречи с Татьяной. Она не намеревалась
рассказывать ему об этом. Шульц ничего не добился, и ей даже не понадобилось
врезать ему по морде стволом пистолета, чтобы он убрал от нее свои лапы.
Ягер встал:
-- Пойдем-ка и мы в помещение пожарной команды. Я хочу кое-что сказать
Анелевичу. Не только в борделях -- Скорцени может найти убежище и в церкви.
Он -- австриец, а значит, католик или, вероятно, воспитан как католик, но
вообще это человек наименее набожный из тех, кого я знаю. Значит, появляется
еще одно или несколько мест, где надо его искать.
-- Сколько у тебя разных идей! -- Людмила и не подумала бы о чем-то,
связанном с религией. А здесь это устаревшее учреждение оказалось
стратегически важным. -- Да, я думаю, стоит проверить. Та часть Лодзи,
которая нееврейская, как раз католическая?
-- Да.
Ягер направился к двери. Людмила последовала за ним.
Держась за руки, они спустились по лестнице. Пожарная команда
находилась всего в нескольких кварталах -- надо было пройти по улице,
повернуть на Лутомирскую -- и вы уже на месте.
Они пошли по улице. Они собирались повернуть на Лутомирскую, когда
сильный удар, похожий на наступление конца света, сотряс воздух. В этот
страшный момент Людмила подумала, что Скорцени взорвал свою бомбу, несмотря
на все то, что они сделали, чтобы остановить его.
Но затем, когда стекла вылетели из окон, она поняла, что ошиблась. Этот
взрыв произошел неподалеку. Как взрывается бомба из взрывчатого металла, она
видела. Если бы она находилась так близко от места ядерного взрыва, то была
бы мертвой прежде, чем поняла, что произошло.
Люди кричали. Некоторые убегали от места, где взорвалась бомба, другие
бежали к нему, чтобы помочь раненым. Среди последних были и они с Ягером,
они бежали, расталкивая мужчин и женщин, бегущих навстречу.
Уши заложило, но она слышала обрывки фраз на идиш и на польском:
"...повозка перед... остановилась там... человек ушел прочь... взорвалась
перед..."
Затем она подошла достаточно близко, чтобы увидеть, где была взорвана
бомба. Здание пожарной команды на Лутомирской улице превратилось в кучу
обломков, сквозь которые начало пробиваться пламя.
-- Боже мой, -- тихо сказала она.
Ягер смотрел на ошеломленные и истекающие кровью жертвы с мрачной
решимостью на лице.
-- Где же Анелевич? -- спросил он, словно желая, чтобы боевой лидер
евреев возник из развалин. Затем добавил еще одно слово: -- Скорцени.
Ящер по имени Ойяг кивнул головой, изображая покорность.
-- Будет выполнено, благородный господин, -- сказал он. -- Мы будем
выполнять все нормы, которые вы требуете от нас.
-- Это хорошо, старший самец, -- ответил на языке Расы Давид Нуссбойм.
-- Если так, ваши пайки будут увеличены до нормальных ежедневных норм.
После смерти Уссмака ящеры из барака-3 стали работать, так сильно не
дотягивая до нормы, что голодали -- а точнее, стали еще более голодными.
Теперь наконец новый старший самец, хоть и не обладавший высоким статусом до
пленения, начал силой заставлять их выполнять норму.
Ойяг, по мнению Нуссбойма, мог бы стать лучшим старшим самцом для
барака, чем Уссмак. Этот последний, может быть, потому, что был мятежником,
старался вызвать возмущение и в лагере. Если бы полковник Скрябин не нашел
способа сорвать голодную забастовку, которую начал Уссмак, неизвестно,
сколько беспорядка и нарушений это вызвало бы.
Ойяг повращал глазами во все стороны, убедившись, что никто из самцов в
бараке не проявляет ненужного внимания к его разговору с Нуссбоймом. Он
понизил голос и заговорил на ломаном русском:
-- Есть еще одно дело, и я сделаю, если вы скажете, что вам это
нравится.
-- Да, -- сказал Нуссбойм.
Он вышел из барака и направился к штабу лагеря. Удача была на его
стороне. Когда он подошел к кабинету полковника Скрябина, секретарь
коменданта отсутствовал. Нуссбойм остановился в двери и стал ждать, чтобы
его заметили.
И действительно, Скрябин поднял взгляд от донесения, над которым
работал. После того как началось перемирие, поезда приходили в лагерь
регулярно. И бумаги теперь хватало, поэтому Скрябин наверстывал
бюрократическую переписку, которую ему пришлось отложить просто потому, что
не на чем было писать.
-- Входи, Нуссбойм, -- сказал он по-польски, положив ручку.
Чернильные пальцы на его пальцах показывали, насколько он был занят.
Казалось, он обрадовался возможности сделать перерыв. Нуссбойм поклонился.
Он надеялся застать полковника в добродушном настроении, и его надежда
осуществилась. Скрябин указал на стул перед столом.
-- Садись. Ты ведь пришел ко мне не без причины?
"Лучше, чтобы ты не тратил зря моего времени" -- означали его слова.
-- Да. гражданин полковник. -- Нуссбойм с благодарностью уселся.
Скрябин был в хорошем настроении: не каждый раз он предлагал стул и не
всегда говорил по-польски, заставляя в таких случаях Нуссбойма разгадывать
указания на русском. -- Я могу доложить, что налажено сотрудничество с новым
старшим самцом ящеров. У нас будет гораздо меньше неприятностей от барака-3.
чем было в прошлом.
-- Хорошо. -- Скрябин сжал испачканные в чернилах пальцы. -- Это все?
Нуссбойм поспешил ответить:
-- Нет, гражданин полковник.
Скрябин кивнул -- если бы его прервали только для такого пустякового
доклада, он заставил бы Нуссбойма пожалеть об этом. Переводчик продолжил:
-- Другой вопрос, однако, настолько деликатен, что я колеблюсь
представить его вашему вниманию.
Он был рад, что может говорить со Скрябиным по-польски: по-русски он бы
так выразиться не смог.
-- Деликатный? -- Комендант лагеря поднял бровь. -- Мы редко слышим
подобные слова в этом месте.
-- Я понимаю. Однако... -- Нуссбойм оглянулся через плечо, чтобы
убедиться, что стол позади него все еще не занят, -- это относится к вашему
секретарю Апфельбауму.
-- В самом деле? -- Скрябин придал голосу безразличие. -- Хорошо.
Продолжай. Внимательно слушаю. Так что там насчет Апфельбаума?
-- Позавчера, гражданин полковник, мы с Апфельбаумом и Ойягом шли возле
барака-3, обсуждая способы, с помощью которых пленные ящеры могли бы
выполнять норму. -- Нуссбойм подбирал слова с большой осторожностью. -- И
Апфельбаум сказал, что жизнь каждого стала бы легче, если бы великий Сталин
-- должен сказать, он использовал этот титул саркастически, -- если бы
великий Сталин так же беспокоился о том, сколько советские люди едят, как он
беспокоится о том, насколько упорно они работают для него. Это в точности
то, что он сказал. Он говорил на русском, а не на идиш, так что и Ойяг мог
понять его, а поскольку я понял с трудом, то попросил его повторить Он это
сделал, и во второй раз это прозвучало еще более саркастически.
-- В самом деле? -- спросил Скрябин. Нуссбойм кивнул. Скрябин почесал
голову. -- И ящер тоже слышал это и понял? -- Нуссбойм кивнул снова.
Полковник НКВД посмотрел на дощатый потолок. -- Я полагаю, он может сделать
заявление об этом?
-- Если потребуется, гражданин полковник, я думаю, что он сделает, --
ответил Нуссбойм. -- Вероятно, мне не следовало упоминать, но...
-- Но тем не менее, -- тяжко сказал Скрябин. -- Я полагаю, ты считаешь
необходимым написать формальное письменное обличение Апфельбаума.
Нуссбойм изобразил нежелание.
-- Я бы не хотел. Как вы помните, когда-то я обличил одного из зэков, с
которым прежде работал, так вот теперь мне этого не хотелось бы делать. Меня
осенило, что так будет...
-- Полезнее? -- предположил Скрябин.
Нуссбойм посмотрел на него широко раскрытыми глазами, радуясь тому, что
тот не может прочитать его мысли Нет, Скрябина не случайно поставили
начальником лагеря. Полковник полез в свой стол и вынул бланк с непонятными
указаниями, сделанными русскими буквами.
-- Напиши, что он сказал. Можно по-польски или на идиш. Мы будем
хранить его в деле. Я полагаю, что ящер может говорить об этом всем и
каждому. А ты, конечно, таких вещей допускать не должен.
-- Гражданин полковник, эта мысль никогда не могла бы прийти мне в
голову. -- Нуссбойм блестяще изобразил потрясенную невинность.
Он сознавал, что лжет, как лжет и полковник Скрябин. Но здесь, как и в
любой другой игре, существовали свои правила. Он взял ручку и принялся
быстро писать. Поставив подпись в конце доноса, он протянул бумагу Скрябину.
Он предположил, что Апфельбаум и сам придет с доносом. Но он выбрал
свою цель предусмотрительно. Клерку Скрябина придется туго, когда он станет
переубеждать своих политических друзей, отвергая выдвинутые обвинения: они
недолюбливали его за то, что он подлизывался к коменданту, и за привилегии,
которые он получал как помощник Скрябина. Обычные зэки презирали его -- они
презирали всех политических. И он не знал никого из ящеров.
Скрябин сказал:
-- Если бы это я узнал от другого человека, то мог бы подумать, что
цель этого изобличения -- занять место Апфельбаума.
-- Вряд ли вы можете так говорить обо мне, -- ответил Нуссбойм. -- Я не
могу занять его место и никогда не подумал бы, что смогу. Если бы в лагере
использовался польский язык или идиш, то да, вы могли бы так подумать обо
мне. Но я недостаточно знаю русский, чтобы делать эту работу. Все, что я
хочу, -- чтобы стала известна правда.
-- У тебя добродетельная душа, -- сухо сказал Скрябин. -- Однако
замечу, что добродетель не всегда является достоинством на пути к успеху.
-- Именно так, гражданин полковник, -- сказал Нуссбойм.
"Будь осторожнее", -- намекнул ему комендант. Он и намеревался быть
осторожным. Если он добьется того, что Апфельбаума выгонят с должности,
отправят с позором в более жуткий лагерь, здесь все может сдвинуться. Его
собственное положение улучшится Теперь, когда он признан таким же, как
политические [Автор находится в странной уверенности, что политические
заключенные находились в лагерях в лучших условиях, нежели уголовники. --
Прим. ред.], и связался с администрацией лагеря, он задумался, как лучше
использовать преимущества ситуации, в которой он находится.
В конце концов, если вы не позаботитесь о себе, кто позаботится о вас?
Он чувствовал себя жалким после того, как Скрябин заставил его подписать
первый донос -- против Ивана Федорова. Но на этот раз донос не беспокоил его
вовсе.
Скрябин небрежно сказал:
-- Завтра прибудет поезд с новой партией заключенных. Мне дали понять,
что целых два вагона будет с женщинами.
-- Это очень интересно, -- сказал Нуссбойм. -- Спасибо, что вы сказали
мне.
Разумные женщины пристроятся к наиболее влиятельным людям в лагере: в
первую очередь к администрации и охранникам, затем к заключенным [Еще одно
странное заблуждение автора -- Прим. ред.], которые в силах сделать их жизнь
сносной... или что-то в этом роде. Те, которые не сообразят, что для них
хорошо, отправятся валить деревья и рыть канавы, как прочие зэки.
Нуссбойм улыбнулся про себя. Наверняка человек такой... практичный, как
он, сможет найти такую же... практичную женщину для себя -- может быть, даже
такую, которая говорит на идиш. Где бы вы ни были, вы делаете, что можете.
Главное -- выжить.
* * *
Ящер с фонарем приблизился к костру, за которым Остолоп Дэниелс и
Герман Малдун тешились байками.
-- Это вы, лейтенант Дэниелс? -- спросил он на приличном английском
языке.
-- Это я, -- согласился Остолоп. -- Подходите ближе, лидер малой боевой
группы Чуук. Садитесь. Вы собираетесь завтра утром покинуть эти места -- это
верно?
-- Истинно так, -- сказал Чуук. -- Мы больше не будем в Иллинойсе. Мы
двигаться прочь, сначала главная база в Кентукки, затем прочь из этой
не-империи Соединенные Штаты. Я говорю вам две веши, лейтенант Дэниелс.
Первая вещь есть: я не сожалею уходить. Вторая вещь есть: я пришел сказать
прощайте.
-- Это очень любезно, -- сказал Остолоп. -- Прощайте и вы тоже.
-- Сентиментальный ящер, -- сказал Малдун, фыркнув от смеха. -- Кто бы
подумал, а?
-- Чуук -- неплохой парень, -- ответил Дэниелс. -- Как он сказал, когда
было заключено перемирие с ним и с ящерами, которыми он командовал, у нас с
ним больше общего, чем с нашими же начальничками.
-- Да, это, пожалуй, правильно, -- ответил Малдун одновременно с
Чууком, который снова произнес свое "истинно".
Малдун не унимался:
-- Было похоже на прежнюю войну, не так ли? Мы и немцы в окопах, и мы
были похожи друг на друга, будь я проклят, как это верно. Покажи этим парням
в чистеньком вошь -- и они упадут замертво.
-- Я также имею для вас вопрос, лейтенант Дэниелс, -- сказал Чуук. --
Вам не будет досадно, что я спрошу вас это?
-- Что именно? -- сказал Остолоп. Затем он сообразил, что имел в виду
ящер. Английский Чуука был приличным, но далеким от совершенства. --
Валяйте, спрашивайте, о чем хотите. Вы и я, мы оба в довольно хороших
отношениях, раз уж прекратили лупить друг друга по голове. Ваши заботы очень
похожи на мои, как в зеркале.
-- Вот что я хочу спросить тогда, -- сказал Чуук. -- Теперь, когда эта
война, эта битва сделана, что вы будете делать?
Герман Малдун тихо присвистнул сквозь зубы. Остолоп тоже.
-- Вот это вопрос, -- сказал он. -- В первую очередь, я думаю, надо
посмотреть, сколько времени еще армия захочет содержать меня. Меня ведь уже
не назовешь молодым человеком. -- Он потер свой щетинистый подбородок.
Большая часть щетины была белой, а не каштановой.
-- Что вы будете делать, если вы не солдат? -- спросил ящер.
Остолоп объяснил, что, может быть, снова станет бейсбольным менеджером.
Он подумал, не следует ли ему рассказать о бейсболе, но не стал.
Чуук сказал:
-- Я видел тосевитов, некоторые почти детеныши, некоторые больше,
играющие эту игру. Вам платить за возглавление команды их? -- Он добавил
вопросительное покашливание. Когда Остолоп подтвердил, что так и будет, ящер
сказал: -- Вы должны быть очень искусен быть способным делать это за деньги.
Будете это снова во время мира?
-- Не знаю, -- ответил Дэниелс. -- Кто скажет, что будет с бейсболом,
когда все выправится? Я полагаю, что первое, что я сделаю, когда уйду из
армии, так это отправлюсь домой в Миссисипи, чтобы посмотреть, остался ли
кто-нибудь в живых из моей семьи.
Чуук издал звук, выражающий удивление. Он показал на запад, в сторону
великой реки.
-- Вы живете на лодке? Ваш дом есть на Миссисипи?
Остолопу пришлось объяснить разницу между Миссисипи-рекой и штатом
Миссисипи. Когда он закончил, ящер сказал:
-- У вас, Больших Уродов, временами для одного места больше чем одно
имя, иногда у вас больше чем одно место на одно имя. Это сбивает с толк. Я
скажу небольшой секрет, что одна или две атаки были неправильны из-за этого.
-- Может быть, нам стоило назвать каждый город в сельской местности
Джоунсвиллем, -- сказал Герман Малдун и расхохотался собственной шутке.
Чуук тоже расхохотался, открыв рот так, что отражение пламени костра
заблестело на его зубах и змеином языке.
-- Вы не удивили меня, вы, тосевиты, если вы будете делать эту вещь. --
Он показал на Дэниелса. -- Тогда прежде, чем вы стали солдат, вы командовать
бейсбольные люди. Вы есть лидер от детеныш?
И снова Остолопу потребовалось время, чтобы понять ящера.
-- Прирожденный лидер, вы имеете в виду? -- И он снова расхохотался и
хохотал громко и долго. -- Я вырос на ферме в Миссисипи сам по себе. Там
были негры-арендаторы, которые обрабатывали поля больше, чем были у моего
папочки. Я стал менеджером потому, что мне не хотелось вечно ходить за
мулом, а потому я сбежал и стал играть в мяч. Я никогда не был великим, но
был очень неплохим.
-- Я слышать прежде такие рассказы о неповиновении властям от тосевиты,
-- сказал Чуук. -- Мне они очень странны. Мы не любим таких среди Расы.
Остолоп задумался над этим: целая планета ящеров, каждый занимается
своей работой и проживает свою жизнь по указке. Получается очень похоже на
то, что хотели сделать с народом красные и нацисты, только еще хуже. Но для
Чуука этот порядок вещей казался таким же естественным, как вода для рыбы.
Он не задумывался над плохими сторонами системы просто потому, что она
наполняла его жизнь порядком и значением.
-- А как насчет вас, лидер малой боевой группы? -- спросил Дэниелс
Чуука. -- После того как вы, ящеры, уйдете из США, что вы будете делать
дальше?
-- Я останусь быть солдат, -- отвечал ящер. -- После этого перемирия с
вашей не-империей я отправляюсь в другую часть Тосев-3, где перемирия нет, я
воюю дальше с Большие Уроды, пока раньше или позже Раса победит там. Затем я
иду на новое место и делаю то же самое. Все это на годы до прибудет флот
колонизации.
-- Значит, вы стали солдатом, как только вылупились? -- спросил
Остолоп. -- Вы не могли делать что-нибудь еще, когда ваши большие боссы
решили захватить Землю и просто призвали вас на войну?
-- Так было бы сумасшествие! -- воскликнул Чуук. Может быть, он понял
Остолопа слишком буквально, а может быть, и нет. -- Сто и пять десятков лет
назад Шестьдесят Третий Император Фатуз, который правил тогда, а теперь
помогает наблюдать за душами наших умерших, установил Солдатское Время.
Остолоп смог по звучанию почувствовать в словах заглавные буквы, но не
мог понять, что они означают.
-- Солдатское Время? -- переспросил он.
-- Да, Солдатское Время, -- сказал ящер. -- Время, когда Расе требуются
солдаты. Вначале подготовить самцов, которые пойдут флот вторжения, потом в
моей группе возраста и группа до моей -- самцы, которые будут снаряжать
флот.
-- Минутку. -- Остолоп поднял негнущийся скорченный указательный палец.
-- Вы хотите сказать мне, что когда у вас не Солдатское Время, то у вас,
ящеров, нет солдат?
-- Если мы не строить флот вторжения принести новый мир в Империю,
какая нужда мы имеем солдаты? -- Чуук обернулся. -- Мы не воюем сами с
собой. Работевляне и халессианцы есть разумные субъекты. Они не тосевиты,
буйствовать, когда захотят. У нас есть данные делать самцы-солдаты, когда
Император, -- он опустил взгляд к земле, -- решает: мы нуждаемся в них. За
тысячи лет времени мы не нуждаемся. У вас, Больших Уродов, другое? Вы
воевали свою войну, когда мы прибыли. Вы имеете солдаты во время между
войны?
Это прозвучало так, словно он спросил: когда вы сморкаетесь, то
вытираете руки о штаны? Остолоп посмотрел на Малдуна. Малдун уже смотрел на
него.
-- Да, когда мы не воюем, то содержим парочку-другую солдат, -- сказал
Остолоп.
-- На случай, если они нам понадобятся, -- сухо добавил Малдун.
-- Это растрата ресурса, -- сказал Чуук.
-- Еще более расточительно -- не иметь солдат наготове, -- сказал
Остолоп, -- на тот случай, когда их у вас нет, а у страны за соседней дверью
есть, и тогда они отобьют у вас имущество, возьмут то, что было вашим, чтобы
использовать для себя.
У ящера язык выскочил наружу, метнулся в воздухе и снова спрятался во
рту.
-- А, -- сказал он. -- Теперь я имею понимание. Вы всегда имеете врага
у соседняя дверь. У нас в Расе вещь другая. После того как Императоры, -- он
снова посмотрел в землю, -- сделали весь Родина одним под их правление,
какая нужда нам солдаты? Мы имеем нужда только во время завоевания. Тогда
правящий Император объявил Солдатское Время. После конец завоевание мы
больше солдаты не нуждаемся. Мы их на пенсию, дадим им умирать и готовить
новых не будем до нового времени нужды.
Остолоп тихо и удивленно присвистнул. А Герман Малдун пропел с
удивительно хорошим акцентом кокни:
-- Старые солдаты никогда не умирают. Они только исчезают. -- Он
повернулся к Чууку и объяснил: -- У нас есть такая песня. Я слышал ее во
время последней большой войны. Но у вас, ящеров, получается так, будто вы на
самом деле поступаете, как в этой песне. Разве не чепуха?
-- Мы так поступаем на Родине. Мы так поступаем на Работев-2. Мы так
поступаем на Халесс-1, -- сказал Чуук. -- Здесь, на Тосев-3, кто знает, как
мы поступаем? Здесь, на Тосев-3, кто знает, как поступать? Может быть, один
день, лейтенант Дэниелс, мы воевать снова.
-- Но только не со мной, -- сразу сказал Остолоп. -- Когда меня уволят
из армии, то обратно уже не возьмут. А если они это сделают, результат им не
понравится. Все те бои, через которые я прошел, выжали меня. Лидер малой
боевой группы Чуук, вам надо выбрать кого-нибудь помоложе.
-- Двоих помоложе, -- согласился сержант Малдун.
-- Я желаю вы оба хорошей удачи, -- сказал Чуук. -- Мы воевали один с
другим. Теперь мы не воюем, и мы не враги. Пусть остается так.
Он повернулся и вышел из круга желтого света костра.
-- В самом деле так? -- удивленно спросил Малдун. -- Я имею в виду,
такое может быть на самом деле?
-- Да, -- ответил Остолоп, точно понимая, о чем тот говорит. -- Когда
они не ведут войну, у них нет солдат. Хотите, чтобы у нас было так же, не
правда ли? -- Он не стал дожидаться, когда Малдун кивнет, это произошло
автоматически, как дыхание. Он просто заговорил мечтательным голосом: --
Никаких солдат, на сотни, может быть, тысячи лет...
Он сделал длинный выдох, мечтая о сигарете.
-- После этого вы, может, пожелаете, чтобы они победили, не так ли? --
сказал Малдун.
-- Да, -- сказал Остолоп. -- Может быть.
* * *
То, на чем лежал Мордехай Анелевич, никак не могло быть мягкой
постелью. Он поднялся на ноги. Что-то текло по щеке. Когда он провел по ней
рукой, ладонь оказалась красной.
Берта Флейшман лежала на улице среди разбросанных кирпичей, с которых
он только что поднялся. У нее был порез на ноге и еще один, гораздо худший,
на голове сбоку, кровь пропитала волосы. Она стонала: слов не было, только
стон. Глаза ее были затуманены.
Охваченный страхом, Мордехай нагнулся и поднял ее на руки. Его голова
была наполнена шипящим шумом, как будто гигантский воздушный шланг шипел
между ушами. Сквозь этот шум он не слышал не только стонов Берты, но и
криков, воплей, стонов десятков, может быть, сотен раненых людей.
Если бы он прошел еще полсотни метров, он не был бы ранен. Он был бы
мертв. Понимание этого медленно вошло в его оцепеневший мозг.
-- Если бы я не остановился, чтобы побеседовать с тобой... -- сказал он
Берте.
Она кивнула, все еще с отсутствующим выражением лица.
-- Что произошло? -- Ее губы произнесли эти слова, но они не прозвучали
-- а может быть, Анелевич оглох сильнее, чем ему казалось.
-- Какой-то взрыв, -- сказал он, затем, гораздо позднее, чем следовало,
он сообразил: -- Бомба.
Ему понадобилось еще несколько секунд, прежде чем он выпалил:
-- Скорцени!
Берта Флейшман услышала только это имя.
-- Боже мой! -- сказала она так громко, что Анелевич услышал и понял.
-- Мы должны остановить его!
Это сущая правда. Они должны остановить его, если смогут. Ящерам это
никогда не удавалось. Анелевич подумал, по силам ли это кому-то вообще. Так
или иначе, требовалось найти способ.
Он осмотрелся. Среди всего этого хаоса сидел на корточках Генрих Ягер,
вытягивая бинт из аптечки на своем поясе. Старый еврей, который протянул ему
поврежденную руку, не знал и не беспокоился о том, что перед ним танкист,
полковник вермахта. И Ягер -- судя по тому, как умело и осторожно он
работал, -- не беспокоился о религии человека, которому он помогал. Рядом с
ним его русская подруга -- еще одна история, о которой Анелевич знал меньше,
чем ему хотелось бы, -- перевязывала окровавленное колено маленького
мальчика чем-то похожим на старый шерстяной носок.
Анелевич хлопнул Ягера по плечу. Немец крутнулся на месте, схватив
автомат, который он положил на мостовую, чтобы помочь старику.
-- Вы живы! -- сказал он с облегчением, узнав Мордехая.
-- По крайней мере, я так думаю. -- Анелевич обвел рукой окружающий
хаос. -- Ваш друг грубо играет.
-- Это то самое, о чем я говорил вам, -- ответил немей. Он тоже
посмотрел по сторонам, но очень быстро. -- Это, вероятно, диверсия -- и
вероятно, не единственная. И где бы ни находилась бомба, правильнее думать,
что Скорцени уже близко от нее.
И, как по команде, еще один взрыв потряс Лодзь. Звук его прикатил с
востока: прикинув направление, Анелевич решил, что он произошел неподалеку
от разрушенной фабрики, где прятали украденную бомбу. Он не сказал Ягеру,
где находится фабрика, потому что не вполне доверял ему. Теперь этим
придется поступиться. Если Скорцени где-то там, ему пригодится любая помощь,
которую он сможет получить.
-- Идемте, -- сказал он.
Ягер кивнул, быстро закончил бинтовать и схватил свой "шмайссер".
Русская девушка -- летчица Людмила -- достала свой пистолет. Анелевич
кивнул. Они отправились в путь. Мордехай обернулся к Берте, но она снова
повалилась на мостовую. Ему хотелось взять ее с собой, но идти она не могла,
а ждать нельзя было. Следующий взрыв может случиться уже не в пожарном депо,
не в каком-то отдельном здании. Это может быть вся Лодзь.
От помещения пожарной команды не осталось ничего. Пламя от торящего
бензина высоко поднималось над обломками -- это горела пожарная машина.
Мордехай пнул изо всех сил кусок кирпича, попавший под ногу. Здесь был
Соломон Грувер. Потом -- если он остался жив -- он будет очень недоволен.
Винтовка "маузера" колотила в плечо, когда он спешил. Это его не
беспокоило -- он замечал ее только временами. А вот патронов у него в
карманах осталось маловато. В винтовке была полная обойма, пять патронов, в
карманах -- еще на одну или две обоймы. Он не собирался сегодня идти в бой.
-- Сколько у вас патронов? -- спросил он Ягера.
-- Полный магазин в автомате и еще один здесь. -- Немец показал на свой
пояс. -- Всего шестьдесят штук.
Это уже лучше, но все же не так хорошо, как надеялся Мордехай. Магазин
автомата можно выпустить за несколько секунд. Он напомнил себе, что Ягер
все-таки полковник-танкист. Если германский солдат -- а тем более германский
офицер -- не способен соблюдать дисциплину огня, то кто же?
Наверное, никто. Когда пули летят над головой, поддерживать любую
дисциплину становится трудно.
-- И еще у меня есть патроны в пистолете, -- сказала Людмила.
Анелевич кивнул. Она шла с ними. Казалось, что Ягер согласен, что она
имеет право идти с ними, но Ягер ведь спал с нею, поэтому его мнение
пристрастно. С другой стороны, она советская летчица и партизанила здесь, в
Польше, так что, в конце концов, она может оказаться полезной. Его
собственные бойцы-женщины доказали, что могут выполнять работу, которую не
способны выполнять некоторые мужчины.
Он прошел мимо многих собственных бойцов, когда вместе с Ягером и
Людмилой спешил к разрушенной фабрике.
Некоторые, крича, обращались к нему с вопросами. Он отвечал
неопределенно и не приглашал присоединиться к нему ни мужчин, ни женщин.
Никто из них не был посвящен в тайну бомбы из взрывчатого металла, и он
хотел сохранить круг людей, знающих о ней, как можно более узким. Если он
остановит Скорцени, то ему совсем ни к чему жить с риском разоблачения перед
ящерами. Кроме того, бойцы, не знающие, куда они идут, могут принести больше
неприятностей, чем пользы.
Его узнали двое полицейских из службы порядка и спросили, куда он идет.
Он их тоже проигнорировал. Он привык игнорировать службу порядка. Да и они к
этому привыкли. Люди, вооруженные дубинками, всегда вежливы с теми, кто
вооружен винтовкой или автоматом.
Ягер начал задыхаться.
-- Далеко еще? -- спросил он, запыхавшись.
Пот струился по его лицу, рубашка промокла на спине и под мышками.
Анелевич и сам вспотел. День был жарким, ярким и ясным, приятным для
тех, кто просто прогуливается, а не мчится по улицам Лодзи.
"Почему бы всему этому не случиться осенью?" -- подумал он. А вслух
ответил:
-- Не очень далеко. В гетто ничто не отстоит по-настоящему далеко. Вы,
нацисты, оставили нам немного пространства, вы ведь знаете.
Губы Ягера сжались.
-- Вы можете сдерживаться, когда говорите со мной? Если бы не я, вы
были бы уже дважды мертвы.
-- Это верно, -- заметил Анелевич. -- Но только для данного случая. А
сколько тысяч евреев умерло здесь прежде, чем кто-то что-нибудь сказал.
Он оказал доверие Ягеру. Немец явно обдумывал это на бегу, затем
кивнул.
К небу поднималось облако дыма. Как показалось Мордехаю, судя по звуку
взрыва, он произошел близко к тому месту, где была спрятана бомба. Кто-то
крикнул ему:
-- Где пожарная машина?
-- Она сама горит, -- ответил он. -- Первый взрыв, который вы слышали,
был в пожарном депо.
Спросивший в ужасе вытаращил глаза. Если бы у Мордехая было время
задуматься, то он и сам пришел бы в ужас. Что будет с гетто без пожарной
машины? Он выругался. Если они не остановят Скорцени, это уже неважно.
Он завернул за угол. Ягер и Людмила бежали рядом с ним. Внезапно
Мордехай остановился. В горящем здании находились конюшни, в которых
содержались ломовые лошади, на которых он собирался перевезти бомбу в случае
необходимости. Огонь превратил стойла в ловушки. Их ужасные крики, еще более
печальные, чем крики раненых женщин, эхом отдавались в его ушах.
Он хотел помочь животным, но заставил себя пройти мимо. Люди, которые
не знали, что он делал, старались вывести лошадей из конюшни. Он убедился,
что среди них нет его людей, охранявших бомбу. К своему облегчению, он их
действительно не обнаружил, но знал, что они вполне могли оказаться здесь.
Когда эта мысль мелькнула в его голове, он вдруг понял, что Скорцени взрывал
здания не просто так. Он старайся отвлечь, выманить охранников с их постов.
-- Этот ваш эсэсовский друг -- настоящий "мамзер", не так ли? -- сказал
он Ягеру.
-- Что? -- переспросил танкист.
-- Ублюдок, -- сказал Анелевич, заменив слово на идиш немецким.
-- Вы не знаете и половины, -- сказал Ягер. -- Боже, Анелевич, вы не
знаете даже десятой части.
-- Я узнаю, -- ответил Мордехай. -- Идемте, обогнем последний угол -- и
мы на месте.
Он скинул винтовку с плеча, снял с предохранителя и загнал патрон в
патронник. Ягер мрачно кивнул. Его "шмайссер" уже был готов к бою. Людмила
тоже на бегу не выпускала свой маленький автоматический пистолет. В целом не
так много, но лучше, чем ничего.
У последнего угла они задержались. Поторопившись, они рисковали попасть
прямо под циркулярную пилу. С большой предосторожностью Мордехай посмотрел
вдоль улицы в сторону разрушенной фабрики. Он не увидел никого, даже бросив
беглый взгляд, а он знал, куда надо смотреть. В конце концов, если бы даже
он и увидел кого-то, это не имело бы значения. Все равно им требовалось идти
вперед. Если Скорцени опередил их... Если повезет, он все еще возится с
бомбой. А если не повезет...
Он обернулся к Ягеру.
-- Как вы думаете, сколько дружков Скорцени может быть вместе с ним?
Губы полковника-танкиста сжались в безрадостной улыбке.
-- Единственный способ узнать -- посмотреть самим. Я иду первым, затем
вы, потом Людмила. Будем двигаться перебежками, пока не доберемся до нужного
места.
Мордехая возмутило то, что немец взял на себя командование, хотя
предложенная им тактика казалась разумной.
-- Нет, я пойду первым, -- сказал он и затем, убеждая себя и Ягера. что
это не бравада, добавил: -- У вас оружие более мощное. Вы прикроете меня.
Ягер нахмурился, но через мгновение кивнул. Он слегка хлопнул Анелевича
по плечу.
-- Тогда вперед.
Анелевич рванулся к стене, готовый мгновенно укрыться за кучей
обломков, если начнется стрельба. Стрельбы не было. Он быстро спрятался в
дверную нишу, которая отчасти прикрыла его. Едва он спрятался в ней, как тут
же к нему побежал Ягер, согнувшись и прыгая из стороны в сторону. Хотя он
был танкистом, но где-то научился и приемам пехотного боя. Анелевич почесал
голову. Немец был достаточно стар, чтобы быть участником последней войны. А
кто, кроме него самого, знал, что довелось ему сделать в войне нынешней?
Людмила побежала вслед за ними. В качестве укрытия она выбрала дверную
нишу на противоположной стороне улицы. Затаившись там, она переложила
пистолет в левую руку, чтобы при необходимости стрелять из этой позиции, не
высовываясь навстречу огню противника. Она тоже знала свое дело.
Анелевич промчался мимо нее и остановился в десяти или двенадцати
метрах от дыры в стене, служившей входом на разрушенную фабрику. Он стал
вглядываться внутрь, пытаясь проникнуть взглядом в темноту. Кто-то лежит
неподвижно, неподалеку от входа? Он не был уверен, но было похоже.
Позади него по мостовой прогрохотали сапоги. Он свистнул и помахал
рукой: Генрих Ягер присоединился к нему.
-- В чем дело? -- спросил немец, тяжело дыша.
Анелевич показал. Ягер прищурился. Складки на лице, которые
обнаружились при этом, наглядно показали, что он вполне мог воевать в Первую
мировую войну.
-- Это труп, -- сказал он в тот самый момент, когда Людмила тоже
втиснулась в тесную нишу перед дверью. -- Бьюсь об заклад на что угодно, что
его зовут не Скорцени.
Мордехай глубоко вздохнул. Дыхание у него никак не восстанавливалось.
"Нервы", -- подумал он. И давно не бегал так далеко. Он сказал:
-- Если мы сможем подойти к этой стене, то проникнем внутрь и доберемся
до бомбы по прямому пути, ведущему в середину здания. Как только мы окажемся
у стены, никто не сможет открыть по нам огонь так, чтобы мы не смогли
ответить.
-- Тогда вперед, -- сказала Людмила и побежала к стене.
Ругаясь про себя, Ягер последовал за ней. За ним -- Анелевич.
По-прежнему настороженно он заглянул внутрь. Да, там неподвижно лежал
охранник -- и его винтовка рядом.
Мордехай попытался сделать еще один глубокий вдох. Казалось, легкие
отказываются работать. В грудной клетке колотилось сердце. Он повернулся к
Ягеру и Людмиле. Внутри разрушенной фабрики было сумрачно, к этому он
привык. Но здесь, на ярком солнце, он видел своих товарищей очень смутно. Он
поднял взгляд на солнце. Яркий свет не слепил глаз. Он снова посмотрел на
Людмилу. Он подумал, что глаза ее очень голубые, а затем понял, почему:
зрачки сжались настолько сильно, что он едва мог рассмотреть их вообще. С
большим трудом он сделал еще один прерывистый вдох.
-- Что-то неладно, -- выдохнул он.
* * *
Генрих Ягер видел, что день померк вокруг него, но не понимал причины,
пока не заговорил Анелевич. После этого Ягер выругался, громко и грязно,
охваченный страхом. Он мог убить себя, и любимую женщину, и всю Лодзь только
из-за собственной глубочайшей глупости. Нервно-паралитический газ не имеет
запаха. Он невидим. Неощутим на вкус. И совершенно незаметно он может убить
вас.
Генрих откинул крышку аптечки, бинтом из которой он пользовался,
перевязывая раненого старого еврея. У него должно быть пять шприцев, один
для себя и по одному на каждого члена экипажа его танка. Если эсэсовцы
забрали их, когда арестовали его... Если они сделали это, он мертв, и не
только он.
Но чернорубашечники оплошали. Они не подумали отобрать аптечку и
посмотреть, что внутри. Он благословил их за такой промах.
Он вытащил шприцы.
-- Антидот, -- сказал он Людмиле. -- Стой спокойно.
Для того чтобы сказать несколько слов, ему тоже потребовались усилия:
газ делал свое дело. Еще несколько минут, и он тихо повалился бы и умер, не
понимая даже отчего.
Удивительно, но Людмила не стала спорить. Может быть, и ей уже было
трудно говорить и дышать. Он воткнул шприц ей в ногу, как его учили, и нажал
на плунжер.
Затем взял второй шприц.
-- Теперь вы, -- сказал он Анелевичу, сдергивая защитный колпачок.
Еврейский лидер кивнул. Ягер поспешил сделать ему инъекцию -- тот уже
начал синеть. Легкие и сердце явно отказывались работать.
Ягер выронил пустой шприц. Его стеклянный корпус разлетелся на кусочки
по мостовой. Он это слышал, но практически не видел. Действуя скорее ощупью,
чем с помощью зрения, он вытащил еще один шприц и воткнул себе в ногу.
Он почувствовал себя так, как будто в мускул вонзился электрический
провод под током. Укол не принес облегчения: он просто ввел себе другую
отраву, которая должна была противостоять действию нервно-паралитического
газа. Во рту пересохло. Сердце заколотилось так громко, что он отчетливо
слышал каждый удар. И улица, которая была тусклой и неразличимой, когда
сжались под действием газа его зрачки, теперь сразу стала ослепительно
яркой. Он замигал. Глаза наполнились слезами. Убегая от болезненно-яркого
света, он нырнул внутрь фабрики. Здесь, во мраке, свет казался почти
терпимым. Мордехай Анелевич и Людмила последовали за ним.
-- Что за дрянь вы нам вкололи? -- спросил еврей голосом, упавшим до
шепота.
-- Это антидот против нервно-паралитического газа -- вот все, что я
знаю, -- ответил Ягер. -- Его выдали нам на случай, если понадобится
двигаться по территории, залитой газом при атаке, или на случай, если
изменится направление ветра. Скорцени мог взять с собой газовые гранаты, а
может быть, просто бутылки, наполненные газом. Достаточно бросить ее, чтобы
она разбилась, сделать себе укол, подождать, а затем можно идти и делать,
что надо.
Анелевич посмотрел на мертвое тело охранника.
-- У нас тоже есть нервно-паралитический газ, вы знаете, -- сказал он.
Ягер кивнул. Анелевич помрачнел. -- Мы должны работать с ним еще осторожнее,
чем раньше, -- у нас были пострадавшие. -- Ягер снова кивнул: при обращении
с этим газом никакая осторожность не может быть излишней.
-- Хватит, -- сказала Людмила. -- Где бомба? Как добраться до нее и
остановить Скорцени, не погубив себя?
Это были хорошие вопросы. Если бы можно было подумать над ответом
неделю, получилось бы лучше, но у него не было недели на пустые размышления.
Он посмотрел на Анелевича. Решать предстояло лидеру еврейского
Сопротивления.
Анелевич показал в глубь здания.
-- Бомба там, меньше чем в сотне метров. Видите отверстие за
перевернутым столом? Путь туда не прямой, но он свободен. Одному из вас, а
может быть, обоим надо пойти туда. Это единственный путь, по которому вы
сможете добраться туда достаточно быстро, чтобы что-то еще можно было
сделать. Я пока побуду здесь. Есть еще один путь к бомбе. Я пойду по нему --
и посмотрим, что получится.
Ягеру и Людмиле предстояло сыграть роль приманки. Он не мог спорить,
хотя бы потому, что Анелевич знал это место, а он нет. Но еще он знал, что,
если начнется стрельба, наиболее вероятна гибель именно тех, кто отвлекает
на себя внимание. Во рту пересохло.
Анелевич не стал дожидаться возражений. Как любой хороший командир он
считал повиновение само собой разумеющимся. Показав еще раз на перевернутый
стол, он скрылся за кучей мусора.
-- Держись позади меня, -- прошептал Ягер Людмиле.
-- Вежливость -- реакционна, -- сказала она. -- У тебя лучше оружие. Я
должна идти первой и отвлечь огонь на себя.
С чисто военной точки зрения она была права. Он никогда не думал, что
чисто военная точка зрения может быть применима к женщине, которую он любил.
Но если здесь он поддастся любви или вежливости или еще чему-то подобному,
он проиграет. С неохотой он жестом разрешил Людмиле идти впереди.
Она этого не видела, потому что уже ушла. Он последовал за ней, держась
как можно ближе. Как сказал Анелевич, путь был довольно извилистым, но
простым. Расширившиеся от антидота зрачки позволяли видеть, куда ставить
ногу, чтобы шуметь поменьше.
Когда он решил, что они прошли примерно полдороги, Людмила замерла и
показала за угол. Ягер подошел поближе. Еврей-охранник лежал мертвый, одной
рукой все еще держась за свою винтовку. Так же осторожно Людмила и Ягер
перешагнули через него и пошли дальше.
Откуда-то спереди до Ягера донесся звон инструментов, ударяющихся о
металл, звук, который ему был хорошо знаком по обслуживанию танков. Обычно
это был приятный звук, сообщающий, что нечто сломанное вскоре будет
починено. И здесь тоже нечто сломанное торопливо чинили. Но здесь от звука
ремонта волосы у него на затылке встали дыбом.
И тут он сделал ошибку -- пробираясь мимо кучи обломков, задел кирпич.
Кирпич упал на землю с чудовищно громким треском. Ягер замер, ругаясь про
себя: "Вот почему ты не остался в пехоте, неуклюжий сын шлюхи!"
Он молился, чтобы Скорцени не услышал стук кирпича. Бог пропустил
молитву мимо ушей. Шум работ прекратился. Вместо него прозвучала очередь из
автомата. Скорцени не мог его видеть, но все равно стрелял. Он надеялся, что
отскочившие рикошетом пули сделают свое дело. Так почти и получилось.
Несколько пуль злобно прожужжали над самой головой, когда Ягер бросился на
землю.
-- Сдавайтесь, Скорцени! -- прокричал он, ползком продвигаясь вперед
вместе с Людмилой. -- Вы окружены!
-- Ягер? -- Это был один из редких моментов, когда он слышал удивление
в голосе Скорцени. -- Что ты здесь делаешь, жидофил? Я думал, что уже
отплатил тебе за добро. Тебя должны были повесить на рояльной струне. Что ж,
еще успеют. Через день.
Он выпустил еще одну длинную очередь. Патроны он не экономил. Пули
взвывали вокруг Ягера, выбивая искры, когда попадали в кирпичи и
поврежденные станки.
Тем не менее Ягер постепенно продвигался. Если бы ему удалось добраться
до следующей кучи кирпичей, он смог бы залечь за ней и сделать прицельный
выстрел.
-- Сдавайся! -- снова закричал он. -- Мы отпустим тебя, если ты
сдашься.
-- Ты скоро будешь слишком мертвым, чтобы беспокоиться о том, сдамся я
или нет, -- ответил эсэсовец. Затем он сделал паузу. -- Хотя -- нет.
Вообще-то ты уже должен был быть мертвым. Почему это не так?
Вопрос прозвучал совсем по-дружески, как будто они болтали за стопкой
шнапса.
-- Антидот, -- пояснил Ягер.
-- Вот так удар по яйцам! -- сказал Скорцени. -- Что ж, я думал, что
получу в одно место, а получил...
Последнее слово сопровождалось гранатой, которая со свистом пронеслась
по воздуху и ударилась о землю в пяти или шести метрах позади Ягера и
Людмилы.
Он схватил девушку и согнулся вместе с нею в тугой узел за мгновение до
того, как граната взорвалась. Взрыв был оглушительным. Горячие осколки
корпуса ударили ему в спину и в ноги. Он схватил "шмайссер", уверенный, что
Скорцени побежит вслед за взорвавшейся гранатой.
Раздался винтовочный выстрел, затем еще один. В ответ начал бить
автомат Скорцени. Но пули летели не в Ягера. Они с Людмилой откачнулись друг
от друга и оба бросились к заветной куче кирпичей.
Скорцени стоял, качаясь, как дерево на ветру. В полумраке его глаза
были огромны и целиком залиты зрачками: он принял огромную дозу антидота от
нервно-паралитического газа. Прямо в середине его старой рваной рубахи
расплывалось красное пятно. Он поднял свой "шмайссер", но, казалось, не
понимал, что делать с ним -- стрелять ли в Анелевича или в Ягера и Людмилу.
Его противники не колебались. Выстрелы винтовки Анелевича и пистолета
Людмилы прозвучали одновременно в тот самый момент, когда Ягер выпустил
очередь из автомата. На теле Скорцени расцвели красные цветы. Ветер, который
раскачивал его, превратился в шторм и сбил диверсанта с ног. Автомат выпал
из рук. Его пальцы потянулись к оружию, рука и предплечье рывками
передвигались по земле, по полтора сантиметра за одно движение. Ягер
выпустил еще одну очередь. Скорцени задергался под пулями, впивавшимися в
его тело, и наконец замер.
Только теперь Ягер заметил, что эсэсовец успел оторвать несколько
планок от большой корзины, в которой помещалась бомба из взрывчатого
металла. За ними виднелась алюминиевая оболочка, напоминавшая кожу
оперируемого, открытую через отверстие в простынях. Если Скорцени уже
вставил детонатор...
Ягер бегом бросился к бомбе. Он на долю секунды опередил Анелевича,
который в свою очередь на долю секунды опередил Людмилу. Скорцени успел
вынуть одну из панелей обшивки. Ягер заглянул в отверстие. Своими
расширенными зрачками он легко увидел, что в отверстии пусто.
Анелевич показал на цилиндрик длиной в несколько сантиметров,
валявшийся на земле.
-- Это детонатор, -- сказал он. -- Не знаю, тот ли это, который мы
вытащили, или же принесенный им -- как вы это говорили. Не имеет значения.
Имеет значение то, что он не использовал его.
-- Мы победили. -- Голос Людмилы прозвучал удивленно, как будто она
только сейчас поняла, _что_ они сделали и _что_ предотвратили.
-- Больше в эту бомбу никто никогда не вставит детонатор, -- сказал
Анелевич. -- Никто не сможет приблизиться к ней и остаться в живых даже
ненадолго -- без антидота. Как долго сохраняется этот газ, Ягер? Вы знаете
об этом больше, чем мы.
-- Лучи яркого солнца сюда не попадают. То, что остается на крышах,
смывается дождем. А здесь он может сохраниться довольно долго. Несколько
дней уж точно. А может быть, и недель, -- ответил Ягер.
Он по-прежнему чувствовал себя на взводе и готовым к бою. Может, это
последействие перестрелки, может -- антидота. Вещество, заставившее биться
его сердце, вероятно, ударяло и в мозг.
-- Теперь мы можем отсюда уйти? -- спросила Людмила. Она выглядела
испуганной: возможно, антидот вызывал у нее желание бежать, а не воевать.
-- Нам лучше отсюда уйти, сказал бы я, -- добавил Анелевич. -- Один бог
знает, сколько газа попадает в нас при каждом вдохе. И если его больше, чем
может переработать антидот...
-- Да, -- сказал Ягер, направляясь к выходу. -- А когда мы выйдем, надо
будет сжечь эту одежду. Мы должны сделать это сами, и мы должны мыться,
мыться и мыться. Не обязательно вдохнуть газ, чтобы он вас убил. Он сделает
то же самое, если попадет на кожу -- медленнее, чем при вдыхании, но так же
верно. Пока мы не уберем его, будем опасны для всех окружающих.
-- Ничего себе, ну и зелье вы, немцы, сделали, -- сказал Анелевич у
него за спиной.
-- Ящерам оно тоже не понравилось, -- ответил Ягер.
Лидер еврейского Сопротивления буркнул что-то невнятное и замолк.
Чем ближе Ягер подходил к улице, тем ярче становился свет. В конце
концов ему пришлось прикрыть веки и смотреть сквозь узкую щель между ними.
Он не знал, как долго его зрачки останутся расширенными, а потому с
безжалостной прагматичностью задумался, где в Лодзи он может обзавестись
солнечными очками.
Он прошел мимо лежавшего у входа мертвого охранника-еврея, затем шагнул
на улицу, которая, казалось, вспыхнула так, словно взорвалась бомба из
взрывчатого металла. Евреям, вероятно, следует расставить посты вокруг
разрушенной фабрики под тем или иным предлогом -- Для того, чтобы уберечь
людей от отравления.
Людмила вышла наружу и остановилась рядом. Ягер заметил ее. Он не знал,
что случится дальше. Он даже не был уверен, как и предположил Анелевич, что
они не вдохнули слишком много газа. Если день снова покажется темным, он
может использовать еще два шприца, остававшихся в его аптечке. Для троих это
составит по две трети полной дозы. Понадобится ли она? А если понадобится,
будет ли ее достаточно?
Однако он знал, чего не случится наверняка. Лодзь не вспыхнет огненным
шаром, как новое солнце. И ящеры не направят свой справедливый гнев на
Германию -- по крайней мере, по этой причине. Он не вернется в вермахт, а
Людмила -- в советские ВВС. Их будущее, продлится ли оно часы или
десятилетия, решилось здесь.
Он улыбнулся ей. Ее глаза были почти закрыты, но она улыбнулась в
ответ. Он видел это с большой ясностью.
* * *
Жужжащий шум тосевитских самолетов Атвар много раз слышал в записях, но
редко -- в действительности. Он повернул один глаз в сторону окна своей
резиденции. Вскоре он смог разглядеть, как неуклюжая, окрашенная в желтый
цвет машина медленно поднимается в небо.
-- Это что, последний из них? -- спросил он.
-- Да, благородный адмирал, на этом улетает Маршалл, представитель
не-империи Соединенные Штаты, -- ответил Золрааг.
-- Переговоры окончены, -- сказал Атвар. Это прозвучало неуверенно. --
Мы находимся в состоянии мира и занимаем большие части Тосев-3.
"Неудивительно, что я говорю так неуверенно, -- подумал он. -- Мы
добились мира, но не завоевания. Кто мог представить такое, когда мы
улетали?"
-- Теперь мы будем ожидать прибытия флота колонизации, благородный
адмирал, -- сказал Золрааг. -- С его прибытием и с постоянным нахождением
Расы на Тосев-3 начнется вхождение всего этого мира в Империю. Оно пройдет
медленнее и с большим трудом, чем мы представляли себе до прихода сюда, но
это должно быть сделано.
-- Я тоже так считаю, и поэтому я согласился остановить проявление
враждебности в крупных масштабах в настоящее время, -- сказал Атвар.
Он повернул один глаз к Мойше Русецкому, который все еще стоял, глядя,
как самолет Больших Уродов исчезает вдали. Адмирал попросил Золраага:
-- Переведите ему то, что вы только что сказали, и узнайте его мнение.
-- Будет исполнено, -- сказал Золрааг, прежде чем переключиться с языка
Расы на уродливое гортанное хрюканье, которое он использовал, разговаривая с
тосевитом.
Русецкий, отвечая, выдал еще больше хрюкающих звуков. Золрааг превратил
их в слова, которые можно было понять:
-- Его ответ кажется мне не вполне уместным, благородный адмирал. Он
выражает облегчение, что представитель Германии отбыл, не втянув Расу и
тосевитов в новую войну.
-- Я признаюсь, что и сам испытываю некоторое облегчение, -- сказал
Атвар. -- После того громкого заявления, которое сделал Большой Урод и
которое оказалось либо блефом, либо эффектным примером германской
некомпетентности -- наши аналитики по-прежнему не имеют общего мнения, -- я
действительно ожидал возобновления войны. Но, очевидно, тосевиты решили
поступить более рационально.
Золрааг перевел это Русецкому, выслушал ответ и открыл рот от
изумления.
-- Он говорит, что ожидать от Германии рационального поступка -- то же
самое, что ожидать хорошей погоды в середине зимы: да, она может стоять день
или два, но большую часть времени она вас будет разочаровывать.
-- Если вы будете ожидать чего-то от тосевитов или от тосевитской
погоды, то большую часть времени вы действительно проживете в разочаровании.
Не надо это переводить, -- прокомментировал главнокомандующий.
Русецкий смотрел на него так, что можно было подумать, что тот
встревожен: Большой Урод как будто немного знал язык Расы. Атвар мысленно
пожал плечами: Русецкий давно узнал его мнение о тосевитах. Он сказал:
-- Скажите ему, что раньше или позже его народ придет под власть
Императора.
Золрааг деловито перевел. Русецкий не отвечал. Вместо этого он подошел
к окну и снова посмотрел в него. Атвар почувствовал раздражение: тосевитский
самолет давно исчез из виду. Но Русецкий продолжал смотреть сквозь стекло и
ничего не говорил.
-- Что он делает? -- утратив терпение, рассердился Атвар. Золрааг
перевел вопрос. Мойше Русецкий ответил:
-- Я смотрю через Нил на пирамиды.
-- Зачем? -- спросил Атвар, все еще рассерженный. -- Почему вас
интересуют эти -- что это такое? -- эти большие похоронные монументы, так
ведь? Они массивны, да, согласен, но они варварские, даже по тосевитским
меркам.
-- Мои предки были рабами в этой стране три, а может быть, четыре
тысячи лет назад, -- ответил ему Русецкий. -- Может быть, они помогали
возводить пирамиды. Так говорится в наших легендах, хотя я не знаю, правда
ли это. Кто вспоминает теперь о древних египтянах? Они были могущественны,
но они исчезли. Мы, евреи, были рабами, но мы по-прежнему здесь. Откуда вы
можете знать, что разовьется из того, что есть сейчас?
Теперь у Атвара от удивления открылся рот.
-- Тосевитские претензии на античность всегда вызывают у меня смех, --
сказал он Золраагу. -- Если послушать, как Большой Урод говорит о трех или
четырех тысячах лет -- это шесть или восемь тысяч наших, -- так это большой
исторический период. Мы к этому времени уже поглотили и Работев, и Халесс, и
некоторые из нас уже думали о планетах звезды Тосев. В истории Расы это
случилось всего лишь позавчера.
-- Истинно так, благородный адмирал, -- ответил Золрааг.
-- Конечно, истинно, -- сказал Атвар, -- и вот поэтому мы в конце будем
торжествовать по случаю нашего поселения здесь, несмотря на противостояние,
вызванное неожиданным технологическим прорывом Больших Уродов. Мы
довольствуемся в продвижении вперед по одному малому шагу каждый раз. А
здесь целая тосевитская цивилизация, как только что сказал Русецкий,
двинулась вперед, по обычаю Больших Уродов, сломя голову -- и потерпела
огромное поражение. У нас нет таких трудностей, не будет и в дальнейшем. Мы
обосновались, пусть даже всего лишь на части этого мира. С прибытием флота
колонизации наше присутствие станет неопровержимо постоянным. И нам
останется дождаться очередного тосевитского коллапса культуры,
распространить наше влияние на области, где он произойдет, повторяя этот
процесс, пока на этой планете не останется ни одного места, не
подконтрольного Империи.
-- Истинно, -- повторил Золрааг. -- Из-за тосевитских сюрпризов флот
вторжения может не выполнить все, что предусматривал план, составленный на
Родине. -- Вряд ли Кирел мог быть более осторожным и дипломатичным, выражая
эту мысль. -- Однако завоевание продолжится, как вы сказали. В конце концов,
какое будет иметь значение, если на это понадобятся поколения, а не дни?
-- В конце концов это не имеет никакого значения, -- ответил Атвар. --
История на нашей стороне.
* * *
Вячеслав Молотов кашлянул. Последний Т-34 уже давно прогрохотал по
Красной площади, но воздух был по-прежнему насыщен дизельными выхлопами.
Если Сталин даже и ощущал дискомфорт, то не подавал виду. Он хмыкнул с
доброй улыбкой:
-- Что ж, Вячеслав Михайлович, это был не совсем Парад Победы, не
такой, какого мне бы хотелось в ознаменование победы над гитлеровцами, но он
будет, он будет.
-- Несомненно, товарищ генеральный секретарь, -- сказал Молотов.
Один раз в своей жизни Сталин допустил ошибку, недооценив ситуацию.
Когда Молотов отправился в Каир, в глубине души он ждал провала миссии --
из-за непримиримой позиции, которую он по требованию Сталина должен был там
занять. Но если, разгадывая намерения Гитлера, Сталин чудовищно ошибся, то
действия ящеров он просчитал правильно.
-- Ящеры в точности соблюдают соглашение, к которому вы их вынудили, --
сказал Сталин. Военные демонстрации вроде сегодняшней приносили ему такую же
радость, как мальчишке, играющему с оловянными солдатиками. -- Они убрались
с советской земли, за исключением территории бывшей Польши, которую они
выбрали, чтобы закрепиться. И здесь, товарищ комиссар иностранных дел, я
вашей ошибки не нахожу.
-- За что я благодарю вас, Иосиф Виссарионович, -- ответил Молотов. --
Лучше иметь общие границы с теми, кто соблюдает соглашение, чем с теми, кто
нарушает их.
-- Точно так, -- сказал Сталин. -- И изгнание нами остатков немецких
войск с советской земли продолжается вполне удовлетворительно. Некоторые
области на южной Украине и вблизи финской границы еще в опасности, но в
целом гитлеровское нашествие -- как и нашествие ящеров -- может
рассматриваться как дело прошлого. Мы снова двинемся вперед, к истинному
социализму.
Он сунул руку в карман брюк и вынул трубку, коробок спичек и кожаный
кисет. Открыв его, он набил трубку, затем зажег спичку и подержал ее над
чашечкой. Его щеки втянулись, когда он втянул воздух, чтобы трубка
разгорелась. Из трубки поднялся дымок, облачка дыма появились и из его
ноздрей и угла рта.
Молотов наморщил нос. Он ожидал почувствовать махорку, едкую вонь
которой можно было сравнить с дизельными выхлопами после чистого воздуха. Но
то, что курил Сталин, имело богатый и полный вкуса аромат, который,
казалось, можно нарезать ломтями и подавать на блюде на ужин.
-- Турецкий? -- спросил он.
-- Вообще-то нет, -- ответил Сталин. -- Американский -- подарок
президента Халла. Более слабый, чем мне нравится, но в своем роде неплохой.
А вскоре будет и турецкий. Поскольку северный берег Черного моря находится
под полным нашим контролем, возобновится движение судов, и мы начнем
поставки по железной дороге из Армении и Грузии.
И как обычно, упомянув свою родину, он посмотрел на Молотова лукавым
взглядом, как бы напоминая о своем происхождении. Не склонный к безрассудным
действиям, Молотов промолчал. Сталин снова выпустил клуб дыма и продолжил:
-- И конечно, нам также потребуется выработать подходы к торговле с
ящерами.
-- Товарищ генеральный секретарь? -- спросил Молотов.
Скачки мысли Сталина оставляли логику далеко позади. Иногда это
приносило советскому государству большие выгоды: так, безжалостная
индустриализация, объекты которой оказались за пределами дальности действия
нацистской авиации, помогла спасти СССР во время войны с Германией. Конечно,
противостоять нападению было бы легче, если бы не убежденность Сталина в
том, что все, кто предостерегал его о скором нашествии гитлеровцев, лгали.
Нельзя было сказать наперед, можно ли довериться интуиции. Оставалось только
ждать. А когда речь шла о судьбе советского государства, процесс ожидания
был очень нервным.
-- Торговля с ящерами нужна, -- повторил Сталин словно неразумному
дитяти. -- В регионах, которые они занимают, не производится все то, что им
требуется. Мы будем снабжать их сырьем, которого им будет недоставать. Как
социалисты мы не можем быть хорошими капиталистами и при обмене будем сильно
проигрывать -- пока не начнем использовать производимые ими товары.
-- А-а. -- Молотов начал понимать. На этот раз, похоже, интуиция
Сталина сработала как надо. -- Вы хотите, чтобы мы начали копировать их
методы и приспосабливать их для наших нужд.
-- Правильно, -- сказал Сталин. -- Мы должны были делать то же самое с
Западом после Октябрьской революции. Нацисты нанесли нам тяжелый удар, но мы
выдержали. Теперь мы -- и все человечество -- отдали половину мира ящерам в
обмен на будущее для следующего поколения.
-- До того, как придет флот колонизации, -- сказал Молотов.
Да, логика подкрепляла интуицию Сталина в основательности причин для
торговли с ящерами.
-- До того, как придет флот колонизации, -- согласился Сталин. -- Нам
потребуется еще больше собственных бомб, нам понадобятся ракеты, нам
понадобятся считающие машины, которые почти думают, нам нужны корабли,
которые летают в пространстве, так чтобы ящеры не могли смотреть на нас
сверху без того, чтобы и мы не следили за ними. У ящеров все это есть.
Капиталисты и фашисты находятся на пути получения этого. Если мы отстанем,
они похоронят нас.
-- Иосиф Виссарионович, я думаю, вы правы, -- сказал Молотов.
Он сказал бы это в любом случае, независимо от того, прав Сталин или не
прав. Если бы он в самом деле считал, что тот не прав, он стал бы искать
пути и способы добиться того, чтобы последнее решение ушло в песок, прежде
чем вступит в силу. Это было опасно, но временами необходимо: что было бы
сейчас с Советским Союзом, если бы Сталин ликвидировал всех ученых в стране,
которые хоть что-то понимали в ядерной физике? "Под пятой ящеров", --
подумал Молотов.
Сталин воспринял согласие Молотова как должное.
-- Конечно, я прав, -- самодовольно сказал он. -- Я сейчас не
представляю себе, как мы сможем препятствовать высадке флота колонизации, но
одну вещь мы должны помнить -- и это самое главное, Вячеслав Михайлович:
количество ящеров просто увеличится, но не произойдет ничего принципиально
нового.
-- Совершенно верно, товарищ генеральный секретарь, -- осторожно
согласился Молотов.
И снова Сталин опередил его на шаг.
Правда, на этот раз дело было не в интуиции. В то время как Молотов
торговался с ящерами, Сталин, должно быть, работал над решениями по
социальному и экономическому развитию.
-- Это неизбежно, что они не будут иметь ничего принципиально нового.
Марксистский анализ показывает, что так и должно быть. Несмотря на всю свою
технику, они являются представителями древней экономической модели, которая
полагается на рабов -- в том числе и частично механических, а частично на
расы, которые они себе подчинили, -- и создает зависимый высший класс. Такое
общество без всяких исключений крайне консервативно и сопротивляется
обновлению любого вида. И за счет этого мы сможем победить их.
-- Как это правильно аргументировано, Иосиф Виссарионович! -- сказал
Молотов с неподдельным восхищением. -- Михаил Андреевич не смог бы
обосновать это более убедительно.
-- Суслов? -- Сталин пожал плечами. -- Небольшой вклад в эти
рассуждения он тоже внес, но основная идея, конечно, моя.
-- Конечно, -- согласился Молотов, сохраняя, как всегда,
невозмутимость. Он подумал, что молодой идеолог партии мог бы не согласиться
с авторством, но не имел намерения спрашивать. В любом случае это не имело
значения. Не имеет значения, кто сформулировал идею, главное, что она в
русле учения, в которое Молотов верил. -- И как показывает диалектика,
товарищ генеральный секретарь, история -- на нашей стороне!
* * *
Наслаждаясь летней погодой, Сэм Игер прогуливался по Центральной авеню
Хот-Спрингс. Он наслаждался также и тем, что мог в любой момент спрятаться
от летней погоды. Надпись на стекле заведения "Гриль Юга" гласила: "Наше
кондиционирование с охлаждением воздуха работает снова". Визг и шум
вентиляторов и компрессоров служили подтверждением.
Он повернулся к Барбаре.
-- Хочешь зайти сюда на небольшой ланч? Она посмотрела на надпись,
затем отпустила одной рукой коляску Джонатана.
-- Подергай мне руку, -- сказала она. Сэм так и сделал. -- О, мерси! --
вскрикнула она, но не очень громко, потому что Джонатан спал.
Сэм подержал дверь открытой, пропуская ее.
-- Самый лучший известный мне знак внимания.
Он последовал за ней.
В ресторане они мгновенно расстались с летом. Кондиционирование воздуха
по-настоящему охлаждало его: Сэм почувствовал себя так, как будто наступил
ноябрь в Миннесоте. Он испугался, не превратится ли пот на его теле в мелкие
льдинки.
Официант-негр с галстуком-бабочкой появился как по волшебству, держа
меню под мышкой.
-- Следуйте за мной, сержант и мэм, -- сказал он. -- Я проведу вас в
кабину, где вы сможете припарковать эту коляску рядом.
Вздохнув от удовольствия, Сэм сел на каштанового цвета диванчик из
искусственной кожи. Он показал на свечу в подсвечнике, а затем на
электрические огни в люстре над головой.
-- Теперь свеча снова стала украшением, -- сказал он. -- Ты скажешь,
что так и должно быть. Но когда не было ничего лучшего, приходилось
использовать свечи для освещения... -- Покачал головой. -- Мне это не
нравилось.
-- И мне тоже. -- Барбара открыла меню и ойкнула от удивления. --
Посмотри-ка на цены!
С некоторым опасением Сэм занялся изучением списка. Он подумал, не
придется ли им влезть в долги, когда они выйдут из ресторана. В бумажнике у
него было около двадцати пяти долларов: армейское жалование не поспевало за
инфляцией. Собственно, он решил, что разок можно поесть и здесь, только
потому, что большей частью питался бесплатно.
Барбара не сказала ему, насколько поднялись цены. Все оказалось
примерно на треть дешевле, чем он ожидал, а написанное от руки добавление
рекомендовало холодное пиво "Будвайзер".
Он удивился дешевизне, когда вернулся официант.
-- Да, сэр, это первая поставка из Сент-Луиса, -- ответил негр. --
Только вчера пришла. Начинаем получать то, чего не видели с самого прихода
ящеров. Все становится лучше, вот так.
Сэм глянул на Барбару. Дождавшись ее кивка, он заказал два
"Будвайзера". Красно-белая с голубым этикетка заставила их улыбнуться.
Официант церемонно разлил пиво. Барбара высоко подняла свой бокал.
-- За мир, -- сказала она.
-- Присоединяюсь.
Сэм отпил первый глоток и почмокал губами. Отпил снова и задумался.
-- Ты знаешь, дорогая, после того как последние пару лет я пил большей
частью домашнее пиво, я бы не сказал, что это мне нравится больше. Не тот
букет, ты понимаешь, что я имею в виду?
-- О, хорошо понимаю, -- сказала Барбара. -- Если бы я одна так думала,
то сочла бы, что это из-за моего невежества по части пива. Но это не
означает, что я не могу пить "Будвайзер". -- И она тут же подкрепила слова
действием. -- И как хорошо снова увидеть знакомую бутылку -- все равно что
встретить старого друга, вернувшегося с войны.
-- Да...
Игер задумался, как там поживают Остолоп Дэниелс и остальные игроки
"Декатур Коммодорз", ехавшие вместе с ним в поезде по северному Иллинойсу,
когда ящеры нанесли первый удар.
Официант поставил гамбургер перед ним и сэндвич с ростбифом -- перед
Барбарой. Затем с радостной улыбкой водрузил на стол между ними полную
бутылку кетчупа "Хайнц".
-- Это мы получили сегодня утром, -- сказал он. -- Вы будете первыми,
кто его пробует.
-- Хочешь? -- спросил Сэм. Он передал бутылку Барбаре, чтобы она первой
попробовала его. Кетчуп вел себя точь-в-точь как положено -- не желал
выливаться из бутылки. Но когда он все-таки выпрыгнул, его оказалось слишком
много -- хотя после почти двух лет отсутствия разве могло быть его слишком
много?!
Смазав свой гамбургер, Сэм откусил большой кусок. Глаза его полезли на
лоб от блаженства. В отличие от "Будвайзера" в гамбургере он не
разочаровался [Неприхотливый народ... -- Прим. ред.].
-- M-м... м-м-м... -- сказал он с набитым ртом. -- Это настоящий
"Маккой".
-- M-м... хм-м-м, -- согласилась Барбара, проявив такой же энтузиазм и
такие же дурные манеры.
Сэм расправился с гамбургером в несколько укусов, затем добавил кетчупа
в овсянку, которая заняла место французского жаркого. Обычно он этого не
делал. И насколько он знал, никто этого не делал: настоящий южанин, который
увидел бы такое варварство, вероятно, выгнал бы его из города. Но сегодня
Сэма это не волновало. Он радовался каждому глотку сладко-кислого томатного
вкуса. Кстати, Барбара проделала то же самое, и он улыбнулся, сочтя свое
поведение оправданным.
-- Еще пива? -- спросил официант, собирая тарелки.
-- Да, -- сказал Сэм, снова бросив взгляд на Барбару. -- Но почему бы
вам на этот раз не принести особого местного? Я рад видеть "Будвайзер", но
он не так хорош, как мне помнится.
-- Вы, наверно, уже четвертый человек, который это говорит сегодня,
сэр, -- заметил негр. -- Я вам сейчас же принесу гордость Хот-Спрингс.
Едва он поставил перед Сэмом и Барбарой бокалы с местным пивом -- более
темного и богатого янтарного цвета, чем у "Будвайзера", -- как проснулся и
завозился Джонатан. Барбара вынула его из коляски и взяла на руки, малыш
сразу успокоился.
-- Ты ведь хороший мальчик, ты дашь нам доесть ланч, -- сказала она
ему. Затем она проверила его. -- Ты даже сухой. Очень скоро я и тебя
покормлю. -- Она посмотрела на Сэма. -- И может быть, очень скоро я смогу
начать кормить его смесями из бутылки.
-- Ух-ух, -- сказал Сэм. -- Если так пойдет и дальше, то, наверное, уже
недалеко время, когда он начнет пить обычное молоко.
Он улыбнулся сыну, который хватался за бутылку Барбары. Она отодвинула
ее подальше. Джонатан собрался заплакать, но Сэм состроил ему рожицу, и
малыш засмеялся.
-- В каком же безумном мире ему придется расти.
-- Я только надеюсь, что это будет _мир_, -- сказала Барбара, положив
руку на головку ребенка. Джонатан попытался ухватить ее палец и засунуть в
рот. В эти дни Джонатан хватал и совал в рот все, что попадется. -- Мир с
бомбами, ракетами, газом... -- Она покачала головой. -- Флот колонизации
ящеров достигнет Земли, когда Джон будет еще молодым человеком. Кто знает,
что произойдет тогда?
-- Ни ты, ни я и никто, -- сказал Сэм. -- Даже ящеры не знают.
Цветной официант положил на стол счет. Сэм вынул из заднего кармана
бумажник, вытащил десятку, пятерку и еще два доллара -- неплохие чаевые
официанту. Барбара положила Джонатана обратно в коляску. Когда она повезла
ребенка к двери, Сэм закончил свою мысль:
-- Нам остается только ждать и смотреть, что получится, больше ничего.
Популярность: 18, Last-modified: Tue, 13 Jan 2004 14:01:41 GmT
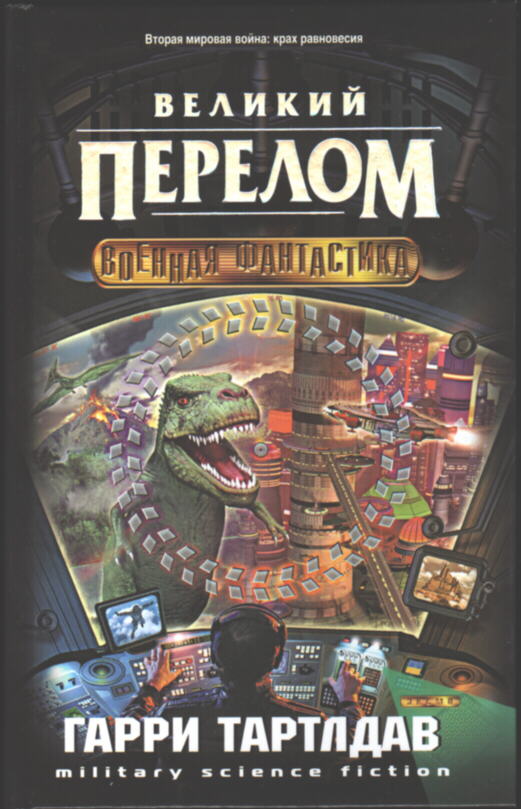 Гарри ТАРТЛДАВ
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ
Harry TURTLEDOVE
THE WORLDWAR SAGA: STRIKING THE BALANCE
Copyright © 1996 by Harry Turtledove
Гарри ТАРТЛДАВ
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ
Harry TURTLEDOVE
THE WORLDWAR SAGA: STRIKING THE BALANCE
Copyright © 1996 by Harry Turtledove