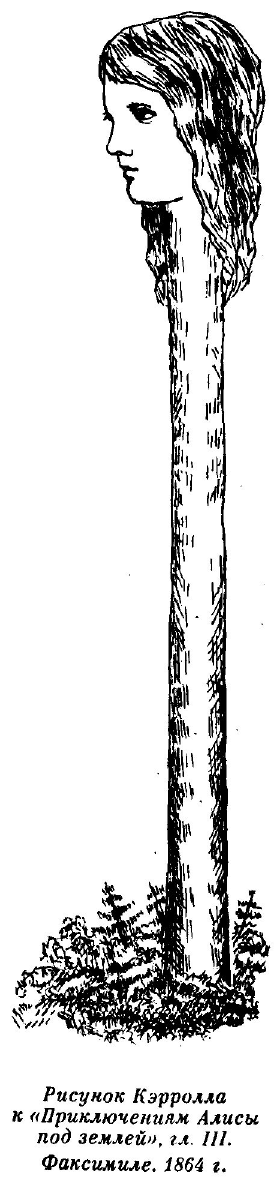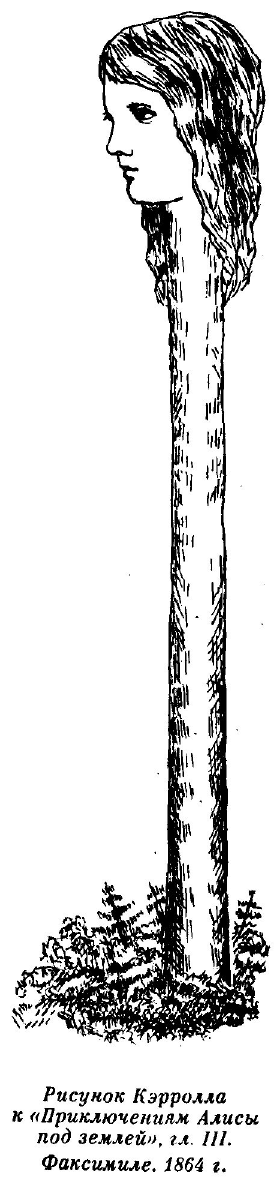----------------------------------------------------------------------------
Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Through the looking-glass and what Alice found there
Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес
Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в зазеркалье
2-е стереотипное издание
Издание подготовила Н. М. Демурова
М., "Наука", Главная редакция физико-математической литературы, 1991
OCR Бычков М.Н. mailto:bmn@lib.ru
----------------------------------------------------------------------------
Первый критический отзыв на "Алису в Стране чудес", появившийся в 1865
г. - год опубликования сказки - в обзоре "Детские книжки" журнала "Атенеум",
гласил: "Приключения Алисы в Стране чудес. Льюис Кэрролл. С сорока двумя
иллюстрациями Джона Тенниела. Макмиллан и КЬ. - Это сказка-сон, но разве
возможно хладнокровно сфабриковать сновидение со всеми его неожиданными
зигзагами и пересечениями, оборванными нитями, путаницей и несообразностью,
с подземными ходами, которые никуда не ведут, с послушной паломницей Сна,
которая так никуда и не приходит? Мистер Кэрролл немало потрудился и
нагромоздил в своей сказке странные приключения и разнообразные комбинации -
и мы отдаем должное его стараниям. Иллюстрации мистера Тенниела грубоваты,
мрачны, неуклюжи, несмотря на то, что художник чрезвычайно изобретателен и,
как всегда, почти величествен. Мы полагаем, что любой ребенок будет скорее
недоумевать, чем радоваться, прочитав эту неестественную и перегруженную
всякими странностями сказку" {"The Atheneum", 1900 (December 16, 1865), p.
844. Цит. по кн.: Aspects of Alice. Lewis Carroll's Dreamchild as Seen
through the Critics' Looking-Glasses. 1865-1971. Ed. by Robert Phillips. L.,
1972, p. 84. Дальнейшие ссылки на это издание: A.A.}. Прочие критики
проявили, пожалуй, несколько больше учтивости по отношению к никому до того
не известному автору, но смысл их высказываний немногим отличался от
первого. В лучшем случае они признавали за автором "живое воображение", но
находили приключения "слишком экстравагантными и абсурдными" и уж, конечно,
"не способными вызвать иных чувств, кроме разочарования и раздражения"
{Ibid, p. 7.}. Даже самые снисходительные из критиков решительно не одобряли
Безумного чаепития; в то время как другие, не видя в сказке Кэрролла "ничего
оригинального", недвусмысленно намекали, что он списал ее у Томаса Гуда
{Последний отзыв появился в 1887 г.; речь шла о книге Гуда "Из ниоткуда к
Северному полюсу" (Thomas Hood. From Nowhere to the North Pole). В 1890 г.
Кэрролл воспользовался удобным случаем указать, что книга Гуда была
опубликована лишь в 1874 г., то есть спустя девять лет после "Страны чудес"
и три года - после "Зазеркалья". См. АА, р. XXVI.}.
Не прошло и десятилетия, как стало ясно, что сказка Кэрролла, вызвавшая
при своем выходе в свет раздражение критиков, - произведение новаторское,
совершившее подлинный "революционный переворот" {Слова эти принадлежат Ф.
Дж. Харви Дартону, крупнейшему авторитету в области английских детских книг.
См.: F. J. Harvey Darton. Children's Books in England. 2 ed. Cambridge,
1970, p. 268.} в английской детской литературе, которая насчитывала к тому
времени свыше века оригинального и плодотворного развития и по праву
гордилась многими именами. Кэрроллу поклоняются; его осаждают просьбами
интерпретировать "Страну чудес" и вышедшую шестью годами позже "Алису в
Зазеркалье"; ему пытаются - безуспешно - подражать. В 1871 г. - год
публикации "Зазеркалья" - Генри Кингсли писал Кэрроллу: "Положа руку на
сердце и хорошо все обдумав, я могу лишь сказать, что Ваша новая книга -
самое прекрасное из всего, что появилось после "Мартина Чезлвита"..." {АА,
р. XXVI.}. Само сопоставление Кэрролла с Диккенсом говорит о многом...
С наступлением нового века сказка Кэрролла (речь идет, конечно, об
обеих "Алисах") получает новое осмысление; становится очевидно, что она -
гораздо больше, чем произведение одной лишь детской литературы и что круг ее
воздействия очень широк. Видные писатели признают свой долг перед Кэрроллом;
его сказочные образы все больше и больше проникают в литературу "для
взрослых" и высокую поэзию; его неологизмы входят в словари и живую
английскую речь; о нем размышляют писатели и критики самых различных
направлений; ему посвящают свои произведения. В странах английского языка
сказка Кэрролла занимает одно из первых мест по количеству упоминаний, цитат
и ссылок, уступая лишь Библии и Шекспиру. Происходит "втягивание" двух
небольших детских сказок в серьезную литературу, взрослую классику.
Сказка Кэрролла представляет собой в этом смысле разительный пример
обратной "миграции". На протяжении веков традиционным путем развития детской
литературы было включение "взрослой" классики в круг детского чтения.
Народные сказки и баллады, рыцарские и плутовские романы, "Гаргантюа и
Пантагрюэль", "Гулливер" и "Робинзон Крузо", Диккенс и Стивенсон, Честертон
и Киплинг осваиваются детьми, становясь в известном смысле - поначалу в
переработанном или сокращенном виде, позже, особенно с наступлением XX в.,
нередко полными оригинальными текстами - их достоянием. Процесс этот,
который хочется порой назвать "узурпацией" - настолько энергично, даже по
отношению к неадаптированной литературе, действуют дети, - вряд ли стоит
понимать однозначно: "исчерпанные" взрослыми произведения и темы с течением
времени, словно платье с родительского плеча, переходят детям {См. в этой
связи статью: J. В. Gordon. The Alice Books and the Metaphors of Victorian
Childhood (AA, pp. 93-113). Гордон распространяет идеи Арьеса и Брука о
происхождении детской литературы и на викторианскую детскую литературу. По
его мнению, сказки об Алисе являются "скорее всего продуктом разложения
взрослой литературы". Сошлемся также на работы: Ph.. Aries. At the Point of
Origin. - "Yale French Studies", 1969, N43, pp. 15-23; Peter Brooks. Towards
Supreme Fiction (ibid., pp. 5-14). См. также монографию Арьеса: Ph. Aries.
L'Enfant et la oie familiele sous l'ancient regime. P., 1960 (английский
перевод: Ph. Arifs. Centuries of Childhood. A Social History of Family Life.
Transi, by R. Baidick. NY, 1962).
Заметим, что, поскольку Арьеса и Брука в первую очередь интересует
становление самой концепции детства в историческом контексте культуры, они
не рассматривают дальнейшее (после XVI-XVII вв.) функционирование отдельных
его атрибутов (в частности, литературы), а сосредоточивают свое внимание на
первичном их выделении.}. Скорее следует говорить о том, что произведение
получает нового адресата, не теряя в то же время полностью и старого, и
начинает функционировать на двух уровнях, взрослом и детском. Само собой
разумеется, что для такой "миграции" (употребим этот термин условно, ибо,
обретая новую "сферу функционирования", произведение не покидает и старой, а
лишь по-иному реализуется в ней) оно должно обладать совершенно особыми
свойствами и, конечно, отвечать также различным историколитературным
требованиям "узурпирующей" эпохи.
Сказочная дилогия Кэрролла об Алисе - едва ли не единственный в истории
литературы пример произведения, написанного первоначально для детей и
"узурпированного" впоследствии взрослыми. Самый факт "узурпации" (при
сохранении и первоначальной сферы "функционирования") был признан достаточно
широко уже в 1932 г., когда Англия отметила столетие со дня рождения
Кэрролла национальными торжествами, завершившимися присуждением оксфордским
колледжем Крайст Черч, с которым была связана вся научная жизнь Кэрролла,
почетной докторской степени восьмидесятилетней миссис Харгривз - Алисе
Лидделл, вдохновившей некогда писателя на создание его сказки.
В середине XX в., отмеченной научно-технической революцией и важными
достижениями в области психологии и философии, сказка Кэрролла обнаружила и
свой глубокий естественнонаучный и философский подтекст, на который, правда,
указывали и ранее такие прозорливые мыслители, как Бертран Рассел. К ней
обращаются математики и физики, психологи и историки, философы и логики,
находя в ней немало материала для своих специальных раздумий. Среди них
имена таких ученых, как А. С. Эддингтон, Климент Дьюрелл, Уоррен Уивер, Эрик
Партридж, Роберт Сазерленд, Элизабет Сьюэлл. В последние годы было сделано
несколько попыток созвать "симпозиумы" - пока что заочные - представителей
различных отраслей знаний, которым книга Кэрролла дорога не менее, чем
историкам литературы или просто читателям: детям и взрослым {Назовем два
репрезентативных сборника такого рода: Alice's Adventures in Wonderland. A
Critical Handbook. Ed. by Donald Rackin. Belmont, California, 1969; A. A.
CM. также работы советских исследователей: В. Важдаев. Маленькая Алиса и ее
Англия. Предисловие к книге: Л. Кэрролл. Алиса в Стране чудес. Пер. А.
Оленича-Гнененко. М., 1958; Он же. Льюис Кэрролл и его сказка. Иностранная
литература, 1965, Э 7, стр. 214-219; Д. М. Урнов. В Зазеркалье. Предисловие
к изданию: L. Carroll. Through the Looking-Glass and What Alice Found There.
Moscow, 1966; Он же. Непременность судьбы. Предисловие к изданию: L.
Carroll. Alice's Adventures in Wonderland. Moscow, 1967; Он же. Как возникла
"страна чудес". M., 1967.}.
Необычайная судьба сказок об Алисе отражает во многом необычайный
характер их создателя и предложенного им жанра, а также особые
историко-литературные контексты, порождением одного из которых они были и в
которые они позже вписывались. "Книги имеют свои судьбы" - выйдя из рук
своего создателя, они обретают порой смысл, далекий от субъективных
намерений автора, становясь частью все новых и новых историко-культурных
построений, играя свою, подчас неожиданную, роль в литературных баталиях
будущего. Никто не понимал этого лучше самого Кэрролла, который как-то
заметил: "Слова, как вы знаете, означают больше того, что мы имеем в виду,
пользуясь ими, а потому целая книга означает, вероятно, гораздо больше того,
что имел в виду писатель..." {Ответ читателям, домогавшимся авторской
интерпретации поэмы "Охота на Снарка". Цит. по кн.: The Annotated Snark. Ed.
by M. Gardner. Harmondsworth, 1967. p. 22 (1 изд. 1962 г.). С текстом поэмы
читатель может также ознакомиться по вышедшей у нас книге: Topsy-Turvy
World. M., 1974, pp. 75-97 (составитель, автор предисловия и комментария Н.
Демурова).}.
Такова "Алиса" Кэрролла: спустя столетие после своего рождения, она
живет - "живее некуда", как сказал о ней один из англосаксонских гонцов, -
обнаруживая все новые и новые значения.
* * *
Несмотря на то, что о Кэрролле написаны многие тома, приходится
призвать, что биография его на деле изучена очень мало. Исследователи
вынуждены ограничиваться скудными сведениями, восходящими к весьма
немногочисленным источникам. Это, в первую очередь, воспоминания его
племянника С. Д. Коллингвуда, опубликованные через год после смерти
писателя, которые были составлены в строгом соответствии с викторианскими
канонами семейных мемуаров, а также записи людей, знавших Кэрролла детьми
или встречавшихся с ним в Оксфорде {S. D. Collingwood. The Life and Letters
of Lewis Carroll. L., 1899; E. M. Arnold. Reminiscences of Lewis Carroll. -
"Atlantic Monthly", CXLIII, June, 1929; Isa Bowman. The Story of Lewis
Caroll. L., 1899; Alice's Recollections of Carrollian Days. As Told to her
Son, Caryl Hargraves. - "The Cornhill Magazine". July 1932; etc.}. И те, и
другие представляют Кэрролла весьма односторонне. Не менее односторонни
появившиеся позже психоаналитические штудии, содержащие подчас интересные
биографические материалы {Наиболее основательны в биографическом плане
работы Ф. Б. Леннон; F. В. Lennon. Victoria Through the Looking-Glass. NY,
1945; idem. Lewis Carroll. L., 1945; idem. The Life of Lewis Carroll. NY,
1962. См. также биографический и психоаналитический разделы в AA.}.
Несмотря на многочисленные публикации, связанные с празднованием
столетнего юбилея, и более поздние издания, в биографии Кэрролла все еще
встречаются многочисленные белые пятна. Очень мало известно о жизни Кэрролла
в Оксфорде и его роли в научных и общественных баталиях тех лет, об
отношениях со знаменитыми современниками, многие из которых жили в Оксфорде
или были связаны с ним, о взглядах Кэрролла на литературу, науку и пр.
Архивы Кэрролла еще только начинают изучаться: опубликованы - со
значительными пропусками - дневники Кэрролла и выдержки из его переписки;
готовится первое собрание писем {L. Carroll. The Diaries. Ed. and suppl. by
R. L. Green, vv. 1-2. L., 1953. Некоторые письма Кэрролла см. в биографии
Коллингвуда, а также в приложении к кн.: The Lewis Carroll Centenary in
London, 1932; также в кн.: The Works of Lewis Carroll. Ed. and intr. by R.
L. Green. Feltham, 1965, pp. 699-730. О подготовке собрания писем см. в
журнале: "Jabberwocky". The Touraal of the Lewis Carroll Society, Summer,
1975, v. 4, N 3, p. 59 (The Letters of Lewis Carroll, ed. by M. Cohen and R.
L. Green). Там же интересное изложение переписки Кэрролла с Робертом
Сесилем, маркизом Солсбери, лордом-казначеем Оксфордского университета (pp.
59-65).}.
Чарлз Лютвидж Доджсон (таково было настоящее имя Льюиса Кэрролла,
неизменно настаивавшего на том, что "ж" в его фамилии должно писаться, хоть
оно и не произносится) родился в небольшой деревушке Дэрсбери в графстве
Чешир 27 января 1832 г. Он был старшим сыном скромного приходского
священника Чарлза Доджсона и Фрэнсис Джейн Лютвидж. При крещении, как
нередко бывало в те дни, ему дали два имени: первое, Чарлз - в честь отца,
второе, Лютвидж - в честь матери {Впоследствии из этих двух имен путем
двойной переверзии и возник его псевдоним: Кэрролл "перевел" их на латынь,
получив "Каролус Людовикус", поменял местами и снова "перевел" на
английский.}. Он рос в большой семье: у него было семеро сестер и три брата.
Дети получили домашнее воспитание; обучал их закону божьему, языкам и
основам естественных наук, "биографии" и "хронологии" отец. Чарлз Доджсон
был человеком незаурядным: глубокая религиозность и университетская
образованность сочетались в нем с той склонностью к эксцентрическому,
которая нередко отличала в Англии духовных лиц.
Приведем в качестве примера письмо, которое он, отправившись по делам в
Лидс, написал восьмилетнему Чарлзу, просившему его привезти напильник,
отвертку и кольцо для ключей: "Я не забыл о твоем поручении. Как только я
приеду в Лидс, я тотчас выйду на середину главной улицы и закричу:
"Жестянщики! Жестян-щи-ки!" Шестьсот человек ринутся из своих лавок на улицу
- побегут во все стороны - зазвонят в колокола - созовут полицию - поднимут
весь город на ноги. Я потребую себе напильник, отвертку и кольцо для ключей,
и, если мне их не доставят немедленно, через сорок секунд, я не оставлю во
всем славном городе Лидсе ни одной живой души, кроме разве котенка, и то
только потому, что у меня просто не будет времени его уничтожить!"
Отец не только не подавлял в детях стремление к всевозможным играм и
веселым затеям, но и всячески им содействовал. Изобретателем всех игр
неизменно был Чарлз. Он придумал игру в "железную дорогу", в которую
самозабвенно играло в саду все семейство. Игра была снабжена подробно
разработанными "Правилами езды по железной дороге", составленными Чарлзом.
С помощью деревенского плотника Чарлз смастерил театр марионеток; он
писал для него пьесы, которые сам и разыгрывал. Нередко, переодевшись
факиром, он показывал взволнованной аудитории удивительные фокусы. Для своих
младших братьев и сестер он "издавал" целую серию рукописных журналов, в
которых все - "романы", забавные заметки из "естественной истории", стихи и
"хроники" - сочинял сам. Он не только переписывал сам от первой до последней
страницы своим мелким и четким почерком, но и иллюстрировал их собственными
рисунками (он был неплохим рисовальщиком, хоть анатомия человеческого тела
не давалась ему и в поздние годы), оформлял и переплетал.
Нам известны восемь таких домашних журналов, которые издавал Чарлз:
"Полезная и назидательная поэзия", "Ректорский журнал", "Комета", "Розовый
бутон", "Звезда", "Светлячок", "Ректорский зонт" и "Миш-мэш" (слово, по
собственному признанию редактора, заимствованное в несколько искаженном виде
из немецкого языка и означающее "всякая всячина"). Первый из них увидел свет
в 1845 г., последний выходил на протяжении 1855-1869 гг., когда, будучи
студентом, а потом юным оксфордским преподавателем, Чарлз приезжал на
каникулы домой. Два последних журнала были в 1932 г. целиком опубликованы;
два первых хранятся в семье; четыре средних потеряны. Уже в этих ранних
опусах явно ощущается склонность юного автора к пародии и бурлеску.
Юмористическому переосмыслению и переиначиванию подвергаются известные
строки классиков - Шекспира, Мильтона, Грея, Маколея, Колриджа, Скотта,
Китса, Диккенса, Теннисона и др. В этих "первых полусерьезных попытках
приближения к литературе и искусству" {Lewis Carroll. The Rectory Umbrella
and Misch-Masch. With a Foreword by Florence Milner. L., 1932, p. VI. В
нашем распоряжении была перепечатка 1971 г.} юный автор обнаруживает широкую
начитанность и несомненную одаренность.
Вольной домашней жизни скоро пришел конец. Когда Чарлзу исполнилось
двенадцать лет, его отдали в школу - сначала в ричмондскую, а потом в
знаменитый Рэгби. Воспетый в многочисленных произведениях {Наиболее
известными произведениями этого рода в 50-е годы были "Школьные годы Тома
Брауна" Томаса Хьюза (Т. Hughes. Tom Brown's Schooldays, 1857) и "Эрик, или
Мало-помалу" Ф. У. Фаррара (F. W. Farrar. Eric, or Little by Little, 1858).
Хьюз (1823-1896), так же как и Кэрролл, окончил Рэгби; подобно Чарлзу
Кингсли, он был "христианским социалистом"; писательство, по его собственным
словам, давало ему "возможность проповедовать". Он был сторонником так
называемого "мускулистого христианства". Фаррар (1831-1903), известный
педагог и проповедник, окончивший свою карьеру настоятелем Кентерберийского
собора, в отличие от Хьюза, сосредоточил свое внимание не столько на
коллективном духе "публичной школы", сколько на религиозном прозрении и
спасении отдельных ее членов. Обе книги, положившие основу "школьной повести
для мальчиков", были чрезвычайно популярны; Кэрролл, конечно, знал их.}
"славный" дух "публичной школы" (так назывались и до сих пор называются в
Англии закрытые мужские школы привилегированного типа) с его
регламентированностью, христианством, культом спорта и силы, институтом
"рабства" и подчинения младших школьников старшим вызывал в Чарлзе самую
решительную неприязнь. "Не могу сказать, чтобы школьные годы оставили во мне
приятные воспоминания, - писал он много лет спустя. - Ни за какие блага не
согласился бы я снова пережить эти три (sic!) года".
Ученье давалось Чарлзу легко. Особый интерес он проявлял к математике и
классическим языкам. В латинском стихосложении, занимавшем немаловажное
место в школьной программе, он нередко выказывал пренебрежение к
общепринятым правилам; правда, все его отклонения были всегда строго
логически оправданы, что признавали даже его наставники. Вот что писал, по
словам Коллингвуда, его воспитатель мистер Тейт в своем отзыве о
четырнадцатилетнем Чарлзе: "При чтении вслух и в метрической композиции он
часто сводит к нулю все представления Овидия или Вергилия о стихе. Более
того, он с удивительным хитроумием подменяет обычные, описанные в
грамматиках, окончания существительных и глаголов более точными аналогиями
или более удобными формами собственного изобретения". Уже в эти годы в нем
пробудился тот интерес к слову и к логическим, "выравнивающим" тенденциям в
языке, которым будут позже отмечены сочинения Льюиса Кэрролла.
Дальнейшая жизнь Чарлза Лютвиджа Доджсона связана с Оксфордом. Он
окончил колледж Христовой церкви (Крайст Черч Колледж), один из старейших в
Оксфорде, с отличием по двум факультетам, математике и классическим языкам -
случай, редкий даже для тех далеких лет. В 1855 г. ему был предложен
профессорский пост в его колледже, традиционным условием которого в те годы
было принятие духовного сана и обет безбрачия. Если бы он решил жениться,
ему пришлось бы оставить колледж. Последнее условие не волновало молодого
математика, ибо он никогда не испытывал тяги к матримонии; однако какое-то
время он откладывал принятие сана, ибо опасался, что ему из-за этого
придется отказаться от страстно любимых им занятий - фотографии и посещения
театра, - которые могли счесть слишком легкомысленными для духовного лица. В
1861 г. он принял сан диакона, что было лишь первым, промежуточным шагом.
Однако изменения университетского статута избавили его от необходимости
дальнейших шагов в этом направлении.
Доктор Доджсон посвятил себя математике. Его перу принадлежат солидные
труды - "Конспекты по плоской алгебраической геометрии" (1860), "Формулы
плоской тригонометрии" (1861), "Элементарное руководство по теории
детерминантов" (1867), "Алгебраическое обоснование 5-й книги Эвклида"
(1874), "Эвклид и его современные соперники" (1879) и вышедшее в 1885 г.
"Дополнение" к этой книге, которую сам Кэрролл считал основным трудом своей
жизни. Современные историки науки отмечают глубокую традиционность этих
книг. Совсем по-другому относятся они к логическим сочинениям Кэрролла -
"Логической игре" (1887), "Символической логике" (1896) и парадоксальным
логическим задачам, вошедшим посмертно в различные сборники. "Особой
виртуозности, - пишут советские исследователи, - Кэрролл достиг в
составлении (и решении) сложных логических задач, способных поставить в
тупик не только неискушенного человека, но даже современную ЭВМ.
Разработанные Кэрроллом методы позволяют навести порядок в, казалось бы,
безнадежном хаосе посылок и получить ответ в считанные минуты. Несмотря на
столь явное превосходство, методы Кэрролла не были оценены по достоинству, а
имя его незаслуженно обойдено молчанием в книгах по истории логики" {Льюис
Кэрролл. История с узелками. Пер. с англ. Ю. Данилова. Под ред. Я. А.
Смородинского. Предисловие Ю. Данилова и Я. Смородинского. М., 1973, с.
7-8.}. В этих работах современные ученые находят идеи, предвосхищающие
математическую логику, получившую особое развитие в наше время.
Доктор Доджсон вел одинокий и строго упорядоченный образ жизни: лекции,
математические занятия, прерываемые скромным ленчем - несколько глотков
хереса и печенье, чтобы не нарушать ход мысли, - снова занятия, дальние
прогулки (уже в преклонном возрасте по 17-18 миль в день), вечером обед за
"высоким" преподавательским столом в колледже и снова занятия. Всю жизнь он
страдал от заикания и робости; знакомств избегал; лекции читал ровным,
механическим голосом. В университете он слыл педантом; был известен своими
меморандумами и брошюрами, которые печатал и распространял за собственный
счет по самым незначительным поводам. Он был Эксцентриком, чудаком - явление
нередкое в английской университетской жизни. У него были собственные
привычки и чудачества, которые, по меткому замечанию Эдит Ситвелл, суть не
что иное, как "застывшие жесты", подчеркнутое "преувеличение отдельных поз,
присущих жизни", иногда даже самой "обыденности" жизни {Edith Sitwell.
English Eccentrics. Harmondsworth, 1973, p. 17, etc. (1 изд. 1933 г.). Э.
Ситвелл принадлежит к семье, чья роль в теоретическом и практическом
освоении английской эксцентриады весьма значительна. См., например, рассказы
ее брата Осберта Ситвелла, собранные в книге "Тройная фуга" (Osbert Sitwell.
Tripple Fugue. L., 1924), а также его автобиографические книги.}. Он писал
множество писем - то все еще было время подробнейших корреспонденции,
нередко между людьми, которые встречались совсем нечасто или даже не
встречались никогда, хотя великая пора эпистолярного искусства XVII и XVIII
вв. давно отошла в прошлое. В отличие от своих современников, однако, он
завел специальный журнал, в котором отмечал все посланные и полученные им
письма, разработав сложную систему прямых и обратных ссылок. Впоследствии он
описал эту систему в брошюре с необычным названием: "Восемь-девять мудрых
слов о том, как писать письма" (Eight or Nine Wise Words About Letter
Writing). За 37 лет - он начал вести свой журнал в 1861 г. - он отправил
98721 письмо (последнее было отправлено за неделю до смерти).
Перед тем, как сесть за письмо, он тщательно выбирал лист бумаги -
такого формата, чтобы исписать его полностью, и аккуратно заполнял его,
строчку за строчкой, своим каллиграфическим почерком. Он вел дневник, в
который вносил мельчайшие подробности обыденного течения своей жизни -
однако о вещах глубоких и потаенных, о том, что порой прорывается, словно
вздох, в его детских книжках - раздумья о жизни и смерти, о боге, науке и
литературе, о своих привязанностях и неосуществленных мечтах, об одиночестве
и тоске, - он не писал ни слова.
Доктор Доджсон страдал бессонницей. По ночам, лежа без сна в постели,
он придумывал, чтобы отвлечься от грустных мыслей, "полуночные задачи" -
алгебраические и геометрические головоломки - и решал их в темноте {Pillow
Problems. L., 1893. См. также русское издание: Льюис Кэрролл. История с
узелками, с. 85-187.}. Невольно вспоминается сцена из "Зазеркалья". "И
все-таки здесь очень одиноко!" - говорит Алиса, заливаясь слезами. - "Ах,
умоляю тебя, не надо! - отвечает Белая Королева, ломая в отчаянье руки. -
Подумай о том, сколько в тебе росту! Подумай о том, сколько ты сегодня
прошла! Подумай о том, который сейчас час! Подумай о чем угодно - только не
плачь!" - "Разве когда думаешь - не плачешь?" - спрашивает Алиса. "Конечно,
нет, - отвечает Королева. - Разве можно делать две веши сразу?"
Позже Кэрролл опубликовал эти головоломки под названием "Полуночные
задачи, придуманные бессонными ночами". Изменив во втором издании "бессонные
ночи" на "бессонные часы", он пояснил это с присущей ему любовью к точности
следующим образом: "Это изменение было внесено для успокоения любезных
друзей, которые в многочисленных письмах выражали мне сочувствие по поводу
плохого состояния моего здоровья. Они полагали, что я страдаю хронической
бессонницей и рекомендую математические задачи как средство от этой
изнурительной болезни. Боюсь, что первоначальный вариант названия был выбран
необдуманно и действительно допускал толкование, которое я отнюдь не имел в
виду, а именно: будто я часто не смыкаю глаз в течение всей ночи. К счастью,
предположение моих доброжелателей не отвечает действительности...
Математические задачи я предлагал не как средство от бессонницы, а как
способ избавиться от навязчивых мыслей, которые легко овладевают праздным
умом. Надеюсь, что новое название более ясно выражает тот смысл, который я
намеревался в него вложить. Мои друзья полагают, будто я (если
воспользоваться логическим термином) стою перед дилеммой: либо обречь себя
на длинную бессонную ночь, либо, приняв то или иное лекарство, вынудить себя
заснуть. Насколько я могу судить, опираясь на собственный опыт, ни одно
лекарство от бессонницы не оказывает ни малейшего действия до тех пор, пока
вы сами не захотите спать. Что же касается математических выкладок, то они
скорее способны разогнать сон, нежели приблизить его наступление" {Там же,
с. 86.}. "Я рискну на миг обратиться к читателю в более серьезном тоне и
указать на муки разума, гораздо более тягостные, чем просто назойливые
мысли. Целительным средством от них также служит занятие, способное
поглотить внимание. Мысли бывают скептическими, и порой кажется, что они
способны подорвать самую твердую веру. Мысли бывают богохульными, незванно
проникающими в самые благочестивые души, нечестивыми, искушающими своим
ненавистным присутствием того, кто дал обет блюсти чистоту. И от всех этих
бед самым действенным лекарством служит какое-нибудь активное умственное
занятие. Нечистый дух из сказки, приводивший с собой семерых еще более
порочных, чем он сам, духов, делал так лишь потому, что находил "комнату
чисто прибранной", а хозяина праздно сидящим сложа руки. Если бы его
встретил "деловой шум" активной работы, то такой прием и ему, и семерым его
братьям пришелся бы весьма не по вкусу!" {Там же, с. 88-89.}.
Признание это важно не только для понимания личности Кэрролла, но и - в
известном смысле - для понимания его творчества.
Вероятно, тем же целям "активной работы" служили бесконечные небольшие
изобретения Кэрролла, педантичное участие во всех университетских делах и
спорах, а также его "хобби". Кэрролл страстно любил театр. Читая его
дневник, в который он заносил мельчайшие события дня, видишь, какое место
занимали в его жизни не только высокая трагедия, Шекспир, елизаветинцы, но и
комические бурлески, музыкальные комедии и пантомима. Позже, когда, будучи
уже известным автором, он лично наблюдал за постановкой своих сказок на
сцене, он проявил тонкое понимание театра и законов сцены. О том же
свидетельствует его многолетняя дружба с семейством Терри и с самой
талантливой его представительницей, вошедшей в историю не только
английского, но и мирового театра, - Эллен Терри.
В ранней юности Доджсон мечтал стать художником. Он много рисовал -
карандашом или углем, иллюстрируя собственные юношеские опыты. В 1855 г. -
год получения профессуры в Оксфорде - он послал серию своих рисунков в
"Юмористическое приложение к "Таймс"". Редакция их отвергла. Тогда Доджсон
обратился к фотографии. Он купил фотографический аппарат и всерьез занялся
этим сложным по тем временам делом: фотографии снимались с огромной
выдержкой, на стеклянные пластинки, покрытые коллодиевым раствором, которые
нужно было проявлять немедленно после съемки. Доджсон занимался фотографией
самозабвенно и достиг больших успехов в этом трудном искусстве. Он снимал
многих замечательных людей своего времени - Теннисона, Кристину и Данте
Габриэля Росетти, Джона Рэскина, который в те годы преподавал историю
искусств в Оксфорде (и давал Алисе Лидделл уроки рисования), английского
художника-прерафаэлита Дж. Э. Миллеса, Эллен Терри, Фарадея, Томаса Гексли.
Но больше всего он любил снимать детей. Спустя почти сто лет, в 1949 г. в
Англии вышла книга X. Гернсхайма "Льюис Кэрролл-фотограф", в которой собраны
шестьдесят четыре его лучшие работы {H. Gernsheim. Lewis Carroll
Photographer. L., 1949.}. Они производят глубокое впечатление - недаром
специалисты отводят Кэрроллу одно из первых мест среди фотографов XIX в.
Особенно удавались Кэрроллу портреты детей и сложные композиции. Фотографии
Кэрролла поражают даже человека XX в. глубиной психологического
проникновения и художественностью. Интересно, что одна из фотографий
Кэрролла была включена в 1956 г. в знаменитую международную выставку "Род
человеческий", побывавшую во многих городах мира, в том числе и в Москве
{Позже, фотографии, представленные на этой выставке, вошли в кн.: The Family
of Man. Created by Edward Steichen. NY, 1965.}. Из английских фотографов XIX
в., работавших с очень несовершенной техникой, был представлен он один.
Однако больше всего доктор Доджсон любил детей. Чуждаясь взрослых,
чувствуя себя с ними тяжело и скованно, мучительно заикаясь, порой не будучи
в состоянии вымолвить ни слова, он становился необычайно веселым и
Занимательным собеседником, стоило ему оказаться в обществе детей. "Не
понимаю, как можно не любить детей, - писал он в одном из своих писем, - они
составляют три четверти моей жизни". Он совершал с ними долгие прогулки,
водил их в театр, приглашал в гости, развлекал специально придуманными для
них рассказами, которые обычно сопровождались быстрыми выразительными
зарисовками, которые он делал по ходу рассказа. Интересно свидетельство
одной из его маленьких приятельниц {Решительное предпочтение, отдаваемое
Кэрроллом девочкам, породило в XX в. огромное количество психоаналитических
работ. Заметим, что ни тексты самих произведений Кэрролла, ни его личные
бумаги не дают каких-либо специальных оснований для подобных
интерпретации.}, Изы Боумен, исполнявшей роль Алисы в спектакле 1888 г.
Как-то доктор Доджсон взял ее посмотреть панораму Ниагарского водопада. На
переднем плане стояла фигура пса в натуральную величину. Доджсон принялся
убеждать Изу, что пес этот живой, только его как следует выдрессировали,
приучив стоять часами без движения. Он говорил Изе, что, если подождать
подольше, можно увидеть, как служитель приносит псу кость, и что через день
этого беднягу отпускают ненадолго погулять. В панораме его на это время
заменяет брат - весьма беспокойное и не отличающееся особой выдержкой
животное. Однажды, увидав у какой-то девочки в толпе зрителей бутерброд в
руке, этот непоседа выскочил с громким лаем из панорамы. Тут Доджсон
запнулся и начал заикаться: он увидел, что вокруг него собралась небольшая
толпа детей и взрослых, с восторгом слушавших его рассказ. Смущенный и
растерянный, Доджсон поспешил увести Изу. Этот эпизод весьма характерен.
Толчком к творческому импульсу для Кэрролла неизменно служила игра,
непосредственное, живое общение с детьми. Его лучшие произведения - обе
сказки об Алисе, стихотворения - возникли как импровизации, хотя
впоследствии и дорабатывались весьма значительно. Как только исчезал момент
игры, писатель начинал "заикаться", произведение его теряло оригинальность и
целостность {Именно это произошло с его большим романом "Сильви и Бруно"
(1889-1893), в котором, по замыслу автора, должны были сочетаться реальный и
фантастический планы, повествование об английской провинции середины века и
респектабельном герое, самоотрицание и самопожертвование, с одной стороны -
сказочно романтические видения, предстающие ему в минуты полусна,
полубодрствования, - с другой. Выйдя еще в момент своего замысла за пределы
безотчетной импровизации, роман этот обнаруживает множество черт, роднящих
его с назидательно-сентиментальной литературой того времени. Сознательные
установки Кэрролла, воспитателя юношества и респектабельного, хоть и
чудаковатого, члена респектабельного общества, заранее обрекали это и другие
произведения того же рода на художественную несостоятельность.}.
Лишь в тех случаях, когда, безотчетно импровизируя, ставя перед собой
единственную цель "развлечь" своих юных слушателей, Кэрролл не придавал
сколько-нибудь серьезного значения своим нонсенсам, ему удавалось создать
произведения не только оригинальные, но и значительные. Этот парадоксальный
факт творческой биографии Кэрролла объясняется, в первую очередь, самой
личностью писателя, оригинального мыслителя и поэта, уходившего от
многочисленных запретов и жестких ингибиций своей сознательной жизни в
детскую игру бессознательного и именно там проявлявшего всю неординарность
своей личности и дарования.
Доджсон лишь раз выезжал за пределы Англии. Летом 1867 г. вместе со
своим другом ректором Лиддоном он отправился в Россию - весьма необычное по
тем временам путешествие. Посетив по дороге Кале, Брюссель, Потсдам, Данциг,
Кенигсберг, он провел в России месяц - с 26 июля по 26 августа - и вернулся
в Англию через Вильно, Варшаву, Эмс, Париж. В России Доджсон побывал в
Петербурге и его окрестностях, Москве, Сергиеве и съездил на ярмарку в
Нижний Новгород. Свои впечатления он кратко записывал в "Русском дневнике"
{L. Carroll. Journal of a Tour in Russia in 1867. The Works of Lewis
Carroll. Ed. and intr. by R. L. Green. Feltham, 1965, pp. 965-1006. Дневник
не предназначался Кэрроллом для публикации; записи в нем носят характер
сугубо частный, "на память". Он увидел свет лишь в 1935 г.}. Доджсон был
плохо подготовлен к этому путешествию - он не знал языка, не был знаком ни с
русской литературой и историей, ни с современным состоянием умов. Поневоле
его впечатления от России весьма ограниченны - он не был вхож в русские
семьи: ему приходилось полагаться на случайных попутчиков, знавших язык, -
англичан, живущих в России, представителей фирмы "Мюр и Мерилиз", духовных
лиц, принимавших ректора Лиддона. Впрочем, он мало склонен к обобщениям с
чужих слов и в основном фиксирует в дневнике личные наблюдения. Вот как он
описывает свое первое впечатление от Петербурга: "Мы едва успели немного
прогуляться после обеда; все удивительно и ново вокруг. Необычайная ширина
улиц (даже второстепенные шире любых в Лондоне), крошечные дрожки, бешено -
шныряющие вокруг, ничуть не заботясь о безопасности пешеходов (мы скоро
поняли, что тут должно смотреть в оба, ибо они и не подумают крикнуть, как
бы близко к тебе ни подъехали), огромные и яркие вывески магазинов,
гигантские церкви с голубыми куполами в золотых звездах, загадочный гомон
толпы - все удивляло и поражало нас во время этой первой прогулки по
Петербургу" {Ibid., pp. 977-978.}. Он восхищается благородными пропорциями
"удивительного града", его архитектурой, "бесценными коллекциями" Эрмитажа -
голландцами, Мурильо, Тицианом и "Святым семейством" Рафаэля в овале, "более
других запавшей мне в память картиной", как пишет Кэрролл. Подробно
описывает Петергоф, расположение его аллей и скульптур, "разнообразием и
безукоризненным сочетанием красок и природы и искусства затмевающих парки
Сан-Суси", и заканчивает словами: "Все это далеко не передает того, что мы
там видели, но будет служить мне хоть отдаленным напоминанием" {Ibid., pp.
981-982.}.
Москва с ее "коническими башнями", которые выступают друг из друга,
"наподобие раскрытого телескопа", с "огромными позолоченными куполами
церквей, где, словно в зеркале, отражается перевернутый город", Воробьевы
горы, откуда, как вспоминает Кэрролл, глядел впервые на город Наполеон,
церемония венчания, столь непохожая на англиканский обряд, "удивительный
эффект" церковного пения - все поражает его воображение не меньше, чем
"город гигантов" Петербург. Он наблюдает уличные сценки, вслушивается в
звучание незнакомого языка, записывает русскими буквами отдельные имена и
слова, расшифровывает с помощью карманного словаря театральные программки,
вывески и меню.
Верный своим привязанностям, он посещает Малый театр и театр в Нижнем
Новгороде, восхищается "первоклассной игрой актеров", особенно отмечая
Ленского и Соронину, имена которых вписывает в дневник по-русски.
Кэрролл заканчивает свой дневник описанием ночного путешествия из Кале
в Дувр при возвращении в Англию: "Плавание было на удивление спокойным; на
безоблачном небе для вящего нашего удовольствия светила луна - светила во
всем своем великолепии, словно пытаясь возместить урон, нанесенный затмением
четырьмя часами ранее, - я оставался почти все время на носу, то болтая с
вахтенным, то наблюдая в последние часы моего первого Заграничного
путешествия, как на горизонте медленно разгорались огни Дувра, словно милый
наш остров раскрывал свои объятия навстречу спешащим домой детям - пока,
наконец, они не встали ярко и ясно, словно два маяка на скале - пока то, что
долгое время было просто светящейся чертой на темной воде, подобной
отражению Млечного пути, не приобрело реальности, обернувшись огнями в окнах
спустившихся к берегу домов - пока зыбкая белая полоса за ними, казавшаяся
поначалу туманом, ползшим вдоль горизонта, не превратилась, наконец, в серых
предрассветных сумерках в белые скалы милой Англии" {L. Carroll. Journal of
a Tour.., p. 1005.}. Усиленные троекратной анафорой и дважды повторенным
эпитетом "милый" (old), строки эти звучат неожиданно приподнято и
романтично. Глубокое искреннее чувство вольно проявляет себя в этих записях,
которые Кэрролл не предназначал для публикации.
Больше Кэрролл не выезжал за пределы Англии. Изредка он бывал в
Лондоне, где продолжал также внимательно следить за театральными
постановками; каникулы он проводил обычно в Гилфорде, где жили его сестры.
Там он и умер 14 января 1898 г. На гилфордском кладбище над его могилой
стоит простой белый крест. На родине Кэрролла, в деревенской церкви Дэрсбери
есть витраж, где рядом с задумчивым Додо стоит Алиса, а вокруг теснятся
Белый Кролик, Болванщик, Мартовский Заяц, Чеширский Кот и другие.
* * *
Первая сказка, в отличие от "Зазеркалья", далась Кэрроллу не сразу.
Анализируя известные нам варианты, видишь, как разрастались едва намеченные
характеры и мотивы, как постепенно складывался новый жанр.
Сказка об Алисе в Стране чудес существовала по меньшей мере в трех
вариантах, прежде чем получить окончательный вид. О первых двух мы знаем
немного. 4 июля 1862 г. во время лодочной прогулки по Айсис, небольшой
речушке, впадающей в Темзу неподалеку от Оксфорда, Кэрролл начал
рассказывать девочкам Лидделл, дочерям своего коллеги ректора колледжа
Крайст Черч, сказку о приключениях Алисы, названной так по имени его
любимицы, десятилетней Алисы Лидделл. Сам Кэрролл так вспоминает об этом: "Я
очень хорошо помню, как в отчаянной попытке придумать что-то новое я для
начала отправил свою героиню вниз по кроличьей норе, совершенно не думая о
том, что с ней будет дальше..." Сказка девочкам понравилась, и во время
последующих прогулок и встреч, которых было немало в то лето, они не раз
требовали продолжения. Из дневника Кэрролла мы знаем, что он рассказывал
свою "бесконечную сказку", а порой, когда под рукой оказывался карандаш, то
и рисовал по ходу рассказа своих героев в странных ситуациях, выпавших им на
долю. Позже Алиса попросила Кэрролла записать для нее сказку, прибавив: "И
пусть там будет побольше всяких глупостей!"" Исследователь вправе заключить,
что уже в начальном, импровизированном варианте "глупости" (или нонсенсы,
как мы их теперь называем даже по-русски) присутствовали наряду с более
традиционными "приключениями".
Лишь в феврале 1863 г. Кэрролл закончил первый рукописный вариант своей
сказки, которую он назвал "Приключения Алисы под землей". Однако этот
вариант не был отдан Алисе Лидделл; в 1864 г. Кэрролл принялся за второй,
более подробный. Своим мелким каллиграфическим почерком он переписал его от
руки и снабдил тридцатью семью рисунками в тексте, а первый вариант
уничтожил. 26 ноября 1864 г. он подарил Алисе эту рукописную тетрадку,
наклеив на последней странице фотографию семилетней Алисы (возраст героини
сказки).
Наконец, в 1865 г. появился окончательный вариант, известный всем нам
"дефинитивный текст". Сравнивая его с "Приключениями Алисы под землей",
изданными недавно в факсимильном воспроизведении {L. Carroll. Alice's
Adventures Underground. A facsimile of the original Lewis Carroll
manuscript. Xerox. Ann Arbor, 1964. См. также переиздание 1965 г. (Dover
Publications) с пред. М. Гарднера.}, видишь значительные текстологические
расхождения. Они касаются не только отдельных деталей {M. Гарднер отмечает
их в своем комментарии.}, но и целых сцен и глав. Примечательно, что два
самых оригинальных и значительных эпизода - Безумное чаепитие и Суд над
Валетом - в "Приключениях Алисы под землей" отсутствуют. Они появились лишь
в окончательном варианте.
Казалось, третьим, - "дефинитивным" текстом "Алисы в Стране чудес"
Кэрролл должен был бы и ограничиться. Однако этого не произошло. В 1890 г.,
в разгар первой волны популярности сказки, Кэрролл издает вариант "для
детей" {Lewis Carroll. The Nursery Alice. L., 1890.}. "Детский вариант"
детской сказки? Не кроется ли уже в самом этом факте признание того, что
"Алиса в Стране чудес" (позже это допущение распространится и на
"Зазеркалье") - сказка не только и не столько для детей? Что это сказка
также и для взрослых и даже, может быть, как позднее покажет Честертон, для
философов и ученых?
Ныне двойной "адрес" сказок об Алисе является, пожалуй, единственным
фактом, принимаемым многочисленными интерпретаторами Кэрролла. Однако в
остальном они не могут прийти к согласию. Споры о прочтении Кэрролла и об
определении понятия нонсенса продолжаются по сей день.
Нередко в нонсенсе видят своеобразную аллегорию, "скрытый код" для
описания событий не только вполне реальных, но даже исторических.
Показательна в этом отношении работа Шана Лесли, автора трудов по самым
различным проблемам и среди них солидной монографии о кардинале Мэннинге. Он
интерпретирует сказки Кэрролла в свете религиозных споров, шедших в Оксфорде
в 40-е - 70-е годы прошлого века, и пишет, что "вряд ли будет профанацией
предположить, что "Алиса в Стране чудес", возможно, скрывает историю
Оксфордского движения" {Shane Leslie. Lewis Carroll and the Oxford Movement.
- "The London Mercury", July, 1933, pp. 233-239. Цит. по: АА, p. 212.}. При
таком прочтении Алиса - наивный первокурсник, оказавшийся в гуще
богословских споров той поры; Белый Кролик - скромный англиканский
священник, пуще всего боящийся своего епископа (Герцогиня). Двери в зале
символизируют английскую Высокую и Низкую церковь; золотой ключик - ключ
Священного писания; пирожок, от которого откусывает Алиса, - святую догму.
Кошка Дина, которой так боится церковная Мышь, - конечно, католичка, а
Алисин скотч-терьер, будучи шотландцем, - пресвитерианец, что также весьма
неприятно Мыши {Ibid., p. 213.}. Всевозможные пертурбации, связанные с
желанием Алисы подрасти и уменьшиться ростом, Ш. Лесли связывает с
колебаниями английского верующего между Высокой и Низкой церковью.
"Зазеркалье" представляется Ш. Лесли несколько более трудным для
интерпретации, однако он составляет следующую гипотетическую таблицу, в
которой связывает персонажей Кэрролла с событиями Оксфордского движения и
его участниками:
Белые Черные
Труляля - Высокая церковь; Морж и Плотник - обозреватели и
Единорог - Конвокация духовенства; эссеисты;
Овца - доктор Пьюси; Черная Королева - архиепископ Мэн-
Белая Королева - доктор Ньюмен; нинг;
Белый Король - доктор Джоветт; Черный Король - каноник Кингсли;
Древний старичок - оксфордский Черный Рыцарь - епископ Уилберфорс;
профессор; Лев - Джон Буль
Белый Рыцарь - Гексли; и пр.
Траляля - Низкая церковь;
Согласно Ш. Лесли, "Зазеркальная жизнь, в которой все возникает в
обратной перспективе, есть символ жизни сверхъестественной". Белый Рыцарь,
как явствует из таблицы, составленной Ш. Лесли, "представляет науку эпохи
викторианства или Гексли в его самоуверенном изобретательстве" {Ibid., p.
219.} Соответственно Черный Рыцарь олицетворяет его старого врага епископа
Уилберфорса. "Оба достигают одной и той же клетки на шахматной доске
одновременно, и оба пытаются взять Алису в плен. Это знаменитое столкновение
между Уилберфорсом и Гексли на заседании Британской Ассоциации в 1866 г."
{Ibid.}
Ч. У. Скотт-Джайлз предлагает другой вариант "исторического" прочтения
Кэрролла. Он считает, что Кэрролл использовал некоторые исторические эпизоды
и даже фигуры в своих сказках. В связи со сценой на кухне у Герцогини он
задается вопросом: "Где же Алисин Герцог?" "Ответ на этот вопрос можно
найти, - пишет он, - если задуматься над личностью младенца. Сын Герцога,
ставший свиньей, - кто это, как не Ричард Глостер, взошедший на трон под
именем Ричарда III, взяв своим знаком белого кабана, и прозванный "кабаном"
политическими памфлетистами? Когда он родился в октябре 1452 г., его отец,
Ричард, герцог Йоркский, жил в изгнании после первой неудавшейся попытки
удалить Сомерсета из королевского совета. Если иметь в виду вражду между
Йорком и королевой Маргаритой, становится понятно, почему герцог не получил
королевского приглашения на партию в крокет. Решимость Маргариты сохранить
власть Ланкастеров и не допустить к ней Йорка находит свое отражение в
"Алисе": королева требует, чтобы все розы в королевском саду были алыми, так
что садовники спешат покрасить в алый цвет Ланкастеров розы Йорка" {Цит. по
кн.: L. Carroll. Alice's Adventures in Wonderland and Through the
Looking-Glass. Ed. and intr. by R. L. Green. L., 1976, pp. 255-256. Грин
отмечает, что поначалу Скотт-Джайлз выдвинул свои соображения "шутливо"
("Punch", 28 August, 1928), однако затем развивал их "более серьезно"
("Sunday Times", 25 July, 1965).}. В тексте сказок Скотт-Джайлз находит
немало других примеров в подтверждение своей гипотезы, интересно, что все
они связаны с теми учебниками истории, которые использовались девочками
Лидделл, и потому, в отличие от теологических построений Ш. Лесли, имеют
более прямое отношение к тексту Кэрролла.
Больше всего написано о Кэрролле и его сказках приверженцами
психоаналитических толкований. Примечательно, что в представительной
антологии "Аспекты "Алисы"", неоднократно упоминаемой выше, раздел,
посвященный фрейдистским оценкам Кэрролла и его творчества, имеет самый
внушительный объем. К этому следовало бы прибавить и некоторые
биографические очерки, идущие в этом солидном томе под другими рубриками,
однако носящие тот же характер. Эта тенденция к психоаналитическому
прочтению "Алисы" была подмечена в самом начале ее возникновения Дж. Б.
Пристли, написавшим ядовитую "Заметку о Шалтае-Болтае" (1921) {Дж. Бойнтон
Пристли ошибся лишь географически: большая часть работ этого рода вышла в
США и в Англии. Назовем некоторые из них: Ph. Greenacre.. Swift and Carroll:
A Psychoanalytic Study of Two Lives. NY, 1955; J. Bloomlngdale. Alice as
Anima: The Image of Woman in Carroll's Classic. AA. pp. 378-390; W. Empson.
Alice in Wonderland: The Child as Swain. Some Versions of the Pastoral. L.,
1935, etc.}. О распространенности такого рода прочтения Алисы
свидетельствует следующий отрывок из беседы двух выдающихся мастеров
современной культуры (речь идет о фильме Феллини "Джульетта и духи"):
Моравиа. Я сравнил бы Джульетту с Алисой из книги "Алиса в Стране
чудес", как вследствие скудности и узости ее взглядов, которые, впрочем,
показаны режиссером с симпатией и любовью, так и вследствие тех отношений,
которые с самого начала устанавливаются между героиней и чудовищами из
подсознания и повседневной жизни: эти отношения юмористичны, с оттенками
удивления, любопытства и ханжества.
Феллини. Мне кажется, это очень острое наблюдение" {А. Моравиа.
Федерико Барочный. В кн.: Федерико Феллини. Статьи, интервью, рецензии,
воспоминания. М., 1968, с. 265.}.
В "кэрролловедении" немало работ, применяющих "комбинированную
методику". Такова статья "Сквозь зеркало" Эликзендера Тейлора. Автор далек
от категоричности Ш. Лесли или интерпретаторов психоаналитического толка. Он
предваряет свои заметки замечанием, что не собирается "выжимать последнюю
каплю смысла из каждого слова" {A. Taylor. Through the Looking-Glaes - AA,
p. 221.}. Он рассматривает "Зазеркалье" как "сатиру, направленную... против
споров по религиозным вопросам", и отмечает, что Кэрролл "производил свои
изыскания в основном на "ничейной земле", лежащей между математикой и
богословием, куда он уже делал ранее короткие набеги" {Ibid., p. 224.}. По
мысли Тейлора, шахматы для Кэрролла были не просто игрой. "Будучи
математиком, он видел шахматную доску как разделенный на квадраты лист
бумаги, позволяющий воспроизвести график любой ситуации; будучи богословом,
он видел в двух сторонах доски гораздо более действенный способ представить
противоборствующие фракции в церкви и университете, чем любой из тех,
который он использовал ранее" {Ibid.}.
Число примеров различных аллегорическо-концептуальных прочтений можно
было бы умножить. Однако даже в тех, которые мы привели выше, ясно
вырисовывается тенденция, характерная для большей части современных работ о
Кэрролле: тенденция "вчитать" в его сказки то содержание, тот смысл и
контекст, которые прежде всего видятся данному автору в связи с конкретной
областью его интересов и исследований. Степень оправданности подобных
попыток в различных случаях различна, однако нельзя не признать, что
диапазон интерпретаций, вероятно, объясняется некими свойствами самих сказок
Кэрролла. Ведь ни одно из других произведений современных Кэрроллу авторов
не вызвало подобной "неотступности" в попытках различных интерпретаций. А
среди них (не говоря уже о таких гигантах, как Теккерей или Диккенс) было
немало писателей, несравнимо превосходящих Кэрролла и талантом, и
литературным мастерством.
Естественно предположить, конечно, что непосредственная научная
"специализация" Кэрролла-математика - и его интерес к той особой ее области,
которая получила впоследствии название математической логики, нашли свое
отражение в книге не столько в отдельных эпизодах или персонажах, сколько в
своеобразии предложенного Кэрроллом метода. Однако вряд ли было бы
правомерно пытаться представить сказки Кэрролла как закодированное изложение
строго определенной умозрительной теории, придавая каждому из действующих
лиц или эпизодов конкретный "исторический", "физиологический" или
"теологический" смысл. Неправомерно прежде всего потому, что каждое
произведение следует судить по законам того жанра, в котором оно создано.
При всем интересе Кэрролла к конкретно-научной и общефилософской мысли
(интересе, получившем отражение в его творчестве), "Алиса" прежде всего не
богословский или философский трактат, не математическое или логическое
сочинение, а произведение литературы, многими нитями связанное с
литературно-историческим контекстом той поры.
В этом плане следует вспомнить также и то, что сам Кэрролл неоднократно
протестовал против попыток "вчитать" какой бы то ни было аллегорический
смысл в его сказки, хотя при жизни писателя эти попытки не выходили за рамки
чисто литературные. Он не уставал повторять, что его сказки (особенно
первая) возникли из желания "развлечь" его маленьких приятельниц и что он не
имел в виду никакого "назидания". В своем творчестве Кэрролл сознательно
выступал против однолинейности, характерной для аллегорических, "моральных"
или дидактических книжек той поры. Снова и снова в ответ на вопрос критиков
и читателей он повторял, что хотел лишь "развлечь" и что его нонсенсы не
значат решительно ничего. В этой настойчивости видится прежде всего понятное
желание писателя защититься от произвольных "аллегорий". Вероятно, следует
принять во внимание и то, что в литературном контексте середины XIX в.
термин "развлечение" выступал неизменно как член оппозиции "развлечение -
назидание" со всем комплексом связанных с нею понятий. Пытаясь подыскать ему
аналог в системе понятий наших дней, мы приходим к "художественности",
трактуемой весьма широко.
* * *
Сказки Кэрролла можно рассматривать в двух планах: в их отношении к
прошлому и к тому литературно-историческому контексту середины XIX в.,
событием которого они были; но и в их отношении к будущему, особенно к
середине XX в., когда многие из подспудных тем и приемов Кэрролла, не
осознаваемые как таковые ни им самим, ни его современниками, получили - или,
вернее, начинают получать - должное освещение. Недаром "Алису" называют
"самой неисчерпаемой сказкой в мире".
Если пойти по первому, историко-литературному пути, то надо признать,
что творчество Кэрролла развивается в русле позднего романтизма, обнаруживая
ряд принципиальных отличий при сравнении с классическим романтизмом начала
века, своеобразным редуцированным вариантом которого оно является. Однако
эти "редукции", вызванные рядом причин - не последнее место среди них
занимает особая устойчивость, характеризовавшая эпоху викторианства по
сравнению с эпохой классического романтизма, - при внимательном анализе
оказываются не только и не столько "отступлением", сколько "продвижением
вперед".
Обе "Алисы" принадлежат к так называемым литературным сказкам - жанру,
получившему в Англии - в отличие от Германии и некоторых других европейских
стран - широкое развитие лишь к середине XIX в. "Король Золотой реки" Джона
Рэскина (написан в 1841 г., опубликован в 1851 г.), "Кольцо и роза" Теккерея
(1855), "Дети воды" Чарлза Кингсли (1863), многочисленные сказки Джорджа
Макдоналда (60-е-80-е годы), "Волшебная косточка" Диккенса ("Роман,
написанный во время каникул", 1868) по-своему разрабатывали богатейшую
фольклорную традицию Англии {Мы называем здесь лишь самые видные
произведения в длинном ряду, насчитывающем не один десяток названий.
Подробнее об этом см.: H. M. Демурова. О литературной сказке викторианской
Англии (Рэскин, Кингсли, Макдоналд). - В кн. Вопросы литературы и стилистики
германских языков. М., 1975, с. 99-167.}. К теоретической "реабилитации"
сказки в Англии в начале века обратились еще романтики, противопоставившие
творения народной фантазии утилитарно-дидактической и религиозной
литературе. Правда, в собственной художественной практике английские
романтики использовали народную сказку мало, обратив свое внимание в
основном на иные жанры. Однако теоретические установки романтиков начала
века, широкое использование ими различных фольклорных форм в собственном
творчестве подготовили почву для бурного развития литературной сказки в
Англии, начавшегося в 50-х годах XIX в. Важными вехами на пути к созданию
нового жанра было знакомство с творчеством европейских романтиков, в
особенности немцев, и выход первых переводов на английский язык сказок
братьев Гримм (1824) и X. X. Андерсена (1846).
Писатели, обратившиеся к жанру литературной сказки, переосмысляли его в
рамках собственных идей и концепций, придавая ему индивидуальное звучание.
Рэскин, Кингсли и Макдоналд используют "морфологию" сказки, приспособляя
морфологию английского и немецкого фольклора для построения собственных
сказочных повествований, выдержанных в христианско-этических тонах, в целом
не выходя за пределы допускаемых структурой народной сказки редукций, замен
и ассимиляций. Особую роль играют у них конфессиональные и суеверческие
замены {См.: В. Я. Пропп. Трансформация волшебных сказок. - Сб. "Фольклор и
действительность". М., 1976.}. Диккенс и Теккерей создают в своих сказках
весьма отличный по самому духу органический сплав, в котором чрезвычайно
силен элемент пародии (подчас и самопародии). Иронически переосмысляя
характерные темы собственного реалистического творчества и романтические
сказочные мотивы и приемы, они далеко отходят от строгой структуры народной
сказки, сохраняя лишь отдельные ее ходы и характеристики.
"Алиса в Стране чудес" и "Зазеркалье" стоят, безусловно, гораздо ближе
к этой последней, иронической линии развития литературной сказки Англии.
Однако они во многом и отличаются от известных нам произведений этого рода.
В первую очередь это отличие кроется в функциональном характере самой
иронии. В плане иронии сказки Диккенса и Теккерея ориентированы на
второсортные образчики мелодраматической и приключенческой литературы, а
Также в известном смысле на собственные произведения (в обоих случаях мы
находим в них иронические модели собственных тем, характеров, сюжетов).
Ирония здесь прежде всего пародийна или самопародийна. Ирония Кэрролла носит
принципиально иной характер: она ближе к той гораздо более общей категории,
которая в применении к немецким романтикам получила название "романтической
иронии". "В чисто познавательном смысле ирония означала, что тот частный
способ освоения мира, который практикуется в данном произведении, самим
автором признается неокончательным, но выходы за его пределы тоже всего лишь
субъективны и гипотетичны. Поэтому Тик в разговорах с Кепке указывал на
двойную природу иронии: "Она не является насмешкой, издевательством, как это
обыкновенно понимают, но скорее всего в ней присутствует глубокая
серьезность, связанная с шуткой и подлинным весельем". Ирония знаменует и
печаль бессилия и веселое попрание положительных границ" {В. Берковский.
Немецкий романтизм. В кн.: Немецкая романтическая повесть, т. 1. М.-Л.,
"Academia", 1935, с. XXX.}.
Элемент пародии, хоть он и также весом в сказках Кэрролла, как в
сказках Теккерея и Диккенса, играет частную, а не жанрообразующую роль.
С разной степенью вероятия можно предположить, что Кэрроллу были
известны сказки, созданные его современниками. Оставляя за неимением точных
данных в стороне вопрос о знакомстве Кэрролла со сказкой Теккерея до выхода
в свет "Страны чудес" (Диккенс опубликовал свою "Волшебную косточку" спустя
три года после нее), отметим, что ко времени "Зазеркалья" Кэрролл не мог не
познакомиться с ними. Произведения Рэскина, Кингсли и Макдоналда Кэрролл,
конечно, хорошо знал. Он был знаком с Рэскином, начинавшим свою деятельность
в Оксфорде; с семейством Кингсли и Макдоналдов Кэрролла связывали долгие
дружественные отношения. В тексте обеих сказок Кэрролла находим
неоднократные примеры перекличек с отдельными эпизодами в произведениях этих
писателей {См. цит. выше работу "О литературной сказке...", с. 130-132.}.
Однако сходство между сказками Кэрролла и этих писателей ограничивается лишь
отдельными деталями. Установка на религиозно-этическое иносказание в рамках
структуры народной волшебной сказки была Кэрроллу чужда.
В своем творчестве Кэрролл обращается к фольклору, не ограничивая себя
одной лишь волшебной сказкой, хоть последняя, безусловно, и играет важную
роль в генезисе его произведений. Структура народной сказки претерпевает под
пером Кэрролла изменения. Они ощущаются уже в завязке "Алисы в Стране
чудес". "Отправка" Алисы вниз по кроличьей норе никак не подготовлена: она
спонтанна - "сгорая от любопытства, она побежала за ним" (за Кроликом) и т.
д. - и не связана ни с предшествующей "бедой", ни с "вредительством", ни с
"недостачей" или какими бы то ни было другими ходами сказочного канона {См.
В. Я. Пропп. Морфология сказки. М., 1969.}. "Недостача" появляется лишь
тогда, когда, заглянув в замочную скважину, Алиса видит за запертой дверью
сад удивительной красоты. За ней следует ряд частных "недостач", связанных с
различными несоответствиями в росте Алисы относительно высоты стола, на
котором лежит ключик, замочной скважины, щели и пр. Ликвидация основной
"недостачи" (происходящая в главе VIII, когда Алиса, наконец, отпирает
золотым ключиком дверь и попадает в сад) не ведет к развязке - чудесный сад
оказывается царством хаоса и произвола, впереди еще игра в крокет, встреча с
Герцогиней, Грифоном и Черепахой Квази, суд над Валетом и пробуждение. Ни
один из этих эпизодов не подготовлен предшествующим действием, не "парен"
элементам завязки или развития действия. Развязка также не подготовлена
традиционными ходами, как и завязка. И если "недостача" в фольклорной сказке
и может отсутствовать вначале, появляясь лишь после необходимой "отправки"
героя (в этом отношении "Страна чудес" стоит еще достаточно близко к
канону), то спонтанность, необоснованность (с точки зрения традиции)
развязки составляет ее разительное отличие от фольклорной нормы. Стальная
конструкция причинно-следственных связей, характерная для народной сказки, в
"Стране чудес" решительно нарушается. Сказка кончается не тогда, когда Алисе
удалось ликвидировать основную "недостачу" и не потому, что ей удалось это
сделать. Просто кончается сон, а вместе с ним и сказка.
Подобным же трансформациям подвергаются и другие функции действующих
лиц. Они еще не полностью разрушены, еще ощущаются как таковые - однако их
качество и взаимосвязи сильно изменены. Так, у Кэрролла в обеих сказках
появляются "дарители", которые "выспрашивают", "испытывают", "подвергают
нападению" героя, "чем подготовляется получение им волшебного средства или
помощника" {Там же, с. 40 и далее.}. В Стране чудес это Гусеница, снабдившая
Алису чудесным грибом, Белый Кролик, в доме у которого Алиса находит пузырек
с чудесным напитком; в Зазеркалье это Белая Королева, испытавшая Алису бегом
и объяснившая ей потом правила шахматной игры, и обе Королевы, испытывающие
Алису загадками и вопросами, после чего она попадает на собственный пир. В
прямой функции дарителя выступает здесь, однако, лишь Гусеница. Впрочем,
характерно, что исход испытания никак не влияет на последующие события. Ведь
на самом деле Алиса не ответила ни на один из вопросов Гусеницы, так что
получение ею волшебного средства (гриба) совершенно неожиданно не только для
читателя, но и для самой Алисы. То же самое, но, пожалуй, в усугубленном
виде происходит и с остальными дарителями. Белый Кролик, сначала принявший
Алису не за ту, кем она является, отсылает ее наверх, невольно способствуя
тому, что она находит пузырек с волшебным питьем; позже, когда, внезапно и
катастрофически увеличившись в объеме, она занимает его дом, он организует
нападение на нее, снова невольно давая ей в руки волшебное средство (камни,
превращающиеся в пирожки, съев которые, она уменьшается). Здесь важна не
столько невольность одарения (это бывает и в традиционной сказке), сколько
то, что сам даритель и не узнает о своей особой функции. В испытаниях,
предлагаемых Королевами, Алиса также демонстрирует свою несостоятельность
(по крайней мере, с точки зрения Королев). Тем не менее вслед за этими
загадываниями, выспрашиваниями, испытаниями (но никак не вследствие их)
Алиса неизменно узнает о следующем шаге, который ей надлежит сделать.
Правда, сами причинно-следственные связи в этих случаях до чрезвычайности
ослаблены. Создается впечатление, что Кэрролл подвергает эти канонические
сказочные ходы ироническому переосмыслению, а в конечном счете и разрушению,
однако не изгоняя их вовсе из своей сказки. Напротив, они неизменно
присутствуют, словно автор задался целью показать нам воочию их ироническое
переосмысление. И здесь инструментом разрушения сказочного канона является
сон.
Известными вариантами "дарителя" являются и многие другие персонажи
обеих сказок: они также испытывают героиню известными способами, однако
подготавливается этим не снабжение "волшебным средством", а пересылка к
следующему дарителю. Вариантом враждебного существа-дарителя выступает
Королева в Стране чудес; однако и ее функция ослаблена - она лишь грозит
нападением и расправой, но не осуществляет своих угроз.
Подобным же образом ослабляются и другие функции: пространственные
перемещения между двумя царствами, путеводительство (в "Стране чудес"
используется вначале "неподвижное средство сообщения", туннель, в
"Зазеркалье" - перемещение, но по земле ли?), "снабжение", "получение
волшебного средства" (здесь часты случаи неожиданного нахождения средства
или его появления "само собой"), борьба (имеющая чаще всего форму словесного
состязания, зачастую близкого по характеру своему к перебранке) и пр.
Ослабление этих и некоторых других канонических сказочных функций происходит
не только за счет нарушения причинно-следственных связей или нарушения
состава и взаимодействия первичных элементов сказки, но и за счет
иронического осмысления всего происходящего, того особого романтического
свойства, которое было в высшей степени свойственно Кэрроллу. Прием сна,
упомянутый выше, - один из наиболее эффективных способов ее проявления.
Сказки Кэрролла, при некоторых внешних чертах сходства с юмористической
народной сказкой, на самом деле отстоят от нее очень далеко. Это объясняется
прежде всего принципиальным отличием в характере самого смеха.
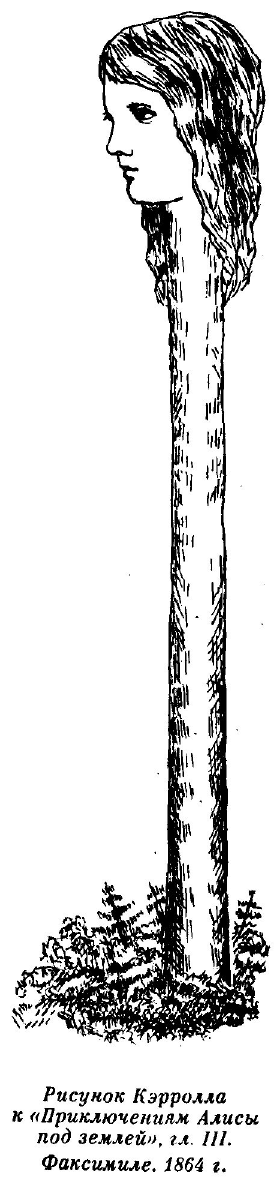 В своем внимании к фольклору Кэрролл не ограничивается одной лишь
волшебной сказкой. Он обращается к песенному народному творчеству, также
подвергая его переосмыслению. Однако характер этого переосмысления
качественно иной. В тексте обеих сказок немало прямых фольклорных песенных
заимствований. Они сосредоточены в основном в "Зазеркалье": народные песенки
о Шалтае-Болтае, Льве и Единороге, Труляля и Траляля. Впрочем, и
заключительные главы "Страны чудес" - суд над Валетом - основаны на
старинном народном стишке. Кэрролл не просто инкорпорирует в свои сказки
старые народные песенки; он разворачивает их в целые прозаические эпизоды,
сохраняя дух и характер фольклорных героев и событий.
Помимо прямых заимствований из фольклорного песенного творчества, в
сказках Кэрролла играют свою роль и заимствования опосредованные. Одним из
каналов такого опосредованного фольклорного влияния служили для Кэрролла
лимерики Эдварда Лира, эксцентрического поэта и рисовальщика, выпустившего в
1846 г. "Книгу нонсенса", оригинально разрабатывающую особую часть
фольклорного наследия Англии, связанного с "безумцами" и "чудаками" {В
дальнейшем творчество Лира и Кэрролла обнаруживает черты двусторонней связи
и взаимодействия. Не вдаваясь в подробности этого сложного процесса, отметим
здесь лишь даты публикаций отдельных произведений двух авторов.
1846 г. - "Книга нонсенса" Лира
1865 г. - "Алиса в Стране чудес"
1871 г. - "Бессмысленные песни, рассказы, ботаники и алфавиты" Лира
1871 г. - (декабрь) - "Алиса в Зазеркалье", "Еще нонсенс" Лира (дат.
1872 г.)
1876 г. - "Охота на Снарка" Кэрролла
1877 г. - "Смешные стихи" Лира.}.
Возможно, что некоторые образы Кэрролла навеяны лимериками Лира, в свою
очередь находящими себе "аналоги" в фольклоре. Вспомним некоторые из самих
известных нонсенсов Лира.
А вот господин из Палермо,
Длина его ног непомерна.
Он однажды шагнул из Парижа в Стамбул,
Дорогой господин из Палермо.
. . . . .
А вот человек из-под Кошице.
Он меньше, чем нам это кажется:
В ненастный денек его сцапал щенок
И погиб человек из-под Кошице.
. . . . .
А вот господин из Бомбея.
Он сидел на столбе не робея.
А когда холодало - он спускался, бывало,
И просил ветчины посвежее.
. . . . .
А вот господин с бородой.
Он знаком с верховою ездой.
Если лошадь взбрыкнула - словно пуля из дула,
Он летел, господин с бородой {*}.
{* При переводе стихов Лира нередко приходится менять географические и
прочие приметы для того, чтобы сохранить "драматургию". По этому пути идет
О. Седакова и другие переводчики Лира.}
Господин из Палермо с непомерно длинными ногами заставляет нас
вспомнить эпизод, где Алиса прощается со стремительно убегающими от нее вниз
ногами. Сходство это подчеркивается рисунками обоих авторов (Лир неизменно
сопровождал свои нонсенсы очень смешными и выразительными рисунками).
Лировским господином, сидящим на столбе, был, возможно, навеян сидящий на
стене старик из баллады Белого Рыцаря; а сам Рыцарь, то и дело падающий со
своего коня, - многочисленными героями Лира, страдающими тем же недостатком.
(Примечательно, что и Лир, и Кэрролл вкладывали в этих злополучных героев
много личного. Лир неизменно рисовал их похожими на себя; Белый Рыцарь
Кэрролла также содержит немало черт самопародии.)
Число примеров подобного рода можно было бы умножить: эпизод со щенком
(гл. IV "Страны чудес") находит свою параллель в лировском лимерике о
крошечном господине из-под Кошице; сад, где цветы говорили, и зазеркальные
насекомые - в "Бессмысленной ботанике" Лира {Р. Л. Грин указывает и на
другой источник зазеркальных насекомых: это юмористические "Образчики, еще
не включенные в коллекцию Риджент Парка" ("Punch", June - August, 1868). -
АА, p. 27.} и пр. Не будем приводить их все; для нас важно установить самый
факт воздействия нонсенсов Лира, через которые Кэрролл воспринял один из
аспектов народной традиции.
Помимо сказочного и песенного творчества, музу Кэрролла питал еще один
мощный пласт национального самосознания.
В сказках Кэрролла оживали старинные образы, запечатленные в пословицах
и поговорках. "Безумен, как мартовский заяц" - эта пословица была записана
еще в сборнике 1327 г.; ее использовал Чосер в своих "Кентерберийских
рассказах". Мартовский Заяц вместе с Болванщиком, другим патентованным
безумцем, правда, уже нового времени, становятся героями "Страны чудес".
Характер Чеширского Кота да и самый факт его существования также объясняются
старыми пословицами. "Улыбается, словно чеширский кот", - говорили англичане
еще в средние века. А в сборнике 1546 г. находим пословицу: "Котам на
королей смотреть не возбраняется". Старинная пословица: "Глупа, как
устрица", была, по словам Р. Л. Грина, "возрождена к новой жизни" в "Панче"
карикатурой Тенниела (19 января 1861 г.).; возможно, отсюда возник эпизод с
устрицами у Кэрролла в "Стране чудес" {Ibid.}. Значение этих образов трудно
переоценить. Уходя корнями в глубину национальной культуры, они
реализовались под пером Кэрролла в развернутые метафоры, определяющие
характеры персонажей и их поступки.
Особую роль в контексте сказки Кэрролла играют его патентованные
безумцы и чудаки. Они связаны (прямо или опосредствованно, через Лира) с той
"могучей и дерзкой" {К. И. Чуковский. От двух до пяти. М., 1956, с. 258.}
фольклорной традицией, которая составляет одну из самых ярких черт
национальной специфики английского самосознания. Именно эти безумцы и чудаки
(а таковыми, за исключением самой Алисы и некоторых второстепенных
персонажей, являются все герои обеих сказок) создают тот особый "антимир",
ту "небыль", чепуху, изнаночный мир с его нарочито подчеркнутой
"нереальностью" {См.: Д. С. Лихачев, А. М. Панченко. "Смеховой мир" древней
Руси. Л., 1976, с. 17.}, которые в Англии составляют самую суть нонсенса. В
них слышатся отдаленные отзвуки могучего карнавального смеха прежних эпох,
сохраненного фольклорной традицией. Правда, смех этот отдается лишь эхом,
карнавал "переживается наедине", "переводится на субъективный язык новой
эпохи" {М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. М., 1965, с. 43, 44. См. в целом характеристику
романтического гротеска (с. 40-52).}. Все же, несмотря на отдаленность во
времени и редуцированность форм, принявших "формализованный, литературный
характер", правильно понять особый характер нонсенса середины XIX в. нам
может помочь концепция карнавала и карнавального мировоззренческого смеха,
выдвинутая M. M. Бахтиным. Она подсказывает нам ответ на ту загадку, над
которой в течение многих лет бьются критики различных направлений: Доджсон с
его приверженностью к порядку, религиозностью, законопослушанием - и
подчеркнуто внерелигиозный, внеморальный, алогический характер его сказок.
Существует множество попыток объяснить ЭТУ двойственность: одни говорят о
"раздвоении личности" Доджсона-Кэрролла, другие видят в его сказках признаки
психопатологии, трактуемой в духе фрейдизма ("заторможенность развития",
"бегство в детство" как своего рода защитная реакция от сложности реального
мира, осмыслить которую сознание отказывается, и пр.). Интересное объяснение
"феномена Кэрролла" предлагает Честертон, эссе которого мы приводим в нашем
томе. Он называет нонсенс Кэрролла "интеллектуальными каникулами",
"праздником", который разрешает себе респектабельный, закованный в броню
условностей ученый-викторианец. Бурные, дерзкие, безоглядные, смеющиеся
каникулы, во время которых он создает "перевернутый вверх ногами" мир и
"учит стоять на голове не только детей, но и ученых". Каникулы, праздник...
Возникает соблазн добавить: "карнавал". Впрочем, здесь надо быть предельно
осторожным. Как известно, М. М. Бахтин развивает концепцию о двумирности
средневекового ренессансного сознания и связанных с ним обрядовозрелищных
смеховых форм. "Они давали совершенно иной, подчеркнуто неофициальный,
внецерковный и внегосударственный аспект мира, человека и человеческих
отношений; они как бы строили по ту сторону всего официального второй мир и
вторую жизнь, которым все средневековые люди были в большей или меньшей
степени причастии, в которых они в определенные сроки жили. Это - особого
рода двумирность, без учета которой ни культурное сознание средневековья, ни
культура Возрождения не могут быть правильно понятыми. _Игнорирование или
недооценка смеющегося народного средневековья искажает картину и всего
последующего исторического развития европейской культуры_" {М. Бахтин.
Творчество Франсуа Рабле, с. 8 и далее.} (курсив наш. - Н. Д.).
История смеха в последующие эпохи исторического развития культуры,
английской культуры в частности, еще ждет своих исследователей. Пока что
заметим только, что, возможно, концепция M. M. Бахтина дает некоторые
основания для прочтения нонсенса Кэрролла. Не исключено, что в нонсенсе
Кэрролла явственно звучит эхо "второго мира средневековья и Возрождения",
донесенное до середины XIX в. фольклором. Для понимания нашего автора важно
и замечание M. M. Бахтина относительно "игрового элемента" карнавальных
форм. "По своему наглядному, конкретно-чувственному характеру и по наличию
сильного игрового элемента они близки к художественно-образным формам,
именно к театрально-зрелищным... Но основное карнавальное ядро этой культуры
вовсе не является чисто художественной театрально-зрелищной формой и вообще
не входит в область искусства. Оно находится на границах искусства и самой
жизни. В сущности, это - сама жизнь, но оформленная особым игровым способом"
{Там же, с. 9-10.}. И здесь снова в субъективных, редуцированных,
формализованных приемах кэрролловского нонсенса можно услышать отголоски
народной традиции. Возникнув как игра, в которой равно участвовали все
присутствующие (слушатели не только подавали реплики, но и предлагали темы и
решения), первая рассказанная девочкам Лидделл сказка была также и показана
им, правда, не в действии, а в серии набросков и рисованных мизансцен,
нашедших потом свое отражение в рисунках Кэрролла к первому записанному им
варианту. Эта первая рассказанная сказка импровизировалась на ходу, как
commedia dell'arte, отталкиваясь от злободневных сиюминутных событий,
связанных с "масками"-участниками, их именами, прозвищами, характерами и пр.
Позже в окончательном, литературном варианте "Алисы" эта специфика несколько
стерлась. И все же она во многом ощущается в сказке, делая ее отличной от
других литературных сказок того времени. Это прежде всего особая сценичность
сказки. Если исключить начальные описания, в которых автор излагает "условия
игры", время и место "сценического" действия (несколько более затянутые в
"Стране чудес", где он еще только нащупывал путь, чем в "Зазеркалье"), обе
части одинаково легко распадаются на некие сцены, участники которых ведут
между собой диалог, нередко принимающий вид ссоры, перебранки и описываемый
действиями балаганно-бурлескного типа. Рыцари в "Зазеркалье" дерутся
дубинками, которые держат, как подчеркивает это в авторской "ремарке"
Кэрролл, обеими руками, словно Панч и Джуди, излюбленные герои народного
кукольного театра {В традиционном рыцарском романе рыцари также держат
оружие двумя руками, что обыгрывается Кэрроллом в ином контексте.}. Кухарка
швыряет в Герцогиню все, что попадает ей под руку: совок, кочергу, щипцы для
угля, чашки, тарелки, блюдца... Наконец, сама Герцогиня швыряет в Алису
младенцем. В сказке то и дело кто-то кого-то пинает, швыряет, дерет,
колотит, лупит, обзывает, срамит, грозит прикончить, оттяпать голову и пр.
Многие из шуток Кэрролла, особенно те из них, которые связаны со смертью,
носят также балаганный оттенок. Здесь в сказку Кэрролла явно проникает
народное балаганное (порою кукольное) зрелище, которое даже в XIX в.
сохранило отдельные черты площадного народного действа давних времен.
Сами "прения" актеров в "Алисе" необычайно подвижны, лаконичны,
выразительны. Кэрролл проявляет себя в подлинном смысле слова мастером
сценического диалога. Описания действий и вводы в сцены предельно сжаты -
писатель не описывает внешности своих героев, не поминает о красотах
природы, не вводит никаких деталей, которые не были бы потом "обыграны" в
диалоге. Диалог - это всегда поединок (и не только словесный), всегда
противоборство, в котором и проявляют себя характеры. Не менее выразительны
и театрализованны размышления самой Алисы, неизменно оформляемые как
монологи.
Особую роль выполняют в тексте обеих сказок рисунки. Они восполняют тот
зрелищный аспект, недостаток которого из-за отсутствия описаний иначе
неизбежно ощущался бы в тексте. Сказка Кэрролла с самого начала прямо
ориентирована на них. Они не только иллюстрируют текст; они его восполняют и
проясняют. Рисунки - органическая часть сказок Кэрролла. Сравнивая
первоначальные рисунки Кэрролла ("Приключения Алисы под землей") и
иллюстрации Тенниела, читая их переписку во время работы над иллюстрациями,
понимаешь, насколько близко следовал Тенниел замыслу писателя. Многие из его
рисунков развивают эскизы, набросанные Кэрроллом {Достаточно сравнить
рисунки Кэрролла к "Приключениям Алисы под землей" с иллюстрациями Тенниела,
чтобы увидеть, сколь многим обязан последний писателю.}.
Наконец, в самом построении "изнаночного", "перевернутого вверх ногами"
мира Кэрролл, как никто, следует принципам "необузданного", "дикого" (wild -
выражение Ч. Лэма) фольклорного духа. Он переворачивает вверх дном,
выворачивает наизнанку, меняет местами причину и следствие, "отчуждает"
части тела и действия, создает непредставимое, оживляет стершиеся речения и
метафоры и, вновь вдохнув в них жизнь, "реализует" их, он пародирует, он
смеется над смертью и пр. Мы далеки от мысли о том, что между нонсенсом
Кэрролла и вдохновившей его праздничной карнавальной традицией можно
поставить знак равенства. M. M. Бахтин развивает свою концепцию на материале
архаических культур, представляющих по сравнению с XIX в. качественно иную
ступень. И все же нам кажется немаловажным указать на возможность некой
генетической связи сказок Кэрролла с этой традицией.
Другим мощным пластом в сказках Кэрролла является пласт
диалого-литературный, складывающийся из пародий, заимствований, обработок,
аллюзий. Кэрролл словно ведет ни на минуту не прекращающийся диалог с
невидимыми собеседниками, многих из которых давно уже нет в живых. Уровень
такого рода есть в каждом произведении, ибо все они включены - прямо или
опосредствованно - в тот диалог, который составляет содержание всякой
культуры. В сказках Кэрролла поражает прежде всего множественность интонаций
и типов диалогического отклика.
Среди критиков принято говорить о пародиях (иногда их называют
бурлесками, травестиями) в сказках Кэрролла; это стихотворения: "Папа
Вильям", "Колыбельная", которую поет Герцогиня, песни о крокодиле и филине,
"Морская кадриль", "Это голос Омара...", "Вечерняя еда" ("Страна чудес");
"Морж и Плотник", песня Белого Рыцаря, хор на пиру во дворце Алисы
("Зазеркалье"). Однако термин "пародия" в применении к этим стихотворениям
вряд ли можно считать достаточно точным. Правда, все эти стихотворения так
или иначе связаны с неким "оригиналом", который "просвечивает" вторым планом
через "снижающий", "пародирующий" текст Кэрролла. Но степень связи с
"исходным текстом" в разных случаях разная: иногда кэрролловское
стихотворение очень близко "повторяет" оригинал, широко используя его
лексику, структуру и самое строение строк; порой же сохраняются лишь
отдельные детали, ритмический рисунок, размер, дыхание. Точно так же
разнятся и отношение к "оригиналу" и цели "пародирования".
В "Папе Вильяме", например, Кэрролл последовательно "снижает" текст
нравоучительного стихотворения Саути "Радости старика и Как Он их Приобрел"
(см. с. 41 и 42). "Моральные" и "возвышающие душу" темы размышлений Саути -
о быстротечности жизни и радостей земных, о смерти и пр. - заменяются у
Кэрролла веселой "чепухой", вызывающе открыто декларированной во второй
строфе:
...Но узнав, что мозгов в голове моей нет,
Я спокойно стою вверх ногами.
Сохраняя не только героев и вопросно-ответную схему стихотворения
Саути, но и самое построение фраз отца и сына, ряд описательных конструкций,
стихотворный размер, схему рифм и пр., Кэрролл переводит все содержание
стихотворения в план безответственного "стояния на голове".
Здесь, очевидно, небесполезно вспомнить то старое различие между
собственно пародией и травестией, или изнанкой, указание на которое находим
в рукописях Ю. Н. Тынянова. Цитируя старого автора, Тынянов пишет:
""Изнанкою называется описание шуточным и даже низким слогом тех
происшествий, кои прежде но важности своей описаны были слогом высоким.
Изнанка не есть пародия, как многие полагают, ибо пародия состоит в
применении того же сочинения к другим происшествиям и к другим лицам, с
переменою некоторых выражений". Нет надобности воскрешать старую и уже для
начала XIX в. не ясную терминологию, но содержащееся в ней указание на
разный характер связи между пародирующим и пародируемым произведением
существенно, если не связывать "изнанку" непременно с жанром
травестированных эпопей" {Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино.
М., 1977, с. 541 (прим. к ст. "О пародии").}. "Папа Вильям" Кэрролла ближе
всего именно к этому "изнаночному" типу пародийной литературы. Английский
язык, не только сохранивший самое понятие "травестии", но и широко
пользующийся им, делает закономерным подобное "воскрешение" старой теории в
данном случае.
Вместе с тем возникает вопрос: какова цель такого травестирования?
Очевидно, скажем мы, Кэрролл высмеивал скучное нравоучительное стихотворение
Саути и его религиозно-этическую установку. Но здесь-то и возникает основное
затруднение: религиозно-этическая установка Саути не только не была чужда
Кэрроллу, но и, напротив, была ему чрезвычайно близка. Когда Кэрролл не был
занят нонсенсом, он говорил, думал и писал совершенно в том же духе, что и
Саути. В своих проповедях и письмах, в своем романе "Сильви и Бруно" (в
"серьезных" и во многом автобиографических его частях), даже в предисловиях
к книгам нонсенса он развивал совершенно те же мысли. Может быть, объектом
пародии в данном случае являются некоторые формальные, внешние моменты
поэзии Саути, действительно зачастую дающие повод ко всякого рода
"придиркам"? Однако тогда Кэрролл должен был бы пойти по иному пути, доводя
до абсурда именно эти погрешности формы.
Та же проблема встает перед нами в случае с пародийным отрывком о
малютке крокодиле, через который "просвечивает" (во всяком случае, четко
"просвечивало" в те годы) хрестоматийное стихотворение Уоттса о трудолюбивой
пчелке, или в "Голосе Омара" (снова оригинал Саути, см. с. 84-85). Кэрролл,
посвятивший немало прочувствованных строк тому, как следует трудом и
размышлениями заполнять каждый миг, чтобы не попасть во власть греховных
мыслей, вряд ли стал бы писать "сатиру" на близкое ему по духу и мысли
стихотворение Уоттса. То же можно сказать о стишке про "филина", заменившего
собой "звездочку" Джейн Тейлор (см. с. 61).
В "колыбельной" Герцогини Кэрролл отходит от "исходного" стихотворения,
посвященного кроткой любви (см. с. 49 - 50), дальше, чем в двух упомянутых
выше примерах; однако отношение к используемому тексту остается тем же.
При решении вопроса о пародиях Кэрролла следует, как нам кажется,
провести несколько граней. Сошлемся опять на работу Ю. Н. Тынянова "О
пародии", различающую "вопрос о _пародичности_ и _пародийности_, иначе
говоря - вопрос о пародической форме и о пародийной функции" {Ю. И. Тынянов.
Поэтика, с. 290.}. Ю. Н. Тынянов пишет: "Пародичность и есть применение
пародических форм в непародийной функции". Такое "использование какого-либо
произведения как макета для нового произведения" - весьма выразительное
средство, ибо "оперирование сразу двумя семантическими системами, даваемыми
на одном знаке, производит эффект, который Гейне называл техническим
термином живописцев - "подмалевка" и считал необходимым условием юмора" {Там
же.}.
В сказках Кэрролла мы находим примеры такой чистой "пародичности":
таковы "Морж и Плотник", песня Белого Рыцаря, "Вечерняя еда", "Морская
кадриль", "Колыбельная". Связь с "пародируемыми" произведениями весьма
отдалена и опосредствована, сохраняется лишь "костяк", "макет". "Сатиры",
направленной против этих исходных оригиналов, в пародиях Кэрролла нет;
второй план "подмалеван" очень тонко, он едва просвечивает и чувствуется
лишь в особых интонациях, поворотах фразы, ритме, дыхании. Вероятно,
сказывается здесь и то, что Кэрролл использует тексты поэтов, которых он
особенно любил - Уордсворта, Теннисона, - в поэтическом отношении стоящих
бесконечно выше и Саути, и камерных детских поэтов начала века.
Второй тип пародий, который мы находим в сказках Кэрролла ("Малютка
крокодил", "Голос Омара" и пр.), не является, строго говоря, ни
"пародийным", ни "пародическим", хоть он и представлен произведениями,
которые содержат - в сильно ослабленном виде - и те, и другие
характеристики.
Возникает вопрос: не являются ли эти стихотворения Кэрролла
своеобразным поэтическим "синтезом", попыткой выразить путем пародии свое
отношение к избранному в качестве образца поэту {См.: Вл. Новиков. Зачем и
кому нужна пародия. - "Вопросы литературы", 1976, Э 5, с. 193 и далее. См.
также: А. Морозов. Пародия как литературный жанр. - "Русская литература",
1960, Э 1.}? Думается, что и на этот вопрос следует ответить отрицательно.
"Пародии" Кэрролла существуют не как самостоятельный литературный жанр, они
входят важной составной частью в тот строго ограниченный временем и местом
"праздник", те "каникулы", о которых писал Честертон. "Сатира" и "синтез"
присутствуют в них не только в том смысле, в каком склонен их видеть
критический глаз читателя, но и в том, в котором они допускались общей
установкой Кэрролла. Вместе с тем подспудная, подсознательная
амбивалентность в отношении не только к таким поэтам, как Саути, Тейлор,
Уотте, но даже и к таким бесконечно более значительным, как Уордсворт и
Теннисон, определяла характер его "бессмысленных" пародий. Их можно было бы
назвать "стихами-эхо" по примеру "слов-эхо", о которых говорит Э. Партридж в
приложении к Лиру {Е. Partridge. The'Nonsense Words of Edward Lear and Lewis
Carroll. Here, There and Everywhere. L., 1950, pp. 162-188. Приведем лишь
один пример таких "словэхо" у Лира: "...as an earnest Token of their sincere
and grateful infection". Infection слегка, словно эхо, трансформирует само
собой разумеющееся "affection", вводя в текст сложную гамму
амбивалентностей.}. Прямая сатира в них отсутствует, но иронический отзвук
возникает - насколько сознательно, сказать трудно.
"Диалогичность" кэрролловских сказок не ограничивается стихотворными
"пародиями". Вопрос о том, "едят ли кошки мошек", возможно, навеян строками
из "Золотой нити" (1861) Нормана Маклеода; золотой ключик - стихотворением и
сказкой Джорджа Макдоналда {Как указывает Р. Л. Грин, стихотворение Джорджа
Макдоналда было опубликовано в 1861 г. в книге "Victoria Regis", а его
знаменитая сказка-аллегория "Золотой ключ" вышла лишь в 1867 г. (в сборнике
"Встречи с феями"). Однако друзья читали сказки Макдоналда в рукописях
задолго до публикации, и Кэрролл, конечно, мог знать их.}; в сцене с
Гусеницей и грибом слышатся отзвуки "Бала бабочек" (1806) Уильяма Роскоу;
"Зазеркалье" разрабатывает тему зеркала, предложенную, в частности, тем же
Макдоналдом в романтической вставной новелле о Космо Верштале, бедном
студенте Пражского университета (роман-сказка "Фантазия", 1858); Белый
Рыцарь напоминает Грустного Рыцаря в "Фантазии" Макдоналда, а возможно, и
Дон Кихота {J. Hinz. Alice Meets the Don. - "South Atlantic Quarterly", LII
(1953). См. также AA. He принимая в целом концепции Хинца, выводящего
"Алису" из "Дон-Кихота", отметим лишь справедливые наблюдения о близости
ряда деталей.}. Было замечено, что в первой главе "Зазеркалья" слышатся
отзвуки "Сверчка на печи" Диккенса и его пародистов {См. комментарий
Гарднера (с. 114 и далее), а также примечания Р. Л. Грина к изд. L. Carroll.
Alice's Adventures..., op. cit., p. 256.}; в "Стране чудес" находят цитаты
из "Энеиды" {См. примечания Р. Л. Грина (ibid., p. 256); на сходство с
Вергилием указал Дж. Б. Дейвис.} и "Божественной комедии". Для исследователя
Кэрролла эти аллюзии представляют особый интерес, ибо многие из них вводят
свою тему, подвергая переосмыслению исходный, заимствованный образ. "Чужие
слова", включаясь в новый контекст, начинают жить двойной жизнью: не теряя
первоначального смысла, на который они прямо и открыто указывают, они в то
же время дают свое истолкование предложенного образа и темы.
Интересны в этом отношении реминисценции из Макдоналда. Герою сказки
Макдоналда золотой ключик, в отличие от Алисы, дается в руки сразу, но
дверь, которую ему надлежит им открыть, можно найти лишь после долгих
поисков. Этому он посвящает всю жизнь. Странствия в поисках Страны Золотого
Ключика превращаются в сложную аллегорию жизненных странствий в поисках
высшей правды. Мечта о таинственной двери, которую должен открыть золотой
ключик, соединяется в воображении героев с мечтой о "стране, откуда падают
тени"; отголоски платоновских идей, "Пути паломника" Бэньяна и христианской
мифологии соединяются в разветвленную систему символики. Лишь в смерти
находит герой Макдоналда Страну, поискам которой он посвятил всю жизнь.
Смерть толкуется Макдоналдом как "часть жизни": поиски высшей правды не
завершаются окончательно и там. Нетрудно заметить отличие трактовки этой
темы у Кэрролла: в чудесном саду, куда, наконец, с помощью золотого ключика
попадает Алиса, нет места стройным аллегориям, там царят хаос,
бессмысленность, произвол. Разветвленная система реминисценций, прямых и
косвенных аллюзий создает вокруг внешне простых сказок Кэрролла богатейший
звуковой "фон", в котором звучат многие голоса.
Особенно интересны в этом плане реминисценции из Шекспира, которого
Кэрролл прекрасно знал и любил. В тексте сказок находим немало скрытых
цитат, на которых порой строится диалог. Таков разговор Алисы с Комаром в
главе о зазеркальных насекомых, в котором слышится отзвук диалога Глендаура
и Хотспера из "Генриха IV" (часть I, III, 1; см. с. 347).
Любимая фраза Королевы из "Страны чудес", как указывает Р. Л. Грин, -
это прямая цитата из "Ричарда III" (III, IV, 74); максима Герцогини из главы
о Черепахе Квази переиначивает строку из "Сна в летнюю ночь" (IV, 1, 72);
заключение Чеширского Кота при первой встрече с Алисой ("Конечно, ты не в
своем уме. Иначе как бы ты здесь оказалась?") приводит на ум строки из
"Макбета" (I, 5, 33). Однако гораздо важнее здесь не эти детали, а более
общий принцип. В самой структуре обеих сказок об Алисе используется метод
"диффузной метафоры", характерный для таких произведений Шекспира, как "Сон
в летнюю ночь" или "Буря". Трактовка времени и пространства у Кэрролла
обнаруживает также черты сходства с Шекспиром.
Наконец, еще одним важным уровнем сказки Кэрролла является научный.
Конечно, было бы упрощением представлять его в виде единого пласта,
"залегающего" на известной глубине. Скорее он рассеян, диффузирован по всему
тексту, придавая ему неожиданные глубины. Мартин Гарднер в своей
"Аннотированной" Алисе собрал интереснейший материал о научных "прозрениях"
и предвидениях Кэрролла. Кое-что из наблюдений Гарднера может показаться
поначалу несколько надуманным; впрочем, выводы его подтверждаются и работами
многих современных ученых. Как бы то ни было, несомненно одно: в сказках
Кэрролла воплотился не только художественный, но и научный тип мышления. Вот
почему логики, математики, физики, философы, психологи находят в "Алисе"
материал для научных размышлений и интерпретаций.
В последнее время появились и лингвистические работы о Кэрролле.
Непосредственным поводом для лингвистических раздумий над Кэрроллом
послужила знаменитая баллада "jabberwocky" из "Зазеркалья" (в нашем переводе
- "Бармаглот"). Уже Чарлз Карпентер в своем основательном исследовании о
структуре английского языка {Ch. Carpenter. The Structure of English. NY,
1952.} цитирует эту балладу, приходя к Заключению, что сама структура этого
"бессмысленного" стихотворения (особенно это относится, конечно, к первой
строфе) является смыслоносителем. Известный английский лексикограф Эрик
Партридж посвящает специальную работу неологизмам Кэрролла, привлекая,
помимо баллады из "Зазеркалья", материалы поэмы "Охота на Снарка" и ранних
"англосаксонских" опусов Кэрролла {E. Partridge. The Nonsense Words...}.
Роберт Сазерленд прослеживает развитие лингвистических интересов Кэрролла на
всем протяжении его творчества {R. D. Sutherland. Language and Lewis
Carroll. The Hague, 1970.}.
Интересное прочтение Кэрролла предлагает М. В. Панов, который считает,
что у Л. Кэрролла было не только безупречное чувство языка, но и умение
проникнуть в его сущность, была своя (вероятно, интуитивная) лингвистическая
концепция, по крайней мере концепция называния, одной из важнейших языковых
функций. По мнению исследователя, Кэрролл показал сложную условность
наименования, его знаковую сущность, несовпадение структуры "обозначающего"
и "обозначаемого", то есть подошел к проблемам, которые в полный свой рост
встали только перед языкознанием XX в. {М. В. Панов. О переводах на русский
язык баллады "Джаббервокки" Л. Кэрролла. "Развитие современного русского
языка. 1972. Словообразование. Членимость слова". М., 1975.}
В своем внимании к фольклору Кэрролл не ограничивается одной лишь
волшебной сказкой. Он обращается к песенному народному творчеству, также
подвергая его переосмыслению. Однако характер этого переосмысления
качественно иной. В тексте обеих сказок немало прямых фольклорных песенных
заимствований. Они сосредоточены в основном в "Зазеркалье": народные песенки
о Шалтае-Болтае, Льве и Единороге, Труляля и Траляля. Впрочем, и
заключительные главы "Страны чудес" - суд над Валетом - основаны на
старинном народном стишке. Кэрролл не просто инкорпорирует в свои сказки
старые народные песенки; он разворачивает их в целые прозаические эпизоды,
сохраняя дух и характер фольклорных героев и событий.
Помимо прямых заимствований из фольклорного песенного творчества, в
сказках Кэрролла играют свою роль и заимствования опосредованные. Одним из
каналов такого опосредованного фольклорного влияния служили для Кэрролла
лимерики Эдварда Лира, эксцентрического поэта и рисовальщика, выпустившего в
1846 г. "Книгу нонсенса", оригинально разрабатывающую особую часть
фольклорного наследия Англии, связанного с "безумцами" и "чудаками" {В
дальнейшем творчество Лира и Кэрролла обнаруживает черты двусторонней связи
и взаимодействия. Не вдаваясь в подробности этого сложного процесса, отметим
здесь лишь даты публикаций отдельных произведений двух авторов.
1846 г. - "Книга нонсенса" Лира
1865 г. - "Алиса в Стране чудес"
1871 г. - "Бессмысленные песни, рассказы, ботаники и алфавиты" Лира
1871 г. - (декабрь) - "Алиса в Зазеркалье", "Еще нонсенс" Лира (дат.
1872 г.)
1876 г. - "Охота на Снарка" Кэрролла
1877 г. - "Смешные стихи" Лира.}.
Возможно, что некоторые образы Кэрролла навеяны лимериками Лира, в свою
очередь находящими себе "аналоги" в фольклоре. Вспомним некоторые из самих
известных нонсенсов Лира.
А вот господин из Палермо,
Длина его ног непомерна.
Он однажды шагнул из Парижа в Стамбул,
Дорогой господин из Палермо.
. . . . .
А вот человек из-под Кошице.
Он меньше, чем нам это кажется:
В ненастный денек его сцапал щенок
И погиб человек из-под Кошице.
. . . . .
А вот господин из Бомбея.
Он сидел на столбе не робея.
А когда холодало - он спускался, бывало,
И просил ветчины посвежее.
. . . . .
А вот господин с бородой.
Он знаком с верховою ездой.
Если лошадь взбрыкнула - словно пуля из дула,
Он летел, господин с бородой {*}.
{* При переводе стихов Лира нередко приходится менять географические и
прочие приметы для того, чтобы сохранить "драматургию". По этому пути идет
О. Седакова и другие переводчики Лира.}
Господин из Палермо с непомерно длинными ногами заставляет нас
вспомнить эпизод, где Алиса прощается со стремительно убегающими от нее вниз
ногами. Сходство это подчеркивается рисунками обоих авторов (Лир неизменно
сопровождал свои нонсенсы очень смешными и выразительными рисунками).
Лировским господином, сидящим на столбе, был, возможно, навеян сидящий на
стене старик из баллады Белого Рыцаря; а сам Рыцарь, то и дело падающий со
своего коня, - многочисленными героями Лира, страдающими тем же недостатком.
(Примечательно, что и Лир, и Кэрролл вкладывали в этих злополучных героев
много личного. Лир неизменно рисовал их похожими на себя; Белый Рыцарь
Кэрролла также содержит немало черт самопародии.)
Число примеров подобного рода можно было бы умножить: эпизод со щенком
(гл. IV "Страны чудес") находит свою параллель в лировском лимерике о
крошечном господине из-под Кошице; сад, где цветы говорили, и зазеркальные
насекомые - в "Бессмысленной ботанике" Лира {Р. Л. Грин указывает и на
другой источник зазеркальных насекомых: это юмористические "Образчики, еще
не включенные в коллекцию Риджент Парка" ("Punch", June - August, 1868). -
АА, p. 27.} и пр. Не будем приводить их все; для нас важно установить самый
факт воздействия нонсенсов Лира, через которые Кэрролл воспринял один из
аспектов народной традиции.
Помимо сказочного и песенного творчества, музу Кэрролла питал еще один
мощный пласт национального самосознания.
В сказках Кэрролла оживали старинные образы, запечатленные в пословицах
и поговорках. "Безумен, как мартовский заяц" - эта пословица была записана
еще в сборнике 1327 г.; ее использовал Чосер в своих "Кентерберийских
рассказах". Мартовский Заяц вместе с Болванщиком, другим патентованным
безумцем, правда, уже нового времени, становятся героями "Страны чудес".
Характер Чеширского Кота да и самый факт его существования также объясняются
старыми пословицами. "Улыбается, словно чеширский кот", - говорили англичане
еще в средние века. А в сборнике 1546 г. находим пословицу: "Котам на
королей смотреть не возбраняется". Старинная пословица: "Глупа, как
устрица", была, по словам Р. Л. Грина, "возрождена к новой жизни" в "Панче"
карикатурой Тенниела (19 января 1861 г.).; возможно, отсюда возник эпизод с
устрицами у Кэрролла в "Стране чудес" {Ibid.}. Значение этих образов трудно
переоценить. Уходя корнями в глубину национальной культуры, они
реализовались под пером Кэрролла в развернутые метафоры, определяющие
характеры персонажей и их поступки.
Особую роль в контексте сказки Кэрролла играют его патентованные
безумцы и чудаки. Они связаны (прямо или опосредствованно, через Лира) с той
"могучей и дерзкой" {К. И. Чуковский. От двух до пяти. М., 1956, с. 258.}
фольклорной традицией, которая составляет одну из самых ярких черт
национальной специфики английского самосознания. Именно эти безумцы и чудаки
(а таковыми, за исключением самой Алисы и некоторых второстепенных
персонажей, являются все герои обеих сказок) создают тот особый "антимир",
ту "небыль", чепуху, изнаночный мир с его нарочито подчеркнутой
"нереальностью" {См.: Д. С. Лихачев, А. М. Панченко. "Смеховой мир" древней
Руси. Л., 1976, с. 17.}, которые в Англии составляют самую суть нонсенса. В
них слышатся отдаленные отзвуки могучего карнавального смеха прежних эпох,
сохраненного фольклорной традицией. Правда, смех этот отдается лишь эхом,
карнавал "переживается наедине", "переводится на субъективный язык новой
эпохи" {М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. М., 1965, с. 43, 44. См. в целом характеристику
романтического гротеска (с. 40-52).}. Все же, несмотря на отдаленность во
времени и редуцированность форм, принявших "формализованный, литературный
характер", правильно понять особый характер нонсенса середины XIX в. нам
может помочь концепция карнавала и карнавального мировоззренческого смеха,
выдвинутая M. M. Бахтиным. Она подсказывает нам ответ на ту загадку, над
которой в течение многих лет бьются критики различных направлений: Доджсон с
его приверженностью к порядку, религиозностью, законопослушанием - и
подчеркнуто внерелигиозный, внеморальный, алогический характер его сказок.
Существует множество попыток объяснить ЭТУ двойственность: одни говорят о
"раздвоении личности" Доджсона-Кэрролла, другие видят в его сказках признаки
психопатологии, трактуемой в духе фрейдизма ("заторможенность развития",
"бегство в детство" как своего рода защитная реакция от сложности реального
мира, осмыслить которую сознание отказывается, и пр.). Интересное объяснение
"феномена Кэрролла" предлагает Честертон, эссе которого мы приводим в нашем
томе. Он называет нонсенс Кэрролла "интеллектуальными каникулами",
"праздником", который разрешает себе респектабельный, закованный в броню
условностей ученый-викторианец. Бурные, дерзкие, безоглядные, смеющиеся
каникулы, во время которых он создает "перевернутый вверх ногами" мир и
"учит стоять на голове не только детей, но и ученых". Каникулы, праздник...
Возникает соблазн добавить: "карнавал". Впрочем, здесь надо быть предельно
осторожным. Как известно, М. М. Бахтин развивает концепцию о двумирности
средневекового ренессансного сознания и связанных с ним обрядовозрелищных
смеховых форм. "Они давали совершенно иной, подчеркнуто неофициальный,
внецерковный и внегосударственный аспект мира, человека и человеческих
отношений; они как бы строили по ту сторону всего официального второй мир и
вторую жизнь, которым все средневековые люди были в большей или меньшей
степени причастии, в которых они в определенные сроки жили. Это - особого
рода двумирность, без учета которой ни культурное сознание средневековья, ни
культура Возрождения не могут быть правильно понятыми. _Игнорирование или
недооценка смеющегося народного средневековья искажает картину и всего
последующего исторического развития европейской культуры_" {М. Бахтин.
Творчество Франсуа Рабле, с. 8 и далее.} (курсив наш. - Н. Д.).
История смеха в последующие эпохи исторического развития культуры,
английской культуры в частности, еще ждет своих исследователей. Пока что
заметим только, что, возможно, концепция M. M. Бахтина дает некоторые
основания для прочтения нонсенса Кэрролла. Не исключено, что в нонсенсе
Кэрролла явственно звучит эхо "второго мира средневековья и Возрождения",
донесенное до середины XIX в. фольклором. Для понимания нашего автора важно
и замечание M. M. Бахтина относительно "игрового элемента" карнавальных
форм. "По своему наглядному, конкретно-чувственному характеру и по наличию
сильного игрового элемента они близки к художественно-образным формам,
именно к театрально-зрелищным... Но основное карнавальное ядро этой культуры
вовсе не является чисто художественной театрально-зрелищной формой и вообще
не входит в область искусства. Оно находится на границах искусства и самой
жизни. В сущности, это - сама жизнь, но оформленная особым игровым способом"
{Там же, с. 9-10.}. И здесь снова в субъективных, редуцированных,
формализованных приемах кэрролловского нонсенса можно услышать отголоски
народной традиции. Возникнув как игра, в которой равно участвовали все
присутствующие (слушатели не только подавали реплики, но и предлагали темы и
решения), первая рассказанная девочкам Лидделл сказка была также и показана
им, правда, не в действии, а в серии набросков и рисованных мизансцен,
нашедших потом свое отражение в рисунках Кэрролла к первому записанному им
варианту. Эта первая рассказанная сказка импровизировалась на ходу, как
commedia dell'arte, отталкиваясь от злободневных сиюминутных событий,
связанных с "масками"-участниками, их именами, прозвищами, характерами и пр.
Позже в окончательном, литературном варианте "Алисы" эта специфика несколько
стерлась. И все же она во многом ощущается в сказке, делая ее отличной от
других литературных сказок того времени. Это прежде всего особая сценичность
сказки. Если исключить начальные описания, в которых автор излагает "условия
игры", время и место "сценического" действия (несколько более затянутые в
"Стране чудес", где он еще только нащупывал путь, чем в "Зазеркалье"), обе
части одинаково легко распадаются на некие сцены, участники которых ведут
между собой диалог, нередко принимающий вид ссоры, перебранки и описываемый
действиями балаганно-бурлескного типа. Рыцари в "Зазеркалье" дерутся
дубинками, которые держат, как подчеркивает это в авторской "ремарке"
Кэрролл, обеими руками, словно Панч и Джуди, излюбленные герои народного
кукольного театра {В традиционном рыцарском романе рыцари также держат
оружие двумя руками, что обыгрывается Кэрроллом в ином контексте.}. Кухарка
швыряет в Герцогиню все, что попадает ей под руку: совок, кочергу, щипцы для
угля, чашки, тарелки, блюдца... Наконец, сама Герцогиня швыряет в Алису
младенцем. В сказке то и дело кто-то кого-то пинает, швыряет, дерет,
колотит, лупит, обзывает, срамит, грозит прикончить, оттяпать голову и пр.
Многие из шуток Кэрролла, особенно те из них, которые связаны со смертью,
носят также балаганный оттенок. Здесь в сказку Кэрролла явно проникает
народное балаганное (порою кукольное) зрелище, которое даже в XIX в.
сохранило отдельные черты площадного народного действа давних времен.
Сами "прения" актеров в "Алисе" необычайно подвижны, лаконичны,
выразительны. Кэрролл проявляет себя в подлинном смысле слова мастером
сценического диалога. Описания действий и вводы в сцены предельно сжаты -
писатель не описывает внешности своих героев, не поминает о красотах
природы, не вводит никаких деталей, которые не были бы потом "обыграны" в
диалоге. Диалог - это всегда поединок (и не только словесный), всегда
противоборство, в котором и проявляют себя характеры. Не менее выразительны
и театрализованны размышления самой Алисы, неизменно оформляемые как
монологи.
Особую роль выполняют в тексте обеих сказок рисунки. Они восполняют тот
зрелищный аспект, недостаток которого из-за отсутствия описаний иначе
неизбежно ощущался бы в тексте. Сказка Кэрролла с самого начала прямо
ориентирована на них. Они не только иллюстрируют текст; они его восполняют и
проясняют. Рисунки - органическая часть сказок Кэрролла. Сравнивая
первоначальные рисунки Кэрролла ("Приключения Алисы под землей") и
иллюстрации Тенниела, читая их переписку во время работы над иллюстрациями,
понимаешь, насколько близко следовал Тенниел замыслу писателя. Многие из его
рисунков развивают эскизы, набросанные Кэрроллом {Достаточно сравнить
рисунки Кэрролла к "Приключениям Алисы под землей" с иллюстрациями Тенниела,
чтобы увидеть, сколь многим обязан последний писателю.}.
Наконец, в самом построении "изнаночного", "перевернутого вверх ногами"
мира Кэрролл, как никто, следует принципам "необузданного", "дикого" (wild -
выражение Ч. Лэма) фольклорного духа. Он переворачивает вверх дном,
выворачивает наизнанку, меняет местами причину и следствие, "отчуждает"
части тела и действия, создает непредставимое, оживляет стершиеся речения и
метафоры и, вновь вдохнув в них жизнь, "реализует" их, он пародирует, он
смеется над смертью и пр. Мы далеки от мысли о том, что между нонсенсом
Кэрролла и вдохновившей его праздничной карнавальной традицией можно
поставить знак равенства. M. M. Бахтин развивает свою концепцию на материале
архаических культур, представляющих по сравнению с XIX в. качественно иную
ступень. И все же нам кажется немаловажным указать на возможность некой
генетической связи сказок Кэрролла с этой традицией.
Другим мощным пластом в сказках Кэрролла является пласт
диалого-литературный, складывающийся из пародий, заимствований, обработок,
аллюзий. Кэрролл словно ведет ни на минуту не прекращающийся диалог с
невидимыми собеседниками, многих из которых давно уже нет в живых. Уровень
такого рода есть в каждом произведении, ибо все они включены - прямо или
опосредствованно - в тот диалог, который составляет содержание всякой
культуры. В сказках Кэрролла поражает прежде всего множественность интонаций
и типов диалогического отклика.
Среди критиков принято говорить о пародиях (иногда их называют
бурлесками, травестиями) в сказках Кэрролла; это стихотворения: "Папа
Вильям", "Колыбельная", которую поет Герцогиня, песни о крокодиле и филине,
"Морская кадриль", "Это голос Омара...", "Вечерняя еда" ("Страна чудес");
"Морж и Плотник", песня Белого Рыцаря, хор на пиру во дворце Алисы
("Зазеркалье"). Однако термин "пародия" в применении к этим стихотворениям
вряд ли можно считать достаточно точным. Правда, все эти стихотворения так
или иначе связаны с неким "оригиналом", который "просвечивает" вторым планом
через "снижающий", "пародирующий" текст Кэрролла. Но степень связи с
"исходным текстом" в разных случаях разная: иногда кэрролловское
стихотворение очень близко "повторяет" оригинал, широко используя его
лексику, структуру и самое строение строк; порой же сохраняются лишь
отдельные детали, ритмический рисунок, размер, дыхание. Точно так же
разнятся и отношение к "оригиналу" и цели "пародирования".
В "Папе Вильяме", например, Кэрролл последовательно "снижает" текст
нравоучительного стихотворения Саути "Радости старика и Как Он их Приобрел"
(см. с. 41 и 42). "Моральные" и "возвышающие душу" темы размышлений Саути -
о быстротечности жизни и радостей земных, о смерти и пр. - заменяются у
Кэрролла веселой "чепухой", вызывающе открыто декларированной во второй
строфе:
...Но узнав, что мозгов в голове моей нет,
Я спокойно стою вверх ногами.
Сохраняя не только героев и вопросно-ответную схему стихотворения
Саути, но и самое построение фраз отца и сына, ряд описательных конструкций,
стихотворный размер, схему рифм и пр., Кэрролл переводит все содержание
стихотворения в план безответственного "стояния на голове".
Здесь, очевидно, небесполезно вспомнить то старое различие между
собственно пародией и травестией, или изнанкой, указание на которое находим
в рукописях Ю. Н. Тынянова. Цитируя старого автора, Тынянов пишет:
""Изнанкою называется описание шуточным и даже низким слогом тех
происшествий, кои прежде но важности своей описаны были слогом высоким.
Изнанка не есть пародия, как многие полагают, ибо пародия состоит в
применении того же сочинения к другим происшествиям и к другим лицам, с
переменою некоторых выражений". Нет надобности воскрешать старую и уже для
начала XIX в. не ясную терминологию, но содержащееся в ней указание на
разный характер связи между пародирующим и пародируемым произведением
существенно, если не связывать "изнанку" непременно с жанром
травестированных эпопей" {Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино.
М., 1977, с. 541 (прим. к ст. "О пародии").}. "Папа Вильям" Кэрролла ближе
всего именно к этому "изнаночному" типу пародийной литературы. Английский
язык, не только сохранивший самое понятие "травестии", но и широко
пользующийся им, делает закономерным подобное "воскрешение" старой теории в
данном случае.
Вместе с тем возникает вопрос: какова цель такого травестирования?
Очевидно, скажем мы, Кэрролл высмеивал скучное нравоучительное стихотворение
Саути и его религиозно-этическую установку. Но здесь-то и возникает основное
затруднение: религиозно-этическая установка Саути не только не была чужда
Кэрроллу, но и, напротив, была ему чрезвычайно близка. Когда Кэрролл не был
занят нонсенсом, он говорил, думал и писал совершенно в том же духе, что и
Саути. В своих проповедях и письмах, в своем романе "Сильви и Бруно" (в
"серьезных" и во многом автобиографических его частях), даже в предисловиях
к книгам нонсенса он развивал совершенно те же мысли. Может быть, объектом
пародии в данном случае являются некоторые формальные, внешние моменты
поэзии Саути, действительно зачастую дающие повод ко всякого рода
"придиркам"? Однако тогда Кэрролл должен был бы пойти по иному пути, доводя
до абсурда именно эти погрешности формы.
Та же проблема встает перед нами в случае с пародийным отрывком о
малютке крокодиле, через который "просвечивает" (во всяком случае, четко
"просвечивало" в те годы) хрестоматийное стихотворение Уоттса о трудолюбивой
пчелке, или в "Голосе Омара" (снова оригинал Саути, см. с. 84-85). Кэрролл,
посвятивший немало прочувствованных строк тому, как следует трудом и
размышлениями заполнять каждый миг, чтобы не попасть во власть греховных
мыслей, вряд ли стал бы писать "сатиру" на близкое ему по духу и мысли
стихотворение Уоттса. То же можно сказать о стишке про "филина", заменившего
собой "звездочку" Джейн Тейлор (см. с. 61).
В "колыбельной" Герцогини Кэрролл отходит от "исходного" стихотворения,
посвященного кроткой любви (см. с. 49 - 50), дальше, чем в двух упомянутых
выше примерах; однако отношение к используемому тексту остается тем же.
При решении вопроса о пародиях Кэрролла следует, как нам кажется,
провести несколько граней. Сошлемся опять на работу Ю. Н. Тынянова "О
пародии", различающую "вопрос о _пародичности_ и _пародийности_, иначе
говоря - вопрос о пародической форме и о пародийной функции" {Ю. И. Тынянов.
Поэтика, с. 290.}. Ю. Н. Тынянов пишет: "Пародичность и есть применение
пародических форм в непародийной функции". Такое "использование какого-либо
произведения как макета для нового произведения" - весьма выразительное
средство, ибо "оперирование сразу двумя семантическими системами, даваемыми
на одном знаке, производит эффект, который Гейне называл техническим
термином живописцев - "подмалевка" и считал необходимым условием юмора" {Там
же.}.
В сказках Кэрролла мы находим примеры такой чистой "пародичности":
таковы "Морж и Плотник", песня Белого Рыцаря, "Вечерняя еда", "Морская
кадриль", "Колыбельная". Связь с "пародируемыми" произведениями весьма
отдалена и опосредствована, сохраняется лишь "костяк", "макет". "Сатиры",
направленной против этих исходных оригиналов, в пародиях Кэрролла нет;
второй план "подмалеван" очень тонко, он едва просвечивает и чувствуется
лишь в особых интонациях, поворотах фразы, ритме, дыхании. Вероятно,
сказывается здесь и то, что Кэрролл использует тексты поэтов, которых он
особенно любил - Уордсворта, Теннисона, - в поэтическом отношении стоящих
бесконечно выше и Саути, и камерных детских поэтов начала века.
Второй тип пародий, который мы находим в сказках Кэрролла ("Малютка
крокодил", "Голос Омара" и пр.), не является, строго говоря, ни
"пародийным", ни "пародическим", хоть он и представлен произведениями,
которые содержат - в сильно ослабленном виде - и те, и другие
характеристики.
Возникает вопрос: не являются ли эти стихотворения Кэрролла
своеобразным поэтическим "синтезом", попыткой выразить путем пародии свое
отношение к избранному в качестве образца поэту {См.: Вл. Новиков. Зачем и
кому нужна пародия. - "Вопросы литературы", 1976, Э 5, с. 193 и далее. См.
также: А. Морозов. Пародия как литературный жанр. - "Русская литература",
1960, Э 1.}? Думается, что и на этот вопрос следует ответить отрицательно.
"Пародии" Кэрролла существуют не как самостоятельный литературный жанр, они
входят важной составной частью в тот строго ограниченный временем и местом
"праздник", те "каникулы", о которых писал Честертон. "Сатира" и "синтез"
присутствуют в них не только в том смысле, в каком склонен их видеть
критический глаз читателя, но и в том, в котором они допускались общей
установкой Кэрролла. Вместе с тем подспудная, подсознательная
амбивалентность в отношении не только к таким поэтам, как Саути, Тейлор,
Уотте, но даже и к таким бесконечно более значительным, как Уордсворт и
Теннисон, определяла характер его "бессмысленных" пародий. Их можно было бы
назвать "стихами-эхо" по примеру "слов-эхо", о которых говорит Э. Партридж в
приложении к Лиру {Е. Partridge. The'Nonsense Words of Edward Lear and Lewis
Carroll. Here, There and Everywhere. L., 1950, pp. 162-188. Приведем лишь
один пример таких "словэхо" у Лира: "...as an earnest Token of their sincere
and grateful infection". Infection слегка, словно эхо, трансформирует само
собой разумеющееся "affection", вводя в текст сложную гамму
амбивалентностей.}. Прямая сатира в них отсутствует, но иронический отзвук
возникает - насколько сознательно, сказать трудно.
"Диалогичность" кэрролловских сказок не ограничивается стихотворными
"пародиями". Вопрос о том, "едят ли кошки мошек", возможно, навеян строками
из "Золотой нити" (1861) Нормана Маклеода; золотой ключик - стихотворением и
сказкой Джорджа Макдоналда {Как указывает Р. Л. Грин, стихотворение Джорджа
Макдоналда было опубликовано в 1861 г. в книге "Victoria Regis", а его
знаменитая сказка-аллегория "Золотой ключ" вышла лишь в 1867 г. (в сборнике
"Встречи с феями"). Однако друзья читали сказки Макдоналда в рукописях
задолго до публикации, и Кэрролл, конечно, мог знать их.}; в сцене с
Гусеницей и грибом слышатся отзвуки "Бала бабочек" (1806) Уильяма Роскоу;
"Зазеркалье" разрабатывает тему зеркала, предложенную, в частности, тем же
Макдоналдом в романтической вставной новелле о Космо Верштале, бедном
студенте Пражского университета (роман-сказка "Фантазия", 1858); Белый
Рыцарь напоминает Грустного Рыцаря в "Фантазии" Макдоналда, а возможно, и
Дон Кихота {J. Hinz. Alice Meets the Don. - "South Atlantic Quarterly", LII
(1953). См. также AA. He принимая в целом концепции Хинца, выводящего
"Алису" из "Дон-Кихота", отметим лишь справедливые наблюдения о близости
ряда деталей.}. Было замечено, что в первой главе "Зазеркалья" слышатся
отзвуки "Сверчка на печи" Диккенса и его пародистов {См. комментарий
Гарднера (с. 114 и далее), а также примечания Р. Л. Грина к изд. L. Carroll.
Alice's Adventures..., op. cit., p. 256.}; в "Стране чудес" находят цитаты
из "Энеиды" {См. примечания Р. Л. Грина (ibid., p. 256); на сходство с
Вергилием указал Дж. Б. Дейвис.} и "Божественной комедии". Для исследователя
Кэрролла эти аллюзии представляют особый интерес, ибо многие из них вводят
свою тему, подвергая переосмыслению исходный, заимствованный образ. "Чужие
слова", включаясь в новый контекст, начинают жить двойной жизнью: не теряя
первоначального смысла, на который они прямо и открыто указывают, они в то
же время дают свое истолкование предложенного образа и темы.
Интересны в этом отношении реминисценции из Макдоналда. Герою сказки
Макдоналда золотой ключик, в отличие от Алисы, дается в руки сразу, но
дверь, которую ему надлежит им открыть, можно найти лишь после долгих
поисков. Этому он посвящает всю жизнь. Странствия в поисках Страны Золотого
Ключика превращаются в сложную аллегорию жизненных странствий в поисках
высшей правды. Мечта о таинственной двери, которую должен открыть золотой
ключик, соединяется в воображении героев с мечтой о "стране, откуда падают
тени"; отголоски платоновских идей, "Пути паломника" Бэньяна и христианской
мифологии соединяются в разветвленную систему символики. Лишь в смерти
находит герой Макдоналда Страну, поискам которой он посвятил всю жизнь.
Смерть толкуется Макдоналдом как "часть жизни": поиски высшей правды не
завершаются окончательно и там. Нетрудно заметить отличие трактовки этой
темы у Кэрролла: в чудесном саду, куда, наконец, с помощью золотого ключика
попадает Алиса, нет места стройным аллегориям, там царят хаос,
бессмысленность, произвол. Разветвленная система реминисценций, прямых и
косвенных аллюзий создает вокруг внешне простых сказок Кэрролла богатейший
звуковой "фон", в котором звучат многие голоса.
Особенно интересны в этом плане реминисценции из Шекспира, которого
Кэрролл прекрасно знал и любил. В тексте сказок находим немало скрытых
цитат, на которых порой строится диалог. Таков разговор Алисы с Комаром в
главе о зазеркальных насекомых, в котором слышится отзвук диалога Глендаура
и Хотспера из "Генриха IV" (часть I, III, 1; см. с. 347).
Любимая фраза Королевы из "Страны чудес", как указывает Р. Л. Грин, -
это прямая цитата из "Ричарда III" (III, IV, 74); максима Герцогини из главы
о Черепахе Квази переиначивает строку из "Сна в летнюю ночь" (IV, 1, 72);
заключение Чеширского Кота при первой встрече с Алисой ("Конечно, ты не в
своем уме. Иначе как бы ты здесь оказалась?") приводит на ум строки из
"Макбета" (I, 5, 33). Однако гораздо важнее здесь не эти детали, а более
общий принцип. В самой структуре обеих сказок об Алисе используется метод
"диффузной метафоры", характерный для таких произведений Шекспира, как "Сон
в летнюю ночь" или "Буря". Трактовка времени и пространства у Кэрролла
обнаруживает также черты сходства с Шекспиром.
Наконец, еще одним важным уровнем сказки Кэрролла является научный.
Конечно, было бы упрощением представлять его в виде единого пласта,
"залегающего" на известной глубине. Скорее он рассеян, диффузирован по всему
тексту, придавая ему неожиданные глубины. Мартин Гарднер в своей
"Аннотированной" Алисе собрал интереснейший материал о научных "прозрениях"
и предвидениях Кэрролла. Кое-что из наблюдений Гарднера может показаться
поначалу несколько надуманным; впрочем, выводы его подтверждаются и работами
многих современных ученых. Как бы то ни было, несомненно одно: в сказках
Кэрролла воплотился не только художественный, но и научный тип мышления. Вот
почему логики, математики, физики, философы, психологи находят в "Алисе"
материал для научных размышлений и интерпретаций.
В последнее время появились и лингвистические работы о Кэрролле.
Непосредственным поводом для лингвистических раздумий над Кэрроллом
послужила знаменитая баллада "jabberwocky" из "Зазеркалья" (в нашем переводе
- "Бармаглот"). Уже Чарлз Карпентер в своем основательном исследовании о
структуре английского языка {Ch. Carpenter. The Structure of English. NY,
1952.} цитирует эту балладу, приходя к Заключению, что сама структура этого
"бессмысленного" стихотворения (особенно это относится, конечно, к первой
строфе) является смыслоносителем. Известный английский лексикограф Эрик
Партридж посвящает специальную работу неологизмам Кэрролла, привлекая,
помимо баллады из "Зазеркалья", материалы поэмы "Охота на Снарка" и ранних
"англосаксонских" опусов Кэрролла {E. Partridge. The Nonsense Words...}.
Роберт Сазерленд прослеживает развитие лингвистических интересов Кэрролла на
всем протяжении его творчества {R. D. Sutherland. Language and Lewis
Carroll. The Hague, 1970.}.
Интересное прочтение Кэрролла предлагает М. В. Панов, который считает,
что у Л. Кэрролла было не только безупречное чувство языка, но и умение
проникнуть в его сущность, была своя (вероятно, интуитивная) лингвистическая
концепция, по крайней мере концепция называния, одной из важнейших языковых
функций. По мнению исследователя, Кэрролл показал сложную условность
наименования, его знаковую сущность, несовпадение структуры "обозначающего"
и "обозначаемого", то есть подошел к проблемам, которые в полный свой рост
встали только перед языкознанием XX в. {М. В. Панов. О переводах на русский
язык баллады "Джаббервокки" Л. Кэрролла. "Развитие современного русского
языка. 1972. Словообразование. Членимость слова". М., 1975.}
 Наконец, есть и еще один аспект рассмотрения жанра литературной сказки
Кэрролла, который представляется нам принципиально важным. Его предложила
английский логик Элизабет Сьюэлл. Она рассматривает нонсенс Кэрролла как
некую логическую, систему, организованную по принципам игры. Своим
появлением концепция Сьюэлл во многом обязана теории игры, разработанной в
30-х годах И. Хойзингой {См. J. Huizinga. Homo Ludens. A Study of Play
Element in Culture. L, 1970 (1-е изд. 1938 г.).}.
Нонсенс, по мысли Сьюэлл, есть некая интеллектуальная деятельность (или
система), требующая для своего построения по меньшей мере одного игрока, а
также - некоего количества предметов (или одного предмета), с которым он мог
бы играть. Такой "серией предметов" в нонсенсе становятся слова,
представляющие собой по большей части названия предметов и чисел. "Игра в
нонсенс" состоит в отборе и организации материала в собрание неких
"дискретных фишек", из которых создается ряд отвлеченных, детализированных
систем. В "игре в нонсенс", по мысли Сьюэлл, человеческий разум осуществляет
две одинаково присущие ему тенденции - тенденцию к разупорядочиванию и
тенденцию к упорядочиванию действительности. В противоборстве этих двух
взаимно исключающих друг друга тенденций и складывается "игра в нонсенс". Не
в этом ли следует искать причину столь разнообразных "прочтений" Кэрролла,
предлагаемых на материале различных областей знания? Не потому ли "Алиса"
оказывается "самой неисчерпаемой сказкой в мире" {L. Untermeyer.
Introduction. "Alice in Wonderland". NY, 1962, p. 5.}?
Выше говорилось о романтических тенденциях Кэрролла, нашедших свое
яркое выражение в сказках об Алисе, о воскрешении и подчеркивании
фольклорного (сказочного и песенного) начала, о дальнейшем и принципиально
важном развитии гротескной традиции английской литературы. Ю. Кагарлицкий
справедливо отмечает в этом плане принципиальную общность между методом
Кэрролла и реалистической манерой Диккенса с его "искусством светотени,
гротеском, стремлением к крайнему заострению ситуации" {Ю. Кагарлицкий.
Предисловие. - В кн.: Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в Стране чудес.
Зазеркалье (про то, что увидела там Алиса). Пер. с англ. А. Щербакова под
ред. М. Лорие. М., 1977, с. 17.}.
Отвергая современную ему бытописательскую прозу, исходящую из философии
позитивизма и предающую забвению великие традиции английского
реалистического романа, Кэрролл прокладывает дорогу "европейскому
неогуманизму", представленному в Англии такими именами, как Уэллс и Шоу с
"их вниманием одновременно к науке и человеку, с их стремлением снова
соединить разобщенные интеллектуальные и эмоциональные сферы" {Там же, с.
24.}. Традиция Кэрролла ощущается ныне и в лучших образцах англоязычной
научной фантастики, и в гротесковой сатире, и в современной поэзии
{Некоторые примеры тому находим в "Аннотированной "Алисе"" Гарднера. Тема
эта, впрочем, требует особой и подробной разработки.}. Так "нелепая и
странная сказка", написанная скромным чудаком-математиком из Оксфорда,
открывает современным читателям различные уровни своего содержания.
Наконец, есть и еще один аспект рассмотрения жанра литературной сказки
Кэрролла, который представляется нам принципиально важным. Его предложила
английский логик Элизабет Сьюэлл. Она рассматривает нонсенс Кэрролла как
некую логическую, систему, организованную по принципам игры. Своим
появлением концепция Сьюэлл во многом обязана теории игры, разработанной в
30-х годах И. Хойзингой {См. J. Huizinga. Homo Ludens. A Study of Play
Element in Culture. L, 1970 (1-е изд. 1938 г.).}.
Нонсенс, по мысли Сьюэлл, есть некая интеллектуальная деятельность (или
система), требующая для своего построения по меньшей мере одного игрока, а
также - некоего количества предметов (или одного предмета), с которым он мог
бы играть. Такой "серией предметов" в нонсенсе становятся слова,
представляющие собой по большей части названия предметов и чисел. "Игра в
нонсенс" состоит в отборе и организации материала в собрание неких
"дискретных фишек", из которых создается ряд отвлеченных, детализированных
систем. В "игре в нонсенс", по мысли Сьюэлл, человеческий разум осуществляет
две одинаково присущие ему тенденции - тенденцию к разупорядочиванию и
тенденцию к упорядочиванию действительности. В противоборстве этих двух
взаимно исключающих друг друга тенденций и складывается "игра в нонсенс". Не
в этом ли следует искать причину столь разнообразных "прочтений" Кэрролла,
предлагаемых на материале различных областей знания? Не потому ли "Алиса"
оказывается "самой неисчерпаемой сказкой в мире" {L. Untermeyer.
Introduction. "Alice in Wonderland". NY, 1962, p. 5.}?
Выше говорилось о романтических тенденциях Кэрролла, нашедших свое
яркое выражение в сказках об Алисе, о воскрешении и подчеркивании
фольклорного (сказочного и песенного) начала, о дальнейшем и принципиально
важном развитии гротескной традиции английской литературы. Ю. Кагарлицкий
справедливо отмечает в этом плане принципиальную общность между методом
Кэрролла и реалистической манерой Диккенса с его "искусством светотени,
гротеском, стремлением к крайнему заострению ситуации" {Ю. Кагарлицкий.
Предисловие. - В кн.: Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в Стране чудес.
Зазеркалье (про то, что увидела там Алиса). Пер. с англ. А. Щербакова под
ред. М. Лорие. М., 1977, с. 17.}.
Отвергая современную ему бытописательскую прозу, исходящую из философии
позитивизма и предающую забвению великие традиции английского
реалистического романа, Кэрролл прокладывает дорогу "европейскому
неогуманизму", представленному в Англии такими именами, как Уэллс и Шоу с
"их вниманием одновременно к науке и человеку, с их стремлением снова
соединить разобщенные интеллектуальные и эмоциональные сферы" {Там же, с.
24.}. Традиция Кэрролла ощущается ныне и в лучших образцах англоязычной
научной фантастики, и в гротесковой сатире, и в современной поэзии
{Некоторые примеры тому находим в "Аннотированной "Алисе"" Гарднера. Тема
эта, впрочем, требует особой и подробной разработки.}. Так "нелепая и
странная сказка", написанная скромным чудаком-математиком из Оксфорда,
открывает современным читателям различные уровни своего содержания.
Популярность: 6, Last-modified: Sat, 24 Jan 2004 13:37:37 GmT